Франсуа Менан, Эрве Мартен, Бернар Мердриньяк, Моник Шовен
Капетинги
История династии (987–1328)


Введение (Эрве Мартен)
Правление Капетингов во Франции с 987 по 1328 г. — вот поистине одновременно классическая тема и рискованный сюжет! Разве можно отважиться, даже вчетвером, пуститься в подобный путь, претендуя открыть что-то новое, после того как это уже делали столько выдающихся ученых? Ни один период в истории Франции — ошибочное выражение, поскольку самой французской нации еще только предстояло родиться, — не вызывал к жизни такой обширной «лависсовской» галереи образов в широком смысле этого слова. Наши головы забиты воспоминаниями времен средней школы: восшествие на престол Гуго Капета, исцеление золотушных, злодеяния рыцарей-разбойников, жест Людовика VI по отношению к сеньору Пюизе, мудрое правление Сугерия, битва при Бувине, Людовик Святой под дубом, пощечина в Ананьи и процесс тамплиеров, разгром при Куртре и победа под Касселем и т. п. Как избежать штампов? Задача может стать еще более рискованной из-за плана этой книги, где каждое царствование стало предметом отдельной главы, как каждый государь удостоился отдельной гробницы в Сен-Дени. Нужно ли было возводить новый мавзолей — на этот раз на бумаге — во славу капетингской династии, самой известной из всех родов, что создали Францию? «С 987 по 1328 г., — писал Робер Фавтье в 1942 г., — четырнадцать государей одного семейства […] поочередно сменяли друг друга на троне Франции. Именно за этот период и родилась Франция и произошло становление, в основных чертах, остова французской нации»[1]. Не разделяя полностью взгляды Робера Фавтье в вопросе о незаменимом вкладе капетингской эпохи, на страницах этой книги мы преследуем лишь одну цель — помочь вернуть доброе имя политической истории, незаслуженно забытой в 50–80-е гг. XX в., когда безраздельно царили социальная и экономическая история, когда увлеченно грезили о застывшей истории. Детальное изучение политических изменений в те годы слыло устаревшей методикой, поскольку было принято считать, что решающие сдвиги происходят в области демографии, землепользования, торговой организации и городского подъема. В рамках этой глобальной истории, протекавшей безнадежно медленно, завоевания Филиппа Августа граничили с анекдотами, а «дела» царствования Филиппа Красивого были оставлены на откуп любителям «черных» романов. После неминуемого возвращения стрелки маятника политика в конце концов вновь вступила в свои права. Вот уже двадцать лет тому назад в сборнике «Делать историю» Пьер Нора объявил о возврате к событию[2]. Спустя несколько лет Жак Ле Гофф, желая опередить эпистемологический реванш «эмигрантов», призвал перейти к политической истории, обогащенной достижениями социальной истории и истории менталитета. Располагая подобным покровительством, мы решили вернуться к политике, как возвращаются к первой юношеской любви. Ведь превратности событийной истории не могут не притягивать тех, чье детство прошло на фоне повторяющихся кризисов IV Республики. Возврат к политике прежде всего заключается в том, чтобы перейти к нарративу, богатому событиями. Как говорил двадцатью годами ранее Поль Вейн, история — настоящий роман, представляющий собой ясное и последовательное повествование, которое на самом деле основывается на пожертвовании множеством подробностей. Декорации, интрига, действующие лица — эти три термина отражают столько же требований. О декорациях мы расскажем в обобщающих главах, посвященных сельской жизни, городам и религиозной жизни. Вместе со статьями словарного размера, эти главы являются составляющими структурного описания французского общества в XI–XIII вв. Интрига также не осталась в стороне: борьба Филиппа Августа против Ричарда Львиное Сердце и Иоанна Безземельного, крестовые походы Людовика Святого, перипетии загадочного процесса тамплиеров. Мы представим действующих лиц максимально полно, вплоть до их физического состояния, опираясь на добротное исследование доктора Браше[3]. На самом деле, небезынтересно знать, что Филипп Август называл своего сына и наследника Людовика VIII «изнеженным и болезненным человеком» (homo delicatus et debilis) и что дизентерия, начавшаяся у последнего в 29 октября 1226 г., спровоцировала у него острый приступ горячки, которую его врачи приписали излишней сексуальной воздержанности короля. Еще более полезно знать, что, возможно, Людовик Святой страдал от потери обоняния, из-за чего ему было проще навещать прокаженных — поступок, так высоко ценимый современниками короля. Как замечал один из присутствовавших при таком визите: «Он общался с ними так, словно ничего не чувствовал». Повествование, его рамки и главные персонажи — вот всем хорошо известное поле для историка. Так означает ли это, что мы попросту возвращаемся к Лависсу? Место, которое мы отводим здесь идеологической составляющей политики, дает все основания думать, что это не так. С начала 80-x гг. XX в. ученые, занимающиеся политической историей, обратили пристальное внимание на символику власти, ее постоянный поиск легитимности и стремление заявить о своей миссии. На страницах этой книги мы постарались проследить путь развития королевской идеологии с первых лет династии и подробно рассмотреть ее расцвет в правление Филиппа Августа — первого из Капетингов, кто провозгласил себя королем Франции, ссылался на общественную пользу и обратился к услугам признанных двором панегиристов, таких как Ригор и Вильгельм Бретонец. Начиная с царствования Людовика Святого эта монархическая идеология разрывалась между мистической экзальтацией государя, поставленного Господом во главе своего народа, и светской концепцией королевской власти, ответственной за общее благо — понятие, разработанное юристами, проникнувшимися идеями римского права. Помимо политической идеологии, всегда отмеченной чьими-либо подспудными интересами, важно обратить внимание на первые проявления «культуры управления», иначе говоря, совокупности образов мысли и действий, характерных для людей короля. И если в этом вопросе мы многое знаем о легистах Филиппа Красивого, гораздо меньше нам известно о советниках Филиппа Августа, в умах которых укореняется «любовь к отчетности» (esprit de bilan) (Дж. Болдуин) и стремление к «письменной фиксации», что привело к созданию содержавшихся в порядке архивов, прозрачных отчетов и регулярных переписей вассалов и доходов короля. Приблизительным подсчетам, ручному руководству и устному управлению, характерным для первого феодального века, пришел конец. Кажется, что «любовь к отчетности», который можно заметить у брата Герена, Варфоломея де Руа и их соперников, в чем-то сродни «духу списка», выявленному Аленом Буро у современных богословов. Разные работы обращали внимание на особенности mens mercatoris (купеческого менталитета), mens scolastica (психологии университетских преподавателей), mens apostolica (представлений, свойственных миссионерам и людям, несущим благую весть). Нужно ли выделять особое место для mens politica, понимаемого как система представлений и поведения, характерная для советников и служащих Капетингов? Это новое исследование менталитета правящего слоя заставляет иначе взглянуть на проблему взаимосвязи и взаимодополняемости между «административной монархией», созданной после 90-x гг. XII в., и «феодальной монархией», которая, как было принято думать, существовала до нее. Феодальная и административная составляющие Франции времен Филиппа Августа отнюдь не противоречили друг другу, но формировали, как написал ниже Франсуа Менан, «две части одного и того же предприятия по рационализации отношений между множеством более-менее автономных единиц, составляющих королевство, и ориентации этих отношений на короля». Эту взаимодополняемость административного и феодального в то же самое время можно наблюдать в Англии и на Сицилии. Ни одна культура правления не существует без подданных (и опоры на них), которые сами заключены в сети или, если сказать иначе, в кланы, спаянные воедино общими интересами, сходством выбранного пути или идентичностью географического происхождения. Политическая история приобрела социологический размах с того самого момента, когда выявила роль групп давления, побуждающих вести дела в том или ином направлении. Это блестяще продемонстрировали Раймунд Казель на примере царствования Филиппа VI Валуа[4] и Жан Фавье на примере правления Филиппа IV Красивого[5]. По прочтении этих двух крупных исследований создается впечатление, будто углубленный анализ политических кругов можно проделать исключительно на материале источников позднего Средневековья (около 1300 — около 1500 гг.). На самом же деле, не стоит пессимистично относиться к правлениям королей до 1300 г. Советники Людовика Святого известны достаточно хорошо, да и советников Филиппа Августа можно распределить по различным кругам, более или менее близким к государю. Если взять еще более раннее время, то можно измерить вес клана Гарландов в окружении Людовика VI. Кажется, что сам Абеляр пользовался их покровительством. Чтобы лучше узнать политическое общество, необходимо проделать более тонкий анализ механизмов управления и при этом нельзя обойтись без количественных методов. Вступление цифры в политическую историю Средневековья было скромным, но знаменательным. Жан-Франсуа Лемаринье больше, чем кто-либо поспособствовал этой эволюции. Его исследование «Королевское управление в эпоху первых Капетингов (987–1108)»[6] основывается на исчерпывающем критическом анализе хартий, данных королями в 987–1108 гг., на географическом распределении их бенефициаров и на перечислении, царствование за царствованием, знаменитых дипломов с многочисленными подписями (или записями имен), зримыми знаками ослабления монархов, вынужденных искать поручительства и поддержки своих решений у феодалов Иль-де-Франса и даже некоторых сельских глав. Мастерски обработав куцую документацию, основываясь как на данных подписей внизу актов, так и их явном содержании, Ж. Ф. Лемаринье сумел уловить пульс монархической власти и нащупать приступы ее слабости, можно даже сказать — обмороки, на протяжении сумрачного XI в. Цифры снова встречаются нам спустя столетие, когда нужно оценить размер центрального бюджета монархии. Означала ли сумма около 200 000 ливров годового дохода, предназначавшаяся Филиппу Августу в 1221 г., изменение порядка величины по отношению к его предшественникам, или же стоит полагать, что количественный скачок в финансовой области произошел только в правление Людовика Святого? Цифры — это свободная дорога к сравнению и подсчетам, иначе говоря, к анализу и умозаключению, ко всему, что придает ценность историческому тексту! В том же круге идей важно знать точное соотношение монетных мутаций Филиппа Красивого, подсчитать итоговую сумму, полученную в результате вымогательств у ломбардцев и евреев, оценить стоимость войн в Гиени и Фландрии. Цифры, этот уровень зеро для нарратива, но надежное подспорье для анализа, позволяют дать более справедливую оценку происходившего. Например, разве не плодотворное занятие — скрупулезно разбирать «бюджет» Филиппа Августа, чтобы составить точное представление о возрождении государства в начале XIII века? Именно с чисел начинается развенчание мифов политической истории. Жерар Сивери прибег к помощи чисел в новаторской, если не сказать революционной, манере: в своих исследованиях «Людовик Святой и его век»[7] и «Экономика Французского королевства в век Людовика Святого»[8] он истолковал ревизию 1247 г. как первое крупное расследование о состоянии государства, оценив количественно формы правительственной деятельности до и после 1254 г., выявил первые признаки зарождения циклической экономики капиталистического типа во фламандских землях. Жугляры[9] и Кондратьевы[10] во времена Бланки Кастильской и святого Бонавентуры! Так стоит ли снова и снова кричать об убитой истории, или лучше использовать во благо концептуальную инновацию, оставив в стенаниях последних учеников Мишле, чьи арифметические познания остановились на уровне абака Герберта Орильякского? Как ясно из вышенаписанных строк, авторы представленной книги стремились отдать должное последним научным достижениям, в то же время «униженно и почтительно» (humiliter et reverenter), вписывая свой труд в рамки долгой историографической традиции. Конечно, речь не идет о том, чтобы восходить к «Жизни Людовика Толстого» Сугерия или «Большим Французским хроникам», составленным монахами из Сен-Дени; мы оттолкнемся от более свежих работ, написанных в 1880–1940 гг. историками, которых обычно называют позитивистами. Всем известны заслуги авторов этой, методической, школы[11], внимательно относившихся к документам, постаравшихся выстроить связное нарративное повествование, но при том дававших читателю время передохнуть, красочно изображая главных действующих персонажей и составляя обзоры общего характера. Впрочем, чаще вспоминают о слабостях этого типа исторического анализа: чрезмерное внимание, уделяемое политике в ущерб экономическим и социальным факторам; преувеличенное беспокойство о хронологии; в какой-то степени близорукое отношение к документам, которые всегда оценивали только по трем критериям: как подлинные, правдоподобные и фальшивые; наконец, слишком сильное пристрастие переносить на прошлое концептуальные рамки современной жизни. Но мы далеки от того, чтобы открывать на этих страницах уже многократно устраивавшуюся тяжбу; наоборот, мы скорее склонны думать, что эти недостатки не бросаются в глаза в таких двух представительных трудах, какими являются «Людовик VIII» Шарля Пти-Дютайи[12] и «Филипп Смелый» Шарля-Виктора Ланглуа[13]. Читателя больше поражает мастерская работа с документами, острое критическое осмысление и четкое повествование. Конечно, нашим авторам случалось впадать в анахронизм, но они не совершают таких серьезных ошибок, в которых их обвиняет Анри-Ирине Марру. Создается впечатление, что автор «Об историческом познании» больше сверялся с «позитивистским бревиарием» 1898 г. (знаменитым «Введением к изучению истории» Ланглуа и Сеньобоса), чем с конкретными исследовательскими трудами. «Капетинги и Франция» Робера Фавтье, книга, опубликованная в 1942 г., по целому ряду причин является значимой историографической вехой. Прежде всего потому, что автор осознавал связь прошлого и настоящего, столь дорогую историкам-релятивистам, утверждая, что его исследование о потомках Роберта Сильного полностью вписывается в трагические обстоятельства: «В час, когда Франция казалась близкой к смерти, мне представилось благотворным посмотреть, как она родилась и как действовали те, кто направлял ее первые шаги. Живительный труд! Чем больше я привязывался к нему, тем больше я проникался надеждой». Другая заслуга Робера Фавтье заключалась в том, что он первым применительно к истории Капетингов занялся «историей-проблемой», задавшись вопросом о возможном антагонизме монархии и феодализма, постаравшись изучить реальную природу отношений, связующих короля с его подданными, и, быть может, посвятив немало места размышлениям о некоторых источниках, служащих помехой («история первых Капетингов также стала мозаикой сведений, почерпнутых из местных монастырских анналов»), и о непредвиденных капризах документации: «Единственно слепой случай, при помощи людского небрежения или глупости, подготовил материал, на котором пишут историю». Затем пришлось ждать 60-x и 80-x гг. XX в., чтобы поприсутствовать на настоящем обновлении историографического пейзажа[14]. В своем шедевре, упомянутом выше, Жан-Франсуа Лемаринье подчеркнул разрыв, существовавший в XI в. между теорией горделивой власти, наследницы блистательной каролингской эпохи, и несравненно более скромными правительственными реалиями. Своим сенсационным «Филиппом Красивым» Жан Фавье возвестил о пробуждении политической истории в ее двойном измерении — диахроническом (фазы, кризисы и т. д.) и синхроническом (анализ механизмов власти). В той мере, в какой ему позволяли источники, он занялся социологическим изучением правящих кругов, особенно обогатив портрет легистов, этих первых «профессионалов от политики» в нашей истории. В двух взаимодополняющих трудах, «Людовике Святом» и «Людовике Святом и его веке»[15], Жан Ришар и Жерар Сивери осветили два аспекта царствования Людовика IX: благочестивого верующего и мистика с одной стороны, управленца и реформатора — с другой. Предложив убедительную периодизацию реформ — на первом этапе посвященных вопросам финансов и «региональных» властей, а на втором затронувших центральные структуры, — Жерар Сивери затем издал «Экономику Французского королевства в век Людовика Святого»: в ней он во всей полноте показал региональные различия между торговой и богатой Фландрией, где состояния исчислялись тысячами ливров, и все еще дремавшими западными землями, где счет шел лишь на десятки ливров. После семисотлетия со смерти Людовика Святого коллоквиумы развернулись во всю ширь, и каждый приносил за собой новые научные достижения и изощренные реинтерпретации. «Франция при Филиппе Августе, время перемен»[16] позволила лучше узнать окружение победителя при Бувине, лучше оценить его ресурсы и проследить след, оставленный им в коллективной памяти. Опираясь на эти разработки, Джон Болдуин решил облечь в концептуальную форму управленческие практики, внедренные на рубеже ХII — ХIII вв. Этих нескольких примеров достаточно, чтобы показать — тема Капетингов отнюдь не «тихий омут» историографии. Нужно ли поэтому уверять, что речь идет о пионерском фронте исследования? Со всей очевидностью, у новой волны медиевистов в голове другие задачи: папесса Иоанна, привидения и хрупкое равновесие феодального мира. Но признаем тем не менее за потомками Гуго Капета одну заслугу среди прочих — заслугу вовлекать историков в интереснейшие дебаты, идет ли речь о месте королевской религии в происхождении национального чувства французов или — на куда более вторичном уровне — последнее значение цветков лилии. Эта банальная эмблема, на которую наши короли отнюдь не владели монополией, может показаться довольно бесцветной, если остановиться на ее исходном значении (лилия в долине). Но если добраться до истоков, оказывается, что эта эмблема обладает необычайно богатыми смысловыми оттенками, поскольку символизирует единство двойной сущности Христа, слияние человеческого и божественного, мирского и духовного и выражает собой суть Наихристианнейшей Монархии. Перейдем же к этой славной династии государей, увенчанных цветками лилии, этим четырнадцати владыкам, чьей единственной надеждой и главнейшей мыслью было увеличить свой домен и управлять им подобно добрым отцам семейства. Еще до 1300 г. Гильом де Нанжи составил сокращенную историю капетингских королей для паломников, стекающихся в Сен-Дени, дабы увидать их гробницы. Настоящий труд может претендовать лишь на то, чтобы быть еще одним продолжением, насколько возможно обогащенным достижениями современной науки, этого повествования ученого монаха. Признавая свой поистине неоплатный долг перед нашими предшественниками, мы все же надеемся, что будем не слишком похожи на беспощадный портрет историка, который вывел Анатоль Франс в предисловии к «Острову пингвинов»: «Историки переписывают друг друга. Таким способом они избавляют себя от лишнего труда и от обвинений в самонадеянности. Следуйте их примеру, не будьте оригинальны. Оригинально мыслящий историк вызывает всеобщее недоверие, презрение и отвращение».
Часть первая
Капетингская Франция
в 987–1108 гг.
 Основы
Основы
Королевство в 987 г. (Франсуа Менан)
Девятьсот восемьдесят седьмой год был одним из тех поворотных моментов, которые так притягивают традиционную историографию, — но и одним из самых серьезных по последствиям для многих поколений французов. То было начало династии, которой предстояло править нашей страной на протяжении целых восьмисот лет и неразрывно связать свою историю с историей Франции. Празднование тысячелетия в 1987 г. показало, что эта дата все еще имеет несомненное значение для французов нашего времени, и успешные продажи книжных магазинов, куда поступали биографии королей и работы по истории Франции, подтверждают сохранение или оживление интереса широкой читательской аудитории к монархическим столетиям и, в более узком плане, к эпохе первых Капетингов. Совсем иначе дело обстоит с профессиональными историками, в чьих глазах значимость 987 г. существенно подрывают два соображения. Сначала они указывают на тот факт, что Робертины, предки Гуго Капета, уже целое столетие находились у власти: они либо сами царствовали поочередно с Каролингами, либо оказывали на них влияние, как это делал Гуго Великий в 936–954 гг. (он упрочил свое положение подле трона, получив титул «герцога франков»). Таким образом, окончательное утверждение этого семейства на престоле не представляет собой политического новшества: настоящий разлом в истории Франции должен приходиться скорее на 888 г., когда предок Капетингов впервые стал королем; перемена тем более символическая, что она совпала с воцарением в странах, возникнувших после распада империи, государей, которые не принадлежали к династии Каролингов; итак, Европа наций и новых династий родилась скорее в конце IX в. Второй нюанс касательно реальной значимости избрания 987 г. — королевский двор в эту эпоху уже не был главным центром власти, ни на Западе, где преобладали германские государи, недавно возродившие империю, ни даже в самом королевстве, где с ним соперничали десять или пятнадцать княжеских дворов, вполне сравнимых по могуществу. Таким образом, смена династии в краткосрочной перспективе не возымела реальных политических последствий. Впрочем, это не так уж и важно: если уж и выбирать во французской истории разлом, отмечающий завершение Раннего средневековья, то 987 г. не хуже других. Все то значение, которое можно приписать этому году, во многом обогатилось благодаря другой близкой символической дате: тысячному году. Рубеж двух тысячелетий, осененный аурой апокалиптического страха, которым его окружила романтическая историография, обреченный играть роль поворотной эпохи, относительно недавно приобрел совершенно иное и крайне важное — звучание для французских медиевистов. Действительно, теперь этот рубеж одновременно считают периодом, когда начался подъем западноевропейской экономики, в долгосрочной перспективе приведший к мировому превалированию, — и переход, более или менее резкий, согласно авторам, от каролингского порядка, кое-как продержавшегося до заката первого тысячелетия, к порядку феодальному и сеньориальному. Последние критические дополнения предлагают нюансировать идею о стремительной мутации, отодвинув начало роста в самый разгар каролингской эпохи, и сделать упор скорее на социальной преемственности, нежели на разрыве. Тем не менее, даже при таком смягченном видении, на десятилетия до и после тысячного года все равно приходится поворот от одного мира к другому. Современники называли королевство, в котором предстояло царствовать Гуго Капету, «Западной Франкией», хотя король и носил титул «короля франков», вошедший в употребление с начала столетия; Капетинги продолжат именовать себя так вплоть до XIII в. Границы этого королевства во многом совпадали с теми, что установили сыновья Людовика Благочестивого во время Верденского раздела в 843 г.: по Шельде, Маасу, Соне и Роне. Дальше простирались земли, возникшие после распада бывшего королевства Лотаря — герцогства Верхняя и Нижняя Лотарингии, королевства Бургундия и Прованс. Лотарингия, которую западно-франкские короли официально оставили в 879 г., все еще играла важную роль во французской политике до Гуго Капета, но затем соскользнула в орбиту восточной Франкии; кажется, что Гуго и его ближайшие наследники не очень ею интересовались. Бургундия и Прованс последовали за Лотарингией, пока — что произошло гораздо позже — ход этой многовековой эволюции не развернул их и не привел одно за другим в западное королевство. На юге граница проходила по Пиренеям в западной части, но резко выдавалась за них на востоке. При Карле Великом совокупность графств, которые впоследствии получат имя Каталонии (или, точнее, составят «старую Каталонию», северную половину области), перешла из-под власти кордовского халифа под руку христианского императора, который создал из них Испанскую марку для обороны от мусульман. Но каталонские графы, спокойно существовавшие в рамках многонациональной империи, вышли из наследовавшего ей Западно-Франкского королевства, где уже не чувствовали себя на своем месте: слабые и далекие короли больше не оказывали им никакой помощи против мусульман, которые в зависимости от периода становились для Испанской марки то покровителями, то врагами. Восшествие на престол Гуго Капета совпало с решающим эпизодом, из-за которого порвались оставшиеся связи. Шестого июля 985 г. аль-Мансур во главе войск кордовского халифата захватил и разграбил Барселону; стремительная смена государей на франкском престоле помешала им ответить на просьбу о помощи, доставленную каталонским посольством, — да и были ли они вообще в силах оказать эту помощь? Каталонские графы, вскоре сплотившись под властью графа Барселонского, стали независимыми — отчасти вопреки самим себе. Таким образом, границы королевства увековечили наследие преемников Карла Великого: Верденский раздел, распад Лотарингии на буферные государства, которые притягивала к себе восточная Франкия, неспособность удержать во франкской орбите Каталонию, испытывавшую давление со стороны мусульман. Не стоит думать, что эти границы, в общем довольно ясно прочерченные, обрамляли однородное политическое пространство: с конца XI в. крупные территориальные образования одно за другим стали наследственными и практически независимыми от королевской власти. Государственные должности (honores) и имущество фиска — за счет него жили занимавшие их представители короля — отныне считались уделом их держателей, и те были обязаны королю только клятвой верности и помощью, которую оказывали далеко не всегда. Несколько десятков семейств, в большинстве своем происходившие от прежних чиновников, которые выполняли графские обязанности, теперь осуществляли власть подобного рода; примерно десять из них держали под своей властью множество pagi — старый базовый административный округ, — иногда вкупе с титулом герцога или маркграфа. Это и были «территориальные княжества», составившие политический остов королевства. Северная половина королевства была поделена между шестью княжествами, равными по могуществу, которые вели между собой и с королевской властью ожесточенную игру: графство Фландрия, герцогство Нормандия, графство Блуа, графство Анжу, герцогство Бургундия и стоявшее чуть особняком герцогство Бретань; на северо-востоке крупного княжества пока еще не возникло, поскольку Вермандуа, это маленькое, но амбициозное графство, сложившееся вокруг Сен-Кантена, пришло в упадок еще до того, как начался подъем Шампани. На юге господствовало необъятное герцогство Аквитанское, чье могущество было подорвано центробежными силами; дальше к югу графы Тулузские (которые также именовали себя маркграфами Готии) и герцоги Гаскони были вообще далеки от королевской власти. Каждое из этих крупных образований притягивало к себе другие графства, связанные с ними более или менее надежными узами верности. В северо-восточной Франции графские обязанности в Амьене, Суассоне, Бове, Нуайоне, Лане, Лангре, Реймсе и Сансе прибрали к рукам епископы; их коллеги в Пюи и Клермоне сделали то же самое; они обычно оказывали королю ценную поддержку, но она не была само собой разумеющейся. Впрочем, повсюду епископские кафедры, даже те из них, что никогда не пользовались графскими полномочиями, были точками сосредоточения светской власти, весомой в силу своих земельных владений и вассальной сети, которую контролировали епископы. Назначение кандидата на пост епископа, происходившее в результате выборов — но во многом под влиянием местного правителя, — было серьезной ставкой в политической игре. Наконец, крупные монастыри обладали иммунитетом, который позволял им вести себя независимо в отношении к любой мирской власти, если она напрямую не осуществлялась королем; поэтому их земли представляли собой островки независимости посреди pagi. В этой мозаике крупных и мелких княжеств, земельный массив, который государь сохранял под своим непосредственным контролем — историки называют его обычно «королевским доменом», — наделе был таким же княжеством, что и все остальные. Он выделялся лишь благодаря власти — высшей, но признаваемой не всеми — своего правителя. Этот домен простирался от Санлиса до Нуайона на севере и до Орлеана и Буржа на юге; посередине находился Париж, который в то время был всего лишь одной из резиденций государей, переезжающих с места на место (так же поступали и территориальные князья). Эти земли были остатками двух крупных комплексов: с одной стороны — королевского домена (фиска) Каролингов, чьи обширные земли почти полностью достались светским или церковным сеньорам, а окончательная утрата Лотарингии вместе с находившимися на ее территории великими местами каролингской памяти сделала еще более призрачным воспоминание об этом домене после 987 г.; с другой стороны — Нейстрийской марки, крупного военного округа между Сеной и Луарой, принадлежавшего Робертинам, из которого они упустили немалые земли, когда доверили их в управление своим вассалам, впоследствии присвоившим эти территории: Шартр, Блуа и Шатоден также стали центрами мелких независимых княжеств. Таким образом, первые Капетинги располагали властью, сравнимой с той, которой обладали правители других княжеств северной Франции — по правде сказать, более слабой. Кроме того, они могли опереться на епископства, окаймлявшие их земли на севере и востоке, а королевский титул в принципе обеспечит им верность (но помощь — не всегда) графов и герцогов к северу от Луары. Напротив, южная половина королевства еще до 987 г. начала утрачивать связь с королем, которого там признавали государем, но в реальности не видели. Хрупкий политический и социальный порядок, установившийся в королевстве к 987 г., многим был обязан клирикам: в самом избрании короля епископат сыграл весомую роль. Спустя два года на юге епископы впервые провозгласили мир Божий (собор в Шарру, 989 г.), нацеленный на то, чтобы обуздать разгул насилия, вызванного войнами между могущественными сеньорами. Как раз в южной части королевства — которую территориальные князья не так крепко держали в руках, как их северные собратья, — распространяется религиозное, политическое и культурное влияние клюнийского ордена, состоявшего из обширной сети приорств и приверженцев. Дисциплинарный контекст этой экспансии характеризуется ослаблением позиций папства и общей посредственностью белого духовенства, чрезмерно подчиненного светской аристократии. Духовному контексту было присуще то особое место, которое отводилось медитации монахов, несших спасение мирянам своей коллективной, возвышенной и премудрой молитвой. Поэтому немало крупных и мелких сеньоров основывало в то время монастыри и дарило им часть своей вотчины, положив начало широкому движению, продолжавшемуся последующие два столетия. Успеху Клюни у южной аристократии на севере вторили реформа и подъем крупных обителей, нередко связанных с князьями, таких как аббатства Фекан и Мармутье. Королевские монастыри Флери, Сен-Дени и Сен-Мартен в Туре не остались в стороне от этого одновременно духовного и вотчинного возрождения. Особенно Флери в эту эпоху являлось центром литургического и интеллектуального влияния. Отношения между этими крупными монастырями и епископатом не всегда обходились без столкновений, как из-за вопросов, касавшихся независимости, на которую начинали претендовать аббатства, жаждавшие добиться неподсудности, так и из-за расхождений в представлениях об иерархии христианского сообщества. Относительное политическое равновесие, царившее между княжествами в конце X в., долго не продлилось. Дробление власти лишь временно остановилось на уровне графства; потом и графства постигла та же участь. XI век стал временем независимых шателенств, как X в. был временем княжеств. Строительство примитивных крепостей из земли и дерева — замки на холме, невысокая ограда — станет прекрасным подспорьем для местных сеньоров, чтобы стряхнуть опеку графов и подчинить себе крестьян окрестных земель. Но в 987 г. пока все обстояло иначе; графы надежно держали в своих руках еще немногочисленные замки и бдительно присматривали за шателенами, охранявшими для них эти укрепления. На примере графства Маконского Жорж Дюби показал[17], как эти замки были местами привилегированного отправления графской власти, в особенности правосудия. Несмотря на фактическую независимость, которой пользовались лица, занимавшие высшие посты в королевстве, каролингский порядок в целом все еще сохранялся в конце X в. Публичное правосудие, его краеугольный камень, по-прежнему отправлялось почти повсеместно в старых формах — даже если отныне оно затрагивало только элиты, — и личная власть, осуществляемая графами и их помощниками — виконтами, вигье и шателенами, — была представлена как делегированная сверху. Но едва ли, минуя одно поколение, страна покрылась замками, построенными вассалами графов. Уже с 80–Х гг. X в. вассалы графа Маконского начали приобретать независимость и осуществлять власть в собственных интересах. После тысячного года этот процесс охватил все королевство, чему способствовали сложности с передачей наследства, пошатнувшие господство графов и герцогов. На заднем плане этих притязаний графских вассалов на независимость и ширившихся в связи с ними вооруженных столкновений вырисовываются контуры крупномасштабного социального сдвига; могущественные сеньоры набирали отряды всадников, milites, — отныне единственно эффективных бойцов, которые стояли в замках гарнизоном и принуждали крестьян выполнять незаконные поборы. Так одновременно наметилось зарождение рыцарского класса и закабаление крестьян, что произойдет после тысячного года. Создается впечатление, что для крестьян последние десятилетия X в. были полны контрастов. По правде сказать, историки все еще ожесточенно спорят по поводу эволюции крестьянства. С одной стороны, кажется, что античное рабство доживало последние дни и сам набор терминов, связанных с рабской зависимостью, отходит в прошлое, особенно на юге. С другой стороны, серваж и сопутствовавшие ему новые поборы в рамках сельской сеньории получат распространение только в XI в. Между двумя эпохами последние десятилетия вполне могут быть своего рода парентезой в вопросе относительной свободы и процветания для крестьянства, о чем может свидетельствовать распространение аллода[18]. Правда, восстание нормандских крестьян в 996 г., жестоко подавленное воинами (milites), свидетельствует о суровости сеньориальной эксплуатации в то время. В остальном же наши знания о крестьянском мире слишком отрывочны и спорны, чтобы было возможно составить итоговое впечатление о настолько кратком периоде; и региональные контрасты кажутся слишком сильными как в этой области, так и остальных. Напротив, все с большей уверенностью мы можем утверждать, что демографический и экономический подъем, вызванный потеплением климата, уже начался во французской сельской местности в конце X в. На юге этот подъем привел к значительным результатам; на севере он тоже ощущался, хотя и начался там позже и, без сомнения, пока не был таким уверенным. Страна, которой стал править Гуго Капет, переживала период бурного развития, даже если результаты — начиная с прекращения голода — станут особенно заметны при его наследниках. Подъем также заметен в области торговли: здесь первенство принадлежит северу, а юг следует за ним по пятам. К концу X в. северо-западный фасад королевства уже давно оправился от нашествий норманнов — даже если некоторые поселения, и причем не из скромных, сгинули безвозвратно — и множество торговых путей, пересекающих северные моря, щедро его подпитывали, как и лотарингские реки. Возобновление городского роста — в виде торговых посадов (бургов), наладивших сообщение с гаванью и нередко построенных вокруг монастыря или замка, — один из самых поразительных феноменов этой эпохи. Пример Брюгге, которому было уготовано великое будущее, является одним из самых примечательных для своего времени, но его конкуренты десятками вырастали на севере королевства и в Лотарингии. Недавние раскопки Дуэ показали на этом скромном примере, как урбанизация могла протекать даже в местечках без особого торгового призвания. Что касается городской сети юга, то, пережив сложные времена, она снова стала притягивать к себе новых жителей, включая знать. Средиземноморская торговля смогла возобновить свой рост только после тысячного года, когда равновесие между мусульманами и христианами будет нарушено в западном Средиземноморье в пользу вторых: выгодные морские рейсы в Африку и особенно на Восток, которым до этого мешали мусульманские флотилии, принесли богатство купцам Марселя и Монпелье. К тому же Монпелье был новым городом — случай, редкий на юге Франции, — зародившимся благодаря торговле в XI в. Однако во всем королевстве города, даже если они и начинали снова возрождаться, все еще были очень малы: несколько групп жителей, клириков или воинов (milites) по большей части, теснились вокруг кафедрального собора или графского замка, возвышавшихся посреди слишком просторного пространства, окруженного старыми римскими стенами, восстановленными в эпоху норманнских набегов, тогда как у монастырей, построенных за городскими воротами, собирались другие группы населения, в большей степени тяготеющие к торговле. Медлительность, с которой Париж восстанавливался после ущерба, нанесенного норманнами, является прямым свидетельством еще довольно скромной жизнеспособности городов того времени. Однако, вопреки всему, это восстановление предвещало большой рывок в будущем: в Анжере во время раскопок была найдены следы строительства новой стены конца X или начала XI вв.; в Париже в то же время принялись строить колокольню с папертью Сен-Жермен-де-Пре, а также восстановили кафедральные соборы в Реймсе, Бове и Орлеане. Религиозная архитектура вступила в период активного возрождения: реконструкция клюнийского собора (963–981) была только одной из крупных строек, воодушевивших все королевство в конце столетия и подготовивших время «белого платья церквей», на котором после тысячного года расцвели масштабные сооружения романского стиля. К несчастью, от построек этой эпохи почти ничего не сохранилось, поскольку все они впоследствии были заменены более просторными и пышными зданиями; но такие уцелевшие останки того времени, как колокольня Сен-Жермен-де-Пре, крипты Нотр-Дам в Клермон-Ферране или Сен-Бенинь в Дижоне, лишь подтверждают наш интерес к архитектурному развитию этой эпохи. Раньше историки настаивали на слабости Гуго Капета перед лицом амбициозных или далеких крупных вассалов, сравнивая ее с престижем его предшественников IX в., его современников Оттонов или его потомков XII–XIII вв. На самом деле каролингский порядок, который продержался до этого времени, по крайней мере внешне, в последних десятилетиях X в. окончательно уступил место тому, что историки долго называли «феодальной анархией», а власть стала принадлежать территориальным князьям, а не королям. К тому же избрание Робертина, как кажется, вызвало в некоторых кругах обостренное осознание неотвратимого ослабления центральной власти, невозможности возвращения к ее былому величию; оно даже спровоцировало своего рода отторжение. Сегодня гораздо лучше видно, в свете исследований, проделанных по случаю празднования тысячелетия памятной даты в 1987 г., насколько королевство было богато потенциальными возможностями в конце X в. На заднем плане экономического динамизма начинают вырисовываться основные контуры французского пространства — деревни, города, земли, — в то время как кучка мелкой военной аристократии закладывает основы нового политического равновесия, в рамках которого местная реальность — сеньория, замок — окажется преобладающей на протяжении более одного столетия. К тому же некоторые княжества — Нормандия, Фландрия и вскоре Шампань — были достаточно сильными, чтобы стремительно вернуть себе контроль над центробежными течениями и подготовить почву для возрождения государства. Как бы ни слаба была королевская власть Капетингов, она все равно была проникнута традициями былого двора и каролингской идеологией «королевского служения». Что касается Церкви, то нельзя по-прежнему клеймить ее как «Церковь во власти мирян», посредственную и без идеалов; великие прелаты, одновременно религиозные и политические лидеры, аббаты-реформаторы, пользовавшиеся необычайно высоким престижем, уже указали на пути к возрождению, когда выработали новые концепции христианского сообщества и постарались претворить их в жизнь. Именно этим миром — миром, который было сложно контролировать, но который кипел энергией, — и предстояло править первым Капетингам.Глава I От Робертинов до Капетингов: к истокам королевского семейства (Эрве Мартен)
По сложившейся традиции, «первыми Капетингами» называют Гуго Капета и его трех непосредственных преемников, правивших на протяжении всего XI в. Мы также воспользуемся этим названием, поскольку оно действительно соответствует конкретной фазе в историидинастии и королевства, когда королевская власть была слишком слаба, чтобы подчинить себе не только крупных вассалов, но даже мелких сеньоров, которых предки государей сами же разместили на собственных вотчинных землях, передав им скромные обязанности руководителей на местах. Напротив, с правления Людовика VI Капетинги стремительно навязывают свою власть, сначала в королевском домене — на территории в несколько сотен квадратных километров между Ланом и Орлеаном, — затем и во всем королевстве. Таким образом, разлом, приходящийся на 1108 г., заслуживает того, чтобы обозначить нижнюю границу первого этапа нашего повествования. Эта периодизация также в целом совпадает с общей эволюцией властей в королевстве: за распылением власти, доставшейся тысяче мелких замковых сеньоров, следует ее сосредоточение в руках герцогов и нескольких графов первого плана; долгое время французские короли не могли превзойти их по уровню могущества. Уже в XI в. история Франции на деле была историей Нормандии, Шампани, Фландрии, Бургундии и мелких церковных княжеств, таких как епископство Бове, Лана, Суассона… Но в эту эпоху история вершится прежде всего на первичном уровне деревенской сеньории, союзов между владельцами замков и их отношений с их сеньорами, графами, герцогами и епископами. У эпохи первых Капетингов — свой собственный политический облик. Кроме того, чтобы осветить историю династии, нужно начинать издалека, восходя к моменту, когда появляются ее первые известные предки — к периоду поздней каролингской империи. Это возвращение к истокам позволит нам походя напомнить, что Гуго Капет не был первым представителем своего семейства, взошедшим на трон, и что в определенной мере капетингский период начинается не в 987 г., а в 888 г.Роберт Сильный и его потомки: соперники Каролингов
Возвышение Робертинов в IX в
Кем были Робертины? Многовековая передача короны по наследству, начавшаяся в 987 г., дала династии прозвище ее основателя, Гуго Капета[19]. Название «Капетинги» появилось во времена Французской революции, когда прозвище «Капет» стали рассматривать как наследственное имя правящего семейства. Впоследствии историки постоянно стали использовать это имя для обозначения династии, несмотря на все его несоответствие. Ведь знатные семейства того времени — так же как и все остальное общество — не имели общего имени, которое передавалось бы от отца к сыну; они довольствовались несколькими именами, которые к тому же часто выбирали из ограниченного списка, характерного для каждого великого рода — например, у Каролингов Карл и Людовик. Прозвища могли дополнить эти имена — Гуго Великий, Роберт Сильный, Карл Лысый… Иногда, если хотели обозначить всю родню разом, прибегали к коллективному имени, происходившему от прославленного предка. Именно поэтому предков Гуго Капета стали называть Робертинами, по имени Роберта Сильного, который в середине IX в. заложил основу для возвышения своих потомков, добившись вкупе с титулом герцога руководящего поста в обширном округе между Сеной и Луарой. Два главных этапа взлета этого семейства, растянувшегося примерно на полтора столетия, нашли свое выражение в коллективных именах, которые поочередно присваивали представителям этого рода: имена «Робертины», затем «Капетинги» увековечили память о двух личностях, которые передали своим потомкам сначала титул герцога, а затем короля. Гуго Капет никоим образом не был «выходцем из народа», на чем настаивали в XIII в. недруги Капетингов, считавшие его сыном мясника. Он также не происходил из семейства, чье прошлое до Роберта Сильного было темным, как долго думали историки, пока исследования не позволили установить истинное происхождение последнего. Положение предков Роберта было типичным для могущественных семейств каролингской империи; как и многие из них, они были родом из области, являвшейся колыбелью могущества Пипинидов, предков Каролингов, между Рейном и Маасом. Как и остальные представители этого круга, предки Роберта были связаны с государями некоторыми семейными узами, они получали графские обязанности практически по наследству и опирались на крупные монастыри. Как и все великие семейства империи, предки Роберта имели в распоряжении обширные владения, которые были их собственностью или же передавались им к качестве honor, то есть в обеспечение их обязанностей. Сегодня благодаря кропотливым генеалогическим изысканиям[20] мы знаем, что во второй половине VIII в. предки Роберта были графами в рейнских землях, в Вормсе и его окрестностях; таким образом, их владения находились на окраине региона, где присутствие Пипинидов было наиболее ощутимым. И они передавали графские обязанности по наследству вплоть до самого Роберта. Они также поддерживали связь со знаменитым монастырем Лорш, который находился по соседству с их сферой влияния. К тому же предки Роберта, вероятно, состояли в родстве с основателем Лорша, мецским епископом Хродегангом, одним из самых влиятельных прелатов своего времени, приближенным советником Пипина Короткого. В первой половине IX в. они играли немаловажную роль при императорском дворе. Основание «робертинского государства» Роберт Сильный. Карл Ф. Вернер установил, что в 840 г. — или чуть позже — Роберт покинул рейнские земли и отправился в Нейстрию. Он участвовал в движении, которое затронуло немало других крупных сеньоров. После смерти Людовика Благочестивого (840 г.) и распада империи на несколько независимых королевств высшей аристократии пришлось перейти на сторону одного из государей, отказавшись от тех из своих владений, что находились в других королевствах. После своего отъезда Роберт стал служить Карлу Лысому, королю западной Франкии, а не Людовику Германскому, королю восточной Франкии; тогда же ему пришлось распрощаться с землями своих предков. Как оказалось, он сделал правильный выбор, который обеспечил трон его потомкам. Сначала Роберт обосновался в Шампани, где Карл Лысый пожаловал ему земли, захваченные у реймсской церкви; однако он был вынужден вернуть их в 945 г. Мы снова встречаем Роберта в 852–853 гг.: в то время он выполнял обязанности государева посланца, то есть особого уполномоченного короля, наделенного значительной властью, в регионе Мэна, Турени и Анжу. Благодаря своему браку с Аделаидой, дочерью графа Турского и вдовой другого крупного сеньора, Роберт стал свояком императора Лотаря (ум. в 855 г.), чья супруга Эрменгарда приходилась сестрой Аделаиде; он также приходился родственником первой супруге Карла Эрментруде. Подняв мятеж вместе с другими сеньорами Западной Франкии против Карла Лысого, Роберт вскоре вернул себе расположение короля и получил от него титул герцога с властными полномочиями в междуречье Сены и Луары. Этот титул обладал ярко выраженной военной коннотацией: область, вверенная Роберту, на самом деле была маркой, пограничным округом, который ему предстояло защищать от бретонцев и норманнов, обосновавшихся в устье Луары. Сначала он занялся бретонцами, союзниками Людовика Заики, сына Карла Лысого, взбунтовавшегося против своего отца, и вынудил его покориться. В 864 г. король отобрал у Роберта герцогство, взамен пожаловав несколько бургундских графств, но вскоре вернул его, чтобы остановить натиск норманнов. Одержав победу при Бриссарте, Роберт был смертельно ранен в сражении (866 г.). Его отвага в бою принесла ему славу: один из современников назвал Роберта «Маккавеем нашего времени»[21]. Маркграфство Нейстрия. Владения (honor) Роберта не представляли собой единого земельного комплекса — поначалу у них даже не было названия, — но зато были обширны и богаты; они стали новым фундаментом для власти его семейства и играли эту роль вплоть до первых Капетингов, которые, утратив контроль над западными графствами, укрепились на восточной части своей вотчины, на землях между Ланом и Орлеаном, которым было суждено составить в XI веке львиную долю королевского домена. Изначально же «робертинское государство», как его иногда называют, было более обширным: в него входили графства Анжуйское, Вандомское, Мэнское и, чуть позже, Парижское. Кроме того, Роберту и его наследникам принадлежали многочисленные и крупные аббатства, прежде всего Святого Мартина Турского — богатый и прославленный монастырь, где хранились мощи почитаемого «апостола Галлии», святого Мартина: этот монастырь останется одним из сакральных мест французской королевской династии. Сыновья Роберта прибрали к рукам обитель Сен-Дени, другое сакральное место монархии, которое утратили Каролинги. Став королем, сын Роберта, Эд, превратил комплекс своих владений между Сеной и Луарой в «маркграфство Нейстрию». Этот статус признавал за этими землями особую военную функцию[22], а древнее название «Нейстрия»[23] подчеркивало их политическую значимость: государство Робертинов находилось в самом сердце Западно-Франкского королевства, и было вполне справедливо, чтобы его правители стали первыми князьями королевства — если не самими королями. Размеры этого маркграфства были очень велики: от бретонских границ до Бургундии (которая станет целью постоянных экспансионистских устремлений Робертинов), от Иль-де-Франса до Орлеана; кроме того, оно занимало стратегическую позицию между двумя основными коммуникационными линиями, Сеной и Луарой. Эту территорию вполне можно считать маленьким и почти независимым королевством: как и остальные крупные вассалы короля, маркграф-герцог не намеревался ни в чем ему уступать и был практически сувереном на собственных землях. К тому же кажется, что робертинским княжеством лучше управляли, чем землями по соседству: историки, активно изучавшие его на протяжении последних десятилетий, показали, что мир и относительный порядок царили в княжестве, которое маркграф держал под контролем с помощью вассалов и подвассалов, преданных своему сеньору[24]. Правда, в X в., особенно во время краткого несовершеннолетия Гуго Капета (956–960), вассалы, которым доверили управлять различными графствами и виконтствами, входившими в состав этого обширного княжества, становились все более независимыми, и территориальное могущество Гуго Капета представляло собой лишь бледную тень владений основателя династии. Эд — первый король династии Робертинов Распад империи. У Роберта Сильного было двое сыновей. Они были первыми представителями своего рода, кому удалось взойти на трон Западно-Франкского королевства, хоть на недолгий срок — десять лет в первом случае, один год во втором — и с интервалом в двадцать лет. Поскольку ко времени гибели отца они были слишком юными, чтобы управлять его герцогством, оно перешло к Гуго Аббату, одному из самых близких их родственников и влиятельнейшему персонажу в королевстве, который и руководил им до своей смерти в 883 г. Затем братья сообща приняли свое наследство. Между тем кончина Карла Лысого (877 г.) открыла широкие горизонты для амбициозных личностей: верховная власть императора, которая кое-как удерживала вместе несколько королевств, постепенно угасала на протяжении трех четвертей века. Титул императора время от времени получали корольки, неспособные оказывать влияние на прочих государей. Теперь же западная Франкия (будущая Франция), восточная Франкия (будущая Германия), Италия, Прованс и Бургундия стали независимыми королевствами. Кроме того, в соперничестве за трон отныне участвовали не прямые потомки Карла Великого: поначалу сыновья и внуки Карла Великого сохраняли иллюзию династической преемственности на протяжении царствований, довольно быстро прерывавшихся с их смертью (877–884), и после них король Германии Карл Толстый даже сумел восстановить территориальное единство империи, сосредоточив в своих руках несколько корон (885–888). Но после его кончины этот фасад рухнул: королевства вновь обрели независимость, и потомки Карла Великого мало-помалу уступили свое место представителям других родов, по мере того как принцип выборности сменил принцип наследования, а усилившийся натиск норманнов спешно потребовал выдвижения людей, способных его отразить. Именно этой ситуацией Робертины воспользовались, чтобы стать королями западной Франкии. Осада Парижа. Эд, старший сын Роберта Сильного, прославился как один из таких военачальников во время осады Парижа норманнами, длившейся с ноября 885 по ноябрь 886 г. Этот юноша, которому пошел всего лишь двадцать первый год, был графом Парижским; воинская слава его отца предрасполагала Эда к подобной роли, которую он исполнил с особым талантом. Аббон, монах из Сен-Жермен-де-Пре, поведал нам об этом ярком событии, памяти о котором предстояло занять свое место в галерее образов капетингской династии[25]. Укрепившись на острове Сите вместе с епископом Гоцленом, таким же воинственным бойцом, как и он сам, Эд помешал огромному флоту норманнов из семи сотен кораблей подняться по реке и продолжить грабежи в верховьях Сены. Целый год норманны, став лагерем на обоих берегах Сены, которые они полностью разорили, безуспешно осаждали эту маленькую твердыню. Появление вспомогательной армии под командованием самого Карла Толстого лишь преумножило славу Эда: ведь вместо того, чтобы дать сражение, император заплатил норманнам, чтобы они отступили, и пропустил их в Бургундию, по которой те прошлись огнем и мечом. Ничто не могло лучше продемонстрировать, что качествами, необходимыми для отправления власти, обладал не последний из Каролингов, а молодой граф Парижа. В 888 г., после смерти Карла Толстого, Эд был избран королем на собрании магнатов королевства — а на самом деле они представляли лишь север Франции. Избрание Эда. Эволюция умонастроений и институтов, приведшая на трон Пипинидов в 751 г., повторилась в 888 г., но уже не в пользу их потомков Каролингов. В 751 г. Пипин добился от папы римского Захария, чтобы тот отдал приоритет способностям перед наследственным принципом и предпочел семейство Пипинидов последнему Меровингу. Точно так же каролингский наследник Карл Простой, внук Карла Лысого, был отстранен от престола, тогда как двум его братьям удалось недолго поцарствовать в 879–884 гг. Правда, Карл был еще ребенком, да к тому же заложником графа Пуатье: в такое трудное время было немыслимо возводить на трон столь слабого государя. В свою очередь несколько магнатов признали королем крупного итальянского сеньора и будущего императора Гвидо из Сполето: его даже короновали в Лангре, но он вскоре отказался от этой неудачной затеи. Итак, победил Эд: первый «капетингский» король был миропомазан в Компьене архиепископом Сансским 29 февраля 888 г. Почти в то же самое время Германия, Италия и Бургундия обзавелись своими королями, которые не были потомками Карла Великого — по крайней мере не по прямой мужской линии; Прованс перешел это рубеж уже давно. Непростое правление Эда. Восшествие на престол этого нового поколения государей не решило существовавших проблем, скорей напротив: норманны продолжали разорять страну, и Эду самому пришлось заплатить им выкуп в 889 г., чтобы избавить Париж от новой угрозы. Магнаты королевства все больше и больше ослабляли свою связь с королевской властью и превращали административные округа, графства и герцогства, которыми управляли от имени государя, в независимые сеньории. Например, Эду не удалось поставить своего брата Роберта во главе графства Пуатье или подчинить себе Балдуина, основателя династии графов Фландрии; что касается южной части королевства, то она полностью избежала его власти. К тому же именно в это время герцогство Робертинов уже пошло трещинами: виконты Анжера, Блуа и Вандома сами стали могущественными персонажами и в ознаменование своего взлета приняли графский титул, передавая свой пост по наследству. Партия сторонников Каролингов, которой руководил архиепископ реймсский Фульк, не вышла из игры: 28 января 893 г. Карл III Простой в возрасте четырнадцати лет был коронован в Реймсе. Потянулись долгие годы беспорядочной борьбы. Проиграв, Карл в конце концов отказался от короны. Но на смертном одре Эд, сознавая могущество каролингской партии, попросил верных ему людей поддержать Карла (898 г.). Взамен его брат Роберт получил титул «герцога франков» (dux Francorum), который давал ему некоторое первенство над остальными магнатами (хотя бы и потому, что в тот момент он один носил герцогский титул в Северной Франции). На протяжении столетия предки Капетингов будут колебаться между двумя ролями: король — поочередно с Каролингами — или второе лицо королевства, на равных или чуть важнее, чем самые крупные сеньоры.От возвращения Каролингов до восшествия на престол Гуго Капета (898–987)
Робертины, у власти или поблизости от власти Карл III царствовал свыше двадцати лет и не был лишен авторитета, несмотря на постоянные трудности. Роберт и двое его шуринов, Рауль Бургундский и Герберт де Вермандуа, были наиболее влиятельными персонажами при королевском дворе. Как его отец и брат, Роберт был осенен ореолом воинской славы благодаря победам над норманнами, которых он отбросил под Шартром, предотвратив их попытку вторжения. Роберт также присутствовал рядом с королем во время таких важных событий, как поход в Лотарингию в 911 г. Но когда король повел себя дурно по отношению к Роберту — отобрал монастырь, принадлежавший его семейству, — он в конце концов поддержал восстание крупных сеньоров. Карл Простой бежал, а Роберт был избран королем в 922 г. В следующем году Роберт погиб в сражении против Карла под Суассоном. Но Карла взял в плен и заточил Герберт де Вермандуа: пленный Каролинг умрет в заточении в 929 г. Похоже, что сын Роберта, Гуго, сам отказался от короны; во всяком случае, магнаты избрали королем Рауля Бургундского (923 г.). После смерти Рауля (936 г.) благодаря новым выборам к власти снова пришли Каролинги: на троне сменяли друг друга Людовик IV Заморский (936–954), его сын Лотарь (954–986) и его внук Людовик V. Внезапная гибель Людовика V (987 г.), который после года царствования умер бездетным, прервала эту каролингскую реставрацию, продлившуюся около полувека. Отсутствие прямого наследника снова придало сил избирательному принципу: именно тогда Робертины вновь заняли — на этот раз окончательно — трон Франции. Правда, и до того они были очень близки к власти, то как советники короля, то как его противники. Гуго Великий, сын короля Роберта, в 936 г. стал инициатором избрания Людовика IV. У Людовика, который был совсем юным и жил в Уэссексе (откуда его прозвище Заморский), было очень мало шансов вернуть себе отцовский трон, но Гуго сумел убедить магнатов и послал за ним в Англию. Возможно, что Робертин считал реставрацию единственным способом восстановить мир в королевстве, охваченном нескончаемыми волнениями; поскольку у него самого не было потомства, обеспечить преемственность власти он не мог. Кроме того, коронация Людовика ударяла по первому противнику Гуго, Герберту де Вермандуа, который удерживал отца нового короля в заточении до самой его смерти. В любом случае Гуго явно намеревался стать самым могущественным лицом в королевстве, подчинив своему влиянию юного короля, который был бы ему всем обязан. Именно эту роль Гуго и играл в самом начале нового царствования. В одном дипломе от декабря 936 г. Людовик называет его «нашим возлюбленным Гуго, герцогом франков, вторым после нас во всех наших королевствах». Формулировка четко устанавливает то особое место, которое занял Гуго. Но вскоре оказалось, что его амбициозные замыслы — особенно они касались экспансии в Бургундию — не оправдались, и герцог стал противником короля до самой своей смерти в 956 г. Он неоднократно поднимал оружие на Людовика IV в союзе с самим Гербертом де Вермандуа и остальными магнатами. В 945 г. он захватил короля в плен и попытался его низложить; но затем Гуго отпустил Людовика и повторно принес ему оммаж. В борьбе с герцогом франков король опирался на помощь других крупных вассалов, которые поочередно то переходили в его лагерь, то оставляли его. Людовику IV пришлось все чаще прибегать к помощи германского короля Оттона I, который, например, устроил поход во Францию, дойдя до Луары в 946 г., чтобы его освободить. Гуго и Людовик оба были женаты на сестрах Оттона, и тот старался поддерживать между ними равновесие. Пятьдесят лет спустя сын Гуго Великого, Гуго Капет, займет аналогичное место подле короля Лотаря. Но он сумеет воспользоваться случаем, который предоставит ему внезапная кончина Людовика V, чтобы вернуть себе трон, оставленный его предками. Наследство Гуго Капета Правила передачи наследства у Робертинов. После смерти отца Гуго Капету исполнилось самое большее семнадцать лет, поскольку он родился между 939 и 941 г. Он унаследовал маркграфство Нейстрию и титул герцога франков, то есть всю вотчину, собранную Робертинами. Его брат Оттон получил герцогство Бургундское, на наследнице которого он женился; третий брат, Эд, стал клириком, прежде чем унаследовать герцогство Бургундию от Оттона под именем Генриха, Эндрю У Льюис доказал, что передача всего наследства одному Гуго произошла в результате обдуманной вотчинной политики, нацеленной на то, чтобы избежать дробления вотчины и сохранить могущество наследника. Без сомнения, не стоит преувеличивать изощренность этой семейной стратегии Робертинов, которой к кому же благоприятствовало незначительное количество наследников в каждом поколении, и «ничто не позволяет приписывать им разработанную и четко организованную систему» передачи вотчины по наследству. К тому же у крупных семейств в эту эпоху уже было в обычае передавать одному, старшему, наследнику honor, то есть земли, прилагаемые к графской должности. Тем не менее, очевидно, что Робертины — как, без сомнения, и прочие роды — обладали фамильным самосознанием, надежно хранившим память о некоторых их предках. Если прибавить к их способу передачи наследства это чувство идентичности и другие составляющие, такие как воспроизведение одних и тех же личных имен или искусная матримониальная политика, «все указывает на существование семейного порядка, который отдавал преимущество наследнику, что означало становление династии[26]. Таким образом, династическое чувство у Робертинов сформировалось еще до их окончательного восшествия на престол — и являлось немаловажным фактором последнего. К тому же вспомним, что речь идет об эпохе, когда графские семейства начинали считать, что получили свою власть от Господа, а не по поручению короля: титул «граф милостью Божьей» неприкрыто свидетельствует об этой концепции. Понятно, что эта тенденция с особенной силой проявилась у Робертинов, что их титул и история вознесли их над остальными магнатами и что они смогли создать свое почти королевское династическое самосознание. Тревожное несовершеннолетие. Опека над сыновьями Гуго Великого досталась их дяде по матери, архиепископу Кельнскому Брунону, брату императора Оттона I. Он также стал опекуном юного короля Лотаря, который потерял отца почти в то же время, что и братья Робертины, и тоже приходился племянником архиепископу: ведь королева Герберга и вдова Гуго Великого были сестрами. Годы опеки были нелегкими: несмотря на свой юный возраст, Лотарь постарался воспользоваться ими, чтобы добиться территориальных преимуществ, и признал наследство Гуго только в 960 г. Именно тогда произошел самый мощный рывок к независимости у вассалов между Луарой и Сеной: например, граф Блуаский Тибо Плут заполучил для себя практически независимую территорию и возвел в подконтрольных ему городах крепости — они еще были редки в то время, — олицетворявшие его стремление к власти. И хотя Гуго Капет сохранил наследство Робертинов, в реальности он был явно менее могущественным человеком, чем его отец. Гуго Капет, герцог франков Каролинги и Оттоны. Правда, власть короля также понесла урон. Конечно, Лотарь был государем деятельным, чему помогла и продолжительность его царствования. Он опирался на королевские епископства, которыми была усыпана северная Франция, от Нуайона до Лангра. Он умел маневрировать, чтобы обеспечить себе — по меньшей мере временно — поддержку части своих крупных вассалов. По правде сказать, те должны были бы ему служить постоянно, в соответствии с клятвой верности, но уже давно государи могли рассчитывать лишь на добрую волю этих «верных», часто оплачиваемых за счет политических уступок. Несмотря на эти козыри, политическое влияние Каролингов поблекло по сравнению с неотвратимым усилением германского королевства, чей государь, Оттон I, захватил Италию и возложил на себя императорскую корону. Французский король был почти низведен до уровня протеже императора. Например, он принял участие в собрании вассалов и родственников Оттона в Кельне в 965 г. и женился на Эмме, дочери императрицы от первого брака: так, благодаря повторяющимся бракам, продолжалось сближение двух семейств. Но Лотарь хотел распространить свое влияние на Лотарингию, хотя теперь эта область надежно удерживалась в составе германского королевства; если быть точным, Лотарь вернулся к политике, которую не без успеха проводил его дед, Карл Простой, около 920 г.: речь шла о том, чтобы обзавестись в Лотарингии, колыбели Каролингов, территориальной базой, которой им теперь ощутимо не хватало. Эти лотарингские амбиции испортили отношения между двумя дворами с самого начала правления Оттона II в 973 г. В 978 г. между новым германским королем и Лотарем вспыхнула война: король Франции внезапно напал и разграбил Ахен, но потом был вынужден отступить и укрыться в Париже подле Гуго Капета. В общем, королевство последних Каролингов представляло собой бледную тень по сравнению с германским государством, и временами казалось, что оно вот-вот угодит в его орбиту. Кажется, что последние Каролинги подражали Оттонам во всем, вплоть до их обычаев передачи наследства[27]. Утверждали даже, что они продержались у власти до 987 г. вопреки своей слабости только благодаря политике равновесия, проводимой Оттоном I и Оттоном II: последним не было выгодно, чтобы Робертины стали слишком могущественными — не более, чем сами каролингские короли. Таким образом, императоры старались, чтобы никто из двух семейств не одержал верх, и одно лишь несовершеннолетие Оттона III — если смотреть с этой точки зрения — помогло Робертинам победить[28]. Как бы то ни было, из Ахена западная Франкия виделась всего лишь одним из тех королевств, которые должны занять место подвассальных государств в лоне возрожденной империи. Столкновения во время несовершеннолетия Оттона III. Смерть Оттона II (984 г.) — его сыну исполнилось всего лишь три года — оставила Германию без сильной власти, и король Лотарь этим воспользовался, чтобы вернуться к своим замыслам по поводу Лотарингии, и захватил Верден. Гуго Капет, взволнованный этим успехом, в свою очередь собрал войско. Глубинной причиной этой вспышки взаимной враждебности, как кажется, было желание Гуго увеличить тем или иным способом свой политический вес и свои земли, а также — кто знает? — завладеть престолом. Без сомнения, молчание источников не является единственной причиной гой двусмысленности, которая была характерна для его политики: ведь хоть Гуго не помешал Людовику стать соправителем его отца в 979 г. и взойти на престол в 986 г., но в 981 г. герцог франков прибыл в Рим, чтобы встретиться там с Оттоном II — без сомнения, с враждебными намерениями по отношению к Лотарю. Так из-за маневров Гуго земли, где король мог пользоваться неоспоримой властью, постепенно сокращались. Роль архиепископа Реймсского. Реймсское епископство играло заглавную роль в политической игре того времени; крайне важное для королевской власти, оно традиционного благоволило к Каролингам, но готовилось переменить лагерь и, наоборот, стать решающей поддержкой для Гуго. В то время архиепископом был Адальберон, представитель семейства герцогов Верхней Лотарингии, из которого вышло немало графов и епископов региона. На его службе состоял преподаватель и заведующий епископальной школы, молодой Герберт Орильякский, — без сомнения, самый блистательный человек своей эпохи, которому было суждено стать папой римским под именем Сильвестра II. Письма Герберта позволяют нам проследить политическую эволюцию этих двух персонажей, от верности Каролингу Лотарю до признания того факта, что Робертин Гуго был бы более действенным королем. Незадолго до смерти Лотаря Герберт писал: «Король Лотарь — первый в своем королевстве только по титулу. Но на деле им является Гуго, не по титулу, а по своим деяниям и свершениям»[29]. В глазах реймсских клириков Лотарь был повинен в том, что сблизился с их врагом Гербертом де Вермандуа. Связи, которые Адальберон и Герберт поддерживали с оттоновским двором, также подталкивали их перейти на сторону Гуго, который, в отличие от Лотаря, не лелеял никаких амбиций в отношении Лотарингии и, как следствие, не имел враждебных мотивов против империи: поэтому некоторых представителей «оттоновской партии» можно было встретить в «капетингской партии». Царствование Людовика V. В этой меняющейся обстановке Лотарь умер (2 марта 986 г.), и его сын Людовик ему наследовал. Хотя ему и исполнилось всего восемнадцать лет, Людовик был коронован уже давно; поэтому наследование трона прошло без препон. Такое впечатление, что новый король был настроен действовать решительно: он продолжил лотарингскую политику своего отца, быть может, даже перешел в наступление на Реймс, чтобы наказать архиепископа за его благосклонность к Робертинам и Оттонам, так же как и на Лан, чей епископ, еще один Адальберон (кстати, племянник первого), разделял настроения своего реймсского собрата. В любом случае, король вызвал архиепископа в Компьень, чтобы тот ответил за свои действия. Но в то самое время, когда участники собрания съезжались, готовясь выслушать Адальберона, Людовик V внезапно умер вследствие несчастного случая на охоте 21 или 22 мая 987 г. Восшествие на престол Гуго Капета Наследственность и избрание. В связи наследством Людовика V, умершего бездетным, снова — и на этот раз куда более остро, чем всегда — встал вопрос о соображениях, которые двигали выборщиками. Принцип выборности не возник из ниоткуда: у франков короля традиционно избирали знатные миряне и церковнослужители (предполагалось, они представляют весь народ) из одного и того же семейства. Считалось, что королевское семейство обладает харизмой, магической властью, которая была недоступна остальным семьям, сравнимым с нею по своему территориальному могуществу и союзам. Однако в самом королевском семействе никакое правило первородства заранее не устанавливало порядок наследования престола: выбор магнатов, таким образом, состоял в том, чтобы «классифицировать» наследников в соответствии с их достоинствами (и частенько — милостями и обещаниями, которые они расточали). К тому же один обычай раздела королевства между сыновьями покойного короля и другой, соперничающий с ним, — коллективного отправления власти, — существенно нивелировали принцип выбора магнатами. При Каролингах избрание вышло из обихода или, точнее, свелось к возгласам одобрения в собрании в момент коронации нового короля. Наследственный принцип взял верх и значительно упрочил свои позиции из-за обыкновения государей выбирать себе наследника, провозглашать его и короновать еще при своей жизни. Ритуал миропомазания, введенный Пипином Коротким, лишь усилил религиозный характер королевской власти. Но практика раздела королевства сохранилась: раздел государства между сыновьями Людовика Благочестивого — всего лишь наиболее известный и тяжелый последствиями пример. После смерти Карла Лысого избрание вновь обрело силу в разных королевствах, появившихся в результате вышеупомянутого раздела: отныне выбирали магнаты, и не только среди представителей каролингского семейства, но и среди их соперников, которые смогли выдвинуться прежде всего за счет своего политического веса — даже если у всех них в жилах текла толика каролингской крови благодаря тому или иному из нескончаемых браков, связавших правящее семейство с высшей аристократией империи. Мотивы выбора в пользу того или иного кандидата менялись в зависимости от семейных связей, обещаний конкурентов, остатков уважения к королевской крови и беспокойства об общем благе. Последний мотив подталкивал выборщиков остановиться на наиболее деятельном кандидате, но это побуждение умерялось потаенным желанием, чтобы слабый король не сильно мешал крупным сеньорам. Избрание Гуго Капета задействовало этот сложный клубок мыслей и соображений. Избрание Гуго Капета. Мы знаем об этом важнейшем событии благодаря нескольким современным хроникам, главной из которых является хроника Рихера. Монах монастыря Святого Ремигия в Реймсе, ученик Герберта Орильякского и наследник замечательной историографической традиции реймсской церкви, Рихер, возможно, присутствовал при избрании или во всяком случае был о нем прекрасно информирован. Он явно симпатизирует Гуго Капету. Блистательным пассажем его повествования является речь Адальберона, которую Рихер приводит во всех подробностях. Мы уже видели, как еще до смерти Людовика V Адальберон подумывал о том, чтобы короновать Гуго в надежде дать королевству деятельного правителя и избавиться от императорского влияния. Смерть Людовика и уже съехавшееся собрание облегчили ему задачу: Людовик без промедления был похоронен тут же, в Компьене, в Сен-Корней — хотя сам он желал упокоиться в аббатстве Святого Ремигия: но нужно было выиграть время, о чем недвусмысленно говорит Рихер. Как герцог франков, Гуго возглавил собрание и помог оправдаться Адальберону. Собрание, выполнив свои судебные обязанности, затем выслушало самого Адальберона, который напомнил о необходимости выбрать нового короля и выдвинул кандидатуру Гуго. Для того чтобы отсутствующие могли принять участие в выборах, он созвал новое собрание в Санлисе — городе, принадлежавшем Гуго. Между тем архиепископ отправился в Реймс, где выслушал и выпроводил восвояси каролингского претендента, Карла, герцога Нижней Лотарингии, брата покойного короля Лотаря. Собравшись в Санлисе 29 мая, магнаты (к сожалению, у нас нет точного списка присутствовавших) избрали Гуго. Историки, интерпретируя противоречивые источники, расходятся по поводу даты и места коронации с миропомазанием: 1 июня или 3 июля, Нуайон или Реймс, или коронация в Нуайоне и миропомазание в Реймсе. Выбор Нуайона мог объясняться памятью о произошедшей там коронации Карла Великого; этот престижный прецедент мог бы в какой-то мере заменить новому государю нехватку каролингской крови. Что же касается миропомазания в Реймсе, то оно могло бы служить знаком признательности архиепископу Адальберону, который помог Гуго во время выборов. Правда, традиция получать миропомазание в Реймсе в эту эпоху еще не совсем устоялась; некоторые предшественники Гуго устраивали эту церемонию в другом городе или два раза в разных местах, и только позже реймсские архиепископы сделали ритуал миропомазания своей прерогативой. Роберт Благочестивый был коронован и миропомазан в Орлеане, его сын Гуго — в Компьене, но эти исключения постепенно сошли на нет (кроме разве что коронации Людовика VI в Орлеане, продиктованной особыми обстоятельствами). Почему был избран Гуго Капет? Теперь остановимся на причинах, побудивших избрать Гуго, а не Карла Лотарингского. В силу преемственности, существовавшей в лоне каролингского семейства, Карл мог стать королем — но не обязательно, потому что он не был прямым потомком умершего монарха. Адальберон убедил собрание предпочесть ему Гуго, потому что тот обладал качествами, необходимыми для государя, и уже фактически выполнял его роль. Фактор наследственности, к которому взывал Карл, не играл роли, если ему сопутствовали присущие ему недостатки. Процитируем пространную речь Адальберона, заслуженно ставшую знаменитой: «Мы знаем, что у Карла есть свои доброжелатели, которые утверждают, что он должен получить королевский титул, как и его предки. Но если обдумать это, то он не получит королевства по закону о наследстве, и на трон будет возведен только тот, кто блещет не только знатностью рождения, но и мудростью, кто стойко сохраняет верность и подкрепляет ее величием души. […] Но чего достоин Карл, который не руководствуется верностью, которого ослабляет бездействие, который, наконец, настолько слаб головой, что не убоялся служить иноземному государю и взял жену из рода служилых рыцарей, не равную себе? Как стерпит великий герцог, чтобы женщина из семьи его вассалов стала его королевой и властвовала над ним? Как подчинится тот, перед кем склоняли колена равные ему и даже высшие и поддерживали руками его ноги[30]? Рассмотрите дело прилежно — и увидите, что Карл был отвергнут в большей степени по собственной вине, нежели по вине других. Чего вы больше желаете государству — блага или бедствия? Если вы хотите его погибели, изберите Карла, хотите, чтобы оно процветало, коронуйте славного герцога Гуго. […] Итак, изберите герцога, славного деяниями, знатностью, военной мощью, в котором вы найдете защитника не только государства, но и ваших частных интересов»[31]. В пользу Гуго были и иные козыри, о которых Адальберон не упомянул в своей речи. Первым из этих козырей была прочная сеть союзов, сплетенная им в среде высшей аристократии. Его брак с Аделаидой, сестрой герцога Аквитанского, в данном случае не пригодился Гуго, но ему приходились шуринами герцоги Нормандии и Верхней Лотарингии. Уже в двух предшествующих поколениях с умом заключенные браки обеспечили Робертинам выгодные союзы; кроме того, среди вассалов Гуго с избытком хватало могущественных сеньоров, графов и виконтов. Напротив, если матримониальное положение Карла было таким, каким его представил Адальберон, то оно сильно ему повредило; после смерти своей первой супруги, Агнессы де Вермандуа, он вроде бы женился на дочери простого рыцаря. В глазах Адальберона этот брак не только был мезальянсом, стеснительным для его крупных вассалов, но и свидетельствовал о явном безразличии, с которым герцог Нижней Лотарингии отнесся к требованиям его ранга, что было неприемлемо для государя. Впрочем, эти упреки Адальберона могли быть и клеветой, а так называемая дочь рыцаря — дочерью графа[32]. Но в любом случае, Гуго был гораздо более могущественным человеком, чем герцог Нижней Лотарингии, чей титул — тем более что он был создан недавно — не сопровождался ни территориальной базой, ни сетью вассалов, сравнимой с той, на которую опирался маркграф Нейстрии. Мы уже видели, что Гуго мог рассчитывать на поддержку тех, кто не был равнодушен к престижу династии Оттонов и надеялся на добрые отношения между двумя царствующими дворами. Наконец, Гуго Капет пользовался благоволением служителей Церкви, которые, без всякого сомнения, и сыграли решающую роль в его избрании: он с лихвой предоставил доказательства своего благочестия и заботы в деле реформирования Церкви. Многочисленные монастыри, находившиеся под его контролем, немало получили от его щедрот, и он способствовал возвращению к строгому соблюдению монастырского устава в Сен-Дени и Сен-Рикье. Таким образом, избрание Гуго Капета не было обязано случаю — за исключением, конечно, падения на охоте Людовика V, из-за которого оно стало возможным, — это избрание объясняется всей совокупностью союзов, благожелательного отношения, позитивного образа их семейства, которые новый король и его наследники на протяжении жизни четырех поколений сумели сформировать у аристократии и духовенства королевства.Глава II От Гуго Капета до Филиппа I: короли XI в. (Франсуа Менан)
Потомки слишком строго судили первых капетингских королей: их упрекали в слабости и неспособности подняться выше среднего политического положения. Однако у них было одно несомненное преимущество — продолжительное царствование: правление первых четырех государей династии — Гуго Капета, Роберта Благочестивого, Генриха I и Филиппа I — было долгим, они не знали ни настоящих династических распрей, ни внутреннего соперничества из-за короны. Все они с поистине наследственным упорством радели о поддержании и укреплении королевской власти. Они молчаливо придерживались единой линии поведения: избегать авантюр (нехватка средств в любом случае не давала им возможности в них ввязываться), искать дружбы клириков и симпатий слабых, не раздавать свои земли, изо дня в день бороться с сеньорами, которые подрывали их власть в самом королевском домене. Эти правители действовали крайне сдержанно, уже в силу тех условий, в которых находились: они не распыляли свои силы, как это делали императоры или англо-нормандские короли, постоянно метавшиеся с одного конца на другой своих обширных государств. Войнам и дипломатии первых Капетингов был свойственен крайне незначительный размах: они боролись за то, чтобы защитить или захватить какую-нибудь крепость или городок в нескольких десятках километров от Парижа.Гуго Капет (897–996)
В отличие от своих наследников, основатель династии правил сравнительно недолго — менее десяти лет. На самом деле он вступил на престол уже в зрелом возрасте, когда ему исполнилось сорок пять или чуть более лет, и краткая продолжительность жизни в эту эпоху оставляла ему мало надежды на длительное царствование. Мы недостаточно знаем о его правлении: ни один писатель того времени не посчитал нужным составить его биографию; «Историю» Рихера Реймсского, детально поведавшего нам об избрании Гуго, можно использовать до 995 г., но другие хронисты, например Рауль Глабер, посвящают ему несколько стереотипных фраз. До нас дошло лишь незначительное число актов Гуго Капета — около двенадцати. Такая скудная документальная база не позволяет нам поточнее узнать о деятельности Гуго, но зато она красноречиво свидетельствует о его слабости: ведь его современник, Оттон III, оставил после себя не меньше трехсот актов, и эта диспропорция подтверждает — даже делая скидку на любые возможные потеридокументов, — то, что мы знаем о пропасти в могуществе и влиянии между французской и германской королевской властью того времени. Судя по столь незначительному количеству документов, королевская канцелярия практически бездействовала. Но чтобы правильно ее оценить, нужно вспомнить, что акты, выпускаемые канцелярией, по большей части были привилегиями, которые подтверждали владение монастырями теми или иными землями и помещали их под покровительство короля: бездействие Гуго Капета в этой области попросту свидетельствует, что монахи считали бесполезным испрашивать покровительство такого слабого государя.Козыри и слабости нового короля: королевский домен
С другой стороны, скромные размеры владений не давали Гуго возможности осуществлять настоящую власть над его крупными вассалами, которые были гораздо более или так же могущественны, как и он. Его роль арбитра в бытность еще герцогом франков в споре между архиепископом реймсским и последними каролингскими королями, без сомнения, восстановила влияние Гуго в сообществе магнатов. Поддержка, которую ему оказывали, каждый на свой манер, такие могущественные силы, как император и аббат Клюни, лишь помогла усилить это влияние. Итак, это ощутимое превосходство среди его равных привело герцога франков на трон, но оно выражалось в категориях влияния больше, чем реального могущества: его непосредственные соседи, герцог Нормандский и граф Анжуйский, превосходили его по размерам земель и количеству подчиненных людей, а другие магнаты — практически сравнялись с ним по этим показателям. Владения Гуго Капета свелись к остаткам робертинского княжества: оно было лишь обломком того, чем управлял пятьюдесятью годами ранее Гуго Великий. Теперь оно не простиралось дальше Парижа на севере и Орлеана на юге. Во владения Капета входило несколько средних городов, таких как Санлис, Этамп, Мелен, Корбей и Дре. В этих городах у нового короля был свой дворец, отряд рыцарей, он получал там доходы с таможенных сборов и земельной собственности. Конечно, как всякий сеньор, Гуго владел сельскими угодьями. Но эти владения были сильно разбросаны и перемешались с другими сеньориями; посреди королевских земель обосновались враждебные силы, такие как сеньоры Монлери и Монморанси. К тому же у этой слабоструктурированной совокупности земель не было центра: на протяжении всего XI века не было столицы, или, точнее, их было несколько. Двор — громкое слово для окружения из нескольких десятков приближенных и служащих — переезжал из одного дворца в другой; короли вели странствующий образ жизни до самого правления Людовика VI. Также в распоряжении Гуго Капета были монастыри, представлявшие для него важную экономическую и стратегическую опору, не говоря о духовном влиянии, которое они могли перенести на своего держателя: Сен-Мартен де Тур, Сен-Бенуа-сюр-Луар, Сен-Жермен-де-Пре, Сен-Мор-де-Фосс и другие. Новому королю по большей части приходилось жить за счет этого имущества, унаследованного от предков: от каролингского королевского домена, который Гуго должен был получить при восшествии на трон, почти ничего не осталось, кроме Лана. Единственным значимым преимуществом этого наследства был контроль над многими епископствами, который в основном выражался в назначении будущего прелата на его пост и пользовании регалией, то есть доходами епископства, в период, когда кафедра пустовала. Король располагал этими правами в Орлеане, Сансе, Лангре, Бове, Ле Пюи и, без сомнения, в Париже, Шартре, Мо, Нуайоне и Лане. Аббатства и епископства служили королю существенным подспорьем в военном плане: отряды рыцарей, которые они присылали, составляли костяк королевского войска, вместе с рыцарями городов и оставшихся под его властью замков. Что касается отрядов крупных вассалов, то они крайне нерегулярно прибывали на зов государя[33].Границы королевского влияния
Робертинское княжество, ставшее королевским доменом, было окружено более могущественными сеньориями: так Эд I, граф Блуаский, — сын Тибо Плута — владел Шартром, Туром и Шатоденом и всю свою жизнь оставался личным врагом Гуго: вот пример одного из тех вассалов, которые получили свои города и замки от предков Гуго и затем приобрели независимость к середине X века. К востоку от королевского домена находилась другая враждебная сила: граф Вермандуа Герберт был самым крупным сеньором Шампани и владел Труа, Мо, Провеном и Витри. Напротив, отношения короля с другими крупными вассалами складывались удачно: Фульк Нерра, граф Анжуйский, Ричард, герцог Нормандский и брат короля Генрих, герцог Бургундский, вместе обладали немалым могуществом. Менее значимая фигура, но зато обосновавшаяся в самом сердце королевского домена, граф Вандомский, Бушар, также был графом Парижа. Он был преданным сторонником короля. В 991 г., когда Эд Блуаский напал на Бушара, король, граф Анжуйский и герцог Нормандский вместе отправились ему на помощь, осадив город Мелен (см. карта 1).
Королевское влияние, и без того неоднозначное в северной Франции, за ее пределами вообще не ощущалось. Напрасно граф Барселонский просил короля о помощи, хотя Гуго вроде бы и собирался прийти на его призыв; сочувствующие Капетингам историки объясняют, что нападение Карла Лотарингского помешало новому монарху отправиться к Пиренеям. Вполне возможно, но это лишь подтверждает тот факт, что рамки королевской деятельности были довольно узкими. На протяжении двух лет королевская армия застряла под Ланом, топталась на окраинах Иль-де-Франса и победила Карла — который и сам-то был не более чем мелким князьком — только с помощью предательства; сложно представить, как это войско смогло бы преодолеть свыше тысячи километров, чтобы сойтись в бою с сарацинами, находившимися тогда в апогее могущества. Каталонский проект скорее навевает мысли о Пикхороле, чем о Карле Великом. Неспособность короля вмешаться и даже напомнить о себе в южной половине королевства подтверждается локализацией адресатов королевских дипломов — и так крайне немногочисленных: ни один монастырь, ни один сеньор с юга не испрашивал покровительства — ни Гуго Капета, ни его наследников. Несколько дипломов предназначались для бургундских и туренских адресатов: это был крайний горизонт королевского влияния. Эта ограниченность контрастирует с ситуацией, сложившейся на протяжении десятилетий, непосредственно предшествовавших 987 г., когда последние Каролинги наращивали число дипломов, выпущенных для церквей юга и даже Каталонии[34].
Теоретики королевских обязанностей
По сравнению с ограниченными средствами, которыми располагал король, его легитимность упрочилась благодаря поддержке высших иерархов церкви: лучшие из них считали, что король — как бы слаб он ни был — воплощает традицию высшей власти, единственной, что способна сохранить мир и порядок в христианском сообществе. Аквитанские и лангедокские епископы разработали — за неимением лучшего — концепцию Божьего мира в то самое время, когда Гуго Капет взошел на трон, но их собратья из северной Франции, более близкие к королевской власти, постарались оказать ему идеологическую поддержку. Аббат Флери (Сен-Бенуа-сюр-Луар) Аббон, один из лучших умов своего времени, поднял тексты времен Людовика Благочестивого, чтобы объяснить, в чем заключалось «королевское служение» (ministerium regis), «ремесло короля», иначе говоря — определить область применения его власти. В реалиях конца X века «королевское служение» не казалось таким уж важным делом, каким было около 830 г.; но выбор такой ссылки хорошо иллюстрирует тот все еще величественный образ, что всплывал при мысли о королевской власти в отдельных умах, пропитанных каролингской культурой, и надежды, которые они могли возлагать на Гуго Капета. В ту же эпоху был составлен ordo, то есть руководство по церемонии миропомазания короля, которое становилось все более похожим на ритуал рукоположения в епископы. Это стремление подчеркнуть религиозный характер королевской власти и даже забота зафиксировать в письменном виде сам процесс миропомазания свидетельствуют, насколько сильна была еще вера в сверхъестественные свойства королевской власти. В остальном же эта надежда не мешала клирикам реалистично оценивать те слабые средства для эффективного правления, которыми располагал Гуго Капет; тот же Аббон откровенно заявлял: «Если ремесло короля обязывает его заниматься делами королевства, как он сможет это сделать, если не имеет средств? Как он сможет выполнять свои обязанности, если магнаты королевства не помогут ему помощью и советом, не окажут ему должные почести и уважение[35]?»Коронация и женитьба Роберта
Едва став королем, Гуго сделал важный для будущего династии шаг: он приказал короновать своего сына Роберта и таким образом обеспечил передачу ему короны. Конечно, прошлое показывало, что подобная предосторожность не могла полностью помешать избранию другого короля. Тем не менее речь шла о важном шаге, сделанном в направлении наследственной передачи короны. И этот поступок Гуго тем более примечателен, что он сам только что вступил на трон, а каролингская партия оставалась все еще сильной. Эту подспудную угрозу представляли Карл Лотарингский и традиционные сторонники прежней династии. Именно она должна была серьезно повлиять на решение Гуго короновать наследника престола, чтобы дать ему все шансы в случае смерти отца. Правда, Гуго с некоторым трудом убедил в этом архиепископа Адальберона, чье содействие было необходимым, чтобы коронация приобрела законный вид. Хотя он и был главным творцом восшествия Гуго на трон, Адельберон не хотел, чтобы новая династия гак быстро закрепила свое право на корону. Гуго привел в качестве аргумента свой предполагаемый поход в Каталонию, чей граф просил оказать ему помощь в борьбе с мусульманами: он не может, заявил король, оставить королевство без правителя, не уладив вопрос о наследстве. Хотя поход в Каталонию так никогда и не состоялся, Роберт был коронован 30 декабря 987 г. в Орлеане. Эрик Бурназель заметил, что, если коронация сына короля при жизни отца — начиная с Роберта — и обеспечила династическую преемственность, то она же способствовала тому, что магнаты отдалились от монархии: утратив влияние, которым они периодически могли пользоваться, участвуя в выборах короля, они теперь не имели с ним ничего общего, кроме тех же союзных и соседских отношений, что поддерживали между собой[36]. Затем отец задумал женить Роберта, продолжив тем самым работу над упрочением позиций династии. Демарш Герберта в Константинополе провалился. В конце концов смерть графа Фландрии в марте 988 г. предоставила удобный случай: он оставил вдову, Розалу, с ребенком. Эта ситуация обещала выгодную опеку над графством, и Роберт, не откладывая, женился на Розале.Сопротивление Карла Лотарингского
Однако каролингский претендент на корону не смирился со своим поражением. В 988 г. он захватил Лан, который являлся одной из опорных точек для власти последних королей из его рода. До 990 г. Гуго один за другим устраивал безуспешные походы на город. В довершение всего, Гуго имел глупость после смерти Адальберона избрать архиепископом Реймса Каролинга, Арнульфа, тогда как Герберт обладал всеми качествами, подходившими для того, чтобы занять эту кафедру (989 г.). Нарушив присягу верности, которую ему пришлось подписать, чтобы добиться поддержки короля, Арнульф поспешил сдать Реймс Карлу и поклялся ему в преданности. Оба лагеря прибегли к дипломатическим методам: граф Вермандуа и остальные графы региона присоединились к Каролингу, а со своей стороны Гуго заручился содействием графа Блуаского, взамен уступив ему Дре, — но особой пользы от этого союза не получил. Противники искали помощи у папы римского, тогда как императорский двор — в то время Оттон III еще не достиг совершеннолетия — уклонялся от просьб о поддержке со стороны Гуго. Положение становилось тревожным для короля, когда дело разом разрешилось с помощью измены в 991 г.: епископ Ланский Адальберон захватил Карла и Арнульфа спящими и выдал их королю. Помещенный под стражу в Орлеане, последний каролингский претендент умер там чуть позже. В 995 г. его сын Людовик оказался в центре неудавшейся интриги, затеянной против короля его бывшими союзниками, епископом Ланским и графом Блуаским. Но это посредственное дело станет последним отзвуком претензий на французскую корону наследников прежней династии.Церковный собор в Сен-Бале и охлаждение отношений с Папой Римским
Что касается архиепископа Арнульфа, то его судили на соборе из тринадцати епископов под предводительством архиепископа Сансского: этот собор заседал в Сен-Баль-де-Верзи, подле Реймса (18–19 июня 991). Несмотря на протесты Аббона Флерийского, утверждавшего, что лишь один папа вправе судить архиепископа, Арнульф был низложен. Несколькими днями позже на его место избрали Герберта: он с некоторым запозданием взошел на кафедру, которую, казалось, ему давно было предназначено занять. Но это дело так и не перестало мешать политике Гуго: папа Иоанн XV, тогда находившийся в ссылке при императорском дворе, не согласился с произошедшим в Сен-Бале и захотел созвать новый собор в Ахене, чтобы вынести решение о законности низложения Арнульфа. Французские епископы отказались заседать под императорским давлением и подтвердили приговор, вынесенный в Сен-Баль-де-Верзи во время собора в Шелле (993–994 гг.). Дело тянулось до смерти короля, и обе стороны упорно отстаивали свою точку зрения.Борьба против Эда Блуаского
Эд Блуаский недолго оставался союзником короля, которого стремился ослабить всеми возможными способами. Он напал на Бушара Вандомского, преданного сторонника Гуго, и захватил Мелен, воспользовавшись изменой шателена, охранявшего замок от имени Бушара (991 г.). Как мы видели, это нападение привело к созданию коалиции из короля, графа Фулька Анжуйского и герцога Нормандского Ричарда наряду с Бушаром. Мелен был отбит, Эд побежден. Но он перенес поле битвы в Бретань: один из его верных людей завладел Нантом, который в свою очередь взял Фульк Нерра в 992 г. Разбитый на всех фронтах, Эд Блуаский сумел выправить положение, добившись союза с графом Фландрии, герцогом Аквитанским и даже герцогом Нормандским. Все они так или иначе боялись роста анжуйского могущества. Войска противников сошлись в Анжу зимой 995–996 гг. Война прекратилась со смертью двух главных соперников, которые оба были больны: Эд умер в марте 996 г. а Гуго Капет в конце ноября того же года. Короля, скончавшегося в замке неподалеку от Шартра, похоронили в Сен-Дени, где гробниц Робертинов, ставших светскими аббатами этого монастыря, уже становилось больше, чем могил Каролингов.Роберт Благочестивый (996–1031)
Король и его образ
Образованный и набожный король Родившийся в 970 г. в Орлеане — этот город станет его излюбленной резиденцией, — Роберт был единственным сыном короля Гуго и Аделаиды, принадлежавшей к семейству герцогов Аквитании. Он учился в Реймсе в то время, когда там преподавал Герберт, величайший ученый Запада. Более глубокое образование, чем у большинства светских магнатов той эпохи, позволило Роберту выглядеть книжником в глазах его подданных и даже хрониста Рихера, который и сам был эрудированным человеком. Как свидетельствует его прозвище, Роберт также был образцовым христианином, который во множестве совершал акты благочестия. Наиболее заметным следствием этих двух граней его личности — интеллектуальных интересов и религиозного рвения — было грубое вмешательство Роберта в дело об орлеанских еретиках. В 1022 г. он приказал судить и приговорить к сожжению на спешно созванном собрании епископов тринадцать или четырнадцать клириков Орлеана, в том числе почтенных и ученых каноников, преподавателей школ этого города, который тогда был одним из интеллектуальных центров Запада, и даже исповедника королевы. Подсудимых обвиняли в том, что они высказывали взгляды, расходящиеся с ортодоксальным вероучением, что случалось крайне редко в то время: по их мнению, благодать не снисходила на человека в миг крещения, грех не мог быть искуплен, а освящение облатки ничего не давало. Нет никаких сомнений, что именно король настаивал на наказании и требовал, чтобы оно было как можно более суровым. Чтобы понять это, достаточно сравнить данное дело с тем, что имело место сорока годами позже. Около 1066 г. прославленный турский преподаватель по имени Беренгарий вызвал новый скандал, проповедуя еретическую доктрину евхаристии: но он не подвергся никакому осуждению[37]. Король в зеркале благожелательной историографии Гельго, монах из Флери, создал в своей «Жизни Роберта Благочестивого» портрет практически совершенного короля[38]: ученый, благочестивый, друг священников, милосердный с бедняками, радеющий о благе государства, а также хороший воин. В отличие от его отца и ближайших наследников, для Роберта нашелся биограф: писал с легким уклоном в агиографию, но при этом не проявил особого литературного таланта. Гельго трудился — можно было бы прибавить: естественно — в аббатстве, которое в XI в. было главной мастерской, где перо и мысль были поставлены на службу монархии[39]. Рихер также вкратце набросал благожелательный портрет короля. Рауль Глабер называет его мудрым и образованным государем, а Адемар Шабаннский отмечает его благочестие. Современные Роберту хронисты в общем выводят его образ в положительных тонах. От Гельго мы знаем, как первый Капетинг прикасался к золотушным; если точнее, Роберт исцелял прикосновением «язвы больных» — выражение, которое, без сомнения, обозначает проказу. Роберт также поцеловал прокаженного — жест, который спустя два столетия станет пробным камнем для святости Франциска Ассизского и Людовика IX. Ле Гофф показал, как «Жизнь» Гельго сделала из Роберта «первый и лучший набросок того идеального образа, который во всей полноте воплотил Людовик Святой»[40]. Именно Роберту Адальберон Ланский посвятил «Поэму королю Роберту», прославившуюся благодаря своему анализу общества того времени[41]. Но в поэме Адальберона нет агиографических мотивов: епископ не просто довольствовался тем, что обрисовал современное ему общество, — он указал, что причиной потрясений этого общества является несостоятельность королевской власти, и призвал короля восстановить нарушенное равновесие. Позади официального фасада и слишком совершенного короля, наделенного всеми достоинствами, — в том виде, каком его выставляет историограф-агиограф того времени, — явно скрывается сомнение, которое начинает выплывать наружу, когда сравниваешь довольно противоречивые трактовки царствования Роберта, сделанные историками Нового времени: был ли он хорошим, был ли он плохим? Этот почти святой был человеком и для начала именно его плотские искушения должны привлечь наше внимание.Матримониальные проблемы, политические затруднения
Влюбленный государь Единственной ошибкой Роберта была любовь. Это чистое сердце, этот интеллектуал страстно влюбился в жену своего врага: Берту, дочь короля Бургундии Конрада II, — у нее в жилах текла кровь Каролингов — и вдову Эда Блуаского. Мы видели, как Роберт совсем молодым и из политических соображений женился на вдове графа Фландрского, Розале, дочери итальянского короля Беренгария (988 г.). Спустя год он отослал ее прочь, сохранив под своей властью ее приданое — Монтрей-сюр-Мер, драгоценный выход к морю. Тогда Роберт встретил Берту и женился на ней после смерти отца, противившегося этому браку. Но новобрачные были родственниками в третьем колене, и к тому же Роберт был крестным отцом одного из детей Берты: уже эти две причины делали брак между ними неприемлемым с точки зрения все более строгого и набиравшего силу канонического права. Однако пара нашла услужливых епископов, готовых узаконить их союз, несмотря на сопротивление папы Григория V. Но этот брак не только навлек на Роберта гнев понтифика, но и привел его к унизительной капитуляции: в напрасной надежде задобрить папу римского король отменил приговор, вынесенный на Сен-Бальском соборе, освободил бывшего архиепископа Арнульфа и восстановил его на реймсской кафедре, к великой досаде Герберта, которому пришлось искать убежища при дворе Оттона III (997 г.). Непреклонный Григорий V все равно отлучил от церкви супругов, которые в его глазах были повинны в кровосмешении. В 998 г. собор, заседавший в Риме, приговорил их к семилетнему покаянию. Спустя пять лет Роберт сдался: восшествие Герберта на папский престол усилило враждебный настрой Рима, а Берта так и не родила ему детей: меж тем пора было задуматься о наследнике. Король подчинился и бросил Берту. Домашние неурядицы Тогда Роберт женился на Констанции, дочери графа Арльского, связанной родственными узами с семейством анжуйских графов, с которыми король таким образом восстановил прежний союз. Жена принесла Роберту долгожданных отпрысков: Гуго, Генриха, Роберта, Эда, Адель, — но не сделала его счастливым. «Домашнюю жизнь короля омрачала черная злоба его супруги: в эту грубую эпоху мегеры не были редкостью; перед нею приближенные короля испытывали поистине комический страх»[42]. «Эта амбициозная, жадная и сварливая женщина приобрела над мужем власть, какую любая сильная натура приобретает над слабым характером. Сгибаясь под ярмом Констанции, от которой ему даже приходилось скрывать свои милосердные деяния, Роберт в глубине сердца оставался привязан к Берте»[43]. Путаница, вызванная сердечными делами короля, — воссозданная здесь сочувствующим пером Шарля Пти-Дютайи и Ашиля Люшера, — в конце концов снова привела к политическим проблемам: убийство при дворе сторонника Берты привело в 1008 г. к новому разрыву с графом Анжуйским Фульком Нерра, которого подозревали в том, что он был вдохновителем этого преступления. Окончательно выведенный из себя Констанцией, Роберт отправился к папе, чтобы добиться расторжения брака, но безуспешно (1010 г.): королю пришлось терпеть супругу до самой смерти. Констанция вмешивалась и в вопросы престолонаследия. Ее старший сын Гуго был миропомазан в 1017 г. в Компьене в присутствии многих крупных вассалов, собравшихся ко двору по этому случаю. Церемония показала, что король все еще оказывал на них определенное влияние и что они согласились с принципом сокоронации. Но Гуго умер в 1125 г., в восемнадцать лет. Тогда королева выступила против коронации ее второго сына, Генриха, которого совсем не любила; однако церемония все же состоялась — на этот раз в Реймсе, на Пасху 1027 г.Пересмотр итогов одного царствования
Правление Роберта Благочестивого дает пищу для противоречивых оценок. С одной стороны, в нем видели последнюю стадию упадка королевской власти, которая началась с конца 20-x гг. XI в. и продлилась примерно до 1077 г. Другие исследования королевских актов скорее указывают на преемственность с предыдущим царствованием и даже с каролингскими традициями. С другой стороны, Роберт вынашивал планы внешнего вторжения, которые его отец никогда не намечал; по правде сказать, почти ни один из них Роберт так и не довел до стадии реализации, но в тот редкий случай, когда ему удалось это сделать, король получил приобретение первостепенной значимости: герцогство Бургундское стало зависеть от Капетингов. Королевская дипломатика: свидетель упадка или преемственности? Рассмотрим сначала гипотезу упадка. Она основывается главным образом на подробном исследовании подписей свидетелей под королевскими актами, проведенном Жаном-Франсуа Лемаринье, который сделал прямой вывод: «Упадок между 1025–1031 гг. заметен с различных точек — категории дипломов, социального качества, юридического качества»[44]. Согласно подсчетам Жана-Франсуа Лемаринье, среди лиц, заверивших королевские акты, встречается все больше шателенов и даже простых рыцарей, которые смешиваются с ранее абсолютно преобладавшими графами и епископами, а к концу царствования Роберта уже существенно превосходят их в числе. Сама практика подкреплять акты подписями свидетельствует о слабой уверенности королевской власти в своих силах: короля больше недостаточно, чтобы гарантировать свои собственные грамоты. Начиная с 30-x гг. XI в. ситуация становится еще хуже: до этого времени акты подписывали верные короля, придворные чины, крупные вассалы, причем в их участии не было ничего нового, удивляла лишь их численность. Отныне же люди, чьи имена перечисляются под актом, не занимают при дворе никакого поста, который объяснил бы их присутствие. Они подписывают грамоту даже не как верные короля, а как сеньоры земель, находившихся по соседству с тем местом, где составляется документ. Они выступают в роли свидетелей, чтобы обеспечить документу дополнительную гарантию: бедный король, который вынужден просить простых рыцарей выступить гарантами своих актов. Это впечатление упадка королевского влияния начиная с конца правления Роберта, которое списки имен внизу грамот, как кажется, передают, можно сказать, механически, стало классическим во французской историографии после работ Лемаринье. Но недавно Оливье Гюйотжаннен внес коррективы, которые позволяют по-иному взглянуть на суть произошедшего[45]: увеличение имен, присутствовавших под королевскими дипломами, и понизившийся социальный уровень заверителей объясняются эволюцией дипломатической практики, а не стремительным изменением королевского окружения. Одни акты повседневного управления доменом обычно подписывали представители постоянного окружения короля, включая персонажей относительно низкого ранга. В дипломах имена присутствовавших добавлял сам бенефициар. Именно так дело обстоит как раз с дипломом от 1028 г., которым Лемаринье датирует рост подписей и понижение социального уровня части заверителей. К тому же половина дипломов составлялась самими получателями, а канцелярия добавляла лишь королевскую монограмму и печать. Таким образом, добрая часть выводов Лемаринье во многом утратила свою силу. Вдобавок дипломатическое качество актов Роберта Благочестивого свидетельствует о сохранении традиций канцелярии, напрямую связанных с каролингскими наследием. Сравнение же с актами, составленными в княжествах, где, как предполагается, центральная власть удержала свои позиции, — например, Нормандии, — показывает, что там дипломатическая практика эволюционирует в том же направлении. Например, у герцога Нормандии не было настоящей канцелярии, поэтому можно усомниться в справедливости утверждения, согласно которому качество и количество производимой канцелярией документации идут вровень с властью князя, на которого она работает. Таким образом, изменения, произошедшие в королевских актах начиная с конца правления Роберта, не служат показателем — по крайней мере, таким прямым, как считал Лемаринье, — упадка королевской власти. В действительности канцелярия начинает вносить список присутствующих в выпускаемые ею акты лишь при Филиппе I, после 1060 г. Но иерархия подписей, так же как и все, что известно о функционировании двора того времени, позволяет отклонить гипотезу, согласно которой эта новая практика отражает простой и недвусмысленный упадок власти короля и ослабление позиции королевской канцелярии. В общем, если принять выводы Гюйотжаннена — основанные на более обстоятельной работе с оригинальными документами, нежели выводы Ламаринье, — получается, что королевская дипломатика на протяжении всего царствования Роберта II, и даже всего XI в., отражает непоколебимое осознание королевского главенства и сана. Она сохранила и даже возродила черты, свойственные каролингским актам; изменения, затронувшие дипломатику, были надлежащим образом продуманы в недрах канцелярий и не означали никакого институционального провала, «Первое впечатление об анархии было вызвано лишь ошибкой в перспективе»[46]. Деятельность Роберта Благочестивого за пределами королевского домена: иллюзии и реальные дела Роберт был первым капетингским королем, кто рискнул отправиться далеко на земли к югу от Луары — и последним из них, кто пошел на этот шаг в XI в. Согласно Гельго, основная цель его путешествия заключалась в том, чтобы поклониться самым почитаемым реликвиям Южной Франции, и в этой поездке король добрался до самой Тулузы. Документация не дает нам никакого основания считать, что эта поездка имела какие-либо политические последствия: контакты короля с правителями юга остались редкими, и отношения их были лишены какой-либо сердечности. Аквитанский герцог Вильгельм V без обиняков заявил о «никчемности короля» (vilitas regis) — в письме, которое по ошибке попалось на глаза Роберту[47]. К счастью для Роберта, корона Италии так и не досталась Вильгельму V; но прежде того сам Роберт мудро от нее отказался, когда в 1002 г. итальянцы, желавшие порвать со своей зависимостью от Германии, предложили эту корону ему самому. Однако анализ актов Роберта показывает, что он был последним королем до Людовика VI, если не Людовика VII, кто поддерживал контакты с большей частью своего королевства. Роберт проводил активную политику даже на окраинах государства, пусть и не всегда с успешным результатом: его амбициозные планы в отношении Лотарингии, напоминавшие о правлении последних Каролингов, так ни к чему не привели. Насколько ему позволяли матримониальные злоключения, сотрясавшие тесный мирок территориальных князей, король сознательно поддерживал отношения с ними, прибегая к привычному средству — выдавая дочерей замуж: его дочь Адель, овдовевшая после нескольких месяцев замужней жизни с герцогом Нормандии Ричардом III, повторно сочеталась браком с графом Фландрии Балдуином V (1028 г.). Перед этим король устроил несколько безуспешных походов на Фландрию; брак Адели стал выходом, позволившим покончить с этими бесполезными военными усилиями и обновить эфемерный союз, который связывал Роберта с графами Фландрскими во времена его первой женитьбы. Два самых могущественных княжества, Фландрия и Нормандия, по меньшей мере какое-то время были верной опорой королевской власти. Но лишь поблизости от королевского домена действия Роберта принесли наиболее ощутимые плоды, но также и продемонстрировали самые слабые стороны его власти. Король позволил Эду II Блуаскому унаследовать графство Труа (1023 г.): дом графов Блуа, традиционно враждебный Капетингам, сумел таким образом взять их домен в клещи, и могущество его лишь возрастет с присоединением Шампани. Напротив, Роберту удалось сохранить в своем семействе герцогство Бургундское после смерти своего дяди Генриха (1002 г.); граф Отто-Вильгельм, жаждавший прибрать к рукам это герцогство и подходивший на роль наследника, мог бы перевести его в подданство империи — если бы заполучил его. За десять лет беспрестанных военных и дипломатических усилий Роберт полностью обеспечил себе контроль над герцогством и отдал его своему сыну Генриху. Так герцогство Бургундское окончательно досталось Капетингам. Но Роберт так и не смог помешать Бургундскому королевству — самому крупному из тех государств, что были созданы в этой части бывшей Лотарингии, — перейти под власть императора (1027 г.). Действительно ли Роберт воскресил в эту первую треть XI века, столь богатую потрясениями, образ — или призрак — королевской власти, сознающей свое достоинство и традиции, наделенной добродетелями, предприимчивой, но иногда немного химерической? Этот лестный взгляд немало обязан документации, благодаря которой мы и знаем о правлении Роберта, но на которой негативно сказалось агиографическое влияние. Весь вопрос будет заключаться в том, какое именно наследие оставил Роберт — королевскую власть, чей упадок лишь усугубился, или обновленную преемственность с каролингскими обычаями? Дипломатические источники, ставшие предметом существенно различающихся прочтений, предоставляют материал обеим гипотезам, а те, в свою очередь, могут сосуществовать, если отличать отправление власти от ее репрезентации: «Все еще каролингская идеология, которую с трудом сохраняли несколько придворных клириков и канцлер, конечно, скрывает реальную эволюцию королевской власти. Но вся ее история в XI в. показывает скорее медленную адаптацию, нежели анархическую пустоту. Старые схемы по-прежнему рассказывают, кем является государь, но сам король теперь действует скорее, как сеньор. Было бы ошибочно противопоставлять эти два видения, которые вскоре совместно лягут в основу возрождения королевской власти»[48]. Каким бы ни было истинное значение его царствования, Роберт Благочестивый, этот предтеча Людовика Святого, влюбленный король, несчастливый в собственном дворце, Капетинг, пестовавший каролингские ценности, остается великим персонажем XI в.Генрих I (1031–1060)
Тридцать лет проблем
Малоизвестное царствование После документального просвета, благодаря которому Роберт обретает черты некоторой человечности, мы сталкиваемся с жестокой нехваткой источников, когда переходим к правлению Генриха I. Не написано ни одной его биографии, и, упоминая о нем, все хронисты ограничиваются несколькими условными фразами, воспевающими его воинскую доблесть и энергию: «живой ум и деятельный» у Рауля Глабера, «отважный воитель, достойный королевства под его началом» — у другого хрониста, «очень деятельный» — у третьего[49]. Понятно, что перед лицом таких разочаровывающих портретов Жан Дондт признает, что Генрих «остается призрачной фигурой для историков»[50]. Дипломатическая документация не может восполнить лакуны; деятельность королевской канцелярии не превышает самого низкого уровня, достигнутого при Роберте II: от двадцати восьми лет правления, сохранилось шестьдесят два диплома. Акты Генриха, как и его предшественников, стали объектом кропотливого просопографического анализа Жана-Франсуа Лемаринье и современной переоценки Оливье Гюйотжаннена[51]. За исключением этих великолепных работ царствование Генриха не привлекало медиевистов; слишком далекое от 987-го и тысячного года, оно к тому же осталось в стороне от памятных юбилеев и дебатов, которые на протяжении последнего десятилетия осветили предыдущие правления. Король, который должен был стать герцогом Наследование престола, однако, прошло беспрепятственно; на самом деле сложности имели место раньше, когда король сделал своего сына соправителем вопреки сопротивлению королевы. Известно, что Генрих, второй сын короля, не был предназначен для того, чтобы ему наследовать, но должен был стать бургундским герцогом после смерти своего дяди. Уже его имя указывает — как это было в обычае у крупных семейств того времени — на уготованную ему судьбу: он получил имя своего дяди, Генриха, тогда как его старшего брата, которому предстояло стать королем, назвали Гуго — как его деда Гуго Капета. После смерти Гуго Генрих заменил его в качестве наследника трона, несмотря на противодействие матери. Заметим мимоходом, что имя Генрих, которому суждено было остаться редким у французских королей, было именем германских королей: хотя в ту эпоху имя «Генрих» было обиходным, но оно также входило в список имен семейства Оттонов; оно перешло к Капетингам, когда Гуго Великий женился на сестре Оттона I[52]. Императорский брак и русская свадьба В политике Генриха I, почти полностью занятого отношениями с соседними княжествами, матримониальные дела принадлежали к тем редким случаям, когда все еще вспоминали о королевском достоинстве. Первый брачный проект, с дочерью императора Конрада И, Матильдой, сорвался из-за смерти невесты (1034 г.). Тогда король взял в жены племянницу императора, другую Матильду, которая умерла бездетной в 1044 г. Этот союз относится ко времени, когда Генрих поддерживал регулярные дипломатические контакты с императором. Но, чтобы понять реальное значение этого брака, не стоит забывать, что граф Анжуйский также в это время женился на представительнице императорского семейства: даже по этим престижным бракам четко видно, что король не возвышался над своими вассалами. После смерти Матильды Генрих женился на русской княжне Анне, дочери киевского князя Ярослава Мудрого. Для Ярослава французский брак был одним из составляющих матримониальной политики на международном уровне, включавшей в себя брачные союзы с королями Норвегии, Польши, Венгрии и даже с византийским императором. Он уже безуспешно пытался выдать Анну замуж за императора Генриха III. Французское посольство, отправленное в Киев, привезло княжну в 1049 г., и свадьба была отпразднована в 1051 г. У Генриха и Анны родилось трое детей: Филипп, Роберт — он умрет юным — и Гуго, который станет графом Вермандуа. Имя Анны никогда не появляется в королевских дипломах, даже не упоминается об ее присутствии на коронации Филиппа. Только после смерти Генриха и ее повторного замужества за одним французским сеньором имя Анны всплывает в документации. Королевская власть на дне По всеобщему мнению, плохо документированное и изученное царствование Генриха было временем наибольшего бессилия капетингской монархии; даже в новых исследованиях, которые предлагают более позитивный взгляд на королевскую власть в XI в., центральные десятилетия остаются самыми темными. Упадок королевской власти становится особенно заметным, если взглянуть на него в сравнительной перспективе: ведь именно в это время Фландрия, Нормандия, Анжу начали набирать силу после блужданий начала столетия; княжеская власть опиралась на зародыш администрации, подавляла независимость владельцев замков, встраивая их в вассальную иерархию, и заставляла соблюдать мир. По всем этим пунктам королевский домен заметно отставал. Военное столкновение с крупными вассалами еще в большей степени, чем при Роберте II, продемонстрировало слабость королевской власти: Генрих дважды был разбит Вильгельмом Нормандским, которому он сам же помог справиться с мятежными вассалами в битве при Валь-э-Дюне. Тот факт, что граф Анжуйский заключил брачный союз с императорским семейством, который уже наметил для себя Генрих I, подтверждает на примере из другой области, что король мало чем отличался от своих крупных вассалов. Все свое царствование Генрих провел в войнах и переговорах с этими вассалами — с разными результатами; к концу правления он был вынужден признать свой провал перед лицом взлета могущества Нормандии, предвещавший отныне неминуемую англо-нормандскую угрозу. Правда, Генриху удалось невольно избежать становления двух других крупных территориальных образований по обе стороны от королевского домена: княжество Блуа-Шампань, собранное воедино Эдом II Блуаским, которое окружало королевские владения, распалось со смертью Эда (1037 г.); и впечатляющий комплект графств, которые собрал под своей властью Жоффруа Мартелл, распался после 1050 г. — скорее из-за просчетов самого Жоффруа, нежели в результате продуманной политики короля.Правитель среди прочих: дипломатия и войны с крупными вассалами
Эд Блуаский Новое царствование началось с большого собрания, устроенного в Орлеане на Пасху 1032 г. На нем присутствовали все крупные вассалы, за исключением непримиримого Эда Блуаского. Без сомнения, именно тогда король наделил своего брата герцогством Бургундским. Но за этим счастливым началом последовала общая коалиция крупных вассалов. Сегодня больше не считают, что Роберт участвовал во враждебных действиях против своего брата; напротив, Констанция терпеть не могла нового короля и постоянно плела против него интриги с его противниками. Поводом для войны стало избрание архиепископа Сансского: Эд Блуаский не согласился с ним, захватил город и изгнал оттуда графа Сансского. Король безуспешно осаждал Санс вместе с графом Анжуйским (август 1032 г.). Следующей весной большинство крупных вассалов и множество сеньоров королевского домена присоединились к Эду Блуаскому, и Генриху I пришлось искать убежища в Фекане у герцога Нормандского Роберта Великолепного. Тот попросил в обмен на свою помощь французский Вексен, которому предстояло стать извечным яблоком раздора между двумя соседями на протяжении XI–XII вв. С военной помощью нормандцев король триумфально вернулся в свой домен, взял Орлеан, Пуасси, где закрепилась его мать, и замок Пюизе, который королевской армии еще не раз придется осаждать впоследствии. Однако военные действия продолжились против Эда Блуаского. В то время король обрел нового союзника в лице императора Конрада II, который также вступил в войны с Эдом из-за наследования Бургундского королевства, на которое они оба претендовали. Два короля встретились на Маасе в июле 1033 г. и заключили союз, подкрепленный помолвкой Генриха с дочерью Конрада — совсем еще ребенком. На следующий год Эд прекратил борьбу против решительно более сильных врагов. А юная нареченная Генриха умерла в том же году, положив конец брачным проектам короля. Жоффруа Анжуйский Сороковые годы XI в. стали периодом противостояния между королем и графом Анжуйским Жоффруа Мартеллом. Наследник Фулька Нерра проводил политику наращивания экспансии и престижа, которая привела к трениям с его соседями, и особенно с королем. Правитель — по крайней мере теоретически — Аквитании и графств Мэна и Вандома, Жоффруа отобрал Тур у Тибо Блуаского в 1043 г., затем завладел Маисом в 1047 г. Анжу стремительно превращалось в обширный конгломерат графств, предвосхитивший то, что столетие спустя станет «империей Плантагенетов» — смертельной угрозы для Капетингов. С другой стороны, Жоффруа Мартелл возобновил уже от своего имени матримониальные проекты с германской империей — которые со своей стороны король задумывал десятью годами ранее, — и в конце концов реализовал их. 21 октября 1043 г. в Безансоне германский король Генрих III женился на падчерицеЖоффруа, Агнессе. Этот престижный союз свидетельствует о той важной роли, что играло Анжу на шахматной доске крупных княжеств того времени; этот брак мог доставить затруднения королевской власти. Однако в 1050 г. развод Агнессы положил конец этой непростой ситуации. Между тем анжуйская политика привела к войне: в 1049–1050 гг. войскам Жоффруа Мартелла пришлось противостоять армиям короля и герцога Нормандского, объединенным желанием остановить экспансию их неуемного соседа. Они одержали несколько побед, и после 1051 или 1052 г. военные действия прекратились. Вильгельм Завоеватель На протяжении большей части царствования Генриха I Нормандия оставалась верной опорой королевской власти — и была ею практически с начала правления династии. Обмен услугами касался самых важных вопросов: так, Генрих I, спасаясь от восставших вассалов, спустя немного после своего восшествия на трон бежал к Роберту I и в свою очередь помог сыну нормандского герцога победить его собственных вассалов в битве при Валь-э-Дюне. Положение вещей изменилось в последние годы правления Генриха. Именно тогда между Капетингами и герцогами Нормандии вспыхнула вражда. Вскоре же она стала непримиримой, когда завоевание Англии превратило герцогство в державу, значительно превосходящую по силе маленькое королевство Капетинга. Отношения Генриха и Вильгельма испортились в начале 50-x гг. XI в. из-за серии недружественных шагов. Речь шла о неверных вассалах герцога, которых поддержал король: дело обыденное в дипломатической практике того времени. В 1053 г. события дошли до войны. Король, воевавший в союзе с графом Анжуйским, был трижды разбит между 1053 и 1059 г. Герцог взял под контроль Мэн и разные приграничные сеньории. Мир был заключен после смерти короля, 4 августа 1060 г. Но военная сила, которую продемонстрировал герцог, позволяла предположить, что его амбиции на этом не уменьшатся.Филипп I (1060–1106)
Начало «Капетингского возрождения»: источники, историографические оценки, экономическая конъюнктура
Наследование без проблем Филиппу исполнилось всего семь, когда умер его отец: впервые династии пришлось пережить испытание, связанное с несовершеннолетием нового короля. Впрочем, юный наследник уже был торжественно коронован и миропомазан в предыдущем году, в присутствии герцогов Бургундии и Аквитании, графов Фландрии и Анжу: герцог Нормандии, все еще воевавший с королем, на коронацию не приехал. Эта церемония, ставшая привычной для Капетингов, показала себя еще более полезной, чем после смерти Роберта Благочестивого, поскольку сейчас будущим королем был всего лишь ребенок. Регентство, доставшееся графу Фландрии Балдуину, зятю Генриха I[53], также прошло довольно спокойно, если не считать завоевание Англии нормандским герцогом, что создало для французской монархии серьезную угрозу; впоследствии будут часто упрекать Балдуина — который приходился Завоевателю тестем — за то, что он не воспротивился затее своего зятя. Помимо Балдуина в окружение юного короля во время регентства входили архиепископ Реймсский Гервазий и Рауль де Крепи, довольно могущественный сеньор, за которого Анна Киевская вышла вторым браком. Опека закончилась в конце 1066 г. или начале 1067 г., когда Филипп был посвящен в рыцари и потому, как считалось, мог править самостоятельно. Ономастика иллюзии Как и в случае с Генрихом I, имя Филипп заслуживает определенных объяснений: в ту эпоху оно было абсолютно экзотичным и не входило в список имен, привычных для Западной Европы. На выбор этого греческого имени повлияла мать нового короля, Анна Киевская, чья прабабка была византийской принцессой, дочерью императора. Называя так наследника французской короны, Генрих I явно хотел отдать дань уважения прославленным корням своей супруги, но этот выбор также был навеян «императорской мечтой», которая несколько иначе проявится в следующем поколении. Действительно, Филипп назовет своего наследника Людовиком: большая смелость с его стороны, поскольку этот шаг был прямой отсылкой к Каролингам, у которых это имя было привычным. Точнее, кажется, что, выбирая это имя, Филипп апеллировал к памяти о Людовике Благочестивом, последнем великом императоре. Таким образом, присвоение чужого имени сыну Генриха I напоминало о славных перспективах, казавшихся иллюзорными во время, когда родился Филипп I. Программа — по правде сказать, довольно расплывчатая, — заключавшаяся в этом имени, начнет претворяться в жизнь именно благодаря усилиям Филиппа I; действительно, как раз в его правление, особенно после 1077 г., появятся первые признаки политического возрождения королевской власти. Обновленная историография По правде сказать, эта скорее позитивная оценка правления Филиппа I была сделана сравнительно недавно. Старая историография поддалась впечатлению от суровых суждений хронистов, принадлежавших к среде духовенства и, как следствие, слишком чувствительно относившихся к ссорам Филиппа с Церковью, которая тогда находилась в самом разгаре реформирования. Иногда практически дословно повторяя этих хронистов, историки старой школы рисовали в крайне мрачных красках образ короля и его царствования: не стоило ничего хорошего ожидать от этого «тучного и чувственного гурмана, рано опустившегося из-за удовольствий за столом и в постели», «раба утех», которые ему приписывали, не считая «сладострастной Бертрады де Монфор», этой «коварной и циничной женщины», которую король украл у ее законного мужа. Этот умный, но чувственный, алчный и неповоротливый государь продемонстрировал «поразительное бездействие» на протяжении «одного из самых долгих, но и самых бессодержательных царствований»[54]. Сейчас историки подводят совсем иной итог правления Филиппа. Недавно проведенный дипломатический анализ актов, составленных королевской канцелярией[55], показал, что ее деятельность понемногу активизировалась; кроме того, формальное качество выпускаемых текстов свидетельствует о примечательной памяти. Акты Филиппа I воспроизводят каролингский формуляр, сохранившийся в употреблении и в особенности возвращенный в оборот при Роберте Благочестивом. Этот классический формуляр отныне был очищен от дополнений — прежде всего подписей многочисленных свидетелей, — которые его искажали. С начала 70-x гг. XI века королевский акт обрел прежнее достоинство и стал диверсифицироваться в зависимости от возраставших нужд адресатов. Именно тогда в обиход вошел приказ (mandement) короля одному из его служащих, что свидетельствует о возрастающей роли письменности в делах текущего управления. Со ста семьюдесятью двумя сохранившимися актами (включая те, что были составлены самими адресатами и дополнены королевской канцелярией) производство документов существенно выросло, но все равно оставалось очень скромным. Заметим также, что некоторые королевские дипломы снова нашли адресатов, казалось бы, утраченных вот уже несколько десятилетий: земли к югу от Луары, Нормандия… С этой точки зрения начался процесс тихого возрождения. Королевское окружение Исследование королевского окружения — такого, каким оно предстает в перечне свидетелей, — позволяет сделать выводы об аналогичной эволюции[56]. Великие чины начали составлять зародыш постоянного двора. Конечно, это пока не центральная администрация; и до англо-нормандского или фламандского дворов той эпохи ей все еще довольно далеко. Но нельзя отрицать: в зеркале дипломов королевский двор предстает в известной степени наделенным организацией и осознанием выполняемых обязанностей, в отличие от двора Генриха I. Конечно, социальная среда, в которой жил король, не изменилась: крупные вассалы появлялись при дворе только в исключительных случаях — и никогда все одновременно. Представление о том, что король правит по совету своих магнатов, занимавшее основополагающее место в политической мысли своего времени, не претворялось в жизнь по вине самих магнатов. Епископы северной Франции, до того времени присутствовавшие при дворе, стали реже посещать его после 1077 г.: возможно, они больше времени стали проводить в своей епархии, в соответствии с духом григорианской реформы. Великих чинов и прочих привычных приближенных короля выбирали из шателенской аристократии Иль-де-Франса, а случалось, и из простых рыцарских линьяжей. Именно тогда Гарланды, Ле Бутелье из Санлиса, семейства Даммартен, Монлери, Монморанси, Монфоры появляются при дворе, где они приберут к рукам служилые должности и обзаведутся родственными связями. С правления Филиппа I некоторые из этих линьяжей примут графский титул, как графы Бомона или Рошфора. Они поделили между собой посты сенешаля (ответственного за войско), камерария (хранителя казны и отвечавшего за доступ к королю), коннетабля (осуществлявшего военное руководство на местах), кравчего (заведовавшего поставками провизии и домениальным управлением). Обязанности, прилагавшиеся к каждому титулу, не были строго очерчены. Канцлер всегда был представителем духовенства, часто епископом — или будущим епископом. В ту же эпоху начинают проступать контуры местной администрации: королевские прево становятся постоянным институтом. Речь идет о чиновниках, заведовавших имуществом домена, но они не имеют никакого права вторгаться на земли, которые не принадлежат лично королю. Тем не менее прево представляют собой первую ступень в процессе возрождения королевской администрации. Благоприятная экономическая конъюнктура Политика Филиппа I подтверждает сведения о возрождении, почерпнутые в его актах. В его правление были сделаны первые шаги в направлении территориальной экспансии, которая впоследствии станет основной характерной чертой деятельности Капетингов в XII в. Филипп предпочитал методы переговоров и покупок, нежели войну, которая показала себя бесполезной во времена его отца. В этом он предвосхитил своих преемников, которые сумеют с умом потратить свои денежные ресурсы. Уже одно наличие свободных финансовых средств с последних десятилетий XI в. подтверждает, что королевский домен, который казался бледной тенью по сравнению с владениями крупных сеньоров по соседству, на самом деле приносил немалый доход. Мы не обладаем точными сведениями о той прибыли, что приносила в эту эпоху его эксплуатация, и фактически обречены пребывать в неведении по этому основополагающему вопросу до самого конца XII в. Но весьма вероятно, что королевские доходы попросту увеличились из-за активизировавшегося тогда экономического роста, подкрепленного осторожным управлением и минимальным надзором за местными чиновниками, Оказывается, что составляющие королевского домена, города, домены, пункты сбора пошлин, монетные дворы, находились в тех самых секторах, где раньше всего начался экономический подъем. Политическое возрождение и территориальные завоевания, которым было положено начало в правление Филиппа I, по большей части вытекали из этой благоприятной экономической обстановки. Состав и географическое положение королевского домена, его примитивное, но без расточительства управление, позволяли королю рассчитывать на все плоды роста. Без сомнения, именно тогда в королевской казне образовались запасы, которые Филипп сумел грамотно расходовать.Повседневная политика Филиппа I
Прелюдия к расширению королевского домена Земельные приобретения, которые стали возможны благодаря этой конъюнктуре, происходят почти на всех направлениях. В 1068 г. конфликт между наследниками — Жоффруа Мартелла, Жоффруа Бородатым и Фульком Глоткой — позволили Филиппу захватить Гатине и Шато-Ландон, надежно связав тем самым две королевские столицы, Париж и Орлеан. В 1071 г., воспользовавшись аналогичным конфликтом во Фландрии, Филипп приобрел Корби и вновь соединил порт Монтрей с королевским доменом. Без сомнения, в 1077 г. Филипп завладел французским Вексеном, то есть регионом Манта и Понтуаза, отобрав его у детей второго мужа своей матери, Рауля де Крепи. Таким образом, королевский домен стал граничить с герцогством Нормандским на участке, который с 1087 г. и на протяжении многих поколений станет театром для столкновений между двумя державами. Наконец, король поставил первую веху далеко к югу от Луары, приобретя Бурж у сеньора этого города, Арпена (1101 г.). Выплаченная Арпену сумма была весьма существенной по тем временам — 3 000 ливров; именно на этом примере лучше всего видна стабильность королевских финансов. Сама по себе эта сделка была классической для своего времени: Арпен хотел присоединиться к крестоносцам, которые только что захватили Иерусалим, и нуждался в деньгах, чтобы снарядить своих воинов и переправить их за море. Неизвестно в точности, продал ли он свою сеньорию, или просто заложил ее; однако эта двойственная формулировка (или, по меньшей мере, двойственная для нас) была привычной для земельных сделок того времени, особенно тех, что заключали по случаю отбытия в Святую Землю. К тому же Святая Земля предоставляла широкие возможности восстановить состояние, подорванное из-за путешествия, и немало семейств, лишившись владений на Западе, приобретали на Востоке еще более блистательное положение. Как бы то ни было, Бурж остался в руках Капетингов и стал отправным плацдармом для их экспансии в Берри. Все те же войны между княжествами Территориальные приобретения Филиппа I для историков — которые рассматривают их в перспективе капетингской экспансии последующих столетий — являются наиболее значимыми по последствиям событиями его правления. Меж тем с другой стороны царствование Филиппа — лишь посредственное продолжение правления Генриха I. Как и его отец, Филипп отдал большую часть своих сил дипломатическим и военным отношениям с княжествами, окружавшими королевский домен. Главными противниками короны теперь были не графства Блуаское и Анжуйское, но Нормандия — с ней вражда началась еще в конце предыдущего правления — и Фландрия, где распря из-за наследства вызвала вмешательство короля. Фламандское дело было всего лишь временным отступлением от скорее сердечных отношений — и к тому же было спровоцировано именно этими тесными отношениями: граф Балдуин, который умер в 1070 г., до 1066 или 1067 г., был опекуном и наставником юного короля. Вполне естественно, что Филипп вмешался в конфликт между двумя соперниками, оспаривавшими друг у друга наследство. Приняв сторону одного из них, Арнульфа, король потерпел сокрушительное поражение от другого, Роберта Фриза, в битве при Мон-Кассель, где пал Арнульф (22 февраля 1070 г.). Филипп частично выправил военное положение, но признал Роберта графом Фландрии и женился на его падчерице Берте Голландской, которая стала матерью Людовика VI. Борьба за фламандское наследство в общем являлась классическим конфликтом того времени, в котором король действовал так же, как и прочие территориальные князья в затрагивавших их делах, и не превосходил их на поле битвы. Лишь скоротечность этого столкновения и завершивший его брак немного отличают его от остальных подобных конфликтов. Причем тесные связи между Капетингами и Фландрией, проявившиеся по этому случаю, еще не раз приведут к вмешательству французских королей в наследственные дела графства. Отношения с Нормандией приняли совсем иной оборот: герцог отныне был английским королем, и его превосходство было подавляющим. Правление Филиппа было отмечено несколькими военными стычками, столкнувшими французского короля и Вильгельма Завоевателя: осада бретонского Доля (1076 г.), Жербуа, замка в Бовези и, наконец, взятие Вильгельмом Манта (1087 г.). В первом случае король Филипп вмешался, чтобы поддержать мятежного вассала Вильгельма, два последующих раза он помогал Роберту Коротконогому, сыну Вильгельма, взбунтовавшемуся против своего отца. Но лишь одно из столкновений — вторжение в Вексен, завершившее череду этих непродолжительных военных схваток между Филиппом и Вильгельмом и приведшее к взятию Манта, было по-настоящему серьезным делом; оно предвосхитило постоянно возобновлявшиеся бои, которые будут происходить на территории Вексена в XII в. Враждебные действия временно были прерваны из-за смерти Вильгельма, но отношения с англо-нормандским государством останутся глубинной проблемой для будущего капетингской монархии.Омраченный конец царствования
Третий этап правления Согласно анализу королевских актов, который проделал Жан-Франсуа Лемаринье, восстановление королевской власти началось только с 1077 г. К этому разделу царствования Филиппа I на два этапа — на протяжении первого продолжался упадок, второго — наметилось возрождение монархии, — можно добавить дополнение, выделив новый этап трудностей и слабости, пришедшийся на весь конец правления, начиная, самое позднее, с конца 1194 г. Ни в работе канцелярии, ни в составе королевского окружения не прослеживается никаких помех, что свидетельствует о качестве достигнутого прогресса. Но на политическом поле Филиппа ждали два серьезных препятствия: противодействие церковных властей его браку с Бертрадой де Монфор и упадок его энергии в последние годы правления. «Сладострастная Бертрада де Монфор», христианская доктрина брака и ссора короля с Церковью Берта Голландская родила королю двух детей: наследника Людовика и дочь Констанцию. Тем не менее он развелся с нею, почему — точно неизвестно: Берта умерла в 1194 г. в Монтрей-сюр-Мер. Вероятно, в мае 1192 г. в Туре Филипп встретил Бертраду де Монфор, супругу графа Анжуйского Фулька Глотки. Король влюбился в графиню и похитил ее. Архиепископ Реймсский и епископ Санлисский согласились благословить их союз, хотя на тот момент оба новобрачных все еще состояли в прежнем браке. Реформа Церкви и институт брака Но авантюра Филиппа разворачивалась в крайне неблагоприятном контексте: еще в предыдущем поколении признавалось, в том числе и Церковью, что супруги, занимавшие высокое положение, могут развестись, если они не способны завести детей, или по причинам личного характера, или из-за политической необходимости — и после этого каждый был волен вновь вступить в брак. По правде сказать, побудительные мотивы, на которые мог сослаться Филипп, были довольно слабые, но, вероятно, это дело никогда не встретило бы столько препятствий, если бы не так неудачно выбранный момент. Филипп женился на Берте в то самое время, когда реформа Церкви начала оказывать свое влияние на институт брака: союз супругов все больше стали рассматривать как священный и нерасторжимый, и вскоре в глазах богословов он станет таинством. Ив Шартрский Новое ужесточение доктрины нашло свое воплощение в фигуре Ива Шартрского, который одновременно был лучшим канонистом своего времени и настоящей совестью французского епископата. В 1094 г. он вернулся из длительной поездки в Рим, где нашел немало древних текстов, обогативших его каноническую коллекцию, которую он как раз принялся собирать. Знания и целеустремленность превратили Ива в убежденного сторонника осуждения второго брака Филиппа. В письме к королю, отказываясь от приглашения на свадьбу, Ив ясно указал на риск, которому подвергают себя его менее щепетильные собратья, и опасности пути, куда вступила королевская власть. «Я не хочу и не могу присутствовать на свадебной церемонии, на которую вы меня пригласили, если перед этим не узнаю, что всеобщий собор законно не провозгласит расторгнутым союз между вами и вашей супругой Бертой и вам разрешено заключить законный брак с той, на ком вы желаете жениться. Говоря так, я полагаю, что не уклоняюсь от верности, коей вам обязан, но, наоборот, выказываю вам наивысшую преданность, ибо считаю этот союз преградой для спасения вашей души и великой угрозой для вашего королевского сана»[57]. Смерть Берты, последовавшая чуть позже, могла бы помочь узаконить брак между Филиппом и Бертрадой; по меньшей мере на это надеялись король и архиепископ Реймсский, которые тотчас же созвали собор в Реймсе (1094 г.). Но Бертрада все же оставалась замужем за графом Анжуйским, и епископы, разделявшие мнение Ива Шартрского, по-прежнему упорствовали. В тот же год папский легат Гуго де Ди созвал новый собор в Отене, который отлучил короля от церкви. Филипп отправил посольство к папе, тогда находившемуся в Пьяченце; посольство добилось отсрочки, но Филипп так и не расстался с Бертрадой. Клермонский собор На клермонском соборе в 1095 г. Урбан II в свою очередь отлучил короля; в следующем году он наложил на королевство интердикт — иначе говоря, всему населению было отказано в церковных таинствах и богослужениях. Напомним, что в это время началась подготовка к Первому крестовому походу; из-за проступка своего короля французы — составлявшие костяк крестоносного воинства — были лишены духовной поддержки в тот самый момент, когда всю страну охватило чувство религиозной экзальтации. Ситуация была парадоксальной и, несомненно, невыносимой для будущих крестоносцев. Для них тем более шокирующей была мысль, что отлучение короля произошло на собрании в Клермоне, которое стало знаменитым благодаря призыву к крестовому походу и где обновили предписания ради сохранения мира и подтвердили меры, направленные против женатых священников. Примирение Казалось, что Филипп раскаялся в 1098 г.; с него сняли отлучение, но он так и не расстался с Бертрадой. Тогда его отлучили снова. Но король опять обещал отослать прочь Бертраду, и папа Пасхалий II, нуждавшийся в помощи короля против императора, вновь ввел его в сообщество христиан 2 декабря 1104 г. На деле Бертрада осталась с королем до самой его смерти; меж тем она родила ему двух сыновей, Филиппа и Флора, а также дочь Цецилию. Подобное положение дел молчаливо признавалось всеми сторонами и никак не помешало папе посетить Францию в 1107 г., чтобы заключить со старым королем и его наследником соглашение фундаментальной важности о епископской инвеституре[58]. Этот договор был тем более примечателен, что сам Филипп никогда не вел себя безупречно в вопросах назначения на церковные посты; его обвиняли в том, что он использует свое влияние в обмен на деньги, и эти слабости, без сомнения, навлекли на него недовольство клириков-реформаторов. Людовик VI приходит на смену Таким образом, ссоры этой пары уже немолодых влюбленных с клириками, облекшимися в одежды новой суровости, не помешали капетингской монархии с мудростью и предусмотрительностью воспринять перелом, происходивший в отношениях между мирской и духовной властями. Ворох неисчислимых последствий, которые принесла императорской власти борьба за инвеституру, миновал Капетингов. Таким образом, Франция сохранила все шансы стать «родной дочерью римской Церкви», как называл ее сам Людовик VI. Впрочем, Филипп мало что сделал для такого умелого поворота событий; кажется, что после повторной женитьбы и первых столкновений с Церковью он забросил правление. С 1092 г. юный Людовик VI со свойственной ему энергией начал играть активную политическую и военную роль. Несмотря на враждебность Бертрады, которая пыталась заменить его своим собственным сыном Филиппом Мантским, он был миропомазан между маем 1098 и концом 1100 г. и стал королем-со-правителем. После поездки в Англию, куда он, возможно, был сослан из-за происков своей мачехи, Людовик стал играть все более важную роль в управлении. Поэтому, когда Филипп скончался, вероятно, в Мелене 29 или 30 июля 1108 г., и был погребен в Сен-Бенуа-сюр-Луар, преемственность власти была надежно обеспечена вопреки последним интригам Бертрады. Вот уже несколько лет как королевская власть вступила на путь возрождения, и правление Филиппа ознаменовало собой начало этого пути.Глава III Власть и общество в эпоху первых Капетингов (Франсуа Менан)
Восшествие на престол новой династии совпало с глубокими изменениями в обществе. Точнее, становление королевской власти — в том виде, какой она приобретет в XII в., - является одним из составляющих эволюции, приведшей к перестройке социальных и политических отношений в период между распадом каролингской империи и XII в. Тенденции, которые тогда четко прослеживались, ощущались, хоть и слабо, уже в IX в, например, подчинение крестьян хозяину домена, складывание вокруг могущественных лиц отрядов воинов, лично им преданных; или же передача по наследству государственных постов (honores), которые стали вотчинным достоянием их держателей. Все эти процессы в конце концов привели к настоящему социальному перевороту; общество эпохи Карла Великого состояло из свободных людей (в идеале, крестьян-воинов, мелких собственников), рабов и немногочисленной, но крайне могущественной знати. В 1100 г. рабство, напротив, практически исчезло — но и свободное крестьянство тоже; подавляющее большинство крестьян стало сервами, трудившимися на земле хозяина, к которой их привязывало множество уз и устоявшихся повинностей. Эти землевладельцы были аристократией — теперь уже многочисленной, — чьим уделом стала война. Аристократией со своей внутренней иерархией, формализованной в виде сеньориально-вассальных отношений, и собственной идеологией: рыцарством. Замки, нависавшие над любой мелкой деревушкой, одновременно являлись как местом жительства, так и символами власти этой аристократии; каждое из составлявших ее семейств передавало по наследству совокупность руководящих прерогатив, на которые, в наших глазах — глазах людей XX века, — имеет право одно лишь государство: отправлять правосудие, воевать, взимать налоги… Распад власти на тысячи мелких и автономных политических образований был, без всякого сомнения, доминирующей реальностью этого времени.Кто руководит?
Аристократия
Каролингская знать Знать эпохи Каролингов состояла всего из нескольких десятков семейств. Их власть зиждилась на крупных поместьях, разбросанных по всей империи, honores (графских должностях или других государственных постах, вкупе с прилагаемыми к ним земельными владениями), которыми эти семейства владели практически на наследственной основе, а также на связях с учрежденными или облагодетельствованными ими монастырями. Епископские кафедры, имевшие серьезное политическое значение, передавались в этих семействах от дяди к племяннику. Наконец, они посещали двор и все в той или иной мере породнились с правящей династией: подавляющее большинство из них были выходцами из областей Мааса, Мозеля и среднего Рейна, как и сами Каролинги, которые заключали с ними брачные союзы на протяжении нескольких поколений. Робертины, предки Капетингов, являются прекрасным примером такого семейства. Множество способов влияния и мест, где они им пользовались, сделало семейные структуры в этой среде в некоторой степени размытыми. Эти структуры обычно называют «горизонтальными», так как каждое поколение представляло собой своего рода слабо иерархизированную и размытую группу людей; между крупными семействами заключалось множество союзов, часто скрепляемых брачными узами. В таких семействах отнюдь не забывали о предках; память о них сохранялась в списке умерших, за которых молились монахи дружественных им аббатств; слава же этих семейств во многом зависела от известности их предков. Но память о предшественниках практически не была привязана к конкретной местности; honores часто менялись — Робертины и здесь могут послужить хорошим примером, — и еще не существовало названия семейства, которое позволило бы, как то будет впоследствии, автоматически связать человека и место, где он обладал властью: принадлежность же представителей знати к одному и тому же семейству отражалась только в повторяющемся на протяжении поколений выборе одних и тех же личных имен и иногда в коллективном имени, происходившим от имени общего предка[59]. Трансформация знати в X–XI вв. Возвышение Робертинов происходило в то же самое время, что и трансформация знати — более того, оно может служить прекрасной иллюстрацией этого процесса. В X–XI вв. каждое семейство сплотилось на одной вотчинной основе, собранной в одном месте, вокруг одного графства, замка или сеньории. Эта эволюция совпала внедрением передачи государственных обязанностей по наследству, которое стало повсеместным начиная с конца IX в. Смысл слова «графство» незаметно меняется на протяжении двух-трех поколений: оно больше не означает государственную должность, полученную от государя и отобранную при необходимости (даже если обычай предполагал, что она чаще всего передавалась в кругу одной и той же семьи), но землю и властные полномочия, которые отныне стали наследственной вотчиной. Таким образом, honores превратились в территориальную основу аристократических семейств. С X в. некоторые герцоги и графы не побоялись провозгласить, что они держат свою власть «по милости Божьей», а не от короля. Даже если они сохраняли воспоминание о своей зависимости от монарха, облекалась она отныне в форму вассалитета, который требовал от них клятву верности и, в принципе, службу в виде помощи и совета. На практике эта служба сильно варьировалась: король никогда не мог рассчитывать на отряды всех своих крупных вассалов, а некоторые из них даже враждовали с ним почти непрерывно. Территориальные княжества, графства и вскоре простые шателенства, по сути представляли собой независимые государства, образовывавшие своего рода очень вольную федерацию вокруг государя, который был менее могущественным, чем некоторые из его вассалов и, в принципе, управлял только по их совету. На деле же этого совета король и не получал, так как крупные вассалы больше не посещали его двор. Семейные структуры «Кристаллизация» аристократических родов на вотчинной основе сопровождалась изменением их внутренней структуры: аморфную «горизонталь» каролингских времен сменила куда более строгая «вертикальная» структура. Ведь отныне вотчина переходила в руки единственного наследника, старшего сына; его братья становились клириками (что давало возможность расширять семейную вотчину, добавляя к ней аббатства, епископства, пребенды каноников, достававшиеся каждому новому поколению младших братьев), либо им предлагалось пытать счастья самостоятельно, лучше всего — женившись на наследнице. В самом деле, насилие как повседневная реальность жизни этих людей, занятых войной и охотой, сокращало аристократические семейства, хоть они и были плодовитыми, так что довольно часто графство или замок наследовала дочь, а их защиту должен был взять на себя будущий муж. Эта новая структура родственных связей послужила основой для самоназвания родов: каждое семейство стало именоваться по главному замку, который передавался от поколения к поколению, и это упрощало идентификацию рода. Поскольку в то же время стал распространенным и рыцарский титул, теперь знатных людей обычно называли «воин из…» (miles de), прибавляя название земли. Новая форма самоназвания стала одним из проявлений глубокого сознания идентичности, каким теперь отличались аристократические роды; выражалось оно и в появлении генеалогической литературы, описывавшей происхождение семейства и восхвалявшей подвиги предков. Графы Фландрские располагали рассказом в этом жанре, многочисленные версии которого будут впоследствии записаны, с середины X в.; у графов Анжуйских и Вандомских он появился в XI в., у графов Булонских — в конце того же века. В ту эпоху, несомненно, возникли и еще многие другие генеалогии, позже утраченные. Менее могущественные роды в XII в. стали подражать великим графам: тогда, например, была написана история сиров Амбуаза, а также история графов Гина и сеньоров Ардра (имевших владения на южных окраинах графства Фландрии)[60]. Такие тексты писали по преимуществу в семейных монастырях, потому что там хранились архивы и выполнялось литургическое поминание усопших. Хроники, рассчитанные на увековечение истории самого монастыря, тоже часто сбивались на историографию рода основателей: самый знаменитый пример этого — несомненно, длинная глава, которую Ордерик Виталий в своей «Церковной истории», написанной с 1109 по 1142 г., посвятил основателям нормандского монастыря Сент-Эвруль[61]. Происхождение из каролингских времен и предки-родоначальники Многие аристократические роды XI в. произошли от семейств каролингских времен. Долгое время считалось, что их первые известные предки, у крупнейших родов жившие в X в., у простых сеньоров замков — на рубеже тысячного года или еще позже, были «новыми людьми»: возможность для социального подъема им якобы дали воинские достоинства, благодаря которым они получили во фьеф сеньорию, женились на наследнице или совершили переворот. Во всяком случае, такие истории обычно рассказывают генеалогии XI и XII вв., почти всегда изображающие основателя рода доблестным, но неимущим чужеземцем. Историки, тщательно реконструировав фамильные связи, для чего они использовали повторение одних и тех же личных имен из поколения в поколение, сумели показать, что на самом деле графы XII в. происходили по преимуществу от графов каролингской эпохи, тогда как сиры замков были потомками либо помощников графов IX в. — вигье и сотников, либо младших сыновей самих графских семейств. Карл Фердинанд Вернер продемонстрировал это на примере феодальных семейств Турени и Анжу, а также самих Капетингов[62]. В ходе XI в., а также в первые десятилетия XII в. в эту сеть сеньориальных семейств, уже почти отвердевшую, еще удавалось встраиваться новым пришельцам — это были рыцари, которые покинули замок, где командовали гарнизоном, чтобы поселиться на землях, которые сеньор дал им во фьеф. На этих землях они строили укрепленный дом (maison-forte) — резиденцию с незначительными укреплениями, а также центр управления имением, — и их потомки уже проникали в низший слой местной знати. Очень часто они даже не обладали сеньориальными правами — во всяком случае, обладали ими не в полном объеме. Знать и феодализм Таким образом, знать самоопределялась как социальная группа по мере формирования разных слоев феодального общества, которое почти полностью состояло из нее. Идентичность феодалов и знати допускала многочисленные исключения: в некоторых областях простые рыцари с трудом добивались, чтобы их признали знатью, в других, особенно на севере и востоке, существовали многочисленные группы рыцарей сервильного происхождения, рисковавших в любой момент утратить то уважение общества, которое приобрели. Отчасти это были министериалы, сеньориальные служащие незнатного происхождения, которым иногда удавалось проникнуть и в круг знати. Но, кроме как у этого меньшинства с неопределенным положением, статус знати определяло несколько главных критериев: знатные люди были воинами (они даже имели исключительное право участвовать в войне и носить оружие) и обладали сеньориальной властью. Знатность передавалась по наследству, открывала доступ к высшим церковным должностям и предполагала наличие некоего набора личных качеств (смелости, благородства, щедрости…)[63]. Знать и рыцарство Усвоение военной аристократией рыцарского идеала означало полный переворот в системе ценностей. До тех пор духовенство относилось к воинам недоверчиво, а последние славились грубостью и склонностью к грабежам, особенно церковного имущества. Отныне клирики начали учить, что и воин может обрести небесное спасение. Первым шагом стало «Житие» святого Геральда Орильякского (855–904), написанное в 930 г. Одоном Клюнийским и получившее большой успех. Переоценка фигуры воина оставалась еще робкой: Геральд был воином, но впоследствии сделался монахом и основал аббатство. Только в XI в., в тот же период, когда возник «Божий мир», образ «христианского рыцаря» стал общеизвестным. В христианизации войны сыграли роль крестовые походы и прежде всего испанская Реконкиста. Идеальный рыцарь, черты которого сделались отчетливыми, ставил свою силу и воинские умения на службу слабым и религии. Он был покровителем вдов и сирот, защитником церкви и следовал профессиональной этике, в основе которой лежала верность. Этот идеал внушала многочисленная литература, в первую очередь «песни о деяниях», рассказывавшие о подвигах Карла Великого и его сподвижников, перетолковывая их в свете рыцарских идеалов. Самой знаменитой (и первой из получивших широкое распространение) была «Песнь о Роланде», старейшая из сохранившихся рукопись которой датируется концом XI в. Рыцарский идеал усвоила сначала мелкая аристократия (каждый день видевшая насилие частных войн), а потом крупные сеньоры. В течение X в. распространилась и церемония посвящения в рыцари — одновременно военная, христианская и праздничная. В тот период она знаменовала прежде всего окончание ученичества юноши; старший передавал ему пояс, символизировавший статус воина (miles) и дававший доступ к командным функциям[64]. Впоследствии эту церемонию все больше пропитывала богатая религиозная символика. Посвящение сплачивало рыцарей в особое братство внутри феодальной знати. В XII в. рыцарями пожелают быть все знатные люди и рыцарский идеал сделается идеалом всей знати. Сословное общество Сознательная самоидентификация родов, которую отражали родовая фамилия, титул miles'а или генеалогические рассказы, соответствовала новой концепции общества, выразившейся в теории сословий (ordres): знать сражается, защищая другие сословия, духовенство молится за них, крестьяне работают, чтобы их кормить. Распространение этой концепции можно проследить с конца IX в., но самым известным ее «рупором» был Адальберон Ланский, изложивший ее в поэме, которую немногим позже 1027 г. посвятил Роберту Благочестивому[65]. В этой идее чувствуется возрождение представления о функциональной трехчастности общества, свойственного древним индоевропейским концепциям, на основе которых было также организовано общество в Древней Индии и Древнем Риме. Представление о трехчастности будет лежать в основе французского общества и его политического представления о самом себе до самых Генеральных штатов 1789 г. Для тех, кто его осмысливал, как в XI в., так и в другие эпохи, когда оно служило моделью социальной организации, оно было «идеалом и в то же время средством, позволявшим анализировать и объяснять, какие силы обеспечивают ход событий в мире и жизнь людей»[66]. Функциональная трехчастность и сеньориальные подати Таким образом, каролингское общество, разделенное на две части, на свободных людей и рабов, над которыми господствовал очень тонкий слой высшей знати, превратилось в такое, где только знать (уже намного более многочисленная, чем прежде) осталась свободной, остальные же, как мы увидим позже в подробностях, стали сервами, лишившись прежней свободы. Что касается духовенства, оно было всего лишь придатком знати, и клирики, во всяком случае мало-мальски влиятельные, выходили только из ее рядов. Общество было, несомненно, трехчастным с точки зрения функций (молитва, война, труд), но двухчастным в отношении реального распределения сил: те, кто командовал, принадлежали к знати и клирикам, их роднили кровные узы, образ жизни и, главное, власть, которой они обладали над третьим сословием, власть, часто передававшаяся по наследству. Такую власть в большей или меньшей мере давало обладание прежде публичными функциями, главной из которых, похоже, было право творить суд: именно судебные полномочия давали больше всего возможностей принуждать крестьян к повиновению. Действительно, узловым пунктом системы была власть господствующей военной и церковной группы, позволявшая ей эксплуатировать труд третьего сословия. Формой такой эксплуатации была сеньория, целью — изъятие излишков сельскохозяйственной продукции ради содержания господствующей группы.Формы организации господствующих социальных групп
Феодальное общество? Это рассредоточение власти не следует рассматривать (и отрицательно оценивать), исходя из позднейшей эволюции политической организации. Образ XI века очень пострадал от определений вроде «феодальная анархия», клеймивших внешний беспорядок, в существовании которого убеждают тексты. Хроники переполнены рассказами об актах насилия и малых войнах между шателенами, документы «собраний мира Божьего» упоминают рыцарей-разбойников и говорят о непрерывной герилье, даже в описании социальной эволюции крестьянства постоянно фигурирует насилие, к которому прибегают сеньоры, чтобы поработить крестьян. Если верить этим свидетельствам, создается впечатление, что аристократией первых капетингских времен не руководила никакая институциональная структура, что она буквально не знала ни веры (верности), ни закона. А ведь у этой аристократии имелись и кодекс поведения, и руководящие структуры, важнейшими из которых, несомненно, были феодальные. Правда, недавно появилось утверждение, что в «первом феодальном веке» не было вообще ничего феодального[67]. Якобы общественные отношения еще не имели вассальной формы — ее им приписали историки, перенеся в прошлое намного более формализованную ситуацию следующего периода. Автор другого подхода к обществу XI и XII вв. предпочитает видеть в эпохе, которую когда-то описывали как «первый и второй феодальные века», «сеньориальный строй»[68]. Не пренебрегая этими новыми прочтениями и полезными сомнениями, какие они пробуждают, мы для удобства сохраним термин «феодальное общество», освященный более чем полвека назад великой книгой Марка Блока[69]. Родство Феодо-вассальные отношения были всего лишь одним из видов организации этого общества. Они переплетались, прежде всего, с узами родства. Стратегии создания таких уз при помощи брака тщательно разрабатывались, ведь удачный брак был для рыцаря лучшим, если не единственным способом подняться на новую ступень в обществе. Жорж Дюби проторил путь для изучения истории брака, аристократических взглядов на семью, родственныхсвязей между кузенами[70]. Сегодня известно, насколько существенны эти вопросы для немногочисленного, сравнительно замкнутого общества, где каждый — и какой-то степени родственник всем. Именно родство в первую очередь предопределяло переход состояний из рук в руки и затрагивало сферу феодальных отношений, потому что наследственность фьефов изменяла вассальные связи внутри огромных семейств. Именно XI в. был эпохой, когда церковь, энергично проводя реформы, усовершенствовала представление о браке: его вскоре признали таинством. Это укрепило семью и установило ей пределы: запреты вступать в брак с близкими родственниками способствовали уточнению степеней родства, и эти реалии приобрели исключительную важность в социальных отношениях и политических делах[71]; история первых Капетингов, от Роберта Благочестивого до Филиппа I, изобилует соответствующими эпизодами. Сакральное Формы организации аристократического общества не сводились к вассальным и родственным связям: структурированию семейств способствовали также отношения с сакральным и с церковью. Основание монастыря или просто церкви позволяло сохранить единство рода благодаря общей пользе от молитв, которые будут там читаться, могиле в фамильном некрополе, осуществлению попечительских прав. Обычное дарение земли святому, почитавшемуся в какой-либо церкви, связывало донатора с духовенством, служившим там, и давало ему покровительство этого святого: многие бургундцы в X и XI вв. стремились «быть соседями святого Петра», покровителя Клюни, отдавая ради этого монастырю часть своих земель и периодически подтверждая этот дар, чтобы напомнить о созданной тем самым связи[72]. Из того же ряда понятий упомянем еще улаживание конфликтов, которое было излюбленным предметом изучения медиевистов, особенно англосаксонских, в восьмидесятые годы: «Жить в конфликте внутри Франции без государства» — так называлась одна из лучших статей на эту тему[73]. Этот заголовок хорошо формулирует проблему: не следует представлять дело так, будто в феодальном обществе единственным путем разрешения споров была, как в нашем, иерархия публичных судов. Суды существовали, и отправление правосудия даже было по преимуществу королевской прерогативой. Но в непосредственной юрисдикции королевского суда находились немногие — большинство людей, сообразно их статусу, должны были судить особые суды: сеньориальный, который вершил сеньор или его управляющий, феодальный суд пэров, церковный суд для клириков… Эти суды отправляли правосудие очень по-разному: сеньориальный суд был эффективным и безо всякого труда добивался осуществления приговора, который выносил крестьянину. А вот другие суды не отличались такой же отлаженностью процесса и исполнения: если тяжущиеся стороны были мало-мальски влиятельными, приговор вполне мог и не вступить в силу. Поэтому общество, лишенное органов, которые имели бы полномочия по осуществлению принудительных действий, придумывало все новые внесудебные способы разрешения конфликтов — прежде всего, конечно, войну, непременную спутницу «файд» (faidae), бесконечных актов мщения, восстанавливавших одни роды против других. Но распри и даже файды можно было уладить и при помощи всевозможных соглашений, заключаемых третейскими судьями — друзьями обеих сторон. Гарантией таких сделок часто служили взаимные клятвы, очень похожие на феодальные договоры, но не предусматривавшие ничего иного, кроме того, что договаривающиеся стороны не предпримут никакой агрессии друг против друга. Феодализм на Юге отчасти был основан на таких договорах, называвшихся либо «конвенциями» (convenientiae), либо «гарантиями» (securitates)[74]. Крупные сеньоры Севера тоже, чтобы восстановить между собой мир, прибегали к ритуалам, связанным с феодальными отношениями, — это был оммаж мира (hommage depaix), или оммаж на границе (называвшийся так потому, что его приносили на границе обоих договаривающихся государств)[75]. Клятвой скреплялись и «сообщества мира», о которых мы будем говорить дальше: они представляли собой еще один способ преодолеть антагонизмы и организовать общество. Что касается монахов, они торжественно провозглашали проклятие агрессорам и взывали, чтобы их покарать, к покровительству своих святых: проводя удивительные церемонии, монахи оскорбляли реликвии святых, чтобы верней побудить их к действию[76]. Таким образом, в феодальном обществе существовали такие системы связей, формы организации, способы формирования социальных отношений, каких в нашем обществе уже нет, и нам следует воздерживаться от их оценки по меркам сегодняшних социальных и политических структур. Это «общество без государства» (или общество, где государства было слишком много?) проявляло многообразную изобретательность, стараясь сохранять единство и разрешать распри между группами и индивидами.Феодализм
«Первый феодальный век» Феодо-вассальные институты были не более чем одной из этих форм организации. Но они играли важную роль в создании баланса сил в XI в. Точней, в ту эпоху они приняли на себя эту ведущую роль: тогда они переживали активное развитие, а юридические формулировки их законов начали уточняться. Эту созидательную эпоху иногда называют «первым феодальным веком». Именно на эти вассальные связи смогут опереться в XII в. Капетинги, верховные сеньоры и ничьи вассалы, чтобы завершить к своей выгоде «феодальную пирамиду», поднявшись на вершину иерархии личных связей, соединявших между собой всю знать королевства. «Второй феодальный век» станет периодом упорядоченного функционирования феодальных институтов, веком записи обычаев, которые будут определять это функционирование, а также все более реального верховенства короля в той системе отношений, которая до тех пор повиновалась ему только в принципе. Генезис феодальной иерархии Более или менее кодифицированные личные отношения между членами господствующей группы уже к тысячному году имели очень долгую историю: даже если не вспоминать об отрядах дружинников, окружавших германских вождей, надо напомнить, что обычай раздавать конным воинам церковные земли в обмен на военную службу в королевской армии появился в середине VIII в. Действительно, власть решила, что церковные имущества могут быть использованы в общих интересах, в данном случае выраженных в необходимости содержать многочисленную конницу. Юридические формы держания имуществ, уступленных таким образом, уже предвосхищали феодализм. Карл Великий расширил систему феодальных связей, рассчитывая усилить каркас государства за счет отношений верности, которые бы связывали всех подданных с императором. Вассал получал от сеньора бенефиций, то есть земельное владение или другой источник доходов (то, что позже назовут фьефом), и обещал хранить ему верность. Главной задачей, возлагавшейся на него, была военная служба. После исчезновения императорской власти, в конце IX в., дробление власти укрепило эти вассальные связи. Каждый из сильных мира сего привязывал к себе клиентелу, уступая ей земли и требуя клятв верности. Графы были вассалами короля, а вассалами их самих были сеньоры замков, в свою очередь располагавшие отрядами вассалов — простых рыцарей, составлявших гарнизон замка. Со своей стороны, епископы и аббаты тоже имели вассалов: должность «защитника церкви» (avouerie), обязанного представлять церковь в судах и творить ее именем суд над крестьянами, также уступалась как фьеф. Обычай передачи фьефов по наследству, распространившийся с конца IX в., стабилизировал систему вассалитета, но также сделал вассалов более независимыми, поскольку смещать или перемещать их теперь стало трудно; аллоды и фьефы запросто соседствовали в качестве составных частей вотчин. К концу XI в. феодальная система повсюду сформировалась почти окончательно. Различия в обычаях и словаре придавали своеобразие каждому княжеству и даже каждому шателенству, но общая структура везде была одинаковой: на высшем уровне находились непосредственные вассалы короля — герцоги и самые могущественные из графов, епископы, некоторые аббаты. Эти территориальные князья и церковные вельможи в период с 880 по 980 г. стали независимыми друг от друга. Ниже них стояли сеньоры замков[77], часто называвшиеся баронами, вассалами или просто сеньорами (domini)[78], к которым приравнивались наименее могущественные графы. За полвека на рубеже тысячного года (около 980–1030) они приобрели автономию по отношению к сеньору, сделав свои фьефы наследственными, а иногда и приобретя аллодиальные замки, которые превращались в ядро их наследственной вотчины. Каждый из них держал отряд рыцарей (milites, caballarii, Valvassores), которые жили близ замка, поочередно охраняемого ими; эти рыцари, в свою очередь, с XI по XII в. покинули замок и поселились во фьефах. Тогда «феодальная пирамида» оказалась завершена и (как мы видели) включила в себя практически всю знать. Хрупкие институты Связь, хранить которую обязывался вассал, в принципе была очень крепкой, даже крепче кровных уз; «песни о деяниях» воспевали эту добродетель — верность. На самом деле можно заметить, что клятвы часто нарушались и что сеньоры едва ли могли рассчитывать на абсолютную верность всех своих людей, а того менее — на их службу: пример короля Франции, которому было трудно собрать войско и которому приходилось то и дело отвоевывать собственные замки, доверенные неверным вассалам, не уникален, а, напротив, наглядно характеризует непрочность феодальных построений. В «Conventum», тексте, который рассказывает о столкновениях между герцогом Гильомом Аквитанским (993–1030) и его вассалом Гуго де Лузиньяном[79], поведение феодалов Пуату описано как запутанный клубок вероломств и измен; впрочем, управлять Пуату будет трудно до самого XIII в. Герцоги Нормандии и графы Фландрии крепче держали вассалов в руках, но даже в этих сильных княжествах в периоды малолетства монархов или борьбы за власть вновь возникал беспорядок. В Нормандии, например, при несовершеннолетнем Вильгельме Завоевателе произошел всплеск сепаратизма вассалов, закончившийся в 1047 г. поражением мятежников в долине Дюн; волнения вновь вспыхнули в начале XII в. в связи с соперничеством претендентов на герцогскую корону. Движение к кодификации феодальных обычаев Эволюция этого института способствовала ослаблению связи между сеньором и вассалом. Начиная с каролингской эпохи, некоторые вассалы принимали бенефиции от нескольких сеньоров, что мешало служить каждому из них по отдельности. С середины XI в. как альтернатива выбору между несколькими клятвами верности распространился обычай тесного оммажа (ligesse), отдававшего одному из сеньоров приоритет. Но тенденция к ослаблению вассальных связей лишь росла, по мере того как вассалы все больше считали себя фактическими собственниками фьефов. Взаимные права и обязанности нуждались в кодификации, которая и началась вскоре после тысячного года. Из первых попыток письменной фиксации обычаев наиболее известны письма епископа Фульберта Шартрского, одно из которых (1020 г.) было адресовано герцогу Гильому Аквитанскому и посвящено его отношениям с Гуго де Лузиньяном, другое, посланное в 1023 г. от имени Эда Блуаского, — королю Роберту Благочестивому, а третье (около 1007 г.) — епископу Парижскому, в то время вассалу епископа Шартрского.Появление у крестьян господина: генезис сельской сеньории
Эволюция Каролингского поместья
Сеньория зародилась постепенно в IX–XI вв. на основе большого каролингского поместья (domaine): власть его владельца над держателями росла, по мере того как слабела государственная власть, — например, ему полагалось самому судить своих держателей либо отправлять их под суд под свою ответственность, а также подыскивать им замену для армии, в которой им следовало бы периодически служить. Свободные земледельцы, со своей стороны, добровольно отказывались от свободы, чтобы избежать повинностей перед государством, связанных с ней. Самой непопулярной из этих обязанностей было участие в военных походах, потому что экипировка стоила дорого, а походы затягивались на все лето. Кроме того, владельцы поместий злоупотребляли своими полномочиями должностных лиц (графов или их помощников), принуждая свободных людей к повиновению. Вывод, что такие злоупотребления были, можно сделать по полиптихам, регистрировавшим свободных людей, которые «коммендировались», переходя под власть хозяина поместья, чтобы избежать службы в армии, и по капитуляриям, выпускавшимся, чтобы пресечь злоупотребления графов. В конечном счете свободных крестьян, за редкими исключениями, не осталось. В XI в. потомки рабов, потомки свободных людей и потомки тех, кто обладал промежуточным статусом («полусвободных»), слились в одну юридическую категорию: историки обычно называют их сервами (serfs), но в ту эпоху их предпочитали называть терминами, отражавшими личную зависимость, — «телесно зависимые» (hommes de corps), «собственные люди» (hommes propres) или «подвластные люди» (hommes de pote, от potestas — власть). Они не были рабами, но прикреплялись либо к держанию, которого не имели права покидать, либо лично к хозяину и были обязаны выполнять для него некоторое число повинностей. Тенденция, возникшая при Карле Великом, пришла к логическому завершению: сервы уже не подчинялись государственным властям, публичную власть над ними отправлял владелец поместья (которого отныне можно называть сеньором), и ее символизировало, в частности, право творить над ними суд. Ускорение тысячного года Эта эволюция продолжилась на рубеже тысячного года и закончилась в XI в., в атмосфере насилия: сеньоры закабалили всех крестьян (даже тех, которые были независимыми собственниками-аллодистами), воспользовавшись появлением нескольких новых факторов. Первой из этих новых реалий было появление многочисленных отрядов конных воинов (milites), которые могли навязывать свое господство крестьянам, отныне безоружным, и нуждались в излишках продукции, чтобы прокормиться. Они составляли сравнительно большую социальную группу, которая не производила материальных ценностей и потребности которой были довольно существенными: их снаряжение, сделанное в основном из железа, стоило дорого, и они желали вести аристократический образ жизни, для которого были характерны сравнительная роскошь и, главное, подчеркнутая расточительность. Соответственно, росли изъятия крестьянской продукции, а осуществлять их было тем проще, что milites одновременно ведали обложением и оно производилось в их пользу. Milites составляли гарнизоны замков, еще в большинстве построенных из земли и дерева (холм, окружные стены и прочие примитивные формы укреплений), которые стали множиться в сельской местности после тысячного года. Вскоре над каждой деревней или как минимум над каждой группой деревень господствовала одна из таких маленьких крепостей, в которой угнездился сеньориальный род. Эти крепости были источниками сеньориального обложения, и именно их обитатели производили закабаление крестьян — не только крестьян сеньора, но и крестьян более слабых соседей, особенно церквей. Кроме того, само наличие замка увеличивало потребности сеньора, ведь его строительство и содержание требовали значительной рабочей силы, которую и составляли барщинные крестьяне. Жителям деревень разрешалось укрываться за внешней стеной (в нижнем дворе) в случае войны между сеньорами, но за эту защиту они платили дополнительным обложением. Кстати, угрозы, которые создавали для крестьян эти хронические войны, были еще одним мотивом для последних аллодистов, чтобы перейти под руку господина, который бы их защитил, — они шли к ближайшему сеньору либо, чтобы избежать давления с его стороны, подчинялись какой-нибудь церкви, что готовило им чуть лучшую судьбу. Сосредоточение жителей в более или менее густонаселенных деревнях, каким сопровождалось возведение замка, упрощало для сеньора установление контроля. На Юге концентрация населения началась до тысячного года, приняв форму строительства укрепленных castra на возвышениях. Чем северней были земли, тем позднее там начинался рост населения и людей в них было все меньше. В Иль-де-Франсе, в Шампани еще долгое время после начала XIII в. дома в деревнях стояли редко и не имели заборов. Но повсюду жилища находились более или менее близко, чего добивались сеньориальные служащие. Расширение приходов, дававшее окормление каждой деревне, также способствовало усилению контроля над крестьянством. Таким образом, время первых Капетингов было периодом сеньориальной организации сельского населения, и, возможно, это главная его характеристика. Такая организация происходила в атмосфере насилия, что церковные авторы, к каким принадлежат почти все наши источники, подчеркивали охотно и, может быть, сгущая краски. Воины брали то, что им было нужно, и навязывали свою власть, часто безо всяких ссылок на закон, — это были «дурные обычаи» (mauvaises coutumes). Постепенно к этим требованиям привыкали, и они становились просто обычаем, дополнявшим и ухудшавшим положение крестьян, какое сложилось в результате эволюции каролингского поместья. Отныне главный барьер в обществе проходил не внутри крестьянства, между свободными и несвободными (пусть даже закабаление могло иметь разную степень), а между всеми крестьянами в целом и знатью. Феодальное общество было сословным, и крестьяне образовали в нем сословие «несвободных», описанное немногим позже 1027 г. Адальбероном Ланским в следующих знаменитых словах: «У этого племени несчастных нет ничего, кроме страдания. Пищей и одеждой всех снабжают несвободные, ни один свободный человек не способен жить без них»[80]. Оба остальных сословия, знать и духовенство, выполняют собственные функции (защищают, молятся), и за это крестьянин предоставляет им все необходимое.Примеры процесса закабаллени
Чтобы лучше понять, каким образом крестьян превращали в сервов, рассмотрим подробней две важные стороны этого процесса — приватизацию судов и превращение крестьянского аллода в редкость. Приватизация правосудия Каролингский суд под председательством графа состоял из «жюри» свободных людей, знатоков права (скабинов, эшевенов), выносивших приговор в присутствии всех свободных людей округа. Судебные заседания (лат. placita, фр. plaids), происходившие периодически (обычно трижды в год), были для них важной возможностью проявить свою свободу. Исследования трансформации графского суда в Маконне[81], в Провансе, в Пикардии рассматривают период с середины или конца X в. Количество эшевенов сократилось тогда с десяти-двенадцати до одного-двух, а потом они исчезли. Ссылки на имперское право, которое они знали, исчезли вместе с ними, и отныне судили на основе местного, устного обычая (coutume), который создавался прецедентом. Судьями теперь были вассалы графа, державшие от него замки. Но пример Маконне показывает, что после тысячного года крупнейшие шателены больше не принимали участия в заседаниях: у них уже были собственные суды, где им содействовали собственные вассалы. Теперь дела в графском суде рассматривали простые рыцари, находившиеся на графской службе. Этот ход событий поразительно напоминает уход с капетингского двора крупных вассалов, а потом простых шателенов: в обоих случаях происходило дробление власти. Эту эволюцию сопровождала перемена мест, где происходило заседание. Каролингские placita проводились в хорошо известных общественных местах, освященных традицией, под открытым небом, в местности, знакомой всем или проникнутой символикой: например, в Туре — там, где заседал древнеримский суд. Теперь же правосудие происходило в закрытом месте, на территории тех, кто его отправлял: на дворе или в приемном зале замка, в городском жилище сеньора, в клуатре монастыря. Тем самым публичный суд превратился в феодальный или сеньориальный (в зависимости от того, кого судили: знатных людей или крестьян). Первый состоял из вассалов, равных (pairs) обвиняемому, второй — из самого сеньора или одного из его служащих. Судили уже не по закону, единому для всей империи (или по крайней мере для всего королевства — франков, бургундов, лангобардов и т. д.), а согласно обычаям, разным для каждого подсудимого, феодальным или обычаям местной сеньории. Возможность апеллировать к суду более высокой инстанции (каким прежде были missi dominici или королевский суд) исчезла. Приговоры, как мы сказали, очень различались в зависимости от личности обвиняемого: крестьян присуждали к штрафам и, если было надо, прибегали к силе, чтобы заставить их платить, — конфисковали их имущество; зато с вассалами искали полюбовного компромисса, ведь те часто не признавали приговор и шли войной на сеньора. Практически феодальная знать пользовалась привилегией не подлежать принудительному исполнению приговоров. Таким образом, в итоге этой эволюции, завершившейся в XI в., правосудие стало частным, раздробленным (сколько судов, столько и обычаев) и различным для знати и крестьян. Последние не могли избежать суда сеньора, куда их очень часто тащили его служащие за мелкие проступки и где их приговаривали к тяжелым штрафам. Для сеньоров суд был способом изъять часть сбережений, какие мог накопить крестьянин, и в то же время эффективным рычагом, чтобы удостовериться в его покорности и заставить его выполнять всевозможные повинности. Крестьянский аллод становится редкостью Мелкая и средняя собственность, служившая экономической основой каролингского общества, с X по XI в. исчезла под натиском «сильных». Капитулярии провозглашали, что государство защищает малых и слабых, находящихся под угрозой, пусть даже такая защита, несомненно, часто оставалась скорей теоретической; но вместе с императорской властью исчезла и она. Результат впечатляет: в окрестностях Шартра среди даров церквям доля аллодов с 80 % на рубеже тысячного года сократилась до 8 % на рубеже 1100 г. (все остальное составляли земли, которые в том или ином качестве держал какой-либо сеньор). В Каталонии в конце XI в. на аллоды приходилось 80 % продаж земель, в 1120–1130 г. — всего 10 %: перемены более поздние, но более резкие. Однако Клоди Дюамель-Амадо подвергла резкой критике саму методику таких расчетов: якобы на самом деле все владельцы аллодов, упомянутые в текстах, были аристократами, которых помешал распознать в качестве таковых только недостаток информации[82]. То есть исчезновение аллодов, по ее мнению, говорит о процессе феодализации, а не о пауперизации крестьянства. Тем не менее сельское общество начала XII в. в целом состояло, похоже, гораздо в большей степени из держателей, чем из собственников. Похоже, немалое число крестьян еще владело какими-то землями, но у огромного большинства их было недостаточно, чтобы жить, а тем более процветать и утверждаться в обществе.Становление сеньориального обычая
Положение крестьян после потери ими свободы продолжало ухудшаться. К концу XI в. количество сеньориальных поборов выросло, и они уже вторглись во все сферы сельской экономики. Так, например, в конце века распространились баналитеты на печь и мельницу, то есть крестьяне были обязаны пользоваться за плату этими устройствами, принадлежащими сеньору; для него это был источник легкой наживы, растущей по мере роста населения (но требовавший приложения усилий, ведь строительство и содержание мельницы обходились дорого). К 1100 г. набор повинностей, которые должны были выполнять крестьяне, включал прежде всего натуральный оброк, выплачиваемый плодами земли (по преимуществу зерном, то есть фиксированный чинш или же шампар, пропорциональный урожаю), денежный оброк и некоторые виды земледельческой барщины (вспашку, сенокос, жатву…). Эти сельскохозяйственные повинности напоминали повинности в каролингских имениях, но барщина стала значительно легче. Ведь теперь крестьянин почти всегда был независимым земледельцем, а не работником на землях хозяина, который трудится неполную рабочую неделю. Как раз время, высвободившееся за счет отмены прежних двух-трех дней барщины в неделю, позволяло ему больше производить на своем держании, а значит, больше отдавать господину. Подданные сеньора, помимо повинностей, какими облагались их земли, теперь имели еще ряд обязанностей, выполнения которых сеньор требовал как обладатель публичной власти. Это различие было довольно формальным, ведь основания для обложения повинностями — земельными или публичными — на практике были очень невнятными. Их происхождение и соответствие закону значили немного, если они уже вошли в состав местного обычая: «дурные обычаи», навязанные силой в первые времена установления сеньории и считавшиеся тогда несправедливыми, через два-три поколения переставали быть «дурными». То есть крестьянин подлежал суду своего господина, и мы видели, насколько важной была такая подсудность, дававшая возможность взимать штрафы и прибегать к принуждению. Источником повинностей был и замок — его надо было содержать, что сильно утяжеляло барщину, так же как содержать было надо дороги и мосты, на которых, кстати, сеньор взимал дорожные и мостовые пошлины — пеажи (peages). Облагался и оборот товаров на рынке, в том числе за счет использования монеты, которую чеканил сеньор. Право монетной эмиссии, королевская привилегия, имевшая такую же символическую значимость, как и право суда, в XI в. досталось сотням сеньоров. Многие чеканили монеты лишь время от времени, и их деньги, низкого качества, имели хождение только на их землях. По существу, эмиссия в небольших сеньориях давала средства только для мелких повседневных торговых операций; для крупных покупок и при дальней торговле принимались лишь монеты, выпущенные мастерскими нескольких крупных государей, — парижские и турские денье, денье из Ле-Мана, Провена и некоторые другие. Наконец, сеньор пользовался правами, которые могли быть порождены разными источниками власти или просто-напросто произволом былых «дурных обычаев». Многие из них позволяли собирать денежный налог, называемый tolte, тальей или queste. Его размер и периодичность сбора часто зависели только от воли сеньора, так что он давал идеальную возможность присваивать крестьянские сбережения, по мере того как они накапливались. Сеньор и его люди могли также остановиться в доме крестьянина и получать за его счет съестное, фураж и всевозможные продукты потребления. О баналитетных печах и мельницах мы уже упоминали. На землях, где имелись виноградники, еще одной выгодной монополией был банвен (banvin), то есть право сеньора первым собирать виноград и продавать вино. Наконец, до церковной реформы и до самого конца XII в., а то и позже, было в порядке вещей, что деревенская церковь принадлежит сеньору. Он назначал священника, контролировал земельные дарения и мог изымать в свою пользу часть доходов. После реформы светские сеньоры сохранили только права попечителей или «защитников церкви», более или менее почетные функции (представительство в суде…), к которым обычно добавлялось право представлять нового священника епископу, назначавшему священников. Десятина или ее часть очень часто отходила сеньору — лишь ее четверть обязательно оставалась в распоряжении священника, в том числе на содержание церкви. Она была обильным источником богатств для светских сеньоров, которым удавалось ее присвоить, ведь она росла пропорционально росту сельскохозяйственной продукции. Не забудем, наконец, об особых повинностях, обременявших сервов, то есть огромное большинство крестьян. Поскольку они лично зависели от сеньора, то были обязаны платить ему специальную пошлину, напоминавшую об их зависимости, — подушную подать, или шеваж (chevage), они могли жениться только на женщине сервильного происхождения (либо платить еще одну пошлину — формарьяж, formariage), а после их смерти сеньор забирал какую-то часть их наследства (право мертвой руки, mainmorte). Итак, крестьяне конца XI в. несли очень тяжелое бремя повинностей, позволявших сеньору изымать долю всех их доходов. Важный вопрос состоит в том, способствовало ли сеньориальное обложение росту сельскохозяйственного производства, стимулируя крестьянина все больше производить, или, наоборот, подавляло его инициативу, отбивая охоту вкладывать дополнительные силы. Похоже, для XI в. верен первый ответ: потенциал роста был достаточным, чтобы пользу могли получать как сеньор, так и крестьянин.Проблема мира
Полная независимость местных сеньоров порождала серьезные проблемы, связанные с общественным порядком: «сеньориальный век» или «первый феодальный век», почти точно совпадающий с XI в., по включающий также первые десятилетия XII в., часто описывают как эпоху анархии. К жестокой эксплуатации крестьян добавлялась частная война между сеньорами, которую они вели ради расширения земель, а также из спортивного интереса. Правда, источники, все — монастырского происхождения, склонны сгущать краски, описывая поведение сеньоров. Их насилие выглядит несправедливым, а король или клирики, на взгляд авторов источников, неизменно правы по определению. Верно и то, что не следует воспринимать порядок, который организует централизованное современное государство, как единственно допустимый. Выше мы упоминали многочисленные приемы, которые были придуманы в X и XI в., чтобы компенсировать слабость королевского государства и дробление его прерогатив. Но именно эти негосударственные организационные формы должны были как можно лучше решить проблему мира, ставшую важным политическим вопросом в течение «долгого одиннадцатого века», начавшегося задолго до конца X в. и захватившего немалую часть XII в. Церковь, жертва могущественных мирян, узурпировавших ее власть и грабивших ее земли, начала борьбу с беспорядком и насилием, порожденными фактической независимостью сотен мелких сеньоров. Позже ее усилия поддержали князья и короли. Они использовали три основных средства: с тысячного года — «Божий мир» и «Божье перемирие», немного позже — распространение рыцарского идеала и возрождение графской или герцогской, а после королевской власти.Движение за мир
«Божий мир», «Божье перемирие» В эпоху, когда королевская власть была в глубочайшем упадке — на рубеже тысячного года — церковная иерархия попыталась компенсировать ее слабость, прибегнув к собственным средствам — средствам духовного характера. Метод, который применили епископы, состоял в том, чтобы под страхом отлучения запретить акты насилия и заставить знатных мужей, априорно считавшихся смутьянами, поклясться не совершать нападений. Те, кто приносил коллективную клятву добиваться соблюдения этих предписаний, имели право взяться за оружие лишь затем, чтобы силой подчинить сеньоров, по-прежнему практиковавших насилие. В крайних случаях это движение выливалось в более радикальные народные движения, направленные против знати, но церковь не оказывала им поддержки, и их быстро подавляли. Целый век, от собрания в Ле-Пюи 975 г. и еще более важного в Шарру 989 г. до собрания в Клермоне 1095 г., епископы неутомимо проповедовали мир и старались обязать самих воинов хранить его или хотя бы каждую неделю соблюдать долгое перемирие. Рауль Глабер, современник первых «собраний мира», дал возможность ощутить их масштаб: «В тысячном году от Страстей Господних, поначалу в землях Аквитании, епископы, аббаты и иные мужи, преданные святой религии, начали собирать народ на собрания, на каковые приносили много мощей святых и бесчисленные раки, полные реликвий. Оттуда по Арлезианской провинции, потом по Лионской и по всей Бургундии до самых отдаленных долин Франции было объявлено, что в назначенных местах прелаты и гранды всех земель соберут собрания, дабы восстановить мир и водворить святую веру. Когда новость об этих собраниях стала известна, великие, средние и малые, преисполненные радости, направились на них, единодушно намереваясь исполнить все, что бы ни предписали пастыри Церкви. Ибо всех пугали бедствия предшествующей эпохи, и терзал страх лишиться обилия удовольствий»[83]. География «собраний мира» почти в точности соответствует описанию Рауля Глабера: из Шарру (989 г.) и Нарбонна (990 г.) они лет за десять распространились на всем Юго-Западе, потом, в 1020-е гг., — северней, по долинам Роны и Соны, далее по всему Северу королевства, а с 1027 по 1041 г., особенно на Юге, пережили новый подъем интенсивности. Отмечено, что больше всего их происходило на землях южней Луары, которые для королевской власти стали уже недосягаемы и где местные князья показали себя почти бессильными сохранить мир. И напротив, до хорошо управляемых земель мирные движения не доберутся, либо инициативу там перехватят князья — это относится, например, к Фландрии и Нормандии (см. карта 2).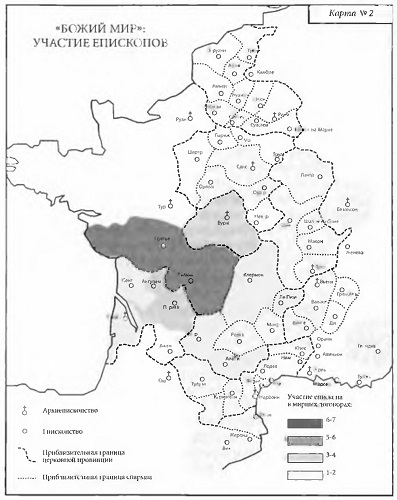
«Божий мир» имел принципиально церковный характер. Его следует помещать в контекст церковной реформы, которая как раз начиналась. Служители церкви, собиравшиеся для провозглашения «Божьего мира», часто обнародовали также меры по реформированию духовенства, и собрания нередко именовались соборами. Предусматриваемые санкции были исключительно духовными, и самой крайней из них было отлучение. Впрочем, клирики начали с защиты самих себя — себя и своих церквей. Потом они проявили участие ко всем безоружным категориям населения, страдавшим от столкновений между воинами, — ко вдовам и вообще к женщинам, к паломникам, купцам, крестьянам. Запрещалось нападать на них лично и посягать на их имущество, при условии, что они не носят оружия. На второй стадии, начавшейся в 1027 г. в Тулуже (Руссильон), к уже обычным предписаниям о защите безоружных людей собрания добавили предписания о периодических прекращениях боев: запрещалось сражаться с полудня среды до утра понедельника, а позже этот запрет распространили на Филиппов и Великий посты и на периоды после Рождества и Пасхи, а также на все великие праздники. Эти ограничения не распространялись на справедливую войну (bellum) — войну князей, когда те поддерживали порядок или защищали подданных; они касались только малых войн, порождаемых враждой между сеньорами (faida, werra), либо грабежей. Последним собором, подтвердившим предписания «мира», был Клермонский собор 1095 г. Это тот самый собор, на котором призвали к Первому крестовому походу; совпадение бросается в глаза — ведь крестовый поход должен был дать выход той самой воинственности сеньоров, которую «собрания мира» с большим или меньшим успехом пытались отвести в безопасное русло. Впрочем, в тот период роль «миротворцев» начали брать на себя некоторые территориальные князья, а очень скоро, вернув себе власть, за это дело в свою очередь возьмется сам король. Другие проявления стремления к миру Движения за мир выражали общие чаяния и демонстрировали также некоторое умение Inermes, не-воинов, организоваться. Сходное состояние духа и методы были характерны для людей, основывавших сельские поселения — не укрепленные, но границу которых отмечали кресты и защищала угроза духовных санкций. Самые известные — это «совте» (фр. sauvete; убежище) Юго-Запада, которые крупные монашеские заведения (Конк, позже орден госпитальеров) основывали на землях, подлежащих распашке. Туда, чтобы пользоваться привилегиями мирной жизни под покровительством церкви, приходили селиться окрестные крестьяне, которым досаждали воины. С середины XI в. по первую четверть XII в. «совте» образовали широкую сеть новых поселений. Тем же желанием получить духовное покровительство объясняется строительство некоторых «бургов», основанных в тот же период, когда появились «совте», но на Западе, от Шаранты до Мэна и Нормандии; бывало, что они возникали даже на кладбищах. В основе такого объединения населения под эгидой церкви, в данном случае выступавшей в качестве сеньора и защищавшей народ духовным оружием, лежала просто еще одна разновидность рекуррентной связи, какую мы уже отмечали между скученным поселением и сеньориальной властью; принуждение здесь заменяла предложенная защита от сеньориального насилия. Даже коммунальное движение было близким к движениям за мир. Начиная с последней четверти XI в. жители самых экономически развитых городов во Фландрии и на северо-востоке Франции объединялись на основе клятвы о взаимопомощи, чтобы потребовать личных и торговых вольностей: они, например, хотели сами вершить у себя суд и взимать налоги, а также свободно торговать, без стеснений и пошлин. Первую из таких попыток, ставшую известной, предприняли в 1069 г. в Ле-Мане; она была изолированной в географическом смысле и очень спорной в отношении конкретного содержания. Волна коммунальных движений началась скорей с восстания в Камбре, имперской земле, в 1076 г. Граф Герберт Вермандуаский признал коммуну в Сен-Кантене незадолго до 1081 г., епископ Бовезийский — коммуну в Бове до 1099 г., то и другое стало следствием восстаний. Нуайон получил хартию вольности незадолго до 1109 г. в таких же условиях. Начало царствования Людовика VI изобилует основаниями коммун, и кульминацией этого движения стали насилия в Лане, Амьене и еще раз в Бове с 1111 по 1115 г. Коммуны создавались ради установления мира, даже если иногда зарождались в результате насильственного восстания, — ведь их целью было согласие между жителями разного социального положения, купцами и воинами; к нему стремились коммуны Бове и Нуайона. Это движение, для которого были характерны насильственные восстания, дало возможность многим городам указанных областей добиться автономии под эгидой более или менее благожелательной королевской власти. Однако они так никогда и не достигли независимости итальянских городов, конституции и коммуны в которых появились в тот же самый период. Что касается сходства с движениями за мир, следует отметить примечательное отличие: церковь относилась к коммунам враждебно — по принципиальным соображениям и потому, что сеньорами почти всех городов Северо-Востока были епископы. Коммуны не только расшатывали их светскую власть, но и ставили под сомнение их авторитет духовных лидеров: ведь коммунальная идеология, современница григорианской реформы и миланской патарии[84], отличалась неприкрытой враждебностью к богатому и развращенному духовенству, окружавшему епископов, и к его тесным связям с феодалами. Упреки, которые в 1099 г. Ив Шартрский адресовал коммуне Бове, не посчитавшейся с прерогативами клириков, несколько позже снова вышли из-под пера Гвиберта Ножанского.
Мир князей
Со второй половины XI в., а иногда и раньше, самые могущественные территориальные князья в свою очередь принялись решать проблему мира и начали борьбу с независимостью шателенов и с насилием, какое те творили. Эта новая стадия политической реорганизации сильно отличалась от движений, которые мы рассмотрели только что, пусть даже она продолжала борьбу за «Божий мир». Некоторые князья для начала взяли эту борьбу под свой контроль и только потом дополнили новыми приемами: вмешательство территориальных князей по существу означало возвращение государства. Отныне герцоги и графы, а вскоре и король вновь сделали поддержание мира делом, состоявшим все более исключительно в государственном ведении. По-настоящему взяли дело мира в свои руки и добились существенных и прочных результатов только князья Нормандии, Фландрии и Шампани. И даже в этих образцовых княжествах графский или герцогский мир окончательно установился только после 1100 г., а скорей уж около 1150 г. В не столь сильных княжествах ситуация оставалась более или менее хаотической еще во второй половине XII в. (Анжу и Мэн), а то и в первой половине XIII в. (Пуату, Аквитания). Независимость феодалов, их частные войны и мятежи против сеньора там считались проявлением абсолютно естественных прав, прямо-таки сущности аристократической свободы. А притязания князей — злоупотреблениями властью, то есть сталкивались два разных представления о государстве и свободе. Чтобы восстановить мир, князья начали сражаться. Они вели бесконечные войны с сеньорами, не признававшими их власти, осаждали их замки и разрушали их — впрочем, очень часто эти замки немедля восстанавливались. Но князья еще и выпускали законы, запрещая строить укрепления (так было в Нормандии), устраивать частные войны, нападать на несражающихся (во Фландрии). Заметно, что в немалой части это было воспроизведение предписаний «Божьего мира», но уже опирающегося на графскую власть. Граф или герцог, естественно, пользовались поддержкой церкви и тех, кто желал мира, например горожан. Объявлялись самые жестокие наказания. Прозвище одного графа Фландрского, Балдуина VII Секиры (1111–1119), напоминает о казнях, какие он устраивал во множестве — одного рыцаря, нарушившего запрет на ведение войны, он даже сварил в кипятке; его преемник Карл Добрый запретил носить оружие в городах — мера, неслыханная для той эпохи. Действительно, во Фландрии эта эволюция заметна особо отчетливо: до 1050 г. «Божий мир» был делом церковников, потом получил поддержку графов, и в XII в. они полностью взяли его под свой контроль под названием «мир графа». Тогда они выпускали «эдикты мира» (что было неординарным в те времена, столь бедные на королевское законотворчество), сами преследовали и карали нарушителей; мир окончательно установился после 1150 г. О чем особо заботились князья, так это о защите купцов. «Охранное свидетельство» (conduit), которое они предоставляли купцам, гарантировало возмещение потерь, если тех ограбят на землях сеньора и даже за их пределами, когда купцы вернутся на его территорию. Подобное обещание свидетельствует о том, что власть была уже прочной, имела в составе дорожную стражу и располагала средствами давления на сеньоров-грабителей. Предоставлявшееся графами Шампани и Фландрии в первой половине XII в. охранное свидетельство дало возможность для торгового подъема в их графствах: безопасность, которую оно обеспечивало, стала одним из факторов успехашампанских ярмарок, а также торговли фламандских городов и их собственных ярмарок, К миру короля Король Франции в первой трети XII в. вел себя точно так же, как и князья, могущество которых было сопоставимо с его могуществом. Людовик VI воевал с шателенами своего домена, охранял купцов на дороге из Парижа в Орлеан, где им грозила опасность со стороны сеньоров Монлери и Ле-Пюизе, и защищал церковные имущества от грабителей. Но законотворчеством он не занимался. К моменту смерти Людовика VI в 1137 г. домен был уже почти замирен. Его преемник (Людовик VII) начал робко утверждать, что хочет водворить мир во всем королевстве: отныне насаждаться будет мир короля.Глава IV Церковь в королевстве Капетингов в XI в. (Моник Шовен, Бернар Мердриньяк)
Если церковь Востока в 1054 г. отделилась от римской, то на Западе римская церковь по-прежнему чувствовала себя единой. Только рамки церковного института полностью включали в себя латинский христианский мир. В символическом изображении общества, которое создали клирики, различались три взаимодополняющих сословия, находившиеся в иерархических отношениях: «те, кто молится», «те, кто сражается» и «те, кто трудится». Те, кто молится (oratores), поставили себя на первое место — не только ради выгоды, но и потому, что были убеждены: духовное должно руководить светским, чтобы вести верующих к спасению. Королевство первых Капетингов — очень подходящий объект для изучения монополии, какую сохранял институт церкви.Сильные и слабые стороны Галльской церкви
Клирики, которые практически одни владели письменностью, выполняли почти все административные функции. Благодаря знанию латыни (более или менее глубокому) только они были в состоянии также формировать понятия, а значит, контролировать интеллектуальную жизнь. Они непосредственно руководили сотнями тысяч людей, живущих на их землях или зависимых от церковной юстиции. Вся социальная активность (клятвы, паломничества, политическая мысль, а также ремесло и сельское хозяйство) была погружена в религиозный контекст.Тысячный год
Историки нашего времени, такие как Эдуард Поньон, а позже Жорж Дюби, разоблачили легенду о «страхах тысячного года». Они показали, что этот миф был придуман в XVI в. на основе нескольких строк из «Хроники» Сигеберта из Жамблу, составленной в XII в. Этот автор упоминает «сильные землетрясения» и «появление ужасной кометы», не развивая эту тему подробно. Все остальные свидетельства конца X в. не сообщают ничего особенного. Еще Кристиан Пфистер отметил, что ни в одной из папских булл, вышедших с 970 по 1000 г., а их было сотни полторы, нет и намека на скорый конец света! Кстати, могло ли большинство верующих, людей неграмотных, ясно представлять себе дату Воплощения? Те из клириков, кто интересовался этим вопросом, как Рауль Глабер, толковали тысячелетнюю годовщину, так сказать, в двояком смысле: 1000 г. был годовщиной рождения Христа, а 1033 г. — его смерти. Обе даты ознаменовались «чудесами и знамениями». Вероятно, некоторые представители духовенства не преминули указать на эти феномены, чтобы призвать верующих одуматься и принести покаяние. Об этом говорится в знаменитом свидетельстве Аббона, аббата Сен-Бенуа-на-Луаре, ссылавшегося на времена юности (то есть примерно на 975 г.): «Что касается конца света, то я слышал проповеди, якобы к концу тысячного года грядет Антихрист и вскоре после того последует Страшный суд. Я изо всех сил оспаривал это мнение, опираясь на Евангелия, Апокалипсис и Книгу Даниила». Тем не менее в трансформации идеала «бегства от мира» у монахов-реформаторов едва ли можно рассмотреть эсхатологическую окраску.Влияние клюнийского монашества
В конце X в. бенедиктинские монастыри, благодаря беспрецедентной популярности аббатства Клюни, распространились чрезвычайно широко. Монастырская реформа, которую инициировал Бенедикт Анианский в каролингские времена, была по-настоящему доведена до конца только почти через век после его смерти (случившейся в 821 г.), когда герцог Гильом Аквитанский в 909 г. «во благо своей души», душ членов своей семьи и своих «верных» основал монастырь Клюни (недалеко от Макона). Надо ли напоминать, что первоначально монахи были мирянами, посвятившими себя покаянной жизни? В X в. наметился процесс, который некоторые историки назвали «клерикализацией» монахов: отныне те были черным духовенством (clerge regulier), то есть живущим по уставу (Regle). На самом деле большинство из них принимало священство не затем, чтобы проповедовать верующим и окормлять их, а чтобы славить Бога таким образом, который им представлялся более верным, чем тот, какой был в обычае у белого духовенства. Мессы и молитвы, которые монахи брались читать во спасение мирян, обеспечивали им преобладающее место в обществе. Сделав выбор в пользу «ангельской жизни» и изображая себя избранными посредниками между этим и тем светом, клюнийцы привлекали в свои ряды выходцев из аристократических кругов и получали дары от «сильных», старавшихся обеспечить спасение себе и предкам. Так, литургическим нововведением, принятым по инициативе Одилона де Меркера, пятого аббата Клюни (994–1049), стало поминовение усопших (2 ноября, накануне Дня Всех Святых). Быстрое распространение этого «праздника мертвых» во всем христианском мире показывает, что он соответствовал глубинным чаяниям знати. Еще задолго до того, как аббатом стал Одилон, в Клюни под руководством таких примечательных личностей, как Вернон (909–927), Одон (927–942), Аймар (942–954) и Майоль (954–994), была введена уставная дисциплина. Равномерное распределение времени монахов между молитвой, чтением (то есть медитацией над Священным писанием) и трудом, как предписывал устав святого Бенедикта, было нарушено, чтобы выделить значительное место opus Dei — службам в монастырской церкви (где ничто не считалось излишне прекрасным, чтобы славить Бога!). С другой стороны, Клюни (хоть он и не был первым монастырем, претендовавшим на возвращение к истокам монашеской жизни) в конечном счете добился привилегии непосредственного подчинения Святому престолу, которая выводила монастырь из-под контроля епископа и ставила под отдаленную (и тем самым менее обременительную) опеку папы. Основатель с самого начала даровал аббатство «апостолам Петру и Павлу». Такая процедура, в которой не было ничего нового, в конечном счете представляла собой всего лишь получение одного из видов иммунитета. Но Одону и особенно Одилону удалось изменить это первоначальное положение вещей и в 998 г. получить от папы настоящую привилегию непосредственного подчинения, которую в 1027 г. подтвердил собор в Риме. В этом ходе событий тоже ничего оригинального не было: тогда же (в 997 г.) и Аббон Флерийский сумел (благодаря специально изготовленной фальшивке) освободить аббатство Сен-Бенуа-на-Луаре от опеки со стороны епископа Арнульфа Орлеанского, подчинив непосредственно папе. Libertas, какую давала Клюни эта привилегия, выявила всю свою значимость, когда был создан клюнийский «орден» (Ecclesia cluniacensis), то есть сложная структура, объединившая вокруг материнского аббатства множество дочерних обителей, более или менее крупных, которые — иногда на время — подчинились ему. Клюнийской конгрегации XI в. можно дать анахроничное, но характерное определение: «многонациональная». Своим развитием она, несомненно, была обязана энергии великих аббатов предыдущего века. Первоначально, в соответствии с моделью, какую отстаивал Бенедикт Анианский, преобладала система совмещения настоятельских должностей. Бернон или Одон могли быть аббатами нескольких монастырей, и для этого не требовалось, чтобы между последними существовали канонические связи. Однако с того момента, когда Аделаида Бургундская в 929 г. даровала Одону приорат Роменмотье, началось формирование сети общин, глава каждой из которых («приор») подчинялся непосредственно аббату Клюни. При аббате Майоле таких приоратов было уже десятка три. Тем не менее стратегия реформ, какие проводил четвертый аббат Клюни, почти не отличалась от стратегии предшественников, как, впрочем, и от стратегии его друга и ученика Вильгельма из Вольпиано (ум. 1031). Последний только установил личные связи между монастырями, которые его приглашали возрождать, — обителью Сен-Бенинь в Дижоне, Феканом (по приглашению Ричарда II Нормандского в 1001 г.[85]) или Сен-Жермен-де-Пре (по просьбе короля Роберта Благочестивого в 1014 г.). И Майолю благодаря его авторитету тоже доверяли переустройство многих монастырских заведений. Он был другом Гуго Капета и императора Оттона, а захват его в плен сарацинами в 972 г. вызвал настоящий шок в христианском мире. Вот почему, после того как он с помощью Вильгельма из Вольпиано перестроил Леринское аббатство и аббатство Сен-Бенинь, капетингский король поручил ему восстановить Сен-Мор-де-Фоссе и намеревался доверить ему также Сен-Дени. Закончить работу ему помешала смерть, и довести дело до конца Роберт Благочестивый попросил его преемника Одилона. В самом деле, при аббате Одилоне Клюни по-настоящему стал «церковной сеньорией» — с того момента, как привилегию подчиняться Святому престолу, полученную несколько лет назад, в 1024 г. папа Иоанн XIX распространил на все дочерние приораты и аббатства, зависимые от Клюни. Ловкий политик и превосходный администратор, Одилон отреагировал на агрессию шателенов Маконне против обителей, подчиненных его монастырю. Так, он добился, чтобы Роберт Благочестивый утвердил передачу в дар Клюни аббатства Паре-ле-Моньяль, сделанную графом Шалонским. Тогда же Капетинг запретил сеньорам — соседям аббатства — строить крепости, тем самым заранее защитив Клюни от их алчности. Король несколько раз встречался с Одилоном — например, в 1027 г., когда аббат присутствовал при помазании будущего Генриха I, или через несколько лет после этого, когда Роберт, предприняв паломничество, остановился в монастыре Сувиньи. Занимая пост аббата более полувека, Одилон сумел расширить клюнийскую сеть за пределы Бургундии и территорий галльской церкви — в частности, на Пиренейский полуостров. Он установил связь также со Стефаном, недавно крещенным королем Венгрии, и с новым германским императором Генрихом II. Последний по случаю своего помазания в 1014 г. передал Одилону золотую державу, едва получив, потому что, как сказал он, «этот великолепный дар не подобает никому более, чем служителям, которые вдалеке от мирского блеска стараются следовать за крестом Христовым».Белое духовенство в кризисе?
Если монашество обновлялось, то положение белого духовенства выглядело критическим. Из-за упадка государственной власти в X в. клирикам в той же мере, как и мирянам, приходилось искать покровительства «сильных»; взамен последние присваивали себе право распоряжаться церковными имуществами и назначать на церковные должности угодных людей. Хороший пример, позволяющий это проиллюстрировать, — ситуация с должностью архиепископа Реймсского (которой несколько раз по своему произволу распорядился Гуго Капет). В самом деле, из благодарности Адальберону, который помог ему прийти к власти, Гуго, вероятно, принял помазание в Реймсе из рук этого самого архиепископа, после того как поклялся защищать libertates города. Мы уже отмечали, что новый король сыграл ведущую роль при выборе архиепископа Реймсского как в 989 г., когда он высказался в пользу Арнульфа, так и в 991 г., когда способствовал назначению Герберта. Однако последний, едва став архиепископом, притворно переложил ответственность за избрание Арнульфа (который был его соперником на предыдущих выборах и одержал верх) на дурно настроенную «толпу» и заявил, что «при выборах прелата нужно добиваться голосов и благоволения не всего духовенства и всех людей, а лишь тех, кто не развращен или не движим жаждой наживы». Это не анахроничная бессмыслица; в этом соображении нет ничего демократичного, и оно явно высказано в оправдание королевского вмешательства. Впрочем, вмешательство в данном случае было столь явным, что папа Иоанн XV начал расследование, завершившееся в 997 г. низложением Герберта, которому Роберт Благочестивый (ему тогда приходилось вести себя с папством поосторожней, чтобы получить возможность жениться на своей кузине Берте) ничем не помог. Кратко напомним, как впоследствии Герберт прошел путь «из Р. в Р.» (по выражению Эльго из Флери): чтобы компенсировать ему ущерб, Оттон добился его избрания архиепископом Равенны, а потом римским папой под именем Сильвестра II… В лучшем случае, даже если король не оказывал нажима при подготовке выборов, ему надлежало проводить инвеституру избранного епископа, который до конца XI в. был обязан приносить ему оммаж. Так, в 1030 г. одна грамота, составленная духовенством епархии Нуайона и Турне, ясно показывает, какую роль Роберт Благочестивый сыграл в назначении Гуго, епископа этой епархии: «Нас утешило в скорби (намек на горе от утраты епископа Хардуина) милосердие светлейшего короля Роберта, коего мы просили за прелата Гуго, архидиакона Камбрейского, избранного нами единогласно». На свои предпочтения Капетинги указали несколько раз — их выбор довольно регулярно падал на монахов. Констатация этого дает понять, что упрощенческое представление, согласно которому мирской патронаж (король считался «основателем» всех соборов) предполагал исключительно корыстные мотивы при выборе кандидатов, не всегда справедливо. Конечно, те, кто оказывался неугодным, испытывали, мягко говоря, смешанные чувства. В Орлеане, где епископский престол, ставший вакантным после смерти епископа Фулька, оспаривали два кандидата, король Роберт вмешался в пользу Теодориха, монаха из аббатства Сен-Пьер-ле-Виф в Сансе. Фульберт Шартрский сурово осудил этот поступок: «Это избрание было продиктовано страхом и по-настоящему избранием не является. Избрание означает выбор одного кандидата из нескольких по свободной воле каждого избирателя. Но как можно говорить об избрании, когда государь так продвигал одного-единственного кандидата, что не оставил духовенству и народу возможности выбрать другого?»[86] Среди еще многих примеров, которые можно было бы здесь привести, остановимся как раз на наследовании сана самого епископа Фульберта Шартрского. Каноники избрали декана, но король Роберт отказался утвердить их выбор и навязал им некоего Теодориха. Жалобы каноников, направленные Одилону, аббату Клюни, и архиепископу Турскому, остались безрезультатными: «Взываем к вам с жалобой на нашего архиепископа и нашего короля, которые, вопреки нашей воле, желают дать нам в епископы глупца, недостойного этой чести. Просим вашей помощи; молим вас охранять Церковь, как добрые пастыри, дабы не проник в ее лоно тот, кто не испросил дозволения войти в дверь, а пожелал перелезть через стену, подобно вору и разбойнику. […] Вы колеблетесь, памятуя о послушании, коим обязаны королю, и о данной клятве верности. Но вы будете тем верней, чем больше укажете того, что надлежит исправить в королевстве, и чем настоятельней побудите государя провести нужные реформы»[87]. Их не услышали! После этого понятно следующее место из поэмы, которую Адальберон Ланский, реакционер (в прямом смысле слова) и почитатель былого каролингского порядка, посвятил королю Роберту: «Если епископский престол вдруг опустеет, пусть на него возводят пастухов, моряков, кого угодно. Однако, следуя этому весьма хитроумному рассуждению, позаботимся, чтобы епископского сана домогался не тот, кто обучен божественному закону, а лучше тот, кто, не отягощая себя знакомством со святыми Евангелиями, никогда не провел и дня за учением и умеет только водить пальцем по странице букваря. Вот великие, вот учителя: мир должен их почитать, и да не будут избавлены от этого ни сильные, ни короли. Да не будет туда пути и тем, чья единственная гордость — знание, спутникам Христа, вскормленным мудростью, в душе которых принципы истинного учения запечатлены прочно, подобно шраму на спине. Поэтому, если возникнет какая-то великая ересь, да останутся епископы глухи к анафемам любого собора и да не будут они даже допущены ни в какой королевский совет: когда все уйдут, направляясь туда, да не покинут они домашнего ложа! Пусть они публично проповедуют благо, но скрытно злословят; если это правило останется нерушимым, как небесный свод, то вскоре законы, сила, добродетель, вся краса и блеск Церкви за недолгое время сгинут»[88]. Со своей стороны, и Рауль Глабер иногда обвиняет Капетингов в симонии, то есть в торговле святынями и церковными должностями, какую столь часто обличали в те времена: «Сами короли, развращенные щедрыми подношениями, вместо того чтобы ставить во главе церквей, как следовало бы, людей испытанной веры, считали наиболее подходящим для руководства церквами того, от кого ожидали самых великолепных подарков»[89]. В этой диатрибе он, несомненно, метил в Генриха I, который в 1032 г. отдал должность митрополита Сансского своему придворному Гельдуину, не допустив избрания Магенарда, соборного казначея. Рауль Глабер не узнал о сделке, благодаря которой в 1053 г. назначили епископа Ле-Пюи, поскольку не дожил до того времени. Впрочем, кардинал-реформатор Гумберт обвиняет Генриха I, что тот «погрешил против Святого Духа более, чем сам Симон Волхв». Поскольку в епископских выборах на кону стояли крупные политические ставки, то, конечно же, вмешивался в них не только король. Прелатские должности все больше становились «охотничьими заказниками» нескольких знатных семейств. Так было в Нормандии, где Ричард I распорядился должностью архиепископа Руанского в пользу своего сына Роберта; позже Ричард II отдал ее своему сыну Мальгерию, еще ребенку. Так же поступали магнаты на землях к югу от Луары. Гильом Санш, герцог Аквитании (Гаскони), отдал епископство Аженское своему брату Гомбальду. Очень известный пример подобных практик — покупка Гифредом в 1016 г. архиепископства Нарбоннского у виконта Нарбонна и графа Руэрга. Эти нарушения канонического права стали в конце X в. вызывать реакцию со стороны папства. Так, в 998 г. Григорий V объявил недействительными выборы Стефана, епископа Ле-Пюи, который организовал свое избрание еще до кончины дяди и предшественника, и рукоположение которого после смерти последнего произошло в присутствии всего одного-единственного епископа из другой провинции. И был избран новый епископ. Им стал Теотар, монах из Орильяка, избрание которого Сильвестр II утвердил буллой от 23 ноября 999 г. Последняя, запретив на будущее отлучать епископа, напрямую подчинила эту епархию Риму. Другие примеры римского вмешательства относятся к началу XI в.: тот же Сильвестр II добился от епископов рукоположения Леотерика Сансского, хотя граф Фромон пытался этому помешать.Последствия григорианской реформы
Таким образом, еще в первой половине XI в. некоторые клирики осознали, что церкви грозит растворение в феодальной системе. Поэтому отголоском клюнийской libertas стало понятие libertas ecclesiae (свободы церкви). Так же как основами для первой были привилегия подчиненности непосредственно Святому престолу и воссоединение с Римом, так libertas ecclesiae предполагала освобождение церкви от всякой светской власти как залог полной свободы действий. Существует бесспорная связь между движением возрождения монастырей, начавшимся в X в., и церковной реформой, сторонники которой, часто сами выходцы из монастырей, желали избавить епископат от опеки со стороны королей и князей. После того как император Генрих III в 1048 г. посадил на папский престол Бернона (Бруно), епископа Туля, коллектив лотарингских и итальянских реформаторов, каким окружил себя новый папа (принявший имя Льва IX), занялся восстановлением независимости церковных выборов. Это движение затронуло прежде всего империю, а до капетингского королевства добралось лишь позже. Так, на Реймсском церковном соборе, где председательствовал Лев IX, получивший такую возможность благодаря пастырскому объезду соседней империи, по воле Генриха I епископы Французского королевства в большинстве отсутствовали. Конфликты между папством и светскими властями из-за епископской инвеституры продолжились и в течение еще нескольких понтификатов. Высшего накала они достигли в понтификат монаха Гильдебранда, который под именем Григория VII (1073–1085) продолжил реформу, позже названную историками «григорианской». «Диктаты папы» (Dictatus рарае), которые этот папа выпустил в 1074 г., категорично утверждали верховенство папской власти: волей Христа папа — единственный глава церкви, и его власть имеет вселенский характер. Он стоит над всеми епископами и всеми монархами, которых вправе смещать и отлучать. Этот документ был издан с тем, чтобы провести четкое разделение обеих властей, светской и духовной, и прежде всего, чтобы подчинить первую второй. Автор этих теократических принципов, так никогда полностью и не воплощенных в жизнь, заходил все-таки слишком далеко. Провозглашая первенство духовного над светским, церковная власть претендовала на господство над мирянами, а значит, над всем обществом. Здесь не место рассматривать перипетии борьбы папства и империи. Зато следует обратить особое внимание на последствия, какие реформа имела во Французском королевстве. Кстати, она встретила настороженное отношение со стороны духовенства, о чем свидетельствует отказ Парижского церковного собора в 1074 г. утвердить целибат для служителей церкви. Точно так же структурная реорганизация, какую предполагала реформа, находила здесь разный прием. Булла Григория VII, датированная 19 апреля 1079 г., делала примасом Галлии архиепископа Лионского. Фактически власть этого архиепископа признали над собой только четыре церковных провинции — Лионская, Руанская, Турская и Сансская. Через десять лет новая булла папы Урбана II дала архиепископу Реймсскому достоинство примаса Бельгики, территорию которой определяло административное деление, унаследованное от поздней античности. Последняя булла, от 6 ноября 1097 г., превращала архиепископа Нарбоннского в примаса Экса, а архиепископа Буржского производила в сан примаса Аквитании. Эти распоряжения, которые, впрочем, существенно сокращали полномочия примасов, вызвали упорное противодействие со стороны Рихера, архиепископа Сансского. Последний, хотя на него много раз оказывали нажим, в том числе и лично папа Урбан II на Клермонском соборе 1095 г., до самой смерти в 1097 г. отказывался подчиняться лионской власти. Новый избранный архиепископ Санса Даимберт смог получить рукоположение лишь при условии, что признает примасом архиепископа Лионского — Гуго де Ди.Роль легатов
Вмешательство римской церкви в дела местных церквей с целью навязать им реформу и осуществить ее проявлялось и в отправке на места легатов — сначала на время, а потом, со времен Григория VII, п постоянных. Ими тогда стали два французских епископа — Амат д’Олорон, назначенный в 1074 г., и тот же Гуго де Ди. Последний, с 1073 г. епископ Ди, в следующем году был произведен в легаты Франции и Бургундии, а в 1082 г. избран архиепископом Лионским. Легаты обладали большой властью над французскими епископами. Повсюду, кроме Нормандии, они председательствовали почти на всех провинциальных соборах. Впрочем, ничто не показывает их могущества лучше, чем клятва послушания, принесенная епископом Робертом Шартрским папе в апреле 1076 г.: «Я, Роберт, в присутствии Бога и блаженного Петра, князя апостолов, чье тело покоится здесь, принимаю следующее обязательство: в любой момент, когда легат Святого престола, посланный Григорием, ныне римским понтификом, моим повелителем, или кем-либо из его преемников, прибудет ко мне, — в срок, какой назначит легат, я без возражений сниму с себя сан епископа Шартрского и преданно постараюсь, чтобы эта церковь по Божьей воле обрела пастыря». В такой ситуации эксцессы становились неизбежными. Гуго де Ди запросто отлучал епископов, не являвшихся на соборы. Папе иногда приходилось умерять пыл своего легата. Так, буллой Григория VII от 9 марта 1078 г. приговор был снят с архиепископа Манассии Реймсского, которого Гуго де Ди изводил бесконечными придирками и отлучил. Тогда же папа освободил от наказания архиепископа Гуго Безансонского, архиепископа Рихера Сансского, епископа Готфрида Шартрского, архиепископа Ричарда Буржского и архиепископа Рауля Турского, которые все были отлучены легатом! Тем не менее Манассия, много раз обвиненный в симонии и нескончаемых хищениях имущества реймсской церкви, в 1080 г. был в конечном счете низложен Григорием VII. Эта относительная снисходительность папы объясняется стремлением не раздражать Филиппа I, который поддерживал свой епископат. Действительно, при постоянных вмешательствах в дела французского духовенства папские легаты часто сталкивались с королем. Разве Гвиберт Ножанский не характеризует последнего как «человека очень продажного в том, что касается Божьих дел»? И Григорий VII обличает: «Из всех государей, которые притесняли Церковь Божью и выказывали в ее отношении порочную алчность, желая поработить ее и сделать служанкой, всех виновнее был, конечно, Филипп, король Франции». В самом деле, поведение короля вызывало негодование противников николаизма и симонии, В 1092 г. Филипп I развелся с первой женой Бертой Голландской, чтобы с благословения епископа Санлисского жениться на Бертраде де Монфор, «похищенной» у Фулька Глотки, графа Анжуйского, который, впрочем, не возражал. В то время как на повестке дня стояла борьба с клириками-николаитами, незаконный брак короля реформаторы-григорианцы восприняли как возмутительный подрыв христианских семейных правил, которые они тогда же насаждали. Действительно, в обществе, где связи между родами и брачные союзы между ними играли ведущую роль, церкви было необходимо строго контролировать матримониальные отношения мирян, чтобы ее не ослабил навязанный клирикам целибат, Филиппа I обвинили и в симонии. Его упрекнули в том, что он разграбил церковные владения, а именно владения аббатства Фекан, чтобы наказать аббата Вильгельма из Ро, посмевшего осудить повторный брак короля. Епископ-реформатор Ив Шартрский, отреагировавший одним из первых, тоже поплатился за противодействие королевской воле: Гуго дю Пюизе, вассал Филиппа I, продержал его несколько месяцев в заточении у себя в донжоне. Имея в виду оба случая, Ив написал в 1093 г.: «Не только от короля, вступившего в недозволенный брак, против коего мы возразили, но и от других мирян, с порочностью которых мы боремся всеми силами, наше имущество несет тяжкий урон»[90]. Поэтому епископы, поддерживавшие действия легатов, часто навлекали на себя гонения со стороны короля. Так, архиепископ Турский, виновный в том, что в 1080 г. поехал на Бордоский собор по приглашению легатов, был изгнан из своего епископского города с помощью Фулька Глотки, графа Анжуйского, не державшего зла на короля за похищение Бертрады. Случай с назначением Этьена де Гарланда, сына сенешаля Филиппа I, главой епархии Бове хорошо показывает, до какой степени король злоупотреблял своими регальными правами. Переписка Ива Шартрского прежде всего дает понять, что Филипп и Бертрада оказывали нажим при выборах епископа Бовезийского в 1100 г.: «Каноники Бове, отринув все канонические правила, чтобы выполнить волю короля и его пресловутой сожительницы, избрали в епископы невежественного клирика, игрока, человека дурной жизни, даже не рукоположенного в священники и изгнанного некогда из Церкви архиепископом Лионским (Гуго де Ди) за прелюбодеяние, — Этьена де Гарланда»[91]. Узнав об этом деле, папа Пасхалий II (1099–1118) согласился с Ивом I Партрским и не утвердил новое избрание. Поэтому он велел бовезийским клирикам провести перевыборы. Тогда их выбор пал на Талона, аббата Сен-Кантена в Бовези. Но Филипп I, на которого повлияли сторонники Этьена де Гарланда, прежде всего Манассия, архиепископ Реймсский, и Ламберт, епископ Аррасский, в свою очередь поклялся никогда не признавать Талона и не давать ему инвеституры. Поскольку Пасхалий II выказывал неменьшее упорство, король по 1104 г. продолжал управлять светскими владениями бовезийской церкви, в то время как Талона временно отправили папским легатом в Польшу. Когда с этого конфликта во Франции начался спор об инвеституре, папство занимало тем более невыгодную позицию, что легатами папа уже стал назначать итальянских кардиналов, сначала Иоанна из Губбио и Бенедикта, потом (с 1102 г.) Ричарда из Альбано, к которым французский епископат относился враждебно. Когда отношения между папством и империей опасно обострились, Пасхалий II был вынужден отнестись к Капетингу мягче. Сначала достигли компромисса по вопросу о Бовезийской епархии. Кончина епископа Фулька Парижского 8 апреля 1104 г. позволила Иву Шартрскому найти выход из положения. Несомненно, под его влиянием парижское духовенство избрало Талона; папа согласился перевести его и рукоположил в епископы Парижские. После этого клирики Бове по всем правилам избрали Готфрида из Писселе. Григорианский дух как будто одержал верх: Этьен де Гарланд был окончательно выведен из игры без того, чтобы королю пришлось нарушать клятву! Оставалось уладить вопрос о «двоеженстве» Филиппа I, делавшем невозможным никакое длительное сближение, поскольку королю была объявлена анафема, а его королевство находилось под интердиктом. В начале 1104 г. Ив Шартрский сообщил легату Ричарду из Альбано, что король Филипп I как будто склонен исправиться. Последний в присутствии нескольких епископов из Реймсской и Сансской епархий принял клятвенное обязательство не иметь больше сексуальных отношений с «сожительницей». Папа, отозвав легата, возложил на епископа Ламберта Аррасского заботу развести короля с Бертрадой на соборе, который соберется в Париже 2 декабря 1104 г. Реформаторы удовлетворились этим и впоследствии вели себя покладисто — «двоеженец» и «двоемужница» продолжили жить вместе до смерти и даже в 1106 г. нанесли совместный визит Фульку Глотке, предыдущему мужу Бертрады! После этого появилась возможность окончательно положить конец спору об инвеституре во Французском королевстве. Благодаря Иву Шартрскому, годами готовившему этот компромисс, было достигнуто более или менее молчаливое согласие, примирившее светские и духовные интересы. Встреча папы Пасхалия II с Филиппом I, которого сопровождал сын, будущий король Людовик VI, в 1107 г. в Сен-Дени закрепила это примирение.Новый «Григорианский» порядок
Апогей могущества Клюни Клюни, обширная конгрегация, непосредственно подчиненная Риму, влияние которой распространялось на большую часть Западной Европы, прежде всего по главным магистралям (долине Роны, дорогам в Компостелу) и богатым земледельческим регионам (Аквитании, Парижскому бассейну, Северной Италии), конечно, способствовала усилению римской централизации. В 1078 г. в римскую курию прибыло несколько клюнийских монахов по приглашению Григория VII, желавшего сделать их епископами, верными его делу. Среди них был Эд де Шатильон, бывший архидиакон епископа Манассии Реймсского, несколько лет назад удалившийся в Клюни. Эд был поставлен во главе Остийской епархии. Позже его избрали папой под именем Урбана II (1088–1099). К концу XI в. могущество клюнийского ордена достигло апогея. Под более или менее непосредственным руководством аббата Гуго Великого (1049–1109) находилось около полутора тысяч монастырей (более половины из них — в королевстве Капетингов), где служило более десяти тысяч монахов. Монастырскую церковь Клюни III (1088–1121), строительство которой предпринял аббат Гуго Великий, освятил 25 октября 1095 г. Урбан II, побывавший там в связи с пастырским объездом ради реорганизации французской церкви. Она представляла собой шедевр романского стиля и была крупнейшим памятником христианского искусства до самого возведения собора Святого Петра в Риме в XVI в. В 1097 г, Урбан II подтвердил «римскую вольность» Клюни (его полное подчинение Святому Престолу), уточнив даже, что священники монастырских приходов в случае конфликта с епископом смогут получить от Рима разрешение на свободу действий. Регулярные каноники Реформаторы хотели приблизить образ жизни белого духовенства к монашескому образцу. По сравнению с каролингскими временами стали несколько мягче требования к соблюдению устава Хродеганга, на основе которого соборные капитулы организовались в общины каноников, объединенные вокруг епископа. К середине XI в. многие секулярные каноники женились и стали собственниками своих пребенд. Римские соборы 1059 и 1063 г. призвали клириков вернуться к общинной жизни по примеру монахов, чтобы лучше соблюдать церковные заповеди. В течение XI в. общины каноников, названных «регулярными», приняли более строгий устав — так называемый «устав святого Августина». Действительно, в него, помимо предписаний, выполнения которых последний требовал от окружения, когда был епископом Гиппонским, вошли советы, какие он давал монахиням, вступившим в конфликт с настоятельницей. Итак, главным требованием было обобщить имущество и проявлять повиновение настоятелю, кротость и милосердие в отношениях между членами общины. «Регулярные» каноники жили прежде всего в приорате Сен-Мартен-де-Шан в Париже, церковь которого в 1067 г. освятил Филипп I, и в аббатстве Сен-Дени в Реймсе. В Туре несколько каноников Сен-Мартена по своей инициативе предприняли реформу и отказались от пребенд, чтобы удалиться на остров Сен-Ком-э-Сен-Дамьен и жить там общиной. Их примеру последовали в 1095 г. и ангулемские каноники. Но, в отличие от монахов, у каноников было пастырское призвание — им полагалось наставлять верующих и причащать их. Поэтому они оставались в подчинении у епископов. Этим объясняется интерес, какой проявляли к ним папы. Урбан II в ходе поездки во Францию подтвердил привилегии нескольких общин каноников — 23 августа 1095 г. в Кагоре и 15 сентября в Авиньоне. Между 1096 и 1099 г. он также гарантировал владение некоторыми землями приорату регулярных каноников Сен-Кантен в Бове, которым с 1078 по 1090 гг. руководил будущий епископ Ив Шартрский. Светским властям регулярные каноники не подчинялись, о чем свидетельствуют диплом Филиппа I от 1092 г. и письмо Ива Шартрского от 1096 г. графу Стефану, который, видимо, забыл о привилегиях капитула. Ив напоминает своему корреспонденту, что «на клуатр каноников не распространяется никакая светская власть. Это издавна, задолго до времен наших отцов, гарантировали декреты королей и тысячью способов утвердила Церковь». Поскольку многие соборные капитулы (особенно к северу от Луары) отказывались проводить такую регуляризацию и в лучшем случае довольствовались возвращением к уставу Хродеганга, украшенному несколькими выдержками из святого Августина, то реформированные коллегии «регулярных каноников» поначалу как будто не имели меж собой никакой организационной связи. Тем не менее, несмотря на разное происхождение, они объединились в конгрегации, такие как Арруэзская (около 1090 г.), Святого Руфа в Авиньоне или Святого Виктора в Париже (основанная Гильомом из Шампо в 1108 г.).Стремление к «апостольской жизни»
Программа «григорианских» реформаторов отвечала стремлениям к «апостольской жизни», проявляемым некоторыми пылкими мирянами, которые настойчиво культивировали добродетели бедности и покаяния. Эти люди не могли удовлетвориться ни клюнийским образом жизни, ни образом жизни коллегий каноников. В лесах и удаленных местах, называемых «пустынь», desert (это название отсылало к древним истокам монашества), жили многочисленные отшельники, избравшие sequela Christi («следование обнаженным за обнаженным Христом»). Более или менее плотно контролируемые церковными властями, они вызывали интерес многочисленных верующих, жаждавших их поучений; получалось, что репутация святости парадоксальным образом лишала их уединения, которого они так пылко желали! Белое духовенство и монахи тоже иногда предпочитали удаляться от мира. Характерным примером стал Роберт де Тюрланд, священник из Оверни, который был неудовлетворен своей жизнью каноника в Сен-Жюльене, в Бриуде, но не захотел вступать в клюнийский монастырь, где дисциплина казалась ему слишком мягкой. Поэтому он уехал в Италию, в Монте-Кассино, чтобы вновь обрести первоначальный идеал святого Бенедикта. Вернувшись оттуда, он основал на высоте более тысячи метров аббатство Шез-Дье. В этой обители он поселил общину, дал ей бенедиктинский устав, но не стал просить о непосредственном подчинении Святому Престолу. Это заведение скоро получило популярность, и в 1052 г. его поддержали совместно папа Лев IX и король Генрих I. Для того чтобы ввести в рамки этот отшельнический дух, поначалу не принятый официально, носители которого ставили под сомнение образ жизни традиционного монашества, появлялись новые ордены. Это были, например, обитель Гранд-Шартрез, основанная в 1084 г. Бруно Кельнским, или Фонтевро, двойной монастырь, основанный в 1101 г. Робертом д’Арбрисселем. Бруно Кельнский и Шартрез Перед Бруно Кельнским открывалась блистательная церковная карьера. Авторитетный учитель, он стал канцлером школы при Реймсском соборе. Поначалу он был резким критиком своего архиепископа Манассии, порицая его за симонию. Но когда того в 1080 г. низложили при обстоятельствах, которые были описаны выше, Бруно отказался занять его место, как ни желал этого легат Гуго де Ди. Ведь к тому времени он уже удалился в Колланский лес в Шампани еще с двумя священниками — Пьером и Ламбером. По свидетельству Гвиберта Ножанского, врага Манассии, «Бруно, в то время чрезвычайно знаменитый в галльской Церкви, покинул Реймс из-за ненависти этого мерзавца». Но, не доверяя этому слишком ненадежному пристанищу, он, «избегая встречаться со своими, дошел до земель Гренобля». Надо дать себе труд сопоставить два описания места, где построили Гранд-Шартрез, чтобы хорошо осознать неоднозначность представления о «пустыни» в монашеской традиции. Гвиберт Ножанский подчеркивает аскетический подход к выбору места, продиктовавший решение «жить на склонах крутой и воистину устрашающей горы, куда ведет всего одна дорога, очень трудная, по которой редко ходят путники». Напротив, сам Бруно в письме своему другу Раулю Зеленому, архиепископу Реймсскому (1106–1124), выделяет райские черты этой «пустыни»: «То, что безлюдность и безмолвие пустыни приносят пользу и божественное наслаждение тем, кто их любит, знают лишь те, кто это изведал. В самом деле, сильные люди столько, сколько пожелают, могут там сосредотачиваться, пребывать наедине с собой, заботливо взращивать зародыши добродетелей и с удовольствием питаться райскими плодами […]. Вот лучшая доля, которую выбрала Мария и которая не будет отнята»[92]. Так Бруно Кельнский и шесть его спутников основали орден картезианцев при поддержке епископа Гуго Гренобльского, распорядившегося построить первый деревянный скит и 2 сентября 1084 г. освятившего новую церковь. Однако вначале возникли проблемы. Когда папа Урбан II, учившийся у Бруно в Реймсе, пригласил его к себе в советники, община после отъезда основателя распалась. Узнав об этом, Бруно дал поручение Ландуину Тосканскому и обратился к аббату Шез-Дье и лично к папе с просьбой, чтобы Гуго де Ди и епископ Гренобльский позаботились водворить монахов на место. После этого Урбан II поместил картезианскую пустынь под покровительство святого Петра, как вслед за ним поступит и Пасхалий II. Своеобразная фигура: Робер д’Арбриссель На западе королевства, в пределах Мэна и Бретани, функцию «пустыни» выполняли леса (со всем грузом смутной сакральности, обременявшим их). В них уходили группы отшельников, собиравшихся вокруг сильных личностей — Гильома Фирмата (ум. 1095), Петра де л’Этуаля (ум. 1114), Бернарда Тиронского (ум. 1117), Виталия из Савиньи (ум. 1122) и прежде всего того, чье имя долгое время вызывало скандал, — Роберта д’Арбрисселя (ум. 1116). Недавние работы[93] позволили сделать понятней эту трудно поддающуюся классификации фигуру, для информации о которой сохранилось два «Жития», написанных в агиографическом духе, два письма в форме обвинительных речей и послание, созданное этим человеком и очень показательное для его образа мышления. Этому «сыну священника, потомку нескольких поколений священников», как определяет его первый биограф, Бальдерик из Бургея, архиепископ Дольский, было предназначено, по обычаю времени, сменить отца во главе маленького прихода Арбриссель в Реннской епархии. Если его биографы предпочитают не очень распространяться о первом периоде его жизни, то, несомненно, потому, что он характерен для предгригорианского времени, когда симония и николаизм еще никого не шокировали. Однако, судя по тому, что эти источники так подчеркивают рвение, с каким Роберт умерщвлял плоть, чтобы повторно не впасть в грех, можно догадаться, что в молодости он действительно уступил соблазну николаизма. Вероятно, «священник, имеющий сожительницу», он был не чужд и симонии, так как поддержал назначение своего сеньора, Сильвестра де Ла Берша, епископом Реннским, хотя тот «даже не был рукоположен в клирики». Действительно, в первой половине XI в. сиры де Ла Герш объединяли в своих руках сеньориальную и епископскую власть и четверо из них сменили друг друга во главе епархии! Роберт осознал свои заблуждения, только прибыв в Париж, когда в возрасте за тридцать он возобновил учебу и познакомился с григорианскими идеями. Он был не один такой. Сильвестр, его бывший епископ, смещенный папским легатом, но восстановленный в должности, поскольку принял идеи реформы, начал у себя в епархии борьбу с николаизмом и призвал к себе Роберта. Тот взялся за дело, но успехов не добился и, когда в 1092 г. его епископ умер, вынужден был бежать из Ренна из-за враждебности епархиального духовенства. Поэтому Роберт уехал в Анжер, где стал учеником Марбода и, пока учился и молился, умерщвлял плоть, нося под одеждой власяницу. В 1095 г. вместе с другим клириком он удалился в лес, расположенный на границах Бретани, близ Краона. Там, согласно одному из «Житий», «днем он старался сеять божественный глагол, а ночью удалялся в пустынь молиться Богу». Эта проповедь привлекла к нему последователей, которых он объединил в конгрегацию регулярных каноников в Ла-Ро, на земле,подаренной сеньором Рено де Краоном. Кстати, благодаря его репутации на него обратил внимание Урбан II, когда после Клермонского собора совершал большой объезд Французского королевства, поощряя проведение реформы и призывая к крестовому походу. Услышав проповедь Роберта в 1096 г., папа даровал ему лестный титул «сеятеля божественного глагола» и назначил (апостольским) проповедником, при этом осторожно посоветовав воздерживаться от «неуместных слов»… Поддержав склонность отшельника быть странствующим проповедником, Урбан II тем не менее выразил опасения, с какими высшие иерархи церкви обычно относились к такой проповеди, связанной с риском перейти грань. Марбод, бывший учитель Роберта, ставший епископом Реннским, высказывался более определенно. В одном возмущенном письме он критиковал нелепый наряд ученика: «Похвально не ходить без льняных одежд, а не ценить льняных одежд!» Он упрекал его также за неумеренность в речах против богатства и пороков прелатов. Наконец, он предостерегал его против некоторых рискованных подвигов аскетизма в виде ордалий: разве с наступлением ночи Роберт не укладывался спать рядом с женщинами, в состоянии опасного возбуждения, чтобы убедиться, что одолел плотскую похоть? Возможно, отреагировав на эти порицания, Роберт к 1101 г. остепенился — с возрастом он перестал ходить босиком и согласился пересесть на лошадь. Свою маленькую группу учеников он поселил в Фонтевро, на границах Анжу и Пуату, отдав под активное покровительство Петру II, епископу Пуатевинскому. Тогда он отделил мужчин от женщин, но руководство возложил на последних — сначала на Герсанду, мачеху донатора Готье де Монсоро, а потом, после ее смерти, на Петрониллу де Шемилле. В 1115 г., постаревший и больной, Роберт предпринял последнее паломничество, которое привело его прежде всего в Шартр, где он хотел примирить раздоры, возникшие после смерти епископа Ива. Он продолжил последнее странствие, добравшись до Берри. Прибыв в фонтевристский приорат Орсан и чувствуя приближение смерти, он обратился к Леодегарию, архиепископу Буржскому, с такой мольбой: «Знай же, дражайший Отец, что я не хочу покоиться ни в Вифлееме, где Бог соизволил родиться от Девы, ни даже в храме Гроба Господня в Иерусалиме, равно как не хочу быть погребенным ни в Риме среди святых мучеников, ни в монастыре Клюни, где совершаются прекрасные процессии […]. Я прошу тебя похоронить меня не в монастыре и не в клуатре, а лишь среди моих меньших братьев, в грязи Фонтевро»[94]. На самом деле из-за мощей отшельника началось настоящее сражение. Леодегарий якобы пожелал оставить святой прах себе; Петронилле пришлось устроить голодовку, чтобы его вернули в Фонтевро. Но желание Роберта выполнено не было. В конечном счете его с большой помпой похоронили в церкви аббатства Фонтевро. Его сердце осталось в Орсане, где вскоре с ним стали соседствовать останки Леодегария, который «так любил Роберта при жизни, что не пожелал бы после смерти разлучиться с его сердцем», — утверждает эпитафия епископу. Страсти, какие возбуждала бурная жизнь Роберта д’Арбрисселя, не утихли и после его кончины. Жак Даларен отмечает, что его тело было «конфисковано»: не было ни паломничеств, ни чудес, а значит, и канонизации. Но остался орден, который пережил своего создателя и распространился по Анжу. Под воздействием сменявших одна другую аббатис, которые выходили из аристократии и которых она поддерживала, орден стал комплексом женских монастырей, где мужчины играли лишь подчиненную роль.Зарождение ордена Цистерцианцев
Очень многих отшельников, упомянутых до сих пор (по меньшей мере тех, источники информации о которых достаточно ясны), изобразили разочарованными в монашеской жизни, в которой они начали жизненный путь. То есть они вошли в некое противоречие с представлениями григорианской духовности, для которой монастырская модель сохраняла весь свой престиж, тогда как они идеал возвращения к апостольским истокам собирались воплощать в миру. Следствием этого были одновременно маргинальное положение отшельников в глазах церковных властей и привлекательность, какую они тем самым приобретали в глазах благочестивых верующих. На первый взгляд, случай Роберта Молемского (1028–1111) совсем другой. Ведь это был неудовлетворенный монах, который, не найдя монастыря, отвечавшего его взглядам, сам создал такой с нуля. Тем не менее аналогии между цистерцианским орденом в его исходном состоянии и движениями того времени, оттесненными позже на второй план успехами нового ордена, стоит отметить. В начале была группа отшельников, жившая в Колланском лесу, на границах Шампани и Бургундии. Ничего особо оригинального: через несколько лет Бруно Кельнский удалился в место, находившееся недалеко оттуда! В самом деле, более двадцати лет Роберт искал свой путь, сменив несколько бургундских монастырей, где все признавали его достоинства, коль скоро он обычно возглавлял эти монастыри. Ему было сорок шесть лет, когда он с разрешения папы ушел со своего поста аббата монастыря Сен-Мишель в Тоннере. С несколькими учениками он удалился в лесную «пустынь». Поселившись в шалашах, Роберт и его спутники вознамерились вернуться к изначальной бенедиктинской суровости жизни: полная изоляция, строгие посты, молчание и искупительный труд. Когда рост численности учеников вынудил его создать в 1075 г. в Молеме общину, популярность нового заведения стала, как всегда, побуждать почитателей приносить ему в дар земли и церкви. Роберт еще раз бежал и на несколько лет (три или пять?) удалился от мира. Но папы часто напоминали монахам-бенедиктинцам, что те обязаны сохранять существующий порядок, и Урбан II велел аббату Молема вернуться в свою общину. Это было поражением: аскетические требования Роберта стали уже неприемлемыми для части его монахов, вернувшихся к образу жизни клюнийского типа. Роберт откололся от общины вместе с теми из монахов, кто разделял его ригористический идеал, — с такими, как приор Альберих и Стефан Хардинг, английский монах, который, возвращаясь из Италии, остановился в Молеме. В марте 1098 г. они поселились в Сито, южней Дижона, на болотистой земле, которую подарил им виконт Бона. Но монахи Молема снова расценили уход Роберта как дезертирство и добились от легата Гуго де Ди его возвращения в июне 1099 г. в качестве их главы. В результате новый монастырь возглавил Альберих. Под его эгидой, а потом под эгидой сменившего его Стефана Хардинга суровость и бедность дошли до такой степени, что приток новых монахов иссяк и Сито стал хиреть. Вновь расцвести обители позволило появление новичков рыцарского происхождения. Приняв в 1112 г. Бернарда де Фонтена, явившегося во главе трех десятков знатных молодых людей из его рода, Стефан Хардинг смог даже основать первые филиалы Сито. С этих филиалов начался подъем цистерцианского ордена в XII в., к которому мы вернемся позже.Паломничества
Глубину христианской веры у простых верующих мирян историкам сложней замерить за отсутствием источников. Величие «Господа», Seigneur (которому молились на коленях, соединив ладони, в позе вассала), объясняет, почему к Нему чаще всего предпочитали обращаться через посредство Его святых. Реликвии (в отношении которых Рауль Глабер утверждает, что многие были обнаружены после тысячного года, «словно ждали момента некоего славного воскрешения») были одновременно залогом физического присутствия святых на этом свете и гарантией их заступничества перед Богом на том свете. В соответствии с логикой «дар — встречный дар», чтобы материализовать эту связь между верующими и сверхъестественным миром, первые делали благочестивые дарения — источник доходов для духовенства. И для выражения веры они предпочитали формы, требовавшие больше физических усилий: посты, воздержание и прежде всего паломничества, самый заметный аспект средневекового благочестия. Мотивы паломничества В самом деле паломничество, не требуя слов, выражало во всей глубине положение христианина — временного гостя на этой земле, идущего к Небу. Термин peregrinus по-латыни означает «чужой», «иноземный», покинувший свою страну (точно так же как слово «еврей» означает «прохожий», «эмигрант»). Сюжеты странствия Авраама и исхода Израиля в Землю Обетованную наложили глубокий отпечаток на монашескую духовность. Действительно, в раннем Средневековье слово peregrinatio сначала относилось к призванию монахов, а еще в большей степени отшельников, жить повсюду как чужеземцы. Такой разрыв с миром часто предполагал изгнание в смысле аскезы, что не исключало миссионерских забот. С XI в. peregrination (дальнее странствие) превратилось в pelerinage (паломничество). Свою лепту в эту трансформацию, вероятно, внесло стремление григорианских реформаторов разделить образы жизни духовенства и мирян. Выступление в путь к святому месту было для мирян временным эрзацем окончательного удаления от мира, какое предполагал уход в монастырь. Паломник буквально воспринимал идеал отшельников XI в. — стать бедным, чтобы следовать за бедным Христом. Поэтому паломничество, как показал Пьер-Андре Сигаль[95], представляется кристаллизацией разных обычаев, отмеченных с древних времен. С одной стороны, паломничество из благочестия (pelerinage de devotion) отвечало желанию приобщиться святости, приблизившись к местам, освященным присутствием Христа на Святой земле, или к почитаемым могилам апостолов Петра и Павла в Риме. В эпоху, когда все больше укреплялась вера в муки чистилища для умерших, чьи грехи могут быть искуплены пост мортем, паломники отправлялись в путь еще и в надежде получить индульгенцию, которая пока была просто частичным покаянным «послаблением», предоставлявшимся всем, кто выполнит некоторые обязательства. С другой стороны, паломничество ради исцеления (pelerinage de guerison) толпы больных и увечных совершали в сопровождении близких к святилищам, где поклонение реликвиям сулило чудесные исцеления. Различие между местными или региональными паломническими святилищами (например, приоратом Флавиньи-сюр-Мозель, где поклонялись мощам святого Фирмина) и главными центрами паломничества состояло только в масштабах. В XI в. святые еще не приобрели медицинской специализации. Целительными способностями наделялись все реликвии без различия. Основными пациентами этого чудесного лечения, напоминавшего об исцелениях, какие, согласно Евангелиям, производил Христос, были парализованные и страдающие парезом, слепые, глухие и немые, безумные и одержимые. Наконец, покаянного или искупительного паломничества (pelerinage penitentiel оu expiatoire) мог, в принципе, потребовать любой приходской священник в качестве публичного покаяния за особо тяжкий проступок. То есть виновный должен был идти просить заступничества у святых, чтобы получить отпущение грехов. Но у многих паломников, насколько можно судить, побудительные причины для отправки в путь имели не более и не менее смешанный характер, чем в другие времена. Разрыв с привычной обстановкой утолял потребность найти Бога в новом месте, желание вырваться из повседневности или даже (почему бы нет?) простое туристическое любопытство. Стремление с трудом достичь освященного места выражало, разумеется, глубокую веру, но еще и желание обрести по возвращении некий престиж в обществе, сравнимый с тем, каким и поныне окружают мусульманского хаджи, совершившего паломничество в Мекку. Облик паломников Чаще всего мотивы суммировались, то есть паломничество было одновременно выполнением обета, данного во время болезни или приступа благочестия, и покаянием, совершаемым по приказу или добровольно. Вот почему паломник носил особую одежду: плащ с капюшоном, суму, посох, ел скромно, пел и молился вместе со спутниками. В ту эпоху, когда культ реликвий и вера в чудеса укоренились прочно, этот религиозный обычай распространялся на все социальные категории людей. Однако со времен Фрежюсского собора 791 г. женщинам в принципе запрещалось ходить в паломничество из-за скученности проживания в местах временных остановок. Если какие-то женщины, несмотря ни на что, шли туда, они переодевались мужчинами либо подвергались серьезным опасностям, как та аббатиса, которую во время паломничества в Иерусалим в 1064–1065 гг. изнасиловали и убили неверные. Чтобы подготовиться к уходу, будущий паломник собирал средства, необходимые для выживания, составлял завещание, отдавал имущество и семью под покровительство церкви и успокаивал свою совесть путем исповеди. Выслушав мессу в приходской церкви, он испрашивал благословения для своих сумы и посоха. Некоторые, даже большинство, старались ходить группами из очевидных соображений безопасности или помощи в случае болезни или увечья. Все, кто предпринимал дальнее паломничество, будь они здоровыми или больными, старались обзавестись верховым животным. Например, в 1056 г. папа Виктор II в числе прочих насилий, чинимых паломникам при проходе через Константинополь, указывал тот факт, что там у них отбирают лошадей. На дорогах в Компостелу некоторые аббаты ссужали паломникам лошадей или мулов для прохода через трудные места. Ведь чтобы подчеркнуть покаянный характер паломничества, главным было выступить и идти пешком. В пути паломник мог рассчитывать найти кров в одном из многочисленных приютов, открытых на самых популярных дорогах. Их организовали с X в. на севере Пиренейского полуострова на дороге в Сантьяго-де-Компостела. В конце следующего века обракский орден обеспечил приюты для путников при переходе через Руэрг, где зима особо жестока и где многие паломники не упускали случая заглянуть к святой Вере Конкской. Во время странствия, часто занимавшего месяцы, такие остановки были неизбежными. В 1056 г. льежским паломникам для возвращения из Компостелы понадобилось тридцать шесть дней. Граф Ангулемский в 1026–1027 гг. потратил пять месяцев, чтобы достичь Иерусалима сухопутной дорогой. Правда, после остановки на некоторое время в Венгрии. Последний этап предполагал совершение определенных ритуалов, таких как очистительное омовение в Иордане, перед тем как войти в Иерусалим, или в ручейке недалеко от Компостелы. Вход в святилище мог быть затруднен в дни большого наплыва народа (прежде всего по праздникам данного святого или в важные литургические периоды). Например, Адемар Шабаннский сообщает о смертельной давке в Лиможском соборе у могилы святого Марциала. Прием чаще всего обеспечивал хранитель реликвий (custos). В аббатстве Сен-Вандриль в XI в. это был клирик, отвечавший на вопросы паломников о заслугах святого Вульфрана. Хранитель позволял приблизиться к реликвии, «поцеловать могилу». Он же принимал дары, которые приносили паломники, часто пытавшиеся провести в церкви ночь. Так, Гуго из Флавиньи рассказывает, что в середине IX в. больные выздоравливали, оставшись ночью в аббатстве Сен-Ванн у могилы аббата Ричарда. Монахи Конка, пытавшиеся запереть аббатство, обнаружили, что под натиском паломников ворота открылись. Когда совершалось чудо, то до официального подтверждения оно подлежало процедуре проверки, о чем свидетельствует, в частности, для XI в. сборник «Чудеса святого Венедикта». Чудесно исцеленные выражали признательность, часто в виде восковых ex-voto, иногда временно поступая на службу к святому. Прежде чем уйти, паломник пытался захватить с собой какие-то реликвии — пыль с могилы, ткань, освященную контактом с могилой. Похоже, паломники в Компостелу очень скоро обзавелись ракушками святого Иакова. Часто они сами (или их друзья, которым они приносили этот ценный сувенир) завещали себя хоронить с этим подобием пропуска на тот свет, удостоверявшим, что они расплатились за спасение. И в самом деле, такие ракушки, которые собирали ныряльщики, продавались на паперти собора. Главные центры паломничества Репутация Компостелы (где мощи, приписываемые святому Иакову, якобы были обретены около 800 г.) сформировалась с X в., когда туда начали прибывать первые паломники из Французского королевства. До 980 г. паломники могли ходить в относительной безопасности. Но в конце X в. христианским территориям стала угрожать агрессия со стороны аль-Мансура, омейядского халифа Кордовы. В 997 г. Компостела была сожжена, а собор снесен. После смерти аль-Мансура в 1002 г. Санчо Великий, король Наварры, предпринял Реконкисту при помощи подкреплений, прибывавших из Аквитании или Бургундии (с 1017 по 1120 г. было предпринято два десятка походов), так что непосредственная угроза паломникам исчезла. С 1025 г. клюнийские монахи реформировали и даже основали много монастырей в северной части полуострова. Гуго Великий, аббат Клюни, лично ездил в Испанию в 1090 г., и на многие епископские престолы были назначены выходцы из Франции. Ведущая роль Клюни и его «дочек», таких как Муассак или Конк, в жизни этих мест объясняет рост численности паломников, которые тоже приходили из Французского королевства, пока во второй половине XI в. их поток не стал по-настоящему интернациональным. Что касается паломничеств в Рим и Иерусалим, два священных города христианства, посещавшиеся с древних времен, то разные мотивы паломников для похода в них вписываются еще и в эсхатологическую перспективу. Ожидание, что мертвые воскреснут, побуждало паломников искать себе место на кладбище либо в Риме, где они могли воспользоваться заступничеством величайших святых, либо в Иерусалиме, где должен был происходить Страшный суд. Паломничество в Рим (достигшее апогея в предыдущем веке) стало в X в. очень популярным. Сохранились сведения о рекордном числе визитов ad limina apostolorum («к порогу апостолов»), Теодорих (ум. 1087), аббат монастыря Сент-Юбер в Арденнах, совершил туда семь паломничеств, тогда как Адельрад, архидиакон из Труа (ум. 1020), ходил туда не менее двенадцати раз. Много раз совершали такой поход и многие миряне, например Гильом V, герцог Аквитании (ум. 1030). Конечно, особенно во второй половине XI в., трудности, связанные с политикой германских императоров и хроническими волнениями римской знати, привели к некоторому спаду активности римских паломничеств, однако не столь явному, как иногда утверждалось. Ущерб римскому паломничеству наносила прежде всего конкуренция со стороны Иерусалима. Действительно, несмотря на завоевание Палестины египетскими Фатимидами и разрушение аль — Хакимом в 1009 г. храма Гроба Господня, популярность паломничества возросла из-за более благоприятного политического контекста, выразившегося в более терпимом отношении мусульман к христианам. С другой стороны, недавнее обращение венгров в христианство открыло более безопасный путь на Восток, чем переправа по Средиземному морю, где очень большую угрозу представляли мусульманские пираты. Так, Фульк Нерра, граф Анжуйский, с 1015 по 1039 г. совершил три поездки в Иерусалим, в 1026 г. туда отправился граф Ангулемский, а в 1035 г. — герцог Роберт Нормандский. Однако глубинную причину этого влечения на Восток, масштабы которого хорошо отразил Рауль Глабер в своих «Историях», надо искать в духовной сфере. В самом деле, он указывает, что «ко Гробу Спасителя в Иерусалиме хлынула бесчисленная масса людей», уточняя, что «многие желали умереть прежде, чем вернутся в свою страну». Этот наплыв интриговал современников, и Рауль дает ему следующее объяснение, не приписывая его себе: «Многие в то время советовались с некоторыми людьми, наиболее склонными к тревогам, насчет того, что означает столь великое стечение народа в Иерусалим, подобного которому не видел ни один из предыдущих веков; те, взвешивая слова, отвечали, что это не предвещает ничего иного, кроме пришествия презренного Антихриста, появления коего должно ожидать с приближением конца света, по свидетельству божественного авторитета. Послушать их, так все эти народы пролагают дорогу на Восток, по которой он должен прийти, и тогда все нации пойдут прямо навстречу ему».Крестовые походы конца XI в
Крестовые походы были продолжением этого массового движения паломничества в Святую землю, которое после перерыва, связанного с агрессией халифа аль — Хакима, энергично возобновилось в середине XI в. Трудности и опасности пути делали крестоносца паломником, следовавшим завету Христа: «Если кто хочет идти за Мною, […] возьми крест свой и следуй за Мною». Целью, «бесконечно более привлекательной, чем какое угодно святое место, хоть бы и Сантьяго-де-Компостела»[96], был земной Иерусалим, отражение небесного Иерусалима, где ожидалось второе пришествие Христа. Крестовый поход был в некотором роде последним паломничеством, безвозвратным, коллективным и всеобщим в том смысле, что объединил все сословия западного христианского мира. Паломники, отправлявшиеся в Иерусалим, уже брали с собой оружие, чтобы защищать себя во время долгого путешествия по враждебным странам, хотя пришествие турок-сельджуков, которое когда-то представляли главным фактором, делавшим дорогу опасной, похоже, на самом деле такой репутации не имело. В 1054 г. епископа Камбрейского сопровождало, возможно, три тысячи человек, а немецких епископов, отправившихся в паломничество в Святую землю в 1064–1065 гг., — несомненно, вдвое больше. Однако новым по сравнению с паломничеством стал дух священной войны (или, скорей, «сакральной»). Как избранный народ в Ветхом Завете, крестоносцы должны были отвоевать Землю Обетованную. Вот почему призыв папы Урбана II вызвал колоссальный всплеск энтузиазма, стремления бороться за возвращение Иерусалима христианам и защиту христианства. Именно по окончании реформаторского Клермонского собора 1095 г. папа обратился к рыцарям, призывая отправиться в крестовый поход и даруя им полную индульгенцию, то есть отпущение абсолютно всех грехов. Столько раз осудив войну между христианами, папа предложил им вести «справедливую» войну с мусульманами, которых тогда из-за незнания ислама фактически считали язычниками. Верующим христианам были противопоставлены «неверные», которых следовало силой обратить в истинную веру. Фульхерий Шартрский воссоздает для нас папское заклятие: «Пусть те, кто ранее привык сражаться во имя зла, в частной войне с верующими, сразятся с неверными и доведут до победного конца войну, которую уже давно следовало бы начать; пусть те, кто некогда нанимался за гнусное жалованье, обретут теперь вечное воздаяние». Вслед за реформой монастырей и реформой белого духовенства настало время реформировать воинское сословие. Тем самым грубые milites становились milites Christi («воинами Христа»), которые продолжали с язычниками тот бой, какой монахи вели с бесами. В теократической перспективе григорианские реформаторы видели в крестовом походе «антивойну», которая послужит паллиативом «Божьему миру», падение популярности которого отметил Клермонский собор. Монархи (Филипп I, а также император и король Англии) были отлучены и опозорены. Теперь папство пыталось утвердить себя как единственную власть, правомочную решать, справедлива война или нет. Значит, ответственность за крестовый поход в дальнейшем неизменно несло оно, даже если движение усиливали некоторые экономические или политические факторы. Если верить Гвиберту Ножанскому, то крестьяне и селяне отправились в путь потому, что сельская местность была перенаселена, хотя призыв Урбана II был рассчитан не на них. Что касается итальянских купцов, поначалу они опасались, как бы военная интервенция на Востоке не подорвала торговые отношения, какие они сохраняли с Византийской империей и исламским миром.Народный крестовый поход
Обычно считается, что слова папы необдуманно разнесли экзальтированные народные проповедники, самым известным из которых остается Петр Пустынник, тогда как по другую сторону Рейна свирепствовал Вальтер Неимущий. Однако недавно некоторые историки были вынуждены пересмотреть ряд гипотез, представлявших Петра Пустынника настоящим инициатором крестового похода. Они утверждают, что папский замысел совпал с собственными чаяниями населения (Жан Флори). Когда армия, сбор которой был назначен Урбаном II на 15 августа 1096 г. в Ле-Пюи, еще не собралась, банды, в состав которых входило много нонкомбатантов, уже в начале года двинулись в путь. Но эти бедняки не были предоставлены самим себе: грабежам и «погромам» (pogroms) по дороге в Иерусалим они предавались под руководством опытных командиров (Рено де Брея, Фульхерия Шартрского…). Этот взрыв религиозного фанатизма, который епископы пострадавших городов не могли сдержать, был направлен против еврейских общин, на которые возлагали ответственность за все несчастья, перенесенные христианами на Востоке. Выбор «крестись или умри», воспринятый буквально (Жан Флори), объясняет, почему в Северной Франции, а потом в Рейнской области случились побоища, где особо отличились банды Петра Пустынника. Этот народный крестовый поход и беспорядки, какие он вызвал, очевидно, встревожили византийские власти. Ворота городов Греческой империи закрылись, и, когда эти бедняки волна за волной стали прибывать под стены Константинополя, басилевс[97] Алексей Комнин срочно переправил их в Малую Азию, где большинство их них было перебито турками под Никеей 21 ноября 1096 г.Крестовый поход рыцарей
Тем временем рыцари, к которым в Клермоне обращался Урбан II, занимались организацией. Им надо было предусмотреть свое долгое отсутствие, собрать людей, запастись провизией для себя и коней. На эти приготовления в общем потребовалось почти два года. Так что крестоносные армии собирались перед воротами Константинополя только с последних месяцев 1096 г. до весны 1097 г. Византийские императоры, желавшие набрать западных наемников для охраны своих границ, несомненно, заранее вошли в контакт с папами-реформатора-ми. Асимметричный ответ Урбана II на это обращение объясняется, возможно, желанием восстановить согласие между восточной и западной церквями. На следующий день после речи в Клермоне Адемар Монтейльский, епископ Ле-Пюи, был назначен папским легатом, которому предстояло возглавить крестовый поход, а командовать войсками при нем должен был Раймунд Сен-Жильский, граф Тулузский. То есть, похоже, первоначально Урбан II намеревался набрать одну-единственную армию, которой бы руководил он через посредство своих представителей. На самом деле в последующие месяцы независимо друг от друга тронулись в путь разные феодальные контингенты. Норманны Южной Италии, прежние вылазки которых внушили грекам недоверие к ним, подчинялись Боэмунду Тарентскому. Воины Северной Франции мобилизовались под руководством Гуго де Вермандуа — родного брата Филиппа I, которого сопровождали Роберт Коротконогий, герцог Нормандии, и граф Стефан Блуаский. Что касается лотарингских рыцарей (Лотарингия, Нидерланды, Рейнская область), они собрались под началом сыновей графа Булонского — Готфрида Бульонского и его брата Балдуина Булонского. Басилевс, теряя контроль над событиями, очень старался получить от разных вождей похода клятву вернуть ему земли, которые раньше были византийскими и которые им удастся отбить. В то время как большинство из них более или менее добровольно согласилось признать себя наемниками византийского императора, Раймунд Сен-Жильский отказался это делать, сославшись на то, что у него нет иного сюзерена, кроме Христа. Никея, отвоеванная у турок 19 июня 1097 г., действительно была возвращена басилевсу, тогда как Боэмунд Тарентский оставил себе город Антиохию, попавшую в его руки в июне 1098 г. после долгой и трудной осады. Некоторые сеньоры уже проявляли и другие амбиции, помимо освобождения Гроба Господня: в марте 1098 г. Балдуин Булонский, отозвавшись на призыв армян, захватил Эдессу и устроил там первое крестоносное государство. Такое поведение возмутило пехоту, потребовавшую вернуться на дорогу в Иерусалим, что и было сделано в январе 1099 г. под командованием Раймунда Сен-Жильского. Подступив в начале июня к святому городу, крестоносцы были вынуждены еще пять недель вести осаду, прежде чем в пятницу 15 июля состоялся решительный штурм. За этой победой последовали страшная резня и две недели грабежей. Готфрид Бульонский из смирения отказался от королевского титула, довольствовавшись титулом «защитника»; его брат и наследник Балдуин Булонский оказался не столь щепетильным и короновался 25 декабря 1099 г. Так Первый крестовый поход достиг первоначальной цели и даже большего, когда благодаря итальянским кораблям стало можно завоевать порты побережья. За несколько лет на Святой земле было создано четыре латинских государства — Эдесское и Триполитанское графства, Антиохийское княжество и Иерусалимское королевство. На Западе это вызвало эйфорию! Но преемник Урбана II, папа Пасхалий II, осмотрительно попытался защитить эти аванпосты христианства на исламской земле. В 1100 г. он разослал епископам буллу, обещавшую отпущение всех былых грехов рыцарям, которые в свою очередь отправятся на Святую землю. Если король Филипп I опять остался в стороне от этого предприятия, то многие рыцари Французского королевства немедленно вняли этому призыву и вслед за Гильомом IX, герцогом Аквитанским и графом Пуатье, выступили в новый поход. Вероятно, из-за спешки и из-за отсутствия византийской помощи они потерпели поражение и были перебиты турками. Но возникший порыв сохранялся еще долго. Если бы в заключение этой главы нужно было подвести какой-то итог отношений между первыми Капетингами и разными составными частями церкви, похоже, он бы сложился в пользу «феодальной монархии», как раз утверждавшейся в конце XI в. В первое время вдохновители григорианской реформы опирались на монашество, противопоставляя его епископату, слишком зависимому от монарших властей. Но, предприняв усилия для прояснения отношений между духовным и светским, епископы Французского королевства сумели в основном сохранить причастность к светской власти, без чего «служителям церкви пришлось бы отказаться от мысли об управлении и удалиться от мира», — пишет Ив Шартрский. В результате короли, которые были друзьями монахов и с которыми папские легаты были вынуждены считаться, могли по-прежнему опираться на епископат и притязать на ту долю божественной власти, какую им гарантировало миропомазание. Обряд рукоположения епископов все больше напоминал библейский обряд помазания царей Израиля. Так подчеркивалась причастность Капетинга к епископскому служению в качестве посвященной особы. Короля мазали миром, как епископа, и другие элементы ordo помазания тоже способствовали «епископализации королевской власти» — облачение в одежды иподиакона и диакона, причащение под обоими видами. В XI в. Реймсский собор окончательно утвердился в качестве места помазания королей. Но булла, которой Урбан II в 1089 г. подтвердил эту прерогативу архиепископа Реймсского, стала поводом, чтобы впервые назвать Капетинга «Христианнейшим Королем».Глава V Дeревня во Франции с XI по XIII в. (Франсуа Менан)
В капетингской Франции деревня в количественном отношении была намного весомее города. Еще на рубеже XIII–XIV вв., после того как городское население в течение нескольких поколений росло быстрыми темпами, как минимум 85 % французов были сельскими жителями, почти исключительно земледельцами. Впрочем, именно развитие сельскохозяйственного производства позволило все более многочисленным горожанам (покинувшим сельскую местность во время активного исхода из деревни) кормиться, специализируясь на ремесле и торговле. По сравнению с новыми социальными группами, возникшими таким образом, крестьянский мир сохранял единство и постоянство, по меньшей мере внешне. Прежде всего в том, что касалось социального положения: при Филиппе Августе крестьянин точно так же оставался внизу, как три века назад, когда Адальберон Ланский поместил его в самый низ сословного общества. Его юридический статус во многих сеньориях, конечно, изменился, и изменился в корне — деревенские жители в массовом порядке освободились от серважа, а некоторые объединились в общины. Но серваж еще существовал, и не в одном регионе, а власть, богатство и почет по-прежнему доставались не крестьянину, пусть освобожденному, а знати и клирикам, к которым теперь добавились богатые бюргеры; впрочем, личный успех почти неизбежно превращал крестьянина-выскочку в горожанина. Поэтому крестьянин, неизменно воспринимаемый как низший член общества, в течение этих трех веков удивительного подъема воплощал стабильность, постоянство: его повседневная жизнь протекала в пределах ближайших территорий и в ритме полевых работ, которые строители церквей, даже в городе, неспроста выбирали, чтобы напомнить о неизменном круговороте месяцев в году. Резкие перемены погоды, предвещавшие неурожай или изобилие, приезд сеньора и споры с его министериалами, памятное появление купцов или солдат были главными событиями, которые становились вехами в его жизни; именно на них как на отправные точки ссылались крестьяне, когда им предлагали что-либо вспомнить, например, как свидетелям на суде. Однако сельский мир был до крайности разнообразен: условия жизни могли быть очень разными в зависимости от того, жил ли селянин на Севере или на Юге, на равнине или в горах, далеко или близко от города. Технический прогресс, равно как и юридические перемены, распространялись неравномерно, приспосабливались к требованиям природной среды и тем самым формировали разные сельские уклады, которым еще веками предстояло различаться: мир плуга и мир сохи, мир сгруппированной деревни и мир изолированных ферм, мир серважа и мир свободы, миры виноградарства, перегонов скота в горы, текстильного ремесла, рудников. Положение могло быть разным даже в соседних местностях при различии в обычаях или наличии физических препятствий. Этот столь разнообразный мир был и намного мобильней, чем кажется, потому что люди Средневековья, в том числе и крестьяне, двигались много и на далекие расстояния — они ходили в паломничества или в крестовые походы, поселялись в городе или пытали счастья на многочисленных новых землях, какие открывали для них первопроходцы. Мобильность существовала также в пределах деревни или местности: историки пришли к общему мнению, что люди объединились в структурированные поселения и зажили в них постоянно только около тысячного года, притом что распределение земель в пределах этих поселений и социальные отношения менялись. Позже, в XII и XIII в., расчистки изменили ландшафт дальше: исчезла добрая часть лесов и невозделанных пространств, продолжалось расселение людей. Таким образом, между 1000 и 1300 г. деревня претерпела переворот, сравнимый только с переворотом при наступлении индустриальной эпохи. Распределение возделанных земель, расположение ферм и деревень, возникшие тогда, в основных чертах почти не изменились до второй половины XIX в., а иногда и до наших дней. Лишь великая чума вызвала общее отступление. Франция 1300 г. была более благоустроенной, лучше возделанной и более населенной, чем будет до самого XIX в. Французская деревня Нового времени — великое наследие капетингского периода.Технический прогресс и производство
Технический прогресс
Развитие земледелия — и, следовательно, развитие всей западноевропейской экономики — было бы невозможно без развития техники, делавшей крестьянский труд эффективней. Земледелие раннего Средневековья было основано на физическом труде людей, с затратами которого не считались, на использовании деревянных орудий труда, на распределении сельскохозяйственных культур в пространстве и во времени. Знаменитый список инвентаря из каролингского поместья Аннап на севере Франции показывает, что в IX в. даже в наиболее оснащенных хозяйствах металл был редкостью. Рыхля почву деревянными мотыгами и сохами, крестьяне практиковали очень редкие перелоги и могли прибегать даже к бродячему земледелию. Ведь на обширных невозделанных пространствах, разделявших деревни, места хватало. Кстати, лес и ланды предлагали значительную добавку к меню — благодаря охоте, собирательству, выпасу свиней, сбору каштанов… Во времена Филиппа Красивого значительная часть королевства (несомненно, большая часть) была уже выведена из порочного круга этой экстенсивной земледельческой экономики, плохо оснащенной и малопроизводительной. Разве что на ландах Запада, сухих землях Юга или в горных долинах могли еще не усвоить новой техники. Как раз в тот самый период и по мере того, как прогрессировала земледельческая экономика, углублялась пропасть между технологиями и урожайностью Севера, с одной стороны, и технологиями Средиземноморья и других регионов, намного менее удобных. Теперь на плодородных равнинах и плоскогорьях Северной Франции крестьянин обычно использовал силу волов или лошадей, тяжелый колесный плуг и инструменты, окованные железом. Он все интенсивней обрабатывал землю, сокращая ротацию разных культур и расчищая все плодородные почвы. Земледелие Франции, как и всей Западной Европы, совершило тогда качественный скачок неоценимой дальности: Европа, отныне способная прокормить многочисленное население и дать ему возможность решать задачи, не имевшие отношения к земледелию, могла перейти к развитию, которое позже привело ее к индустриальной цивилизации и к доминированию на планете. На самом деле техническое развитие можно разделить на ряд новшеств и улучшений, история введения которых поддается лишь приблизительному описанию. Некоторые из них были несомненными изобретениями людей Средних веков, другие — древними методами, открытыми заново и нашедшими использование в широких масштабах, третьи позаимствованы на Востоке (роль крестовых походов в этом деле, хоть и вполне реальная, сильно недооценена). Уже развитие металлургии сыграло огромную роль в этом техническом подъеме, а можно упомянуть и хомут, плуг, зерновую мельницу (а также для сельского ремесла — сукновальные мельницы, механические молоты, хмеледробилки) — их распространение сберегало труд и время крестьянина. Не только феномен изобретения как таковой, но и коллективное умонастроение, позволившее людям той эпохи сделать важнейший шаг вперед, вывели их на первую стадию механизации. Примечательно, что подобное стремление беречь человеческий труд и делать его рентабельным проявилось на стадии мощного демографического роста, как раз когда рабочей силы становилось все больше. Технический прогресс имел не только экономические последствия — он также способствовал формированию общества. Так, с XII в. в каждой деревне образовалась очень характерная социальная группа — пахарей (laboureurs), владельцев плуга и упряжи, в отличие от безлошадных крестьян (brassiers) или батраков (manouvriers), которые не могли приобрести это дорогое снаряжение. Эта дифференциация могла только усиливаться по мере накопления доходов и осталась фундаментальным свойством сельского общества при Старом порядке. Таким образом, на примере внедрения в жизнь усовершенствованного пахотного инструмента можно наглядно увидеть, насколько значимые и длительные социальные последствия могли иметь технические завоевания того времени, если требовали капиталовложений, недоступных части крестьянства. Другой пример того же феномена — распространение водяной мельницы. Это новшество позволяло крестьянам значительно экономить время, но сеньоры, обеспечившие себе монопольное владение «баналитетной» мельницей и обязавшие своих крестьян молоть на ней, превратили ее в средство для выкачивания податей. И в этом случае мельник как ключевая фигура сельского общества обогащался благодаря новому оборудованию, работу которого обеспечивал за счет сеньора. Впрочем, сельскохозяйственная экспансия XI–XIII вв., даже если ей способствовали распространение новых орудий и (как мы увидим) улучшение климата, была еще и результатом интенсивного труда. Упряжь позволяла крестьянам того времени разнообразить способы подготовки к посеву; те, кто был не столь богат или на чьих землях применить плуг было невозможно, тоже готовили почву к посеву — мотыгой или сохой. Две, три, даже четыре вспашки (labour или bechage) (одна после жатвы, остальные перед посевом, то есть чаще всего через восемнадцать месяцев), боронование (еще одно новшество), прополка молодых всходов — вот операции, достаточное повторение которых при повышении качества вспашки, видимо, было решающим фактором роста урожайности. Проводить их позволяли улучшение инвентаря, а также рост численности рабочей силы по мере демографического роста. Зато удобрения оставались в средневековых хозяйствах дефицитом, и именно этот дефицит вынуждал постоянно перепахивать землю, а также оставлять ее под паром. Животные удобрения были редкостью, да и собирать их было трудно, потому что содержание в стойле было сведено к минимуму из-за нехватки корма; однако овец, все более многочисленных, старались отправить пастись на жнивье. Растительных удобрений почти не было, так как разведение бобовых культур не практиковалось, а применение таких известных приемов удобрения, как мергелевание и известкование, сводила к минимуму стоимость перевозки.Производство
При современном состоянии источников рост урожайности сложно оценить в численном виде, но, во всяком случае, нет сомнений, что в то время достигали очень скромных результатов, которые еще в каролингскую эпоху сдерживали демографический рост, развитие городов и не позволяли значительной части населения заниматься чем-либо, кроме земледелия. Правду сказать, для времен Каролингов нам известны лишь некоторые численные данные об урожайности, которую обычно оценивают, как сам-два или близкую к этому. Последняя оценка, сделанная специалистом по культуре зерновых, предлагает повысить эту цифру до трех или даже несколько большей для крестьянских хозяйств, что хорошо согласуется с нынешней тенденцией переоценивать экономические показатели того времени[98]. Бесспорно лишь то, что при Людовике Святом Северная Франция, страна плугов и самых плодородных земель, собирала в среднем четыре-пять зерен пшеницы на одно посеянное, а некоторые хозяйства Пикардии, Артуа и Иль-де-Франса — восемь и даже десять или двенадцать. Еще больше собирали, если сеяли рожь или ячмень; то есть лучшие примеры урожайности были не очень далеки от показателей XIX в., но многие бедные земли по-прежнему давали намного меньшиеурожаи. В целом с X по XIV в. в плане урожайности революционных изменений, вероятно, не случилось, кроме как в очень немногих регионах и типах хозяйств. Но простой средний рост на 0,5 при общей посредственной урожайности мог иметь решающие последствия. Помимо роста урожайности, произошло общее сокращение циклов ротации: трехтактный цикл, упоминаемый в каролингских полиптихах[99], был тогда, конечно, исключением, нормой же считалось двухлетнее чередование пара и зерновых, не исключавшее и более долгих перерывов, иногда на грани бродячего земледелия. После тысячного года, а особенно с XII в., в северной половине Франции распространилось трехполье. Около 1150 г. оно впервые появилось в имениях Клюни и стало общераспространенным через сто лет в имениях Сен-Дени и на цистерцианской риге Волеран (тоже в Иль-де-Франсе), как и в Пикардии. Тогда впервые появился и севооборот (assolement), то есть деление земельного владения на три части, или soles (поля севооборота), которые поочередно оставались под паром в ритме коллективной ротации (rotation)[100]. Впрочем, к сокращению циклов ротации прибегала только Северная Франция, потому что на Юге слишком сухое лето не позволяло сеять весной. Ведь переход от двухтактного цикла к трехтактному был связан с распространением яровых злаков (которые назывались mars (мартовскими), tremois, grains menus (мелкие зерна)) или, точней, с их разнообразием, поскольку одни и те же злаки могли быть как озимыми, так и яровыми: это относится ко ржи, ячменю, овсу, полбе и даже к пшенице. Но, как правило, осенью сеяли пшеницу, рожь и ячмень, а весной — овес, сорго, просо. Рост популярности «мелких зерен» отражал не только общую необходимость больше производить, чтобы кормить больше ртов, собирая больше урожаев, — овес требовался и для того, чтобы кормить коней воинов и все более многочисленных лошадей фермеров. На выбор возделываемых культур оказывали влияние и другие перемены: производство пшеницы, зерна богачей, постоянно расширялось, по мере того как находящиеся на подъеме социальные группы, в основном городские, переходили к более изысканной пище. Но для средневекового зернового хозяйства по-прежнему было характерно разнообразие. Наряду с рожью и пшеницей, которые заняли впоследствии почти монопольное положение и которые часто смешивали, получая суржу, встречалось и много других видов зерна, из которого пекли хлеб лишь за неимением лучшего (но в разных областях обычаи их употребления были очень разными): полба, ячмень, просо и другие. Позже их оставляли только на корм животным или просто-напросто прекращали выращивать. Различные свойства зерна, разное время сбора урожая позволяли земледельцу страховать себя от погодных катаклизмов. Первостепенную роль в питании играли также горох, бобы, вика и чечевица, которые растили отдельно или вперемежку со злаками. Важнейшая тенденция сельскохозяйственного производства тех времен: крестьянин производил все больше продуктов, которые не потреблял сам, а продавал или отдавал сеньору. Этот феномен мы уже отметили для пшеницы и овса. Еще одним из таких продуктов, пользовавшихся большим спросом, было вино: его отпускали горожанам (самые богатые, из которых начали разбивать собственные виноградники у ворот городов), отправляли в Англию, во Фландрию, в ганзейские города. Виноград постоянно завоевывал все новые территории, успешно соперничая со злаковыми. Спрос на рынках, городских или дальних, привел в XIII в. к росту производства красящих растений, особенно в Пикардии и в Тулузской области. Разводили вайду (называвшуюся где pastel, где guede), из которой делали синюю и черную краски, самые популярные при окраске одежды. Продажа льна и пеньки, тоже необходимых в больших объемах для текстильной промышленности, тоже позволяла крестьянам получать деньги, давая им еще и возможность в мертвый сезон заниматься ремеслом. Что касается скотоводства, то с XI в. оно все больше развивалось в формах, очень непохожих на обычаи раннего Средневековья. В этом секторе тоже главными стимулами были спрос со стороны горожан и потребности ремесла. Археологи выявили, что потребление говядины было более широким, чем думали раньше, и даже превосходило потребление свинины в одной бургундской местности. Кстати, об этом спросе на мясо, по меньшей мере в зажиточных кругах, можно судить по численности, богатству и влиятельности мясников в городах и даже в селах. Но более всего, и намного более, в ту эпоху преобладало овцеводство, поставлявшее ремесленникам кожу, из которой делали два основных товара — обувь и пергамент (до XIII в. он оставался единственным носителем письменности), — и прежде всего дававшее шерсть — сырье для качественного одежного сукна. Именно сукноделие, первая отрасль промышленности тех времен, сделало из овцы главное животное XIII и XIV вв., каким для раннего Средневековья была свинья. Французская шерсть, конечно, была не из самых ценимых, но огромные стада овец заполоняли паровые поля на равнинах, фламандские и пуатевинские польдеры и бродили меж вершинами и долинами по всем горам. Ведь маршруты перегона скота определились уже в XI в. — как в Провансе, так и в Оверни, в Обраке или в Дофине. Такие перегоны, которые устраивали в том числе и монашеские обители, особенно цистерцианцы и военные ордены, после 1200 г. приобрели широкий масштаб и на века стали важным элементом жизни горцев. Ни одно владение, ни одно хозяйство в XIII в., конечно, не было по-настоящему специализированным: желание и склонность производить собственный хлеб все еще были широко распространены, даже у виноградарей и горных пастухов, и многие области оставались раздробленными на множество крошечных хозяйственных единиц. Различия и ценах и заработках, какие можно было встретить в следующем столетии (например, в Верхнем Провансе), разная степень опустошений, вызванных чумой, или просто-напросто медленное распространение железа — все это признаки такой разобщенности. И напротив, начали появляться очень коммерциализованные хозяйства. Наиболее знаменит пример Тьерри де Ирсона, богатого артуаского землевладельца начала XIV в., который практиковал по большей части спекулятивное земледелие, сам торговал плодами урожая на городских рынках и вел свои счета. Дела, какими занимался Тьерри де Ирсон — продажа, покупка с целью перепродать, счет, — пусть в меньшем масштабе, но стали, конечно, привычными для многих крупных землевладельцев и для некоторых простых крестьян того времени. Об этом свидетельствует умножение рынков и ярмарок с XI в.: создавая мало-мальски значительную деревню, при ней обязательно устраивали еженедельный рынок, и у всех центров сеньорий, у всех крупных бургов отныне были такие регулярные места сбора населения. Крестьяне привозили туда излишки урожая и приобретали там инвентарь, ткани и прочие товары, каких больше не производили сами. Раз или два в год деревенские жители съезжались в город на ярмарку, где встречали купцов, прибывших более или менее издалека.Завоевание и организация сельского пространства
Количество и распределение людей
Мощным оружием средневековых крестьян в победоносной борьбе с природой куда в большей мере была их численность, чем орудия труда. Великие расчистки пришлись на долгую стадию демографического роста, став также самым наглядным его показателем. Ведь до XIII в. ни один текст не дает конкретных сведений по демографии, и едва ли можно отваживаться на какие-то глобальные оценки для времен до появления первого важнейшего налогового документа — знаменитой «Описи очагов» 1328 г., перечислившей семьи большей части Французского королевства. В предыдущем веке было проведено несколько аналогичных переписей, прояснивших положение в более или менее обширных областях — в епархиях Байе (конец XII в.), Руанской (около 1240 г.), Шартрской (1250–1272), окрестностях Бона (1285 г.), в Провансе (1315 г.). Все они имеют особенности, но создают единый образ «целой» страны, население которой — возможно, 16 или 17 млн жителей — было распределено очень неравномерно, несмотря на массовые миграции, за счет которых уже два века избыток людей перемещался в самые незаселенные области. Северная часть Французского королевства имела намного большую среднюю плотность населения, чем Юг, и для мест, разделенных несколькими километрами, контраст мог быть очень велик. Так, люди сосредотачивались на Лангедокской равнине между побережьем и внутренними горными районами, в равной мере пустынными. В Нормандии население побережья и районов, заселенных очень давно, и так уже очень плотное, росло быстрей, чем в остальной ее части. В большинстве регионов демографический рост снизился с середины или конца XIII в., потому что производство продуктов питания больше расти не могло. В 1315–1318 г. из-за нескольких очень неурожайных лет снова начался голод. Сокрушительный удар по численности населения, и без того уязвимого, нанесли чума и Столетняя война. Но некоторые регионы, например Лангедок, Прованс и вообще Юг, как будто не испытали кризиса, и их подъем продолжался до середины XIV в. Если можно набросать картину положения, в каком находилось население Франции в конце капетингского периода, и даже сказать несколько слов о тенденциях, направлявших тогда его развитие, то точно объяснить, как оно вышло на эту стадию, трудно. В отсутствие общих документов типа переписей населения можно привести только очень обобщенные сведения, которые отчасти подтверждаются некоторыми отдельными, очень ненадежными данными (например, реконструкцией смены поколений в нескольких сотнях пикардийских или тарантских семейств). Бесспорно, что до середины XIII в. демографический рост не знал тяжелых спадов и, напротив, убыстрялся. Несмотря на «навязчивый страх голода» (obsession alimentaire), свидетельства о котором собрал Ле Гофф, с 1034 по 1315 г. массовый голод в Западной Европе практически не встречался, и больших смертоносных эпидемий в ту эпоху тоже не было. Рост численности населения не сдерживался ничем, кроме неспособности в конце XIII в. дополнительно увеличить производство пищевых продуктов на фоне ухудшения климата. Другое утверждение, не вызывающее сомнений: подъем начался везде раньше конца XI в., иногда с X в.; впрочем, в южной половине страны — от Шаранты до Оверни, Аквитании и Нижнего Лангедока — население, похоже, уже имело высокую плотность и было сравнительно динамичным, когда начался великий рост. В других местах контраст между этим ростом и предшествующей ситуацией был более явным, но состояние источников не позволяет высказываться определенно. До недавних времен считали, что каролингские экономика и демография пребывали в застое или, в лучшем случае, наблюдались «подземные толчки»[101], предварявшие начало большого подъема. Сегодня историки дружно согласились сдвинуть первые проявления демографического роста и подъема сельского хозяйства в Западной Европе на несколько веков назад и счесть первым толчком потепление климата, начавшееся в VIII в. и позволившее на несколько веков существенно повысить урожаи. Наиболее благоприятными природные условия были с X в. по конец XII в., когда и был дан решающий импульс, поддержанный распространением технических новшеств. Зато темп и показатели роста оценить очень трудно. Не имея возможности предложить общие цифры для Франции, ограничимся тем, что приведем имеющиеся данные по Англии: в 1086 г. — 1,3 млн жителей (Книга Страшного суда), в 1348 г. — 3,7 млн. Две этих цифры дают представление о глобальном росте населения за весь период (утроение) и, в сравнении, о демографическом весе, какой в XIV в. приобрела в Европе Франция с ее 16–17 млн жителей. Этот огромный перевес в численности стал важным фактором, сказывающимся на политической роли страны, как только эти люди подчинились бесспорной власти. Можно предпринять также несколько простых наблюдений за структурой семей: повсюду, на какую бы местность ни обратить внимание, население делилось на немалую часть холостяков и бесплодных пар и на сравнительно многочисленные семьи — пять-шесть детей в Пикардии в XII в., четыре-пять в Намюруа тогда же, три-четыре в большинстве семей для двух деревень в Корбьерах, переписанных в 1306 г. Зато по-прежнему невозможно уточнить физиологический и моральный контекст этого роста: средняя продолжительность жизни как будто существенно увеличивалась, в то время как смертность маленьких детей по-прежнему выглядела настоящей гекатомбой. Но эти темы, а тем более сексуальная практика, обуславливавшая демографическое развитие, остаются для историка сферами гипотез или умолчания. То же можно сказать о важнейшем вопросе: какой из факторов имел первостепенное значение для начала роста — демографический, технический, продовольственный, климатический (очень благоприятная стадия между 900–950 гг. и 1250–1275 гг.) или даже политический (появление сеньории, эффективного инструмента для руководства людьми) либо религиозный (григорианская церковь лучше контролировала отношения между супругами и, может быть, тем самым влияла на рождаемость)? Как бы то ни было, из поколения в поколение людей становилось все больше. Менялось и их распределение в пространстве: похоже, именно при Капетингах окончательно сформировалась деревня в том виде, в каком мы ее знаем. Поколение назад данные археологии перевернули наши представления в этой сфере, и теперь все охотней соглашаются, что до эпохи Каролингов крестьянские жилища были довольно разрозненными, а сами крестьяне во многих случаях, возможно, очень мобильными. Тенденция к сближению крестьянских хозяйств друг с другом существовала со времен поздней Римской империи, но деревни как плотные и структурированные поселения по-настоящему появились только в X–XI вв. Их зарождение, несомненно, совпало с началом демографического и экономического роста, но еще и с появлением феноменов иного порядка, таких как создание сети приходов (в свою очередь связанное с усилением контроля над мирянами со стороны церковной иерархии), рост числа замков, сопровождавший подчинение крестьян совсем близкой и очень требовательной власти, и, наконец, поначалу менее ощутимый фактор — формирование сельских общин, которые обладали юридическим лицом и коллективно осуществляли права пользования. Отныне все или почти все деревни имели такие опознавательные знаки, как приходская церковь, кладбище, крепость или дом сеньора. У каждой деревни была граница, известная всем и часто материализованная в виде крестов или вырубленного леса, и каждая деревня управлялась по собственному обычаю. Однако облик этих деревень существенно различался в зависимости от региона. Если представлять дело в очень грубом приближении, то Юг предпочитал тесные поселения, часто на возвышенностях, почти всегда укрепленные, к которым применяется родовое название castrum, тогда как в северной половине страны правилом было скорей поселение сгруппированное, но открытое или едва укрепленное; здесь укрепленная деревня, — явление более редкое и, как правило, позднее, — часто приобретала роль местного административного центра и городской либо квазигородской статус. Но нужна более детальная классификация внутри региона; castrum был преобладающей формой в Провансе и Лангедоке, тогда как Юго-Запад был краем более или менее укрепленных мелких поселений — открытых хуторов, простых бургов в виде неорганизованных «каструмов», а также совте и кастельно (castelnaux), наделенных привилегиями. Для Запада — от Шаранты до Нормандии — было характерным сохранение рассредоточенного или полурассредоточенного (demi-disperse) поселения, образуемого вокруг открытых деревень или «бургов», укрепленных или нет, но всегда имевших четкие границы и более или менее вольных; почти нее жители этих поселений были заняты скорей в третичном секторе, чем в сельском хозяйстве. Наконец, на Севере и на Востоке совместное поселение людей «лишь в исключительных случаях завершалось полным структурированием в замкнутом пространстве»[102]; как правило, населенные пункты принимали форму более или менее разрозненных поселений, «чаще кучевых, иногда уличных»[103], без укреплений и часто без замка. В эту картину надо добавить оттенки, поскольку хронология тоже очень различалась: сбор людей, укрепление поселений с X по XIII в. в зависимости от региона шли в неодинаковом темпе, и бывало, что в одном и том же районе разные места одновременно находились на разных стадиях реорганизации. Локальные исследования показывают, что даже в областях с высокой концентрацией жителей сохранялась более или менее значительная доля рассредоточенных жилищ, а с XII в. снова стали очень активно создаваться изолированные хозяйства, как риги в Иль-де-Франсе или бастиды в Провансе. С другой стороны, к первым поколениям деревень, возникшим в результате объединения существующих жилищ, добавлялись новые населенные пункты, строительство которых сопровождало расчистки, — совте, деревни гостей (villages d’hotes), вильневы (villeneuves), бастиды. Ведь в рамках обширного движения, покрывавшего сельскую местность сетью поселений, рисунку которой предстояло сохраниться до наших дней, переход от одной формы к другой происходил незаметно. Что касается домов, из которых эти деревни состояли, то их форма менялась очень медленно, по мере появления более совершенных приемов строительства, переходившего в руки специалистов, которые все больше использовали камень, когда условия это позволяли, и разделяли внутренние помещения по функциям. Но жилища, которые могли бы напомнить дома крестьян Нового времени, начали появляться только в XIII и прежде всего в XIV в.Расчистки
Более многочисленные и имевшие в распоряжении лучший инструмент, чем их предшественники, люди XI–XIII вв. заставили отступить лес, во времена Каролингов плотно обступавший возделанные вырубки. В начале XIV в. пахотная площадь достигла протяженности, какой не имела никогда. После демографических катастроф середины этого века она восстановится только к XIX в. То есть эпоха Капетингов в истории сельского ландшафта приобретает совершенно особую значимость: расчистка, важнейший феномен того времени, сформировала на века облик сельской местности. Правду сказать, лес, за который взялись первопроходцы, к тому времени уже деградировал. Из-за нужд строителей многие большие деревья исчезли: тулузские мельницы были установлены на трех тысячах дубовых стволов, вымоченных в Гаронне. В те же времена (середина XII в.) Сугерий испытывал трудности с поиском достаточно больших бревен для перестройки Сен-Дени. Что касается подлеска и деревьев меньшего размера, то они доставались скоту и крестьянам, расходовавшим их на отопление, строительство домов и амбаров, обнесение заборами садов. Начиная с середины XII в. эту деградацию леса отражали бесчисленные жалобы и судебные процессы, свидетельствуя о том, что все осознали срочную необходимость его охранять. Так или иначе, хищническая разработка невозделанных земель упростила задачу первопроходцев. Тем не менее даже в таких условиях и даже для людей, вооруженных пилами и топорами, имевших упряжных лошадей, чтобы рвать ветки и вывозить стволы, расчистка оставалась тяжелой работой. Поэтому всегда должно было пройти несколько лет, прежде чем новое поле могло принести урожай. Все договоры об освоении земель предусматривали отсрочку, часто от четырех до шести лет, прежде чем будет потребована первая выплата. Другие формы обустройства развивались еще медленней — например, осушение затопленных земель, о котором мы еще поговорим, или сооружение террас на берегах Средиземного моря, возможно, начавшееся именно тогда. Наконец, очень бедную землю не всегда приспосабливали для выращивания злаков: ланды Запада, горные долины использовались почти исключительно под выпас скота, периодически прерывавшийся жатвой. Тем удивительней, что первопроходцы за столь недолгое время (разгар работ пришелся на 1100 — рубеж 1250 г.) добились столь впечатляющих результатов. Подвести общий итог невозможно, но, по недавней оценке[104], были освоены площади, составлявшие в уже очень окультуренных регионах 10–15 % земли, а в тех, где еще оставалось много лесов, — 25 % или даже больше. Начало этого массового движения, включавшего бесчисленные одновременные лесоразработки, разглядеть нелегко (см. карта 3). Первыми корчевками, должно быть, по преимуществу занимались лишь отдельные люди, эти работы не имели большого размаха и письменных следов почти не оставили. В этот начальный период демографический рост еще не давал возможности для широкого коллективного наступления на леса. Можно догадаться, что лишь незадолго до тысячного года и в последующие десятилетия начались первые расчистки — сначала на берегах Средиземного моря (Каталония задолго до конца X в., Прованс), потом в южной половине королевства (Маконне, Овернь, Шаранта). Всеобщим это движение стало в первые десятилетия XI в., достигнув Фландрии (возможно, фактически даже раньше), Нормандии, Мэна и Брабанта, потом Иль-де-Франса, долины Луары, Верхнего Пуату, Берри, области Шартра и Аквитании; за ними в 1120–1130 гг. последовала Пикардия. Именно тогда и на целый век документация повсюду становится очень обильной, свидетельствуя, что движение достигло апогея. После 1220–1230 гг. и тем более после середины XIII в., а на Юге даже немного раньше, инициативы сделались более редкими, утратив масштаб. Около 1300 г. кривая выходит на плато, за которым следует спад: сначала были заброшены наименее плодородные земли, которые позже всех освоили и раньше всех покинули, а после чумы 1348–1350 гг. спад охватил всю страну.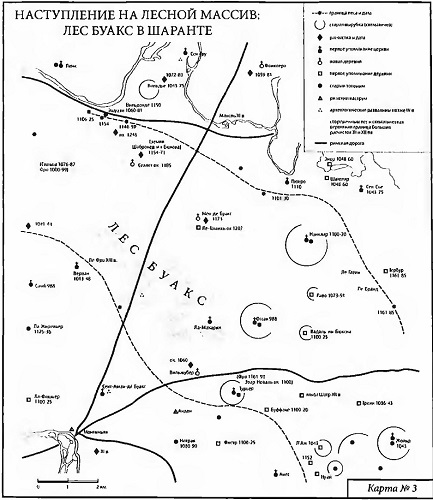
Расчистки, имевшие разный объем в зависимости от периода, не происходили абсолютно синхронно и по регионам. На Юге они начались и закончились раньше, за примечательным исключением Аквитании, где сравнительное запоздание обычно объясняется тем, что население привлекали обширные пустые пространства, освободившиеся за Пиренеями после Реконкисты. В Северной и Центральной Франции только несколько провинций, в том числе Фландрия и Нормандия, взялись за дело так же рано, как южные края, — может быть, потому, что были более густонаселенными, более динамичными в экономическом отношении и стабильными в политическом. В других местах этот феномен начался в первые годы XII в. и выдохся к 1230–1250 гг., тем самым точно совпав с ходом того же процесса в несредиземноморской Европе. Почти та же хронология обнаруживается в Германии, в Северной Италии, в Англии, с более или менее выраженным запозданием (старт около 1120 и даже 1150 г.), тем большим, чем северней располагалась страна. На самых сложных землях, например в Бри, неосвоенные территории оставались до рубежа XIII–XIV вв. Тем не менее в последних исследованиях есть тенденция приписывать больше значимости начальным периодам, до тысячного года; перечень регионов-участников там расширяют, предполагая, что запоздание северной половины страны может быть мнимым, что эту видимость создали искаженные документы, и разыскивая зачатки движения во все более ранних временах, вплоть до каролингского. В разные периоды расчистка принимала неодинаковые формы; Жорж Дюби набросал ее типологию, ставшую классической. Первым типом, почти единственным на первых порах и, конечно, позже иногда тоже встречавшимся, было расширение старых наделов — борозда за бороздой, поле за полем или участок за участком. Этот муравьиный труд оставил мало следов в архивах. Его можно выявить прежде всего по микротопонимике (по названиям Эссар, essart (раскорчеванный участок) для полей или участков на Севере или же Артиг, artigues, на Юте), по сбору десятины с нови, налога, каким облагались эти земли и который часто вызывал конфликты, а также по судебным процессам, при помощи которых крестьяне с опозданием пытались защитить общинные земли от захватов такого рода. Второй тип, идентифицированный Жоржем Дюби, напротив, представлен многочисленными и часто эксплицитными текстами и оставил в ландшафте очень заметные следы. Речь идет об освоении земель, которое было организовано сеньорами-землевладельцами, раздававшими большие участки леса или ланд и часто создававшими деревни, населенные «гостями» (hotes), которых они туда приглашали. Эти крупные предприятия характерны для периода, на который пришелся апогей расчисток, с 1150 по 1230 г., — пусть даже они встречались уже в последние десятилетия XI в., например, в Нормандии; как действия по заселению они приняли особый размах на Юго-Западе (совте, кастельно, бастиды), в Иль-де-Франсе (вильневы), в долине Луары и на Западе в форме закладок «бургов». Для проведения таких больших лесоразработок часто объединялись два сеньора, заключая так называемый договор на совладение (pariage). В классическом варианте это были монашеская обитель, владевшая землей, и мирянин, бравший на себя руководство людьми, которые пришли из окрестностей или издалека и каждому из которых поручалось освоить клочок земли. Новых колонистов привлекал тот факт, что сеньориальные права в этом случае становились ограниченными, не допускавшими произвола, а поземельные подати — специфическими, в первые годы поэтапными и обычно легкими: главной из них, пропорциональной урожаю, был шампар, или терраж. Третий тип расчисток соответствует последней стадии, спаду, начавшемуся в середине или, самое позднее, в последней трети XIII в. Тогда взялись за самые неудобные земли, оставшиеся неосвоенными между владениями во время предыдущих расчисток. Сеять хлеб на этих сложных почвах часто было невозможно или не слишком выгодно. Поэтому последние расчистки обычно заканчивались созданием пастбищ, центром которых становились крупная ферма, основанная зажиточным предпринимателем, рыцарем или бюргером (так поступали на рубеже 1300 г. патриции Меца), либо хижины, построенные последними пионерами, которые уже не находили для них места на расчищенных территориях. Так распространялся тип рассредоточенного поселения, дополняя уже существовавшую сеть деревень. В некоторых регионах это освоение «прослоек» могло быть не последней волной расчисток, а началом нового периода заселения и землеустройства. В бокажах Запада, которые, вероятно, в тот период и зародились, это была начальная стадия современного заселения в виде изолированных ферм, тяготеющих к «бургам» (как «бордажи» (bordages) Мэна с XI в.); в горах или в регионах с контрастным рельефом (альпийские долины, Центральный массив, Бресс, горы Божоле) именно тогда появились во множестве постоянные поселения на возвышенностях, а также шале, которые в принципе были летними жилищами, но которые в результате демографического роста начали превращать в постоянные. Речь идет о регионах, от природы подходящих для скотоводства, пусть даже средневековые переселенцы, приверженные старым привычкам, упорно выращивали даже на немалых высотах какие-то скудные урожаи злаковых. Проиллюстрируем эту классификацию несколькими характерными примерами расчисток того или иного типа, выбранными среди тысяч других, не столь чистого типа или хуже изученных. Сугерий рассказывает о трех операциях, которые он организовал во владениях Сен-Дени: освоение ланды в Вокрессоне силами шестидесяти человек именно затем, чтобы их там поселить; расширение босеронского имения Гийерваль путем покупки и расчистки небольшого земельного участка; наконец, строительство укрепленной фермы и освоение ее окрестностей в Рувре-Сен-Дени, недалеко от Ле-Пюизе, сеньор которого якобы очень желал заключить договор на совладение с монахами, земли которых он прежде разорял (см. карта 4).

Восточная Бри, бедная область, располагавшаяся среди более плодородных земель, была занята большим лесом, отделявшим королевский домен от графства Шампанского. С конца XI в. по начало XIV в. ее постепенно расчистили двадцать-тридцать тысяч переселенцев. Крупные собственники, которым принадлежал лес (капитул Парижского собора, графиня Шампанская, епископ Мо…), раздали сотни его гектаров колонистам, которые ставили свои дома вдоль дорог, а расчищенные парцеллы размещали полосами перпендикулярно дорогам, или объединяли в более компактные вильневы, или же рассредоточивали по хуторам, усеявшим менее привлекательные участки. Шартрская область, разделенная между Босом и Першем, дает, напротив, хорошее представление о том, что представляло собой движение расчисток на «обжитой земле», уже густонаселенной и веками возделываемой. Здесь надо было интенсифицировать обработку почвы, изведя еще сохранившиеся леса и рощи, усилить взаимосвязь старых деревень с помощью новых поселений и расширить совершенно безлесный ландшафт Боса на запад за счет Перша, еще отчасти поросшего лесом. Население, должно быть, в результате удвоилось и даже утроилось, а сельский ландшафт приобрел практически окончательный облик. Что касается хронологии шартрских расчисток, она была классической для Северной Франции: начало около 1080 г., вероятно, с какими-то более ранними работами, о которых тексты не сообщают, апогей около 1150 г., прекращение после 1260 г. (см. карта 5).
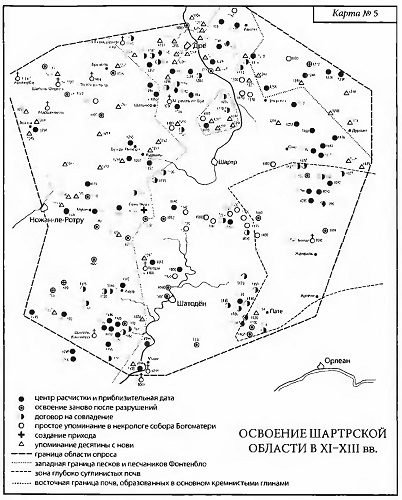
Особым случаем (тесно связанным с категорией организованных расчисток) было освоение земель, отвоеванных у воды — моря, рек или болот. Такие трудные операции начали предпринимать в конце XI в., чаще всего по инициативе могущественного сеньора, которому по регальному праву принадлежали земли, отвоевываемые у воды. Еще до этого во Фландрии, как и в долине Луары, небольшие группы людей строили скромные плотины, которые не были связаны меж собой и которые было легко затопить. В последние десятилетия XI в. графы Фландрские начали организацию системы плотин, в итоге позволившую отвоевать у моря польдеры, название которых впервые упоминается во второй четверти XII в. На польдерах долго пасли овец, потом коров, и только потом они стали приносить урожаи. Классический случай такого землеустройства — польдеры аббатства Бурбур между реками А и Изер. Документы о пересмотре статуса (очень либеральном) их жителей в 1254 г. сообщают, как граф организовал эти земли в конце XI в. и передал аббатству и как они переживали последовательные этапы мелиорации. Два десятка километров вверх по течению реки А, четыре тысячи гектаров Сент-Омерского болота за полвека после 1165 г. были осушены и отчасти превращены в огороды. В долине Луары Генрих II Плантагенет в 1160–1170 гг. соединил меж собой уже построенные вокруг Сомюра плотины, turcies, и поселил там «гостей» для их содержания. После 1300 г. эта система была продлена вниз по течению. С XI по XIII в. осушили, роздали и усеяли новыми деревнями также болотистые низины Лимани. К 1180–1190 гг. началось осушение Пуатевинского болота, продолжавшееся целый век. В ходе естественной засыпки этому болоту уже ничто не грозило со стороны моря, но на нем сказывались наводнения на реках, питавших его водой. Осушали поочередно каждую парцеллу, или «огороженный участок» (clos), возводя плотину, окруженную рвами. Сначала этим занимались цистерцианские аббатства, развернувшие масштабные работы вокруг Эгильонского залива, потом подключились бенедиктинские аббатства. Последние владели болотами, расположенными ниже по реке, чем владения цистерцианцев. Поэтому работы последних, гнавших воду вниз по течению, грозили им наводнением. И бенедиктинцы решили тоже строить плотины вокруг своих земель. С сельскохозяйственной точки зрения эти операции так и не были закончены, но, с другой стороны, в результате собственники-миряне и сельские общины лишились власти над собственными болотами, которые были приобретены монастырями или которым стали грозить гидрографические бедствия из-за бесконтрольных работ. В конечном счете в 1283 г. в дело пришлось вмешаться королю, чтобы разрешить проблему особо разрушительного наводнения (см. карта 6).
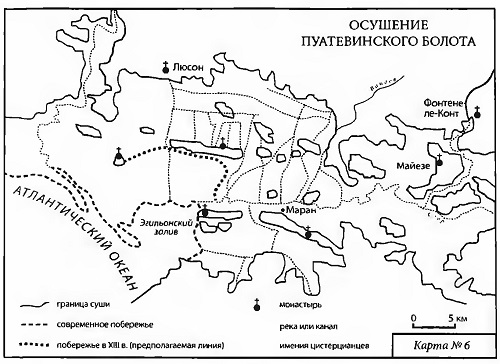
Сельское общество
Собственники и земледельцы: формы землепользования
Основной перелом в истории использования почвы завершился при первых Капетингах: каролингское большое поместье, принципы которого нам так хорошо (слишком хорошо?) известны по полиптихам, в X в. перестало существовать, и лишь его пережитки еще кое-где сохранялись. Ведь очень похоже, что эта система землепользования, как и многие каролингские институты, развивалась главным образом к северу от Луары и прежде всего от Сены. В некоторых областях, например в Лотарингии, в самый разгар XII в. еще попадалась обширная сеньориальная запашка, на которой держатели отрабатывали барщину, но это еще с предыдущего века были исключения. Структура использования земли в корне изменилась, и площадь имений уменьшилась — как в результате передачи фьефов, сокращавшей ее, так и из-за необходимости приспособиться к более интенсивной эксплуатации. Немалая часть домениальной запашки была обращена в крестьянские держания, и не один сеньор стал простым «земельным рантье», живущим за счет оброка, который выплачивали держатели. Самые богатые, а прежде всего не проживающие в деревне люди, устранялись от участия в хозяйствовании на своей земле. Но в то же время в XII в. происходил и обратный процесс — вновь стала популярной обработка земли самим владельцем как средство от снижения чинша[105]; определенную роль в этом возрождении сыграли успехи, полученные системой цистерцианских риг. Теперь запашка ограничивалась размерами, обеспечивавшими хорошую рентабельность, — пятьдесят-сто, максимум сто пятьдесят гектаров, но земель высокого качества. Барщину, малоэффективную и в конечном счете дорогостоящую из-за расходов на питание, сменили денежным оброком, кроме как в отдельных случаях помощи в тяжелом труде или перевозках. Отныне собственник обрабатывал свою запашку сам, привлекая слуг (familia) и поденщиков, наем которых в XIII в. стал обычным делом. Он выращивал хлеб, виноград, траву для косьбы в расчете на потребление в доме и главным образом на рынок. Широко известен пример Клюни, который в середине XII в. попытался избавиться от бюджетного дефицита, ставшего хроническим, в частности, из-за покупок продуктов питания, и для этого интенсифицировал производство в своих имениях, сделав надлежащие капиталовложения. После этого земли запашки Клюни стали поставлять аббатству в четыре раза больше сельскохозяйственных продуктов, чем оно получало в виде оброка (который в свою очередь намного превышал денежный чинш). Похоже, аналогичные ситуации возникали в XIII в. все чаще. Для многих собственников запашка стала главным источником дохода (если уже не была им). Не говоря уже о доходах, какие накопил Тьерри де Ирсон за счет умелого хозяйствования, можно упомянуть то провансальское имение ордена Госпиталя, которое в 1338 г. принесло ему 144 ливра, тогда как вся остальная сеньория дала всего три ливра. На последней стадии расчисток, как правило, после 1250 г., обнаруживается та же тенденция: по большей части для этих расчисток создавались крупные фермы, разбросанные по краям наделов, строившиеся и управлявшиеся самими сеньорами. Что касается крестьянского держания, оно тоже сильно изменилось. Прежде всего сократился его размер, что было обусловлено демографическим ростом и, так же как для запашки, интенсификацией труда в сельском хозяйстве. В IX в. считалось, что семейное хозяйство должно насчитывать десяток гектаров; в конце XIII в. на хороших хлебных землях Севера королевства (они же были самыми населенными) хозяйство имело площадь не более четырех гектаров, иногда меньше. Уменьшившись, хозяйства сделались и более разбросанными, так что крестьянин терял время, чтобы дойти от одной парцеллы до другой мимо межевых знаков. Сколько из этих хозяйств принадлежало хлеборобам? Трудно сказать: крестьянский аллод, похоже, улетучился в XI в. во время большого наступления сеньоров, но его историю мы знаем очень плохо, так как долгое время он фиксировался в документах, лишь попадая в руки крупных землевладельцев. Вероятно, он возник еще раз благодаря расчисткам и обогащению части крестьян и снова стал исчезать, когда с середины XIII в. из-за демографического роста положение многих крестьянских семей начало осложняться. В тот период крестьянам могла принадлежать значительная доля земель, возможно, 30–40 % в Иль-де-Франсе, хотя и крупная собственность там занимала сильные позиции, — но по большей части это, видимо, были большие аллоды, накопленные самыми предприимчивыми крестьянами. Во всяком случае, почти все крестьяне, известные нам, работали на земле сеньора или другого собственника. В течение XII в., а иногда даже и в XIII в. постоянное или очень долговременное держание почти не знало исключений. Крестьянин держал земли в обмен на арендную плату, фиксированную (чинш) в денежной или натуральной форме или пропорциональную урожаю (шампар, терраж, агрие), часто дополненную меньшими повинностями — оброком в форме поставок домашней птицы, обязанностью ежегодно пускать собственника на постой, иногда некоторыми формами барщины. В зависимости от конкретного случая эти повинности более или менее точно фиксировались в кутюмах и часто смешивались с обязанностями перед самим сеньором. Для получателей денежного чинша обесценивание монеты становилось катастрофой. Тем не менее часть сеньоров и собственников, не сознававших этой тенденции или приверженных привычке, были склонны заменять натуральный оброк и барщину денежными выплатами, чтобы упростить хозяйствование. В XIII в. они полностью разорялись, если не обладали другими ресурсами. Можно было владеть сотнями гектаров пахотной земли и не иметь возможности жить за их счет. Эта перемена была важнейшим фактором, обуславливавшим пауперизацию части знати и многих монастырей с конца XII в. Но многим крестьянским хозяйствам она позволяла выдерживать демографический рост и приобретать инвентарь, а некоторым держателям упрощала задачу обогащаться. Зато собственники, получавшие натуральный оброк, фиксированный или, еще лучше, пропорциональный, сохраняли доходы, увеличивавшиеся по мере роста сельскохозяйственной продукции. Другими надежными источниками дохода были десятина, которую многие собственники присваивали, и пошлины со сделок об отчуждении имущества, часто высокие. Со вновь освоенных земель почти всегда взимали оброк, пропорциональный урожаю, от десятой части до четверти. Тем не менее собственники предпочитали фиксированный натуральный оброк, который меньше зависел от капризов погоды и от махинаций и который легче было собирать. Однако в конце XIII в. даже у собственников, получавших натуральную ренту, возникли трудности. Насколько можно судить, имея дело с экономикой, бедной численными данными и разбитой на очень замкнутые отсеки, курс зерна перестал расти, притом, что на стадии экспансии рос постоянно, и вошел в долгий период стагнации, что в реальной стоимости выразилось в сильном понижении доходов производителей. Мы видели, что некоторые в ответ на угрозы, возникшие для их доходов, переходили к самостоятельной обработке земли, особенно в секторах, где цены сохранялись на прежнем уровне: в виноградарстве, а прежде всего в скотоводстве, не требовавшем многочисленной рабочей силы, и в лесопользовании. Однако, несмотря на замечательные успехи, популярность обработки земли самим владельцем в XIII в. снизилась, особенно после 1250 г.: похоже, кроме как в особых отраслях производства, это стало менее выгодным. Действительно, возникли «ножницы»: с одной стороны, не росли цены на зерно, с другой — несмотря на демографический рост, не снижались заработки работников (насколько, напомним еще раз, можно делать какие-то общие выводы на основе слишком малочисленных цифровых данных). Многие собственники, даже несомненное большинство, по-прежнему возделывали землю сами, по привычке или склонности. Но некоторые начали искать решения, которые позже получат широкое развитие: с одной стороны — сдача земель в аренду[106], с другой — договоры нового типа с земледельцами. Не одну запашку ее владелец, погрязший в долгах, слишком беззаботный, не живущий в деревне или просто-напросто понявший, что дальше обрабатывать землю самому будет накладно, сдал в аренду целиком министериалу, разбогатевшему крестьянину или бюргеру. Сдавали не только землю, но и целые сеньории. Ведь сдача в аренду представлялась не просто временным выходом из положения, а удобным и рациональным решением, позволявшим делать прогнозы, поддававшиеся расчету, который в то время как раз оценили. Во многих случаях это по сути означало лишь совершенствование управления: хозяин перекладывал повседневные заботы об использовании земли на наемного работника. В Сен-Дени (знаменитый и очень хорошо известный пример) счета аббатства показывают, что сдача имений в аренду с 1260 г. не привела к снижению доходов, и, похоже, такая ситуация ничуть не была исключительной. Поэтому после 1250 г. на сдачу земель в аренду шли многие крупные монастыри и капитулы (а не только цистерцианцы, столкнувшиеся с кризисом использования конверзов), а также богатые светские сеньоры. С другой стороны, сеньоры старались делать отношения с держателями более выгодными для себя. Главными тенденциями были сокращение арендных сроков, избавлявшее собственника от риска утратить контакт с землей, и стремление получать доходы в натуральной форме. Во многих договорах смешивались аренда, испольщина и держание за натуральный чинш. Испольщина начала распространяться в XIII в., еще в очень разнообразных формах: различались как норма выплаты (в тот период часто гораздо меньшая, чем половина урожая), так и вид участия собственника в деятельности арендатора: поставка скота, инвентаря, семян, ссуда на обзаведение… Последние расчищаемые земли, самые сложные, стали опытным полем для действий такого рода. Эти работы сопровождало, особенно на Западе, распространение рассредоточенного жилья, более скромного, чем сеньориальные риги. В других местах расширялись виноградники благодаря арендному договору комплана (complant), предусматривавшему их посадку[107] и оставлявшему по истечении договора часть земли арендатору в полную собственность. Аренда скота с возвращением половины приплода[108], основанная на том жепринципе, давала возможность для развития скотоводства за счет привлечения сторонних капиталов, часто городских. Еще одно следствие растущих трудностей в сельском хозяйстве и повышения сознательности собственников: леса и вообще невозделанные земли, которые сильно сократились и на которые посягало все больше желающих, стали лучше охраняться. В XIII в. вновь и вновь возникали тяжбы между сеньорами и сельскими общинами из-за права пользованиями лесами. Вырубка леса, охота и выпас скота в лесу все плотней контролировались, к большой досаде беднейших крестьян, прежде находивших благодаря этим занятиям ценное добавление к своим ресурсам.Обязанности, солидарность, расслоение
Основная тенденция в отношениях между собственниками и земледельцами в центральный период Средневековья, вне всякого сомнения, заключалась в том, что экономическая выгода неизменно имела приоритет перед человеческими отношениями: короткие сроки аренды, приспособленное к рынку производство, отделение поземельных податей от баналитетных пошлин, заключение договоров между двумя конкретными людьми без обязательного продления из поколения в поколение. Тем не менее из-за авторитета обычая и из-за склонности господ, старых или новых, к некоему образу жизни, присущему знати, сохранялись прочные личные отношения, не связанные с соображениями выгоды: сеньор, даже если это дорого ему стоило, упорно употреблял продукты со своей земли, окружал себя многочисленной челядью и проявлял щедрость к поденщикам и барщинникам. Он также считал нужным сохранять некоторые прерогативы по отношению к деревенским жителям, даже когда основные сеньориальные права уже обратились в денежные повинности: это воплощало власть сеньора, пусть скромную, без всяких судебных полномочий, позволявшую самым захудалым дворянчикам периодически демонстрировать отличие от других и превосходство над ними. Мало кто из селян, будь он бедным или богатым, не был включен в систему взаимных обязанностей, коллективных ритуалов и не выражаемых в деньгах повинностей, которые настоятельно задавали ритм жизни сообщества. Радости и требования коллективной жизни слабей ощущались только в малонаселенных областях с более или менее рассредоточенными жилищами — в некоторых горах, на ландах и в бокажах Запада, в секторах первопроходческих расчисток. В остальных местах крестьянин, как и его господа, никогда не оставался один: семья, сеньория, приход, деревенская община взаимно дополняли или гасили влияние друг друга, руководя его действиями и мыслями. Со временем, с тысячного года до кризисов XIV в., эти сообщества не переставали развиваться, совершенствовать формы своего функционирования, институционализироваться. Прежде всего семья: у деревенщины не было ни головоломок знати с разделом наследства, ни ее вольностей в любви. Не было также ни сложных матримониальных стратегий, ни внебрачных связей, чтобы скрасить время в долгом ожидании выгодного брака, ни множества бастардов среди домочадцев, ни куртуазной любви, ни повторных браков как следствия сложных извивов местной политики. Основной ячейкой крестьянского общества в течение всей этой эпохи была супружеская семья из двух поколений — родители и дети, при необходимости, но не систематически, расширявшаяся за счет дедов и бабок (что было редкостью — стариков в том обществе не видно) либо какого-то холостого дяди или незамужней тетки. Нехватка свободных земель, несомненно, с XIII в. все прочней удерживала детей у семейного очага, но они редко оставались вместе после смерти родителей. Времена семейных общин, «живущих своим очагом» (a feu et a pot), наступят лишь позже. Супружескую ячейку, упроченную разделением сельскохозяйственных и домашних обязанностей, укрепляло пристальное внимание со стороны церкви и общества. Представление о нерасторжимости брака навязывалось все настоятельней, и кутюмы предписывали все более суровые наказания за прелюбодеяние и разврат. Тем не менее супружеские пары, похоже, были сравнительно нестабильны: во-первых, по причинам биологическим — из-за ранней смертности и частого различия в возрасте между супругами, следствием чего становились вдовство и повторные браки. Во-вторых, по причинам моральным: если перейти от нормативных источников к литературе или протоколам допросов, можно выяснить, сколь разными способами нарушали правила половой жизни. Благодаря исключительным знаниям об интимной стороне жизни обитателей Монтайю, мы способны точно оценить «моральную терпимость начала XIV в.: […] скромную, относящуюся к меньшинству, но бесспорную»[109] и, во всяком случае, бесконечно большую, чем, например, четыре века спустя. Незаконное сожительство, внебрачные похождения, похотливость клириков, допустимая проституция были как бы слегка приглушенным отголоском нравов знати. Тем не менее и в Монтайю, и в других местах в ту эпоху супружеская чета все больше выглядела основной единицей как экономики, так и сельского общества равно в фактическом и юридическом отношениях. Среди разных форм организации жизни деревенской общины наиболее обременительной, а также наиболее эффективной, несомненно, была сеньория. Возникнув на основе власти, какой обладал над своими держателями собственник времен Каролингов, превратившись в XI в. в орудие многообразной эксплуатации крестьянства, она с конца XI в. стала привычным институтом, полномочия которого были четко зафиксированы и, как правило, урезаны, если общины покупали хартии вольности. Тем самым селяне меняли грубые и часто произвольные изъятия ценностей на кодифицированную власть, склонную полностью или в значительной степени принять форму регулярного сбора налогов. Тем не менее сеньориальный режим еще в XIII в. оставался важнейшей составной частью сельской жизни. Даже если сеньор не жил в деревне, его здесь представляли замок и министериалы, бдительно контролировавшие деятельность всех и каждого. Часто давал о себе знать сеньориальный суд, главные наследственные прерогативы которого изъяла королевская власть — суд придирчивый и алчный до мелких доходов. Наконец, получение многими крестьянами возможности обрести личную свободу в XIII в. соседствовало с сохранением и даже утяжелением серважа — личная зависимость от господина, часто наследственная, отнюдь не исчезла. Другой регулирующей структурой был приход, институциональные контуры которого тоже стали при Капетингах более отчетливыми. В большинстве деревень издавна стояла церковь или хотя бы часовня, обычно построенная сеньором, который держал священника под контролем. В конце XI в. сказались результаты церковной реформы п светские сеньоры (но, как правило, не церковные) утратили большую часть своих религиозных прерогатив. Одни за другими сельские церкви становились полноценными центрами приходов, обеспечивая под властью епископа религиозную жизнь населения во всех аспектах. Участие деревенских жителей в материальном управлении приходом и в содержании церкви (в церковном совете, fabrique), особенно расширившееся в XIII в., давало им возможность для самоорганизации; такую возможность давали и братства, важнейший феномен мирской религиозности. Но упорядочение приходских рамок позволяло прежде всего более строго предписывать набор обязанностей, определенных более или менее издавна; каждый должен был выполнять свои церковные обязанности в том приходе, где проживал, и под руководством своего кюре, устная исповедь которому была превосходным средством контроля. Впрочем, религиозная жизнь мирян по-прежнему сводилась в основном к соблюдению ряда требований: присутствию на мессе, выплате десятины, посту и воздержанию в определенные дни и периоды, соблюдению элементарных норм морали. Наконец, жители деревни образовали общину, которая тоже определилась и упрочилась с конца XI в. по XIII в. Зародившиеся, вероятно, еще при образовании компактных деревень, поначалу сельские общины играли малопонятную и скромную роль — ведали имуществом коллективного пользования. С конца XI в., в течение XII в. и особенно в XIII в. они возникали в некоторых областях как самостоятельные институты — партнеры сеньориальной власти, признававшей их «вольности». Их главной задачей оставались защита общинных земель, охотников захватить которые появлялось все больше, и организация выпаса скота, особенно в горных районах, где упрочивался обычай перегона овец в горы на летние пастбища, и на открытых равнинах северной половины страны, где уже возникал севооборот. Но общины брали на себя и другие функции, делегируемые сеньором: распределение налогов, отправление суда низшей инстанции, иногда содержание ограды и набор ополчения. Чтобы осуществлять все это, деревенские жители создавали свою организацию под более или менее плотным контролем сеньориальных служащих. Они усваивали законы демократии, избирали и контролировали представителей, планировали бюджет. Самыми развитыми были общины Севера и Востока, пользовавшиеся расширенными вольностями, и общины Юга, институты которых были совершеннее всех. Впрочем, во всех общинах более или менее открыто стремилась главенствовать олигархия зажиточных крестьян. В самом деле, XIII в., когда расцвела эта сельская демократия, был еще и периодом, когда углубилась внутренняя дифференциация в сельском обществе. Казавшийся непреодолимым барьер, который отделял сеньоров от подданных, утрачивал четкие очертания по мере появления все новых промежуточных групп. Становилось все больше мелкой знати, которая стремилась выделиться, строя укрепленные дома и другие жилища такого рода, и тем более цеплялась за свои прерогативы (судебные, к примеру), что ее образ жизни сближался с образом жизни некоторых простолюдинов. В окрестностях городов бюргерские дома стали соседствовать с домами сеньоров. Министериалы, претендовавшие на рыцарские титулы, и разбогатевшие крестьяне, изображавшие купцов и ростовщиков, тоже входили в этот мирок, подъем которого был обусловлен экономическим процветанием, а притязания размывали схематические и сильно устаревшие категории сословного общества. Внутри самого крестьянства разница в статусе между сервами и свободными крестьянами отходила на второй план перед экономической дифференциацией богатых и бедных (с одной стороны, пахарей, с другой — безлошадных и батраков в краях, где пользовались плугом). Способами диверсификации труда и путями к обогащению были также выработка вина, пеньки или вайды для продажи на рынке, ремесленное производство текстильных изделий, выплавка металла в районах, подходивших для этого, и выдача процентных ссуд. Примем во внимание также перевозки в крупной торговле, организацию перегонов скота в горы, разведение орошаемых культур. В XIII в. по всей Франции сельские жители находили новые и прибыльные формы деятельности. Однако этими возможностями для обогащения пользовалось лишь меньшинство. Большинство крестьян не имело необходимого стартового капитала, и развитие экономики скорей означало для них — в более или менее дальней перспективе — нищету. Финансовые проблемы у многих сельских жителей в XIII в., похоже, все больше обострялись; для некоторых, самых зажиточных, они могли означать, что надо сделать инвестиции (в металлический инвентарь, упряжь, скот, работы по мелиорации полей…), что в конечном счете вело к экспансии. Но для большинства нехватка денег означала неминуемое обеднение семьи, слишком большой для своего надела, и разорительное сочетание требований сеньора, все больше выражавшихся в монете, и королевской фискальной службы — требований еще нерегулярных, но уже тяжелых. Чтобы справиться с ними, оставалось только занимать деньги — у богатых пахарей, у церковников, у бюргеров, у евреев, занимавшихся выдачей ссуд прежде всего на Юге, и у «ломбардцев» (на самом деле чаще всего пьемонтцев или тосканцев), конторы которых усеяли страну. Ведь выдача процентных займов была крайне распространенным приработком, которым занимались все, у кого была хоть какая-то наличность, как и задолженность могла встречаться во всех слоях общества. Для крестьян она часто выливалась в продажу урожая на корню, а потом в изъятие земли, которую продавали или обременяли бессрочной рентой в качестве возмещения долга. К концу XIII в. в окрестностях Парижа или Меца почти не было крестьянского держания, не обремененного рентой. Анализируя социальный аспект средневековой экспансии, блестящую сторону которой мы недавно описали, замечаешь, что она приводит к появлению того, что в наши дни называется «двухскоростным обществом» (societe a deux Vitesses): с одной стороны — меньшинство, сумевшее извлечь из ситуации выгоду с целью личного подъема в обществе, а также, несомненно, более многочисленная группа, которая процветала более умеренно и довольствовалась тем, что улавливала благоприятную конъюнктуру (пахари, первопроходцы, взявшиеся за это дело в самый подходящий период, виноградари и скотоводы…). С другой стороны — масса семейств, которые из-за слишком слабого исходного положения, из-за изобилия ртов, которые надо было прокормить, или еще какого-либо неблагоприятного фактора оказались подверженными всем видам риска, связанным с новыми экономическими условиями, и попадали в порочный круг: невозможность вложить средства в инвентарь, упряжь и высокорентабельные культуры — нехватка земли — недостаточные урожаи — отсутствие денег, чтобы заплатить сеньориальные подати, — задолженность — новые расходы… В результате целый слой сельского населения был вынужден уезжать в город, чтобы жить в худших условиях, или наниматься в работники на месте. К началу XIV в. много крестьян оказалось в драматической ситуации: чтобы столкнуться с кризисом, им не надо было ждать ни чумы, ни Столетней войны.Глава VI Романское искусство во Франции (Бернар Мердриньяк)
«С наступлением третьего года, последовавшего за тысячным, почти все земли, но особенно Италия и Галлия, оказались свидетелями перестройки церковных зданий; хотя большая часть из них была хорошей постройки и в этом не нуждалась, настоящее соперничество толкало всякую христианскую общину к тому, чтобы обзавестись церковью более роскошной, чем у соседей. Мир как будто стряхивал с себя ветошь и повсюду облачался в белое платье церквей. В то время почти все епископальные, монастырские церкви, посвященные разным святым, даже маленькие деревенские часовни, были перестроены верующими и стали еще краше»[110]. Нельзя не процитировать здесь знаменитое свидетельство бургундского хрониста Рауля Глабера (около 1045 г.), позволяющее поместить возрождение религиозной архитектуры на рубеже тысячного года в социально-культурный контекст. Это поэтичное «белое платье» у клюнийского монаха — ассоциация с облачением новокрещеных. Ведь даже если возрождение каменных построек коснулось также гражданской архитектуры (и особенно военной), прежде всего оно относилось к церковным памятникам: таким образом можно было достойно почтить Бога и одновременно показать, что религиозные здания не исчезают.От «Римского» к Романскому?
Определение «романский» во Франции применяется к формам художественного выражения, характерным для периода от помазания Гуго Капета (987 г.) до конца царствования Филиппа Августа (1223 г.). Даже если из слов Рауля Глабера надо сделать вывод, что некоторые из его современников осознавали происходившие нововведения, очевидно, что строителей XI–XIII вв. очень мало беспокоило, отличаются ли их создания от построенных предшественниками. Еще меньше, разумеется, их интересовало, какие формы искусства могут прийти им на смену. Таким образом, слово «романский» — анахронизм. Первыми этот термин использовали в своей переписке нормандские археологи начала XIX в. Позже это понятие ввел их земляк Арсис де Комон (ум. в 1873 г.), основатель средневековой археологии во Франции. Не имея возможности передать по-французски определение norman, каким британские ученые (у которых бывал Жервиль, находясь в эмиграции) называли архитектурный стиль второй половины XI в., а также XII в., эти эрудиты позаимствовали термин, которым Рейнуар и его ученики тогда называли язык, промежуточный между латынью и старофранцузским. Этот выбор показывает, что им казалось: здания, которые они изучают, произошли напрямую от римской архитектуры, как романские языки произошли от латыни. Могло бы показаться, что «романское» — парадоксальное название для искусства, зародившегося именно тогда, когда — после почти одновременной кончины Оттона III (1002 г.), а потом Сильвестра II (1003 г.) — рухнули последние надежды на воссоздание Римской империи. Однако это лишь кажущийся парадокс. Разумеется, сегодня, в отличие от прошлого века, никто не говорит о полной архитектурной преемственности между памятниками поздней Римской империи и средневековыми церквями. Но в эпоху, когда культура была привилегией прежде всего клириков, стремившихся в своих писаниях подражать древним, и когда, особенно на Юге, еще стояло много древних построек, было бы странно, если бы строители не вдохновлялись этими постройками, когда работали на эту элиту, к которой могли и принадлежать! Из того, насколько часто материалы, из которых прежде были построены галло-римские здания, использовались повторно, можно заключить, что эти изъятия не просто облегчали работу строителей — с их стороны это был сознательный художественный выбор. С другой стороны, латынь, псалмы на которой распевали клирики под сводами этих романских зданий, в то время утверждалась как литургический язык римского христианского мира. К моменту, когда последний порвал с византийским миром (1054 г.), географические рамки, в которых распространялось и расцветало это искусство, отличавшееся одновременно универсальностью и большим разнообразием, как раз представляли собой совокупность земель, тяготевших в духовном отношении к христианскому и папскому Риму. Прежде всего именно в этом смысле термин «романское» приобретает всю свою значимость.Социально-культурный контекст
На свидетельство Рауля Глабера часто ссылаются в подтверждение милленаристских толкований, сторонники которых усматривают в этой «значительной монументализации»[111] одновременно и следствие разрушений, вызванных второй волной нашествий, и выражение облегчения, испытанного верующими, когда мифический мыс тысячного года был пройден. На самом деле утверждение этого автора, что «большая часть церковных зданий» не нуждалась в перестройке, наводит на мысль, что новый подъем церковного строительства был связан скорей со стечением технических, экономических и духовных факторов. То есть переход от протороманского искусства к «первому романскому веку» следует задним числом датировать серединой X в. (между 950 и 1030 г.). Эту перемену иллюстрирует история аббатства Святого Михаила в Куше, в Руссильоне. С протороманскими зданиями, освященными аббатом Варином в 974 г., соседствуют новые впечатляющие дома в стиле первого романского искусства, построенные по заказу аббата Олибы (заново освятившего строения в 1040 г.). Последний был одним из инициаторов Божьего перемирия, заключенного на Тулузском (Тулужском) соборе в 1027 г. Если в те же десятилетия активизировалось движение за мир, начавшись как раз в тех южных областях, отдаленных от центра, где зарождалось романское искусство, — это, вероятно, не случайное совпадение. Клирики оказывали нажим на феодалов, приходившихся им родственниками, чтобы навязать правила игры, какие действовали бы в столкновениях между воинами. В результате сеньориальные доходы росли, и приток даров монастырям, который следовал из этого, побуждал монахов, выгадавших больше всех, преподносить эти храмы Господу в надежде снискать Его милость: «Монастырское искусство — это призыв к миру, произнесенный тысячей аббатств»[112]. Вот почему археологи XIX в., на которых количество и важность монастырских церквей XI в. произвели сильное впечатление, считали романское искусство по преимуществу бенедиктинским.Инициаторы
Аббаты… Это избитая мысль, но ее надо отбросить! Действительно, великие аббаты входили в число инициаторов создания первого романского искусства. Олиба, епископ Вика, родственник графов Сердани, был в то же время аббатом Куши и Риполя, где предпринял большие работы. Вильгельм из Вольпиано, выходец из высшей аристократии империи, был в 990 г. возведен в сан аббата монастыря Сен-Бенинь в Дижоне; с 1002 г. с помощью ломбардских ремесленников он восстановил церковь, прославившуюся восточной ротондой (посвященной Богоматери). Его слава как строительного подрядчика дошла до Нормандии. Герцог Ричард II пригласил его перестроить Жюмьеж (1004 г.), потом Берне (около 1017 г.) и, наконец, Фекан, где в 1031 г. он умер. Гозлен, единокровный брат Роберта Благочестивого (если верить хронисту Адемару Шабаннскому!), аббат монастыря Сен-Бенуа-на-Луаре с 1005 г., а потом, с 1013 г., архиепископ Буржский, руководил одновременно реставрацией церкви своего аббатства и строительством своего собора. Его биограф Андрей Флерийский высокопарно сравнивает его архитектурное наследие с украшением Рима, какое осуществил Август. То же сравнение биограф Лотсальд применяет к Одилону, пятому аббату Клюни (около 961–1049), достроившему монастырскую церковь, куда его предшественник Майоль (ум. в 994 г.) поместил мощи святых Петра и Павла. С тех пор Клюни, воспринимаемый как «малый Рим», способствовал распространению романского искусства во всей Европе. …но также крупные феодалы… Конечно, строительство финансировали благочестивые крупные феодалы, рассчитывавшие на молитвы монахов, чтобы обеспечить себе спасение души. Ради этого еще Гильом Благочестивый в 910 г. основал Клюни. Пример целой программы меценатства, затронувшей три десятка обителей, подала в следующем веке Нормандия. Политика герцогов от Ричарда I (который безрезультатно обхаживал Майоля, аббата Клюни) до Вильгельма Завоевателя состояла в том, чтобы приглашать клириков, часто итальянцев, одновременно для реформ и перестроек (например, в Берне — Вильгельма из Вольпиано, в мужское аббатство Кана — Ланфранка Павийского). Ордерик Виталий напоминает, что Вильгельм Завоеватель основал «семнадцать мужских монастырей и шесть женских». Разумеется, возвести столько построек герцогу и его вассалам дала возможность добыча, захваченная в ходе завоеваний. Принятое около 1059 г. Вильгельмом и его супругой обязательство, что тот и другая построят по аббатству в Кане, предопределило развитие романской архитектуры в Нормандии[113]. Не отставали у себя в домене и Капетинги; Роберт Благочестивый принял участие в строительстве церкви Богоматери в Мелене и церкви Сент-Эньян в Орлеане; согласно Рихеру, последняя «имела в длину сорок два туаза (то есть более восьмидесяти метров), в ширину двенадцать (то есть около двадцати четырех метров) и в высоту десять (почти двадцать метров) и насчитывала сто двадцать три окна». В его царствование Орлеанский собор, только что перестроенный епископом Арнульфом (ум. в 1003 г.), приобрел дополнительную травею хора, апсиду с деамбулаторием и три радиальных капеллы[114]. …и епископы Работы, предпринятые этим королем в Орлеане, — только одно из многих свидетельств подъема городов, тогда еще игравших роль скорей цитаделей и святилищ, чем экономических центров. Клюнийцы и другие монахи реформированных монастырей не ограничивались заведениями в сельской местности — нередко они вытесняли из бывших городских монастырей поселившихся там раньше каноников. Епископат участвовал в архитектурном обновлении, которое на рубеже тысячного года выражалось также в реставрациях, расширениях и даже перестройках соборов: «В Лодеве с 975 г., в Реймсе после 976 г., в Страсбурге после 1015 г., в Камбре после 1023 г.»[115]. Но многие из соборов, частично или полностью, впоследствии перестраивались, тогда как многие монастырские здания романской эпохи сохранились до нашего времени. Примеры аббатов-строителей, делавших одновременно епископскую карьеру, не ограничиваются несколькими лицами конца X в., недавно перечисленными. Уже во время второго романского века Стефан де Боже, епископ Отенский с 1112 г., рьяный сторонник Клюни, был одновременно аббатом Солье и руководил строительством своего собора и своей монастырской церкви. Герард II, епископ Камбрейский (1076–1092), занимался делами аббатства Аншен, в то же время продолжая строить собор Богоматери, основанный его предшественником Герардом I (1013–1048). Шартрский собор, прежде чем стать в XIII в. тем шедевром готики, каким восхищаются сегодня, был несколько раз по разным причинам перестроен: современное здание воспроизводит план романской церкви, построенной епископом Фульбертом (1007–1028), после того как около 1020 г. прежнюю постройку уничтожил пожар: «Он посвятил свой гений, свои силы и свои деньги восстановлению здания с самого фундамента; он наделил его величием и удивительной красотой и, когда умер, оставил почти завершенным», — пишет один шартрский автор XII в. То есть романское искусство не было исключительно делом бенедиктинских аббатов и монахов. Своим появлением оно было обязано также инициативам епископов, сеньоров и даже других безвестных заказчиков. Этому «новому старту» (Кароль Хейтц) в сфере искусства и архитектуры, начавшемуся благодаря религиозным реформам второй половины X в., явно способствовали восстановление сравнительного спокойствия, более активный обмен, робкие зачатки урбанизации. Демографический рост, порожденный этими переменами, привел к появлению избытка рабочей силы, не находившей себе применения ни в торговле, ни — по еще более веским причинам — в ремесленной деятельности. Неизрасходованную энергию этих людей можно было использовать только в строительстве.Стройки и материалы
Романская церковь была прежде всего сакральным местом. Но в той мере, в какой в ее строительство были вовлечены в экономическом и материальном смыслах разные сословия средневекового общества, она была еще и «социальным пространством». На стройках могли встречаться церковники и миряне, свободные люди и сервы. Монахи-архитекторы, каменщики или камнерезы, руководившие большими стройками (такими, как Конк, Клюни, Сен-Бенуа-на-Луаре), приглашали и ремесленников-мирян, таких как Гуго, который был подрядчиком в Конке (около 1035–1065) наряду с клириками. В зависимости от потребностей специалисты перемещались с места на место, судя по знакам на камнях, то есть клеймам. Известно, что ломбардские мастера-каменщики (несомненно, выходцы с берегов озера Комо — maestri comacini) распространяли свою технику («ломбардские полосы», или лизены) в южных областях и за их пределами. С другой стороны, маленькие сельские церкви, вероятно, строились местными ремесленниками при помощи крестьян-барщинников. Сотни таких церквей сохранились в Сентонже и Пуату (более семисот) или в Южной Бургундии (двести пятьдесят). Люди в Средние века перемещались много; тяжеловесным грузам это было делать сложнее. Из-за трудности перевозки строительный камень редко привозили издалека. Немногие инициаторы строек могли себе позволить, как аббат Гозлен, «везти по воде из Ниверне […] тесаный камень», необходимый для возведения входной западной башни монастырской церкви в Сен-Бенуа-на-Луаре. Как раз благодаря местному известняку из Понса или Шазеля, легко поддающемуся обработке, сентонжские церкви украшены богатым декором. В Нормандии каменоломни Кана и окрестностей (Флери-сюр-Орн, Карлике, Бретвиль-сюр-Одон…) в большом количестве давали материал, позволявший применить прием «толстой стены», которая благодаря тонким столбам создавала впечатление легкости. И напротив, приземистый силуэт романских церквей Оверни (например, в Клермоне) объясняется использованием вулканического камня из Вольвика, твердого и темного. Применение пиренейского гранита тоже предопределило некоторые характеристики зданий региона.Периодизация
Если вернуться к свидетельству Рауля Глабера, можно сделать вывод: после того как невзгоды X в. остались в прошлом, первое романское искусство во всем его разнообразии усвоило наследие предшествующего периода — сеть каролингских храмов достаточно «хорошей постройки», чтобы не нуждаться в перестройке, как раз и образовала монументальную инфраструктуру церковной Франции. Кароль Хейтц — несомненно, в качестве реакции на безапелляционное утверждение Рене Крозе, заявившего, что не может быть и речи о том, чтобы всерьез давать определение «капетингскому искусству», — рассуждал о «первой капетингской архитектуре» применительно к стадии перемен, затянувшихся на немалую часть XI в. По мнению этого ученого, возведение мощной западной башни Сен-Бенуа-на-Луаре, которую Гозлен хотел сделать «образцом для всей Галлии», ознаменовало одновременно конец протороманского и рождение романского искусства[116].От протороманского искусства к первому романскому веку
Новшества сперва появились в южных областях, именно там, где власть монарха уступала напору феодалов. От Северной Италии до Каталонии каролингские модели усваивали средиземноморские влияния (наследие ранних христиан, заимствования из византийского или мусульманского искусства через посредство мосарабских общин). Здесь скромные базилики со стенами, сложенными из небольших песчаниковых блоков, обтесанных молотком под прямым углом, состояли из одного-единственного нефа с деревянной кровлей, завершавшегося апсидой под сферическим сводом. Наиболее претенциозные из этих первых романских церквей (а именно в Каталонии) имели по два боковых нефа — с одной и другой стороны главного. Шеве, направление которого имело символическое значение, тоже состоял из трех апсид, перед которыми иногда шли сводчатая травея или ложный трансепт. Под хорами часто устраивали крипту, что свидетельствовало о росте популярности культа реликвий. Первые эксперименты со сводчатым покрытием, впрочем, проводились в подземных частях церквей, прежде чем сводами решились перекрыть главный и боковые нефы, и образцом, несомненно, послужили церкви Анатолии и Армении. Так, в Сен-Мартен-дю-Канигу для начала перекрыли крестовым сводом крипту, потом, в 1009 г., цилиндрический свод накрыл и неф. Между этими очагами новаторской архитектуры (Нижним Лангедоком, Провансом…) происходил обмен идеями. Распространяясь на север по долинам Роны и Соны, южный вариант первого романского искусства достиг Бургундии. Двойной трансепт церкви Сен-Ворль в Шатильон-сюр-Сен (1000–1010) показывает, что здесь эти средиземноморские формы встретились с каролингской традицией. В церкви Сен-Филибер в Турню, в Маконне, построенной за несколько «кампаний», соседствуют разные системы покрытия сводами, с которыми экспериментировали в XI в., в нартексе использовано четыре типа сводов, тогда как высокий неф, возведенный Герланом, перекрыли сводом из поперечных полуцилиндров (это было первое использование цилиндрического свода, если не считать центральных нефов нескольких каталонских церквей). Зато при строительстве деамбулатория с венцом прямоугольных капелл архитектор по-прежнему вдохновлялся каролингской традицией. То же двойное влияние заметно в монастырской церкви Сен-Бенинь в Дижоне (см. рис. 1), построенной Вильгельмом из Вольпиано в 1002 г., почти одновременно с нартексом в Турню. К центральному нефу, по сторонам которого по всей длине шли два боковых нефа, непосредственно примыкала ротонда, от которой сохранилась только нижняя часть. Эта «встроенная» ротонда, происходящая, как и все остальные, от ахенской, отличается от прототипа прежде всего тем, что ее не отделили от центрального нефа. Тем самым был проторен путь к «великолепным романским деамбулаториям, превращающим шеве наших великих романских церквей в настоящие полуротонды (Сен-Савен, Сент-Фуа-де-Конк, Клюни III)»[117].
Рис. 1. Сен-Бенинь в Дижоне. План по К. Дж. Конанту (Oursel R. France romane. XIe siccle. Paris: Zodiaque, 1989)
Зато на Востоке и Севере Франции, где развитие в направлении новых форм происходило синхронно, каролингские влияния по-прежнему сохранялись. Эти регионы долго оставались приверженными к деревянной кровле, иногда сочетавшейся с диафрагмальными арками. В оттоновских землях над аркадами нефа церкви в Виньори (Эльзас, около 1050 г.), принадлежавшей приорату Сен-Бенинь в Дижоне, возвышается стена с рядом окон, предназначенная исключительно для того, чтобы поддерживать кровлю. Внешний облик башен с обеих сторон шеве — тоже реминисценция каролингской архитектуры, так же как в Сен-Жермен-де-Пре (1005 г.), Оксерском соборе (1030 г.) или в Мориенвале (1050 г.). Базилика Сен-Мартен в Туре (была построена Эрве, хранителем сокровищницы, в 997–1014 г.) стала, вероятно, образцом для всех церквей с деамбулаторием и венцом капелл на землях Луары. План такого типа, который можно найти также в церквях Сен-Марсиаль в Лиможе (1025–1080) и Сент-Фуа в Конке (1039–1065), в Оверни, в следующем веке применялся для возведения больших «паломнических церквей». В Нормандии активное строительство в первых двух третях XI в. не обнаружило никаких специфически южных черт, несмотря на участие в нем выходцев из Ломбардии. Общим при возведении Берне (около 1013–1050), монастыря Мон-Сен-Мишель (1023–1034), Жюмьежа (1037–1057), церкви Ла-Трините (около 1059–1066) или собора Сент-Этьен (около 1064–1077) в Кане было прежде всего стремление добиться прямого освещения.
Второе романское искусства
В последней трети XI в. и в течение первых тридцати лет XII в. приемы, которые прежде были экспериментальными, архитекторы уже усвоили и теперь применяли с полным знанием дела. Благодаря родственным связям и сложным взаимным влияниям романское искусство распространилось по всей стране. Как указывает Пьер дю Коломбье, «подражание уже построенным зданиям было, конечно, одним из самых популярных методов работы в Средние века. Строили нечто наподобие такой-то или такой-то знаменитой церкви, и в результате сформировалось […] много региональных школ»[118]. Впрочем, следует отметить, что границы сфер влияния последних никоим образом не совпадали ни с политическими границами княжеств, ни даже с границами церковных административных единиц. Некоторые престижные центры брались за образцы при постройке более скромных зданий, иногда очень удаленных от них в географическом отношении. Так, монастырская церковь Клюни III (1088–1121), строительство которой предпринял аббат Гуго Великий (1049–1109), отвечала потребностям ордена, контролировавшего полторы тысячи аббатств, где служило более десяти тысяч монахов. Уже хотя бы потому, что церковь была огромна, похожих проектов почти не возникло. Но Отен, Солье, Бон, Лангр показывают, как влиял Клюни на дочерние обители. Аббатство Паре-ле-Моньяль, реплика Клюнийского аббатства, построенное в начале XII в. (с неизбежными упрощениями) тем же Гуго Клюнийским, дает представление о том, каким мог быть его прототип, к сожалению, разрушенный в начале XIX в. Есть миниатюра, где изображен один из архитекторов Клюни III, монах Гозон, бывший аббат Бона, видящий во сне святого Павла, святого Петра и святого Стефана, которые чертят перед ним очень четкий план будущей монастырской церкви, освященной в 1095 г. папой Урбаном III, который сам прежде был клюнийским монахом. «Самыми характерными были не пять нефов, не многочисленные и крупные башни и двойной трансепт с восточной стороны, а такое новшество, как стрельчатый свод над светлым нефом, а также дерзкое изящество трехъярусного профиля, не усиленного боковыми галереями…»[119]. Профиль свода центрального нефа (высотой в три десятка метров; стал настолько дерзким вызовом техническим возможностям своего времени, что в 1125 г, свод частично обрушился, и для его восстановления пришлось возвести аркбутаны, перекинутые через боковые нефы. Внушительный шеве состоял из деамбулатория, в который открывались пять радиальных капелл. Однако сводить все романское искусство к Клюни было бы ошибкой. Есть и много других иллюстраций того, насколько многообразные приемы тогда использовались. Оригинальное развитие это искусство получило в Оверни и в Аквитании. Кстати, вопреки представлениям, связанным с теологией святого Ансельма и утверждавшим, что ничто не может быть излишне прекрасным, чтобы славить Бога, цистерцианский идеал стремился довести романский стиль до предельной строгости. Надо отдать должное аргументации в полемике с Клюни, которую святой Бернард привел в «Апологии», посвященной им Вильгельму из Сен-Тьерри (1124–1125): «Не говорю уж об огромной высоте церквей, об их безмерной длине, излишней ширине, о пышности декора, об изысканных росписях, которые, притягивая взгляд молящихся, мешают им молиться»[120]. План монастырской церкви Клерво, построенной с 1135 по 1145 г. и расширенной в 1154 г. и в 1174 г., послужил образцом для многих цистерцианских монастырей, в частности для клервоских дочерних обителей, в том числе церкви в Фонтене (1139–1147), позволяющей в наше время представить себе это здание, тоже снесенное в начале XIX в. Церковь в Клерво, имевшая в плане форму латинского креста, состояла из центрального и боковых нефов. Шеве прямоугольной формы был скромных размеров, с каждого бока к нему примыкали три капеллы, которые открывались в обширный трансепт и завершались с восточной стороны прямой стеной. Чтобы увеличить количество алтарей (давая возможность монахам-священникам служить мессы), позже этот шеве заменили большим деамбулаторием, куда выходило девять капелл. Ради строгости стиля их накрыли общей крышей, так чтобы они не выступали наружу, «что позволило завершить шеве сплошной и непрерывной стеной, которая в плане была не круглой, как обычно говорят, а многоугольной, с девятью сторонами, каждая из которых соответствовала одной из капелл»[121]. Другим материнским аббатствам (Понтиньи, Моримону…), уже возведенным в романском стиле, их «дочери» тоже подражали. Разумеется, из-за разных обстоятельств появлялись вариации: наряду с церквями, имевшими плоский шеве (Сито, Фонтене, Ле-Во-де-Серне), считаюшимися типично цистерцианскими, есть немало других, апсида которых часто имеет полукруглый план. Эти различия не мешали таким зданиям выражать «презрение к миру» (профанному), свойственное белым монахам.Структуры и формы
Упоминание о «белом платье церквей» в начале XI в. у черного монаха Рауля Глабера, подразумевавшего известняк своей родной Бургундии, подчеркивает общую черту, какую имели все эти архитектурные сооружения, пусть даже конечные цели их строителей иногда резко различались. В основе романского искусства лежало распространение камня для строительства всех составных частей здания. Несмотря на разнообразие построек, однородность материала должна была позволить зрителю ощутить единство христианского мира, в свою очередь символизировавшее единственность Бога.Свод
Определяющим нововведением было усвоение свода (уже использовавшегося к тому времени для покрытия крипт) при постройке церквей, базиликальный и крестообразный план которых отвечал требованиям литургии. Кроме того, что свод ощутимо снижал угрозу пожара, какую прежде создавали деревянные кровли, появление свода над главным нефом улучшало (входило ли это в замысел архитекторов или нет) акустику монастырских храмов, где исполнялись григорианские песнопения. Но это архитектурное решение создавало «органическую связь» между стенами, прочность которых надо было повысить, самим сводом и столбами, на которые он должен был опираться. Таким образом, романскую церковь можно схематично определить, как здание, перекрытое каменным сводом, где объемы уравновешены, а проемы из соображений прочности сделаны редкими. Разработчики пытались разрешить проблему освещения, какую создает такое решение, за счет разнообразия покрытий. Как правило, главный неф перекрывался цилиндрическим сводом, боковые нефы — крестовыми, а апсида — сферическим. Цилиндрическими сводами, вероятно, перенятыми на Востоке, в первую очередь покрыли нефы скромных церквушек (до тысячного года, в Каталонии). Такой свод представлял собой развертывание круглой арки по главной направляющей здания. Чтобы его построить, каменщики ставили наверху стен полукруглые кружала, на которые укладывали клинчатые камни и которые удаляли после установки замкового камня. Вскоре необходимость удлинить здание привела к укреплению свода подпружными арками, позволявшими значительно увеличить пролет и опиравшимися на столбы, усиленные снаружи контрфорсами. Чтобы уменьшить распор, прибегли к использованию стрельчатого свода, чаще всего в Пуату и Бургундии. Опыт Клюни III, где дошли до крайних пределов технических возможностей (коль скоро пришлось отстраивать неф, обрушившийся в 1125 г.), нашел применение в зданиях, напоминающих эту монастырскую церковь, — в Отене, Боне, Лангре, Паре-ле-Моньяль… Свод главного нефа могли также подпирать боковые нефы и галереи, полуцилиндрические своды которых оказывали встречное давление. В Оверни (Конк) или в Лангедоке (Сен-Сернен в Тулузе) боковые нефы надстраивали галереями со сводами, выглядящими в разрезе как четверть круга, тогда как в Пуату (Большая церковь Богоматери) и в Сентонже (Сен-Савен-сюр-Гартан) строили боковые нефы равной высоты с центральным. Травеи боковых нефов обычно перекрывали крестовыми сводами. Реже так поступали в отношении главного нефа (Безеле). Такой свод, образуемый пересечением двух полуцилиндров под прямым углом, опирался на стену пятами арок, так что появлялась возможность проделать проемы в его щеках. В Анжу и Нормандии (долго хранившей верность деревянным кровлям: Кан, Байе) в конце XI в. центральный неф начали перекрывать обширными крестовыми сводами, опиравшимися на пяты стрельчатых нервюр (Лессе, около 1056 г.), используя люнеты для создания прямого освещения. Если боковые нефы должны были подпирать главный неф, то апсидиолы часто подпиралихоры. На апсидах в этой части здания часто встречается сферический свод (то есть имеющий форму четверти сферы), фактически представляющий собой полукупол. Что касается купола, то это, как правило, была полусфера, возведение которой не вызывало никаких затруднений в случае установки на ротонду (Неви-Сен-Сепюлькр, Рье-Минервуа, создатели которых вдохновлялись образом храма Гроба Господня в Иерусалиме). Зато если купол устанавливали на основание, имевшее квадратную форму, возникала проблема квадратуры круга, которая была уже решена римскими, а потом византийскими архитекторами. Строя колокольни, ставили четыре арки на четырех столбах; между этими арками выкладывали сферические треугольники («паруса»), образовавшие круговую опору, на которой стоял купол. От Кагора до Сента, включая Ангулем, церкви (например, Сен-Фрон в Периге) целиком покрывались рядами куполов на парусах. Оригинальность этих построек, несомненно, объясняется тем, что для них использовался легкий и прочный известняк, добывавшийся в этой местности и исключавший риск обрушения. Но не исключено, что здесь, непосредственно или опосредованно, сказалось влияние восточных образцов, таких как церкви Святых Апостолов в Константинополе или Святого Марка в Венеции. В течение всего романского периода на средокрестии церкви часто, с множеством вариантов, устанавливался купол на тромпах (нишах конической формы в стенке, благодаря которым нижний квадратный план переходил в восьмиугольный). Это делалось ради того, чтобы заставить взгляд посетителя подняться «от квадрата на уровне земли к кругу, к полушарию купола, дабы душа пошла путем очищения, настоящего преображения»[122].План и вертикальная проекция
Из этих умозрительных рассуждений о космическом символизме квадрата и круга и исходили разработчики романских церквей. Чаще всего, чтобы лучше соблюсти требования литургии, большинство архитекторов сохраняли базиликальный и крестообразный план эпохи Каролингов. Его смысл был сформулирован Гонорием Августодунским (иногда его называют «Отенским»; на самом деле это был ирландский монах, в первой половине XII в, переселившийся в Регенсбург). Церковь — это микрокосм, выражающий совершенство Бoгa. В то время как план ротонды, довольно редкий, вписывает это совершенство в круг, крестовидный план, напоминающий о распятии Христа, ассоциируется еще и с четырьмя сторонами света, отчего Вселенная вписывается в квадрат. Но, после того как расширение свода привело к согласованным переменам во всех частях здания и к созданию органической связи между сводом, столбами и стенами, стало можно говорить об оригинальном искусстве, а не просто о повторении старых приемов. Особенно ярко новшества проявились в формах церковного шеве. Для бенедиктинского плана, реализованного в Клюни II (991 г.), был характерен шеве, где апсиды, ориентированные по оси восток-запад, были в плане расположены ступенчато в убывающем порядке по обе стороны от оси, а «параллельные входы капелл открывались в хор и ветви трансепта»[123]. Эта планировка встречается и в других областях, помимо Бургундии. Она была не редкостью в Берри, где ее прекрасный образец — церковь в Шатомейане (кстати, такой план иногда называют «беррийским»). Ее можно было встретить и в Нормандии (в частности, в Берне или в церкви Ла-Трините в Кане). И тем не менее XII в. передаст готическим соборам план с деамбулаторием и венцом капелл, происходящий от протороманской архитектуры и реализованный (в том числе) в Клюни III. В самом деле, такой шеве можно увидеть во многих больших церквях с деамбулаторием и обширными боковыми нефами, расположенных на дорогах, ведущих к храму Святого Иакова в Компостеле: Сен-Марсиаль в Лиможе, Сент-Фуа в Конке, Сен-Сернен в Тулузе. За исключением некоторых овернских храмов, апсидиол всегда было нечетное количество. Этот план, упрощая циркуляцию верующих и давая паломникам доступ к реликвиям, соответствовал функциям таких храмов, представлявших собой огромные реликварии, открытые для толп людей, потоки которых следовало регулировать (см. рис. 2).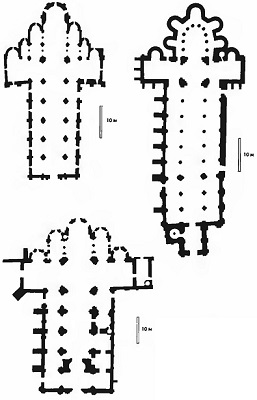
Рис. 2. Планы нескольких романских церквей в XI–XIII вв. (Oursel R. France romane. XIe siecle. Paris: Zodiaque, 1989). Наверху слева: Шатомейан; справа: Сен-Савен-сюр-Гартап; внизу: Ла-Сов-Мажёр.
Что касается фасада, он мог составлять пару для восточного шеве. В таком случае он мог представлять собой входную башню (Сен-Бенуа-на-Луаре) или, как в Кане, иметь по бокам две башни квадратного сечения, за которыми находился нартекс. Но такое решение, происходившее из западного каролингского массива, больше подходит для подчеркивания линий архитектурного сооружения, чем для выражения его декоративных качеств. Вот почему чаще встречаются плоские фасады, увенчанные треугольным щипцом и оформленные несколькими ярусами аркатур, которые могли быть богато украшены. Кроме случая «фасадов-ширм» (Сен-Никола в Сивре, Пуату), которые словно приклеивали спереди здания без видимой заботы о соответствии его архитектуре, компоновка многих других фасадов позволяет легко понять, как здание устроено внутри. Например, портал, заключенный меж двух аркатур, означает, что главный неф обрамлен двумя боковыми. На боковых фасадах ветвей трансепта и нефа, от шеве до главного фасада, тоже могло сказываться внутреннее строение. «Тогда боковой фасад дробили большие аркатуры, отражая внутреннее деление на травеи, даже если их опоры, контрфорсы или выступающие из стены колонны не строго соответствовали столбам аркад»[124]. Тем не менее некоторые цистерцианские церкви, например в Сенанке или Ле-Тороне, составляют исключение из этого романского принципа соответствия внешней формы внутреннему строению: наличие апсидиол по обе стороны средокрестия не отражено снаружи на ветвях трансепта. Это еще одно выражение враждебного отношения к пышности монументальных построек, характерного для учеников святого Бернарда: «Дом молитвы блистает в своих стенах, а бедняков оставляет в полнейшей нужде», — негодовал последний в «Апологии, посвященной Вильгельму из Сен-Тьерри» (около 1125 г.).
Декор и орнаментация
Это суровое осуждение церковного декора находило отклик у монастырских реформаторов того времени. «Камень полезен для строительства, но зачем ваять из камня?» — задается вопросом, к примеру, регулярный каноник Гуго Фольетский. Тем не менее он не исключает, что духовенство «городов или бургов, куда во множестве стекается народ», имеет возможность «благодаря привлекательности живописи удерживать простецов, которые не могут оценить тонкостей текста». Ведь богословские дебаты раннего Средневековья о религиозной иконографии, вероятно, привели к тому, что благочестивое изобразительное искусство отчасти сошло на нет. Но когда в начале XI в. религиозные изображения появились снова, поскольку была признана их педагогическая эффективность, — непохоже, чтобы скульпторам пришлось начинать с нуля. Чрезвычайному разнообразию романской архитектуры соответствовало обилие источников вдохновения для скульпторов: традиции римской античности, как в Сен-Жиль-дю-Гарили в Отене; византийские образцы, например, в Конке или Муассаке; арабески, заимствованные в мусульманской Испании (Ле-Пюи), и даже переплетающиеся чудовища скандинавского типа в Нормандии. Очевидны близость монументальной скульптуры к искусству резчиков по слоновой кости или золотых и серебряных дел мастеров. Образцами могли служить и миниатюры из рукописей. Иногда художники воспроизводили даже технические ограничения оригинала. Фриз в Сен-Жени-де-Фонтен (1019–1020), изображающий Христа во славе в окружении апостолов, отражает влияние мосарабских миниатюр и имеет композицию, унаследованную от античных саркофагов, какую можно найти также в Сент-Андре-де-Соред. Подчиненность скульптуры архитектуре Уже для этих первых фигуративных опытов была характерна включенность в установленные рамки. Романский декор всегда подчинялся императивам архитектуры: фризы церкви Сен-Мексм в Шиноне или церкви аббатства Сель-сюр-Шер заглублены в стену, предвосхищая тем самым фасады XII в. (Пуатье, Ангулем…). Эта скульптура обладает двойственным характером, как подчеркнул Анри Фосийон: «Она архитектурна в том смысле, что включает фигуры в рамки, где они должны занимать место; она декоративна в том смысле, что изображает и сочетает их, как декоративные украшения»[125]. Вот почему к технике круглой скульптуры обращались только в исключительных случаях (статуи Христа и Богоматери). Чаще всего скульптура была плоской — барельефы (реже горельефы) на капителях колонн или тимпанах порталов, накладывающих на нее геометрические ограничения. Капители, служившие переходами между аркадами и колоннами, были важнейшим архитектурным элементом. В XI–XII вв. они стали излюбленным местом размещения скульптурного декора. Чаще всего происходившие от античного коринфского прототипа, они сочетали растительную основу образца со стилизованными изображениями людей и животных. Наряду с чисто декоративным (но не исключавшим сложной символики) цветочным или зооморфическим орнаментом на их рядах часто изображали длинные повествовательные серии (ветхозаветные, евангельские или агиографические сцены) либо пространные назидательные циклы. Капители клуатра в клюнийском аббатстве Муассак (построен аббатом Анскитилем в 1100 г.) предлагали монахам для размышления целый арсенал ссылок на христианскую литературу, создающий впечатление, что они расположены в произвольном порядке. Капители главного и боковых нефов аббатства Безеле в самых разнообразных аспектах представляют неустанное сражение монахов, и первую очередь с дьяволом. Порталы западных фасадов (а иногда и фасад целиком) служили для размещения изобразительных сюжетов, рассчитанных на поучение верующих, которые проходят через эти порталы. Бродячие артели, ходившие путями святого Иакова (ворота Мьежвиль в церкви Сен-Сернен в Тулузе, около 1110–1115), приняли участие в постепенной разработке типа главного портала в Лангедоке (Муассак, 1115–1130), похожую композицию можно найти и в Бургундии, где на знаменитом тимпане Отенского собора свою подпись оставил Гислеберт. В самом деле, сюжеты Апокалипсиса (Муассак) или Страшного суда (как в Отене, а также в Конке или Сен-Дени…) особенно подходят для композиций, которые можно вписать в полукруг, трапецию или треугольник. Центр обычно занимает мандорла с изображением Христа на престоле; он возвышается над второстепенными персонажами, окружающими его. Их иерархию отражает размер, убывающий по мере уменьшения роли, какую они играют в изображенной сцене. Это пренебрежение пропорциями, так же как чрезмерное удлинение фигур (как в Везеле) или торжественная неподвижность поз, свидетельствуют о том, что приоритет отдавался религиозному посылу. Но это не исключает проявлений фантазии в разработке профанных мотивов, какими украшали, в частности, модильоны, поддерживавшие карниз. Однако, говоря об этих иконографических циклах, не следует злоупотреблять «слишком затасканным выражением»[126] «Библия в камне», которая якобы была предназначена для обучения верующих, в огромном большинстве неграмотных, религии. С другой стороны, многие из этих скульптур снабжались подписями. Такие подписи упрощали клирикам, которым надлежало их комментировать, их толкование. Впрочем, Библия была не единственной книгой, куда заглядывали грамотные люди, как напоминает романский портал Шартрского собора, созданный в период расцвета епископальных школ: ореол Богоматери образуют языческие авторы! Декоративные росписи… Многочисленные разрушения и частые перестройки, происходившие не скоро после них, грозят внушить нам искаженное представление о романском декоре. Кроме как в цистерцианских зданиях, где добровольно приняли бедность, и, несомненно, в скромных сельских церквях, которые не могли ее избежать из-за нехватки средств, голый камень, преобладающий сегодня повсюду, — это нелепость. Во время больших церемоний между столбами нефа вешали красочные ковры (наподобие ковра из Байе, который на самом деле — вышивка). «Стены могли быть расписаны ложными швами, имитирующими правильную кладку, и всевозможными декоративными мотивами — цветами, звездами и т. д., что еще можно видеть в Бриуде, Иссуаре или в Пуатье»[127]. Многокрасочность как на фасадах, так и на капителях была обычным делом — следы красок сохранились в Оне, Шовиньи, Конке или Муассаке. Стены и своды многих церквей XI–XII вв. были покрыты фресками (в большинстве исчезнувшими), которые развивали те же сюжеты, что и скульптура, и тоже должны были приспосабливаться к архитектуре. Схематически тогдашнюю Францию можно разделить на два региона. Живопись «в греческом духе», на темном фоне, преобладала в Бургундии и Оверни, а также вообще в сфере влияния Клюни. Особо хорошо сохранившиеся ее образцы можно видеть в приорате Берзе-ла-Виль. Блеск этих фресок объясняется использованием воска в качестве «растворителя» красок верхнего слоя. С другой стороны, от Луары до Лангедока встречались прежде всего матовые росписи на светлом фоне. Матовыми краски здесь были из-за использования минеральных красителей и темперной техники. В церкви аббатства Сен-Савен-сюр-Гартан в Пуату портик, верхняя галерея, неф, хоры и крипта расписаны библейскими и агиографическими сценами. И та, и другая техника использовали однородную окраску, художники не пытались придать изображению объемность за счет оттенков. Выбор этих красок, равно как изображение контуров фигур и одежд, подчинялись точным правилам, изложенным в руководствах — таких, как «Записка о разных искусствах» монаха Теофила (около 1125 г.). …и искусство витража Этот трактат — в то же время и важный источник сведений о витраже в романскую эпоху. Это монументальное искусство играло особую роль для архитектуры здания, обеспечивая его освещение. Толщина стен, какой требовало покрытие церквей сводами, позволяла проделывать только немногочисленные и узкие окна. Поэтому, чтобы максимально осветить зачастую темные памятники, редкие романские витражи делали светлыми — преобладали белый и голубой цвета, прежде всего в качестве фона. Витражей XI в. практически не сохранилось. Однако они существовали: около 1050 г. монах Валерий выполнял обязанности витражиста в аббатстве Сен-Мелен в Ренне; в ту же эпоху «Хроника» Сен-Бениня в Дижоне сообщает, что один оконный проем церкви этого аббатства украшает узорчатый витраж, «сделанный давно и сохранившийся до нашего времени». В XII в. на искусство витража сохранили сильное влияние технологии ювелиров и эмальеров (изображение драгоценных камней или рядов жемчужин в качестве обрамления). Многие из этих роскошных витражей преподносились могущественными светскими или церковными заказчиками, которые требовали изображать там их самих или писать их имена. Напротив, неокрашенные витражи цистерцианских заведений (Бонлье, Обазин, Понтиньи, Ла-Бениссон-Дье…), строго анонимные, использованием свинцовых оправ стекол в декоративных целях напоминают трансенны (ажурные каменные плиты) раннего Средневековья. В верхних окнах обычно возвышались пророки или апостолы, группировавшиеся вокруг Христа, изображение которого находилось в центральном оконном проеме; на нижнем ярусе встречались два типа композиций, рассчитанных на разглядывание вблизи. В так называемом «легендарном» варианте в геометрических ячейках, обрамленных широкой каймой, изображались отдельные сцены, как в Анжерском соборе (около 1160–1180). В другом варианте весь витраж посвящался единственному сложному сюжету; это относится к Древу Иессееву на западном фасаде Шартрского собора (около 1150 г.) или в одном из двух проемов осевой капеллы Сен-Дени. В домене Плантагенетов на западе страны сохранилось много романских витражей (Анжер, Пуатье, Ле-Ман), вышедших из мастерских (в Ле-Мане XII в. различают манеру семи из них), которые в качестве образцов пользовались миниатюрами или настенной живописью. В Шампани ансамбль базилики Сен-Реми в Реймсе был частично разрушен; можно отметить преемственность мозанской традиции (Шалон, 1147 г.; Орбе, около 1190 г.). Если от витражного искусства Бургундии времен апогея клюнийского влияния не сохранилось ничего, то витраж в церкви Ле-Шанпре-Фрож в Грезиводане, происходящий, вероятно, из соседнего клюнийского приората Домен, «можно было бы считать единственным образцом того, что мог представлять собой клюнийский витраж в XII в.»[128]. Ведь нельзя сказать, что Юг не знал романского витража: некоторые произведения, сохранившиеся в Оверни, раскопки на территории аббатства Сен-Виктор в Марселе и на территории монастыря Ганагоби или витражи Лионского собора (около 1190 г.) говорят об обратном. С этими чисто романскими поисками контрастируют произведения, выполненные в королевском домене. Витражи Сен-Дени (до 1146 г.) и западного фасада Шартрского собора (1150–1153) образуют протоготическую группу. Рассуждения Сугерия о символике витража, сделанные под влиянием Иоанна Скотта Эриугены, сформировали концепцию храма, уже не тщательно запертого, как драгоценный реликварий, а открытого свету, соединяющему человека с Богом. Это духовная основа готического искусства.После того как оба предела соединились,
Церковь мерцает в своем срединном корабле,
Поскольку светло то, что соединяет
Оба очага Света.
Знаменитое творение сияет новой яркостью…[129]
Часть вторая
Капетингская Франция с 1108 по 1223 г.
 Утверждение
Утверждение
Глава I Людовик VI и отвоевание королевского домена (1108–1137) (Франсуа Менан)
Годы детства и юности
Беспокойное детство
Единственный сын и старший из детей Филиппа I и его первой супруги Берты Голландской, Людовик был предназначен для того, чтобы взойти на трон. Сначала он воспитывался в аббатстве Сен-Дени, а вышел оттуда, чтобы получить рыцарское воспитание, когда достиг двенадцати-тринадцати лет. Но его юность была омрачена страстью отца к Бертраде де Монфор: когда мать была отвергнута и вскоре умерла, а во дворце поселилась фаворитка и родила двух детей, которым оказывала предпочтение, — юного принца, похоже, удалили от двора, и временами его положение даже бывало довольно плачевным. В одной из грамот описывается, как, покинув Сен-Дени, он заночевал в одном доме в Понтуазе, и «ему нечем было накрыться, кроме простого плаща». Мачеха надолго сохранила к нему враждебность. Когда Людовик зимой 1100–1101 гг. находился при английском дворе, Бертрада просила Генриха I взять его в плен, потом пыталась подстроить его убийство и отравить его. Примирение, которого в 1103 г. добился Филипп, не помешало Бертраде после смерти супруга предпринять последнюю попытку не допустить коронации Людовика, а потом вступить против него в союз с несколькими крупными сеньорами. Несмотря на интриги Бертрады, Филипп I вскоре доверил молодому человеку обязанности, с которыми все хуже справлялся сам из-за возраста и недугов. В 1092 г. он дал сыну инвеституру на графство Вексен, граничившее с англо-нормандским королевством. В конце 1097 г. Людовик командовал несколькими отрядами, защищавшими Вексен от вторгшихся войск английского короля Вильгельма Рыжего. Потом он воевал на границах Берри, Оверни и Бургундии. Именно в тот период, 24 мая 1098 г., в Абвиле его посвятили в рыцари, но почти тайком от отца, который, вероятно, под влиянием Бертрады все откладывал эту церемонию как первое признание, что Людовик достиг совершеннолетия. Тем не менее на собрании светских магнатов и епископов (состоявшемся между концом мая 1098 г. и Рождеством 1100 г.) он был провозглашен соправителем своего отца и престолонаследником. Он принимал полноправное участие в управлении страной со времен этого избрания или, самое позднее, после возвращения из Англии (которую некоторые считают местом его последнего изгнания). После смерти Филиппа новый король прислушался к совету группы прелатов во главе с Ивом Шартрским, настаивавших, чтобы он немедленно принял миропомазание. В самом деле, ряд обстоятельств — отлучение отца, враждебность Бертрады де Монфор — не позволил ему пройти эту ритуал, как его предшественникам, еще тогда, когда его избрали соправителем короля. А Бертрада возобновила интриги, чтобы лишить его трона в пользу своего сына Филиппа Мантского. Несколько баронов-фрондеров уже поддались ее настояниям, и можно было опасаться, что они устроят новые выборы. Принцип первородства утвердился еще не вполне — его ставили под сомнение, когда престол наследовал еще Роберт Благочестивый. Поэтому Людовику надо было спешить приобрести легитимность, какую давало миропомазание. Из Сен-Бенуа-на-Луаре, где пожелал быть погребенным его отец, он поехал в ближайшую епископскую резиденцию, в Орлеан, и получил помазание из рук архиепископа Сансского (3 августа 1108 г.). Не было и речи о том, чтобы отправляться в Реймс, к тому же новый архиепископ Рауль Зеленый был в ссоре с королем: гонцы, напомнившие о его правах, прибыли сразу по окончании церемонии. Таким образом, Людовик стал одним из немногих французских королей — вслед за Робертом Благочестивым и, возможно, Гуго Капетом до самого Генриха IV, — который был помазан не в Реймсе.«Несравненный атлет»
Физически новый король от природы был силен, «красив лицом и изящен»[130], согласно Сугерию, или, скорей, «высок и толст»[131], если верить Ордерику Виталию; единственное изображение, которое (возможно) воспроизводит его черты с некоторым правдоподобием, вырезано на его печати как избранного короля. Сделанная довольно неумело, она мало что добавляет к словесным портретам. Так же как отец и мать, Людовик отличался склонностью к ожирению, которую усугубляло обжорство. Он стал огромным и с сорока лет передвигался с трудом, уже не в состоянии сесть на коня. Похоже, он страдал от отеков и проблем с печенью, а также от хронической бессонницы; во всяком случае, при всей физической силе он часто болел. Долго не решаясь иступить в брак после разрыва помолвки с Люсьенной де Рошфор, наконец в 1115 г. он женился на Аделаиде Морьенской (или Савойской), которая происходила от графов Бургундских, принадлежала к роду не слишком могущественному, но имевшему очень выгодных союзников и дядю которой вскоре избрали папой под именем Каликста II. Впоследствии у супружеской пары родились шесть сыновей и одна дочь, не считая двух детей, умерших в раннем возрасте. Темперамент короля и его физические способности делали его грозным воином, «несравненным атлетом и выдающимся гладиатором» (Сугерий): он любил войну и всегда без колебаний бросался в самую сечу. Во время одного штурма он ворвался в горящий донжон и едва не погиб; в походе 1108 г. в Берри он двинулся через реку первым, вооруженный с ног до головы, чуть не утонув, чтобы воодушевить воинов перейти в атаку. Рискуя таким образом жизнью, он получил немало ран. Эта любовь к сражениям, эта неукротимая энергия как раз подходили для ведения бесконечной войны, какую он возобновил с сеньорами Иль-де-Франса. То есть Людовик VI геройски исполнял функцию воина, имевшую первостепенную важность для государей того времени, и тем самым придал французской монархии намного больше блеска. Справедливость, верность и доброта- другие важнейшие качества государей — тоже были вполне ему свойственны. Лучше всего об этом свидетельствует совет, целиком проникнутый рыцарской щепетильностью, который он оставил сыну, когда думал, что вот-вот умрет: «Защищай клириков, бедняков и сирот, следи, чтобы соблюдались права каждого; никогда не арестовывай обвиняемого в курии, куда его вызвали, разве что если именно там его задержали на месте преступления». Недостатки короля, хоть и значительно уступавшие достоинствам, тем не менее были весьма неудобными для главы государства: к ним относились скупость, не вполне объясняемая государственными нуждами, и прежде всего некоторая наивность и презрение к ловким политическим ходам, вредившие ему в делах. Жан Дюфур также отмечает его неуверенность в себе, побуждавшую принимать торопливые решения и подпадать под влияние фаворитов.Годы обучения ремеслу власти
Новый король отнюдь не был новичком в своем ремесле — разделяя трон с отцом в течение восьми-десяти лет, он все полней осваивал функции королевской власти, по мере того как из-за возраста и здоровья отец все более от этой власти отходил. В тот период его занимала прежде всего ожесточенная борьба с непокорными сеньорами из королевского домена, и он со всем юношеским пылом предавался этой борьбе. В 1101 г. он выступил в первый из своих походов на шателенов-тиранов — на Бушара де Монморанси, его шурина Матье де Бомона и Дре де Муши, посягнувших на владения Сен-Дени. Замок Муши был в следующем году сожжен, а замок Люзарш, незаконно присвоенный графом Бомона, в тот же период взят приступом. Позже трое побежденных стали верными соратниками Людовика VI; впрочем, их предки бывали при капетингском дворе в течение нескольких поколений. В том же 1102 г. Людовик два месяца воевал с Эблем де Руси, могущественным сеньором, имевшим влияние как на церкви Реймса, так и на церкви Лана и грабившим все эти церкви. Через год-два король вернулся к тому же занятию, вмешавшись в семейную распрю, в которой Тома де Марль оказался противником собственного отца — Ангеррана де Куси, а также Эбля де Руси и других местных сеньоров; тогда Людовик оказал Тома покровительство, о чем позже заставят его пожалеть бесчинства последнего. В 1103 г. настала очередь сеньоров Мен-сюр-Луар, напавших на епископство Орлеанское; подоспел король и сжег их крепость. В тот же период были подчинены также враги соборного капитула Нуайона — рыцари этого города и сеньор Кьерзи-сюр-Уаз, чей замок разрушили. Наконец, в 1107 г. Людовик вступил в Берри, чтобы образумить Гумбальда, сеньора Сент-Севера, вторгшегося в одно из владений Сен-Дени. Общим для всех или почти для всех этих экспедиций было то, что они предпринимались как реакция на жалобы епископов или аббатов, ставших жертвами грабежей светских сеньоров. Все они закончились победами (не всегда легкими) над этими мелкими тиранами и почти все — установлением прочного мира, какого уже не знали целые поколения французов. Тем самым неуемная энергия короля позволила ему принять эстафету «Божьего мира». Она дала ему возможность также восстановить престиж династии. Одерживая все новые победы, монарх постепенно выделялся из ряда заурядных феодалов, до уровня которых во многих отношениях позволили себя низвести его предки. Наконец, король Франции все более выглядел опорой церкви; это подтвердил в 1107 г. визит папы Пасхалия II — Филипп (отлучение с которого тем временем уже сняли) и его сын оказали папе поддержку в борьбе с императором за инвеституру. В течение этих лет ученичества будущий король приобщался также к сложной игре, какую вели меж собой знатные роды, владевшие высокими коронными должностями и готовые при малейшем знаке немилости превратиться в более или менее заклятых врагов короны, укрепившись в крепостях вокруг Парижа. Молодой Людовик стал главным звеном комбинации, рассчитанной на то, чтобы сблизить с королевской властью могущественный род Рошфоров и Монлери, обеспечив короне контроль над донжоном Монлери — важным стратегическим пунктом на дороге из Парижа в Орлеан, принесшим немало забот Филиппу I. Людовик обручился с Люсьенной, дочерью Ги Рыжего, графа Рошфора и сенешаля королевства, тогда как его единокровный брат Филипп Мантский женился на Елизавете, наследнице Монлери. Осуществлению этого замысла мешали внутренние раздоры в клане, и Гарланды, другой придворный род, бывший тогда в полной силе, при помощи интриг сорвали его. Когда на соборе в Труа в 1107 г. Людовик объявил о разрыве помолвки с Люсьенной, Рошфоры начали открытую войну с королевской властью, вступив в союз с Тибо IV, графом Блуаским. Их поражение стало началом упадка их рода — у них отняли должность сенешаля, а также ряд имений, Гарланды же на двадцать лет обеспечили себе первенство при дворе.Королевское управление: методы и персонал
Персонал, его происхождение и распределение полномочий
Рассказ об интригах, в которые впутали Людовика, прежде чем он получил доступ к власти, уже создает представление о тогдашнем дворе: сравнительно узкий круг, состоявший из семейств, для которых служба королю — и выгоды, какие она приносила, — была традиционной и которые боролись между собой за важные должности, рассчитывая приобрести могущество. Покинутые высшей знатью, которая вела самостоятельную жизнь в своих больших фьефах, Генрих I и Филипп I окружили себя церковниками и «верными», каких нашли в своем домене и которые построили успех своих родов на фундаменте королевской службы. Епископы и аббаты, все более поглощенные выполнением пастырских обязанностей, уже лишь время от времени появлялись при дворе, где только некоторые из них — Ив Шартрский, Сугерий — еще сохраняли реальное влияние. Что касается «верных»-мирян, то их потомки образовали в начале XII в. сильную аристократию, владевшую многочисленными замками в окрестностях Парижа. Некоторые даже приняли графские титулы и благодаря нескольким бракам породнились со своими повелителями. Среди этих родов во времена Людовика VI еще различали две группы, стоявшие в обществе на разном уровне: первая происходила от сеньоров-шателенов, вошедших в состав двора во второй трети XI в., таких как Монморанси, Бомоны, Монлери-Рошфоры, Монфоры; вторая состояла из простых городских рыцарей, взятых королем на службу только в конце XI в.: Гарланды, Ле Бутелье де Санлисы, еще одно семейство из Санлиса, поставлявшее королю казначеев, потомки которого станут графами Клермонскими… Но высшие придворные должности (сенешаля, коннетабля, казначея, кравчего) отныне могли принадлежать представителям обеих групп, и те старались передать их по наследству, а также добиться должности канцлера, которую мог исполнять только клирик. Среди этих пяти высших должностей намного важней других была тогда должность сенешаля: ее обладатель осуществлял военное командование, участвовал в отправлении суда и в контроле над деятельностью прево, несколько напоминал майордома. Но эти функции начали строго определять только с 1128 г., а до тех пор, да в немалой мере и позже, сенешаль обладал вполне реальной властью, но ее пределы были размыты. Полномочия других чиновников были еще менее определенными и во многом пересекались — то одному, то другому король поручал как проводить судебные процессы, так и управлять доменами, а войсками командовали они все. Впрочем, бывало, что и люди, не принадлежавшие к этой маленькой группе, выполняли аналогичные функции и оказывали на монарха влияние, оценить которое нам очень трудно. Во всяком случае, вполне ясно одно: титулы пяти высших сановников давали им доступ к королю, бесспорную власть, престиж, соблазнительные возможности войти в состав высшей знати и доходы (дозволенные или нет), чрезмерность которых хором осуждали все хронисты времен Людовика VI. Для этих прочно устроившихся людей верность королю уже не разумелась сама собой. Они, как и многие вассалы любого уровня в то время, были склонны считать, что она обусловлена преимуществами, какие они из нее извлекают. Как только король прекращал оказывать им милости, они примыкали к когорте непокорных шателенов-грабителей, для подчинения которых Людовику придется немало потрудиться, и без колебаний вступали в союзы с врагами — англичанами или шампанцами. Тем не менее, если не считать этих эксцессов, они неизменно составляли сравнительно однородную среду и жили, ежедневно общаясь с королем. Коль скоро вельможи избегали двора, то давала советы королю и принимала решения вместе с ним почти всегда одна и та же группа, каким бы словом ни называли ее собрания — palatium, curia, consilium. К этим влиятельным родам тяготел целый мирок соратников — тех, кого называли либо рыцарями короля, либо его familia. Они образовали крохотную постоянную армию и поставляли чиновников второго ряда — камергеров, виночерпиев и маршалов, а также многочисленных клириков, выполнявших обязанности духовников и нотариев. Гвиберт Ножанский клеймит их за «низкое происхождение». Действительно, среди них было много городских рыцарей, выходцев из Этампа, Орлеана, Шалона-на-Марне либо из Парижа, как наставник Людовика VI. То есть по происхождению они не отличались от Гарландов или Ле Бутелье де Санлисов. Поскольку их привлекли к придворной службе позже либо они оказались менее ловкими, чем последние, они не обеспечили своим родам столь же блестящей карьеры. Но при Людовике VII и даже при Филиппе Августе мы встретим не одного из потомков рыцарей или камергеров Людовика VI.Времена Гарландов (1109–1127)
В последние годы царствования Филиппа I при дворе доминировали три рода — Рошфоры, Санлисы и Гарланды. Об изгнании первых здесь уже говорилось. Вторые, отодвинутые в тень на время господства Гарландов, потом вновь добились должности кравчего, которую с 1108 по 1112 г. занимал Ги де Ла Тур де Санлис. Реальной властью в течение большей части царствования обладали четверо братьев Гарландов. Они начали усиливаться, еще когда Людовик VI был соправителем отца, и завершили подъем после падения дома Рошфоров — благодаря верности молодому королю и услугам, какие оказали ему в трудный период начала царствования. Ансо де Гарланд наследовал пост сенешаля после ранней смерти пятого брата; ему пришлось вернуть эту должность ее прежнему обладателю, Ги Рыжему, когда тот вернулся из крестового похода, а последний сумел передать ее по наследству сыну, Гуго де Креси. Но Ансо вернул себе этот пост во время опалы Рошфоров в 1107 г. и был главнокомандующим армией десять лет, пока не погиб в бою от руки самого Гуго дю Пюизе, ворвавшись в его логово в 1118 г. Тогда ему наследовал брат Гильом; он и командовал армией в следующем году при Бремюле, но в 1120 г. умер. Что касается Жильбера, он с 1112 г. стал кравчим. Самым влиятельным был Этьен, единственный клирик из пяти братьев; канцлер с 1106 г., он обладал такой властью, что некоторые хронисты называют его майордомом (даже если другие, хуже знавшие соотношение сил, не используют это слово). По смерти Гильома он получил и должность сенешаля, чему современники с полным основанием изумились: ведь этот пост предполагал командование армией, что совсем не подобало духовному лицу, и никогда прежде не передавался человеку, уже занимающему пост канцлера. Бесчисленных злоупотреблений властью и должностных нарушений, в которых был повинен Этьен, его алчности до прибыльных церковных бенефициев оказалось недостаточно, чтобы король утратил к нему доверие, как ни старались Бернард Клервоский, королева и многие прелаты, приверженные церковной реформе. Эпизод, приведший к падению Гарландов, выявляет самую грозную опасность для королевской власти в то время — укреплявшуюся тенденцию передавать должности по наследству. В 1127 г. Амори IV де Монфор, граф Эвре, женился на племяннице Этьена де Гарланда; очень похоже, что в связи с этим последний обещал, что тот наследует пост сенешаля. Эрик Бурназель утверждает, что такая комбинация не понравилась королю, и напоминает, что Амори, вероятно, не был подходящей кандидатурой для того, чтобы командовать капетингской армией, так как в начале царствования принимал участие в заговоре Филиппа Мантского[132]; но ведь с тех пор Амори уже неоднократно доказывал свою верность, воюя с Генрихом I[133]. Резкую реакцию Людовика VI вызвало скорей опасение, как бы передача высших должностей по наследству, уже более или менее регулярно практиковавшаяся в семьях обладателей этих должностей, не вышла из-под его контроля полностью и не привела к быстрой феодализации постов, сделав невозможным какое-либо управление страной. Поэтому после долгого мятежа Этьена в качестве платы за примирение от него потребуют именно отказа от всяких попыток передать должность сенешаля по наследству. Хронисты странным образом не склонны распространяться об опале Гарландов. Тем не менее ход событий можно восстановить: в промежутке между августом и декабрем 1127 г. или, может быть, в первые месяцы 1128 г. Этьен был смещен с обеих своих должностей, Жильбер — со своей, и оба удалены от двора; их владения конфисковали, а дома в Париже снесли. Должности канцлера и кравчего немедленно обрели новых владельцев, а должность сенешаля, более опасная, оставалась вакантной четыре года, пока не была отдана Раулю де Вермандуа, двоюродному брату короля. Это было первым проявлением политики, которая в последующие царствования войдет в систему; те из высших должностей, что больше всего мешали королевской власти, надолго будут оставаться вакантными, и придворные кланы перестанут соперничать за обладание ими и передачу их по наследству. Удаление от двора Гарландов привело к трехлетней войне: они, втянув в свой мятеж Амори де Монфора, вступили в союз с Генрихом I и Тибо IV, всегда готовыми дать приют недовольным; королю ничего не оставалось, кроме как преследовать их по замкам, как он уже делал в отношении стольких сеньоров. Кульминацией войны стала осада замка Ливри-ан-Бри, где укрепились мятежники. Рауль де Вермандуа, главный соратник короля в этой серии операций, потерял там глаз, и сам Людовик VI был ранен в ногу арбалетным болтом. Взятый штурмом, замок был разрушен в период с 1128 по 1130 г. Этьен покорился, вернулся в милость благодаря великодушию королевы (между апрелем 1129 г. и 1131 г.) и даже в 1132 г. получил обратно пост канцлера. Амори продолжил борьбу — несомненно, до 1132 г. Не восстановив прежнего могущества, Этьен до самой смерти Людовика VI все же пользовался некоторым влиянием. Подозрений в соучастии, павших на него в 1133 г. после убийства двух клириков-реформаторов, оказалось недостаточно, чтобы сместить его с занимаемого поста, хотя враги и яростно добивались этого.Влияние Сугерия и Рауля де Вермандуа (1127–1137)
Отныне король прислушивался к советам двух людей: Рауля де Вермандуа и Сугерия. Правда, некоторые считают, что этот период был, наоборот, стадией утраты политического влияния Сугерия, якобы проявившего излишнюю симпатию к Этьену де Гарланду; но это представляется не слишком вероятным. И отношения между Раулем и Сугерием в описании разных авторов колеблются от доброго согласия до упорной вражды — это следствие расхождения в оценках, неизбежного в ситуации, известной нам только по нескольким фразам хронистов и нескольким упоминаниям в официальных актах. В тот период как будто ничто не предвещало ссоры, которая вспыхнет между этими двумя людьми после смерти Людовика VI. Тем не менее ясно, что их характеры, дарования и политические замыслы сильно различались или, если угодно, взаимно дополняли друг друга. Авторитет, приобретенный Раулем в последнее десятилетие царствования, несомненен: двоюродный брат короля, он был выше соперничества сановников, отравившего предыдущий период, и многократно доказал свою верность. Доблестный воин, он помогал королю и замещал его, почти утратившего подвижность из-за ожирения, при руководстве военными операциями. Титул сенешаля он носил с 1132 г„но обязанности его исполнял с 1129 г. — ведь в большинстве королевских грамот его имя стоит рядом с именами остальных четырех высших сановников. Сугерий уточняет, что именно по инициативе Рауля был предпринят последний и решающий поход на Тома де Марля в 1130 г. и что это Рауль нанес смертельный удар мечом старому разбойнику. Род Вермандуа питал давнюю ненависть к роду Куси, своим соседям. Оба рода несколько лет назад боролись за графство Амьен, и как раз Тома тогда убил Анри, брата Рауля. Впрочем, мы увидим, что у короля были и другие основания для вмешательства. Доминик Бартелеми интерпретирует войну 1130 г. как поход коалиции королевской армии и отрядов графства Вермандуа (а не как королевскую экспедицию, в которой Рауль участвовал как сенешаль) и особо отмечает фактор личной мести в жесте Рауля, который прикончил раненого и пленного Тома[134]. Парадокс линьяжной политики: через два года, после безрезультатного королевского похода на сына Тома, Ангеррана де Куси, Рауль отдал последнему свою племянницу в залог заключенного тогда мира. Можно также полагать, что Рауль убедил короля возобновить и продолжать, часто прибегая к особой жестокости, войну с Тибо IV Блуаским (1127–1135). Сосед последнего в Шампани, Рауль женился на племяннице Тибо, но, похоже, не слишком его любил; тем не менее, как и с Сугерием, открытая вражда между ними начнется только после 1137 г. Что касается Сугерия, то советы, какие он давал Людовику VI, имели совсем противоположную направленность: защищать слабых, поддерживать прелатов-реформаторов, сохранять доброе согласие с Римом (иллюстрацией этого согласия, в частности, может служить долгий визит Иннокентия II в 1130 г., в котором Сугерий сопровождал папу, после того как тот был признан королем и высшими сановниками французской церкви). Последним из важнейших вопросов, которые занимали Сугерия как политика, было примирение с Шампанью. Ведь он поддерживал наилучшие отношения с графом Тибо и всячески желал в принципе покончить с вооруженной борьбой, какую столь давно вели оба государства. После восьми лет почти непрерывной войны он в 1135 г. добился удовлетворения этого желания, потому что Людовик VI был тяжело болен и хотел оставить сыну мирное королевство. Со своей стороны, Тибо, привлеченный перспективами, какие открывала ему возможность наследовать Англию, поспешил прекратить враждебные действия. Примирение было полным: Тибо вновь занял при дворе свою должность графа дворца, и Рауль де Вермандуа даже назначил его воспитателем Людовика VII. Таким образом, в том, что касается баланса влияний при дворе, царствование Людовика VI закончилось совсем в другой тональности, чем началось. Накал борьбы между кланами придворных сановников, близкими к беспокойной знати Иль-де-Франса и озабоченными тем, чтобыобеспечить себе лучшие места и передать их наследникам, в результате падения Гарландов и последующей войны несколько ослаб. Эти семьи по-прежнему присутствовали при дворе и останутся там надолго; но очень похоже, что на решения короля теперь прежде всего влияли мнения двух людей, не принадлежавших к этому кругу. Их взгляды во многом расходились, но за ними следует признать масштаб, какого не имели планы советников времен начала царствования, не видевших дальше границ королевского домена; после 1137 г. эти взгляды получили полную возможность для распространения.Королевский домен: усмирение домена, коммунальное движение, трансформации крестьянского общества
Усмирение домена
Всю жизнь Людовик VI вел начатую в юности борьбу за восстановление власти над бесчисленными шателенами, которые при его предшественниках вышли из-под королевского контроля, построив крепости либо присвоив те, которые доверили им сами короли. Однако походы происходили все реже, по мере того как король тяжелел физически и, главное, возрождался порядок: сыну Людовик VI оставил почти усмиренный домен. Предпринимая эту ожесточенную борьбу, от которой зависело сохранение королевской власти, французский король поступил точно так же, как в таких случаях поступали его крупные вассалы. В тот же период граф Фландрский, граф Анжуйский или герцог Нормандский, если не упоминать других, вели совершенно аналогичные войны с собственными вассалами. Всеобщая самостоятельность шателенов зиждилась на том, что множились землебитные и деревянные крепости, которые легко было строить и чинить, что королевские полномочия оказались раздробленными, доставшись даже сеньорам отдельных деревень, и что сформировался феодальный обычай, допускавший почти полную независимость вассалов — им безусловно дозволялось оказывать сопротивление сеньору. Ведь дело замирения, каким занимался Людовик VI, хоть по прошествии времени и выглядит первым актом собирания территории королевства, в его время было не более чем одним из предприятий по возвращению своей власти, какие обычно организовывали территориальные князья. Его старания, более или менее скоро увенчавшиеся успехом, привели к тому, что первый феодальный век сменился вторым, «сеньориальный строй» (или, если угодно, «феодальная анархия») — монархическим. Тем не менее в действиях Людовика VI больше всего поражает воображение не этот аспект реорганизации власти, а восстановление мира, борьба с несправедливостью и произволом (закрепленными обычаем или нет), какие были характерны для властвования независимых шателенов. В этом смысле король — как и другие территориальные князья — стал прямым продолжателем дела «Божьего мира», наконец выполнив его программу, провозглашенную полтора века назад. Тома де Марль Самыми знаменитыми из непокорных шателенов были Тома де Марль и Гуго дю Пюизе. На их сопротивлении королю Сугерий, наш главный источник информации о походах Людовика VI, останавливается подробней всего. И в коллективной памяти по-настоящему остались только эти «сеньоры-разбойники». Тома де Марль, родившийся в 1080 г., наследовал сеньорам Куси, Марля и Ла-Фер, имевшим немало владений в области Лана. У него были общие черты со многими современниками, принадлежавшими к той же социальной группе: он принял участие (как блестящий воин) в Первом крестовом походе, он сумел расширить свою вотчину за счет выгодных браков (в его случае — не менее трех), и он тиранил всех, кто не мог защититься: крестьян, служителей церкви и купцов, вымогая у них как можно больше денег, земель и услуг. Этот «железный закон» сеньориальной системы, которая могла существовать, только оказывая безжалостное давление на тех, кого эксплуатировала, в большой степени объясняет, почему происходили грабежи и злоупотребления властью, с которыми боролись Людовик VI и территориальные князья его времени. Тем не менее жестокости, которые Тома де Марль совершал с удовольствием, выделяют его из ряда прочих шателенов: подробно расписанные Сугерием и Гвибертом Ножанским, они создают «фоторобот» сеньора-злодея и оправдывают действия короля и церкви против него. Они же побудили в 1101 г. сплотиться против него соседей и даже родственников; бежав из своего осажденного замка, он сумел получить помощь от Людовика VI, который его спас. После десяти лет новых бесчинств он воспользовался волнениями в Лане, чтобы добиться выгод и пополнения клиентелы за счет всех конфликтующих сторон. Он отказался возглавить повстанцев, но дал убежище убийцам епископа, своего родственника (впрочем, лидеры противной группировки тоже приходились ему родней), принял участие в разграблении города и велел убить архидиакона, тоже родственника. Это было уже слишком: собрание епископов официально осудило его и призвало короля вмешаться. Состоялся настоящий крестовый поход, в результате которого в 1115 г. Тома в лишился двух замков и был вынужден компенсировать ущерб своим жертвам; но он остался на свободе и продолжал грабежи и насилия до самого 1130 г. В этом году новое королевское вмешательство стало неизбежным, так как сир де Марль захватил в плен купцов, которых король снабдил охранной грамотой. К тому же он убил Анри де Вермандуа — двоюродного брата Людовика VI и родного брата королевского сенешаля. Смертельно раненный последним и взятый в плен, Тома испустил дух, не покаявшись и не согласившись освободить купцов, которых удерживал. Через два года королю пришлось провести последний поход, чтобы покончить с наследниками Тома, но захватить их замки так и не удалось. Гуго дю Пюизе Что касается Гуго III дю Пюизе, то еще его дед Гуго I нанес в 1078 г. поражение королевской армии. Замок Ле-Пюизе, поднимавшийся на границе Шартрской и Орлеанской областей, недалеко от дороги из Парижа в Орлеан, когда-то был королевской крепостью, но о вассальной связи этого рода с короной прочно забыли. Не довольствуясь неистовым грабежом церковных земель, Гуго напал на владения графа Тибо IV Блуаского, которому приходился вассалом за виконтство Шартр. Жалоба графа королю, к которой добавились жалобы епископов Шартрского и Орлеанского и аббата Сен-Дени (у которого в тех местах были обширные владения), вынудила Людовика в 1111 г. вмешаться. Вызванный, чтобы оправдаться, Гуго не явился. Король устроил поход: замок Гуго был взят приступом и разрушен. Сугерий, одно из главных действующих лиц этой истории, оставил подробный рассказ о ней. Гуго, взятый в плен, а потом освобожденный, вступил в союз с Тибо и восстановил свой замок; последний выстоял против нового штурма, но не выдержал блокады, несмотря на помощь английского короля (1112 г.), и снова был разрушен. Людовику VI пришлось выйти в поход в третий раз в 1118 г., и крепость снова была осаждена и снесена после штурма, в ходе которого расстался с жизнью сенешаль Ансо де Гарланд. Умер Гуго в Святой земле в 1132 г. Война с Монлери-Рошфорами и другие военные операции Людовика VI Род Монлери-Рошфоров был третьим из главных противников Людовика, мешавших ему замирить домен. Они владели целым ансамблем крепостей, контролировавших большие маршруты к югу от Сены: это были замки Монлери, Гомец, Рошфор-ан-Ивелин, Креси-ан-Бри, Бре-сюр-Сен, Гурне. Этот род — наглядный пример больших сеньориальных семейств Иль-де-Франса, представители которых в XI в. бывали при королевском дворе, но которые сохраняли территориальную независимость. После стадии, на которой в начале века Филипп I и его сын попытались привязать этот род к себе, расставание Людовика с Люсьенной де Рошфор ознаменовало начало периода почти непрестанной вражды, порой сопряженной с боевыми действиями. Людовик воспользовался внутренними распрями в семействе: Гуго де Креси часто конфликтовал с двоюродным братом Милоном де Бре и его единоутробным братом Эдом де Корбейем. После десяти лет борьбы дом Монлери-Рошфоров угас, когда Гуго де Креси собственными руками задушил Милона де Бре. Осуждение оказалось настолько всеобщим, что Гуго, осажденный королем в замке Гомец, спас себе жизнь только тем, что удалился в Клюни в 1118 г. Было и еще много походов Людовика VI на сеньоров-беззаконников, которые описаны Сугерием и другими хронистами или же упоминаются в хартиях. За особо интенсивным периодом, предшествовавшим его коронации, последовал ряд операций в Вексене: он покарал нескольких сторонников английского короля во время войны с последним, отбил в 1109 г. Мант у единокровного брата Филиппа и захватил в 1110 г. Мелан, граф которого в отместку совершил набег на Париж в отсутствие короля. Последний воевал и в Гатине, другой пограничной области: виконт Гатине покорился и был вынужден в 1112 г. продать свои замки, тогда как крепость, которой в Шато-Ренар владел Тибо Блуаский, в 1124 г. разрушили. Целью его последней кампании в 1135 г. стал находившийся южней Сен-Бриссон-сюр-Луар близ Жьена. Важность замирения домена Борьба Людовика VI с сеньорами королевского домена, похоже, шла не на основе целостной стратегии, а под диктовку обстоятельств. Скромная по географическому размаху, она была почти ничтожной с точки зрения целей и средств: отряды в несколько десятков, в лучшем случае в двести-триста всадников нападали на башни, чаще всего деревянные, которые владелец отстраивал, как только королевская армия удалялась. И сколько бы энергии ни тратил король, ему даже не удалось ощутимо расширить домен, как это сделал его отец. Впрочем, ряд примеров показывает, что многие роды, с которыми он воевал, далеко не были его непримиримыми врагами, — не один из них регулярно посылал своих представителей ко двору в прошлом веке, некоторые еще служили ему, когда с ним не ссорились, а многие из замков, которые он брал приступом, когда-то принадлежали первым Капетингам, позволившим их у себя отобрать. В большинстве «сеньоры-разбойники» были хорошо знакомы королю, приходились более или менее близкой родней его чиновникам, а их «разбой» в отношении церквей или купцов объяснялся просто радикальным представлением об автономии вассалов по отношению к сеньору, отчаянными усилиями приспособиться к монетной экономике и очень индивидуальными взглядами на поддержание порядка (см. карта 7).
Какими бы заурядными ни были его операции и узкими — горизонты, деятельность Людовика VI в своем домене имела фундаментальную важность для возрождения королевской власти и вполне заслуживает славной памяти, какую о ней сохранило потомство. Именно на базе этой объединенной и замиренной территории с восстановленными коммуникациями, с экономикой, избавленной от грабежей и произвольных поборов, Филипп Август сможет вести свою завоевательную политику. Не менее важными, хоть не более очевидными, были и экономические результаты этой деятельности. Главные дороги, пересекавшие домен (в Орлеан, на Луару и в долину Роны, в направлении Уазы, Эны и Шампани, во Фландрию), попали под королевский контроль как раз в период, когда крупная торговля пошла на подъем и когда территориальные князья — во главе с графами Шампанскими и Фландрскими — проводили выгодную торговую политику на основе покровительства купцам[135]. Наконец, действия Людовика VI, предпринятые с благородными намерениями — защиты мира и правого дела, покровительства слабым и церкви, — и осуществленные с блеском, внесли значительный вклад в создание того образа королевской власти Капетингов, к какому с тех времен она стремилась, и вполне могли снискать одобрение духовенства, поддержку со стороны купцов и крестьян.
Становление коммун. Трансформации крестьянского общества
На царствование Людовика Толстого пришелся пик борьбы за свободу, нашедший особенное выражение в движении за коммуну, с последней трети прошлого века ширившемся в городах, особенно на севере и северо-востоке королевства. Король не мог оставаться равнодушным к этому массовому движению, менявшему политический и социальный баланс в богатейших центрах его государства. Поэтому ему пришлось вмешаться в дела около десятка городов, принадлежавших ему или подлежавших юрисдикции епископа или аббата, зависимого от него; в чем именно заключалось данное вмешательство, можно выяснить только путем скрупулезного анализа. Ланская коммуна Восстание в Лане (наряду с событиями в Брюгге 1127 г.) благодаря обстоятельному рассказу, оставленному Гвибертом Ножанским, стало одним из самых известных потрясений, какие произошли в городах королевства в те времена. Тонкие наблюдения Гвиберта в сочетании с не менее проницательным анализом Доминика Бартелеми[136] позволяют лучше понять, насколько сложными бывали ситуации, в которых рождались коммуны и из которых в огромном большинстве прочих случаев мы можем разглядеть лишь отдельные элементы. Даном, старинной резиденцией королей, городом, богатевшим за счет эксплуатации пригородной сельской местности и продажи вина на Север, управляли одновременно епископ и королевский прево. В начале царствования Людовика VI епископом был Годрик, бывший капеллан английского короля, родственник Тома де Марля, проявлявший особую невосприимчивость к григорианским идеям, жесткий и хищный как правитель. Первую из двух влиятельных групп в городе можно определить, как proceres urbis [городскую знать (лат.)], а вторую — как burgenses [горожан (ср.-в. лат.)] или cives [граждан (лат.)]. Первые представляли собой феодальную знать, по преимуществу сельского происхождения; они были вассалами епископа либо связаны с ним корыстными отношениями, а их жилища сосредотачивались внутри пояса городских валов, вокруг собора; эта среда была аналогична среде рыцарей из Санлиса, Орлеана или Этампа, каких мы встречали в королевском окружении. Вторые к знати не относились; они были слабо интегрированы в феодальную систему, а некоторые находились в более скромной (но иногда выгодной) личной зависимости типа министериальной; вероятно, они разбогатели на торговле и ростовщичестве, а жили чаще всего в «бурге» вне городских стен, принадлежавшем большому королевскому аббатству Сен-Жан. Кровопролитное восстание горожан ненароком вызвали ссоры между знатными аристократическими родами. В январе 1110 г. убили дворянина Жерара де Кьерзи, который был вассалом аббатства Сен-Жан и, значит, связан с burgenses и королевским прево; месть за убийство коснулась в той или иной форме Тома де Марля и епископа, заподозренных в соучастии, а также многих групп жителей, связанных с той или иной кликой. Горожане, которых встревожили беспорядки и которые устали от чрезмерных фискальных требований Годрика, сформировали сообщество (communia), окружение же епископа в его отсутствие, а по возвращении и он сам согласились — за деньги — это сообщество признать. В 1111 г. члены сообщества добились сокращения налогов и прекращения фискального произвола. Король утвердил эту хартию. На Пасху 1112 г. его визит в Лан стал завязкой драмы: Годрик попытался воспользоваться его присутствием, чтобы упразднить коммуну, получив за золото согласие короля; коммунары набавили цену, предложив четыреста ливров; епископ взял верх, дав семьсот. Король их взял, упразднил коммуну и немедленно уехал. На следующий день епископ принялся выбивать из самих жителей деньги, которые ему пришлось заплатить королю. 25 апреля 1112 г. вспыхнуло восстание; в епископский дворец ворвались, Годрика, спрятавшегося в бочке, убили вместе с несколькими вассалами, жилища которых разгромили; собор сожгли. Последовал период анархии; многие бюргеры покинули город, и окрестные крестьяне воспользовались возможностью пограбить его. Тома де Марль, которого настойчиво просили возглавить мятежников, отказался и стал лавировать между лагерями, пытаясь усилить свое влияние, как делал и его отец, Ангерран де Куси. К 1114 г. восставшие, похоже, ослабли: 29 августа во время освящения восстановленного собора архиепископ Реймсский мог читать проповедь на тему повиновения вышестоящим и поносить коммуны. В марте-апреле 1115 г. королевская армия, преследовавшая Тома де Марля, воспользовалась прохождением близ Лана, чтобы вступить в город, который не оказал сопротивления, и сурово наказать бывших инсургентов. В 1128 г. король вернул Лану вольность, назвав эту акцию «установлением мира». Сообщество, в следующем году включившее в себя четыре ближайших деревни, возглавили мэр и присяжные, которые, похоже, к тому времени уже выполняли свои обязанности; были уточнены фискальные и судебные обязанности сообщества в отношении короны; его членов освободили от сервильных повинностей, предоставили собственной юрисдикции и обязали платить фиксированную талью; определили их отношения со знатью и клириками; были оговорены права короля, епископа и других сеньоров; наконец, всех жителей, совершивших преступления во время смут, помиловали, кроме тринадцати человек. Другие примеры вмешательства Людовика VI в коммунальное движение Наша информированность о ланском событии имеет совершенно исключительный характер: остальные коммунальные движения того времени остаются для нас очень малоизвестными. В 1108–1110 гг. король утвердил хартию вольности Нуайона по просьбе самого епископа, должно быть, решившегося на это, потому что жителей поддержал шателен. В 1110 г. он даровал вольности городу Манту, только что отбитому у единокровного брата Филиппа, — верность жителей, которым постоянно угрожали англо-нормандцы, надо было поощрить; впрочем, король оставил за собой назначение высшего должностного лица, которым станет его собственный прево. На следующие годы пришлись Ланское восстание и еще два кровопролитных бунта, в Амьене (1113–1117) и в Бове (1114–1115). События в Амьене очень близки к событиям в Лане по времени и по составу участников — там обнаружился Ангерран де Куси. Но фронт там оказался перевернутым: епископ поддержал коммуну. Вскоре после Ланского восстания, вероятно, в течение 1113 г., жители Амьена добились от епископа хартии вольности, которую король утвердил. Не признали два светских сеньора, деливших с епископом власть над городом, — шателен Адам, комендант городской крепости (Шатийона), и граф Амьенский, которым был не кто иной, как Ангерран де Куси, род которого присвоил себе графское достоинство в ущерб сыновьям Гуго де Вермандуа. Война, вспыхнувшая после этого между обеими сторонами, привела в апреле 1115 г. к вмешательству короля, который вернул графскую власть роду Вермандуа и признал коммуну, но не смог захватить Шатийон. Последний держался еще два года. В Бове коммуна существовала с конца XI в. и была утверждена Людовиком VI — неизвестно, в каком году. Но в 1114 г. — отметим: одновременно с событиями в Лане и Амьене, — вероятно, когда епископский престол был вакантен, между жителями и соборным капитулом вспыхнул конфликт из-за убийства, в котором, как подозревали, был замешан один из каноников. Король вмешался, хотя капитул ссылался на право самостоятельно судить своих членов; сильно раздраженное население изгнало каноников и разграбило их жилища. В следующем году король еще раз вступился за жителей, теперь в связи со злоупотреблениями судебной властью со стороны шателена города. Король ратифицировал также хартию, предоставленную аббатами Корби и Сен-Рикье жителям своих городов (1123–1126), хотя во втором случае был вынужден пресечь чрезмерные проявления независимости со стороны коммунаров. Он также учредил коммуну в епископальном городе Суассоне (вероятно, после 1116 г.), но, как и в Сен-Рикье, впоследствии, в 1136 г., должен был напомнить жителям о границах, поставленных их свободе. Тем не менее эти привилегии были распространены на шесть деревень в окрестностях. Людовик VI даровал хартию также Дре (точная дата неизвестна), а в 1128 г. утвердил коммуну в Шелле. Наконец, во Фландрии Людовик VI во время похода 1127 г. утвердил хартии, великодушно, впервые или заново, дарованные Вильгельмом Клитоном Сент-Омеру и Брюгге в обмен на их подчинение — щедрота бесполезная и забытая со следующего года из-за оплошностей, допущенных новым графом. Но Тьерри Эльзасский, обязанный победой городам, в свою очередь должен был признать их коммуны; так зародилась автономия больших фламандских городов, выросшая, впрочем, из давней графской милости. Французский король на этот ход событий не имел никакого влияния. Существовала ли королевская политика в отношении городов? Заметно, что трудно сказать, была ли у Людовика Толстого политическая концепция отношения к такому важному новшеству, как коммуны, и еще трудней — в чем эта концепция состояла. Историки иногда пытались прояснить, как менялось его отношение к коммунам, датируя 1120-ми гг. охлаждение после того, как он несколько раз выказал последним милость. Во всяком случае, можно отбросить расхожее представление, будто он их поддерживал как подходящих союзников в борьбе с непокорными феодалами. Пример Амьена и некоторые аспекты примеров Бове и Манта такому представлению соответствуют, но, анализируя ситуацию в Лане, мы уже убедились, насколько социальная реальность и соотношение сил были сложней и богаче оттенками, чем просто противостояние «бюргеров» и «феодалов». Из роли ополчения — кстати, скорей сельского, чем городского, — в штурме Ле-Пюизе, которое так восхвалял Сугерий, не следует делать общих выводов. Лучше вычленить некоторые факторы, влиявшие на мнения короля в этой сфере; во-первых, любовь к деньгам, которая не раз предопределяла его позицию. Во-вторых, стремление к порядку, которое в зависимости от конкретного случая могло побудить его выступить как на стороне коммун (ведь они в принципе были институтами для защиты мира и порядка), так и против них (ведь их сопротивление установленным властям на деле иногда приводило к беспорядкам). Наконец, влияние клириков, которые чаще всего, но не всегда, настраивали его против коммун. Каждому известна формулировка Гвиберта Ножанского: «коммуна — новое и отвратительное слово» (или, точней, «новый и отвратительный смысл этого слова»), вставшая в ряд лапидарных оценок того же рода, первую из которых сделал Ив Шартрский. В целом и по многим причинам высшее духовенство скорей осуждало коммунальное движение, и его антипатия, конечно, сказывалась на настроениях короля. Остается последний нюанс: очень похоже, что король предоставлял городам, не принадлежавшим ему непосредственно, более обширную автономию чем своим собственным. Мы уже видели проявление такой осторожности в отношении Манта, ее можно обнаружить и в предоставлении привилегий четырем большим королевским городам: Парижу, Орлеану, Этампу и Буржу, а также Компьеню. Что касается Парижа, то речь идет о привилегии, дарованной в 1121 г. «ганзе речных купцов», то есть объединению купцов, торговавших на Сене. Этот текст был очень важным для парижских купцов, ознаменовав начало их господства над городом; но его содержание было чисто коммерческим. Тексты для прочих городов, насколько они известны, в большей степени затрагивают личные свободы и налоговые вопросы, но ни о какой автономии коммунального типа в них речи нет. Однако хроника монастыря Мориньи — важный источник по истории царствования — сообщает, что и королю пришлось столкнуться с возмущением в Этампе из-за одного судебного дела. Но можно сказать, что в целом коммунальный феномен не имел никакого отношения к действиям Людовика VI в его домене. Король и трансформации крестьянского общества Сохранилось немало актов Людовика, касающихся положения крестьян, которые жили на его землях и на церковных. Его интерес был вполне под стать переменам, происходившим в тот период в деревне: повинности по отношению к сеньору, повсюду претерпевали кодификацию и во многих случаях становились легче (неизбежным следствием письменной фиксации было прекращение или уменьшение произвола). С другой стороны, демографический рост побуждал сеньоров проявлять инициативу, и они создавали новые деревни, также снабжая их писаными кутюмами. Король тоже демонстрировал активность, соответствовавшую его роли крупного землевладельца и опекуна церковных имений, но нельзя сказать — как иногда делали историки, — что он был особо либеральным сеньором, склонным к освобождению сервов[137]. Ведь многие из этих актов подтверждают его права на владение сервами, на которых претендовали другие сеньоры, или посвящены разделу детей, рожденных от браков между сервами из разных сеньорий. Случаев освобождения отдельных людей немного, но к ним надо прибавить десяток актов, улучшавших положение сервов, которые принадлежали церковным сеньорам. Тексты, более всего заинтересовавшие историков, говорят о коллективных улучшениях статуса свободных крестьян, которые жили или приглашались жить в королевских деревнях (семь случаев) или церковных (тридцать случаев); к этим текстам следует добавить шесть актов о совладении. Часто задача состояла в том, чтобы пресечь неправомерные реквизиции на церковных землях, какие производили соседи — могущественные миряне; тут мы снова выходим на сюжет борьбы с бесчинствами мелких сеньоров. Но в большинстве хартий облегчаются или отменяются повинности перед самим королем (и иногда признается их несправедливость, как и в предыдущей категории); впрочем, это делалось для того, чтобы угодить скорей капитулам и монастырям, чем крестьянам. Однако в очень немногих случаях есть и настоящие хартии вольности, наделявшие деревни очень выгодным статусом; самый известный из этих текстов — хартия для деревни Лор-рис в Гатине (недатированная), по образцу которой после были даны хартии другим сельским общинам. Она предусматривала освобождение от серважа любого человека, который проживет в этой деревне год и один день, свободу покидать свою землю, отмену барщины, дозорной обязанности, чрезвычайных налогов и пошлин на продажу продуктов питания, а также фиксацию очень умеренных сумм в качестве прочих выплат и судебных штрафов. Упоминание охранного пропуска на ярмарку (conduit defoire), выписываемого торговцам, показывает, что мы имеем дело с экономикой, широко открытой для торговли, какая часто встречалась в местностях, щедро наделенных привилегиями. Но надо подчеркнуть, что от этих вольностей еще очень далеко до коммунальной автономии: королевские чиновники полностью сохраняли контроль над деревней, и по-прежнему только они вершили там суд. Хорошо заметно существенное качественное различие между статусом крестьян, даже в самом благоприятном варианте, и статусом жителей коммунальных городов. Лишь десять-двенадцать деревень в окрестностях Лана и Суассона пользовались в то время вольностями, которые можно сравнить с городскими. В других случаях король приглашал «гостей», обещая им ту землю, которую они расчистят, и ограниченные повинности, но не предоставляя свободы и обязывая жить в этом месте. Самая классическая хартия для таких «гостей» (притом что многое в ней нам остается неясным, как часто бывает с такими текстами) — хартия для Торфу, деревни, основанной ранее 1134 г. на полдороге между Парижем и Этампом[138]. Она иллюстрирует главные аспекты политики Людовика VI, которую продолжит и Людовик VII: участие в широком движении расчистки целины, какое принимали также прочие сеньоры Иль-де-Франса и других мест; привлечение людей с целью усилить королевскую власть и, может быть, ослабить власть враждебных сеньоров из окрестностей; усиление контроля над важными маршрутами и особенно над дорогой, связывающей Париж и Орлеан, безопасность которой была постоянной заботой королевской власти — Бург-ла-Рен и Ле-Марше-Неф-д’Этамп были основаны тоже Людовиком VI, а его преемники добавили к ним другие деревни. Последние — ради большей безопасности этой жизненно важной области, угрозу для которой составляли не менее опасные шателены, чем владетели Ле-Пюизе или Монлери, — получали такие же права, как и деревни, основанные или освобожденные аббатством Сен-Дени (о которых мы хорошо знаем благодаря Сугерию) либо другими аббатствами и капитулами[139]. Тем самым хартии вольности способствовали замирению королевского домена.Крупные фьефы и Англо-Нормандское королевство
Крупные фьефы
Усиление региональных государств Королевский домен был не единственным государством, где в первой половине XII в. встала задача консолидации. Территориальные князья в те времена тоже старались одолеть независимость феодалов, парализовавших их власть, и некоторые начали обзаводиться административными структурами, каких еще не имел король. Ведь царствование Людовика VI было периодом, когда региональные государства, могущество и независимость которых придают своеобразие французской политической истории, по-настоящему структурировались. Как ни парадоксально, капетингская монархия в конечном счете извлекла наибольшую выгоду из этих политических перемен, даром что последние очень часто считают единственным негативным фактором, помешавшим Франции достичь национального единства за недолгий срок. На самом деле, как только преемникам Людовика VI удавалось завладеть каким-то из этих больших фьефов с помощью силы или, как они предпочитали, с помощью умелого комбинирования матримониальных и феодальных связей, как их могущество возрастало очень быстро — ведь каждое из маленьких государств, приобретаемых ими, уже представляло собой цельную и эффективную единицу. Следовательно, создание внутренней организации, проводившееся во времена Людовика VI в этих региональных государствах, в итоге оказалось полезным для королевской власти[140]. Среди этих государств, формирование которых шло полным ходом, постоянные связи с монархией поддерживали только княжества северной половины королевства. Фландрия, Анжу, графства Блуа и Шампань — не говоря уж о могущественной Нормандии — могли в зависимости от обстоятельств становиться сильными партнерами или противниками Капетингов во всех делах. Их отношения с государем имели очень непостоянный характер: вчерашний союзник завтра мог стать врагом, и магнаты начинали войну так же запросто, как и шателены королевского домена, с которыми они при случае вступали в союз. Однако в запутанном клубке, какой представляли собой связи короля с его основными вассалами, можно различить несколько главных нитей. Король и его вассалы Константа первая: слабость связей с фьефами, которые не соседствовали с королевским доменом непосредственно. Это утверждение относится к Бретани, тяготевшей к Англо-Нормандскому государству (и официально связанной с ним статьями Жизорского договора 1113 г.), и к герцогству Бургундскому, географически более близкому, но политически как минимум столь же чуждому. Еще в большей степени это можно сказать о южных княжествах, связи с которыми возникали лишь в отдельных эпизодах — таких, как призыв к графу Барселонскому о помощи против Альморавидов, напоминающий о каролингских временах. На Юге доминировали соперничающие графы Тулузские и Барселонские, которые стремились расширить свое владычество от Пиренеев до Альп и не проявляли никакого интереса к событиям на Севере. Герцог Аквитанский, более близкий, оставался очень сдержанным и лишь изредка вступал в прямые контакты с сюзереном; в 1126 г., во время второго похода в Овернь, он был готов к столкновению, но предпочел принести запоздалый оммаж. В конце царствования случилось нечто совершенно неожиданное — Людовику VI предложили женить старшего сына на Алиеноре, наследнице этого герцогства. Этому браку предстояло перекроить всю политическую географию королевства. Константа вторая: враждебность Тибо IV, графа Блуаского и Шартрского с 1106 г., а потом еще и Шампанского — с 1125 г., под именем Тибо II, когда он наследовал дяде. За исключением двух кратких периодов, когда Тибо приводил свой контингент в королевское войско (1109–1111 и 1124 гг.), он вступал во все коалиции, какие складывались против Людовика VI, — от коалиции Рошфоров в 1107–1108 г. до сторонников дю Пюизе в 1112 г. и Гарландов после 1127 гг., а также неоднократно заключал союз со своим дядей, английским королем. Тем не менее в 1135 г. с примирения между обоими старыми врагами после последней, особо ожесточенной войны началась новая фаза в их отношениях. Это сближение избавило короля от очень неприятной угрозы: ведь государства Тибо теперь сжимали королевский домен с запада и с востока, и его союз с англо-нормандцами грозил бы домену окружением (см. карта 8).
Третий важнейший факт: политический подъем графов Анжуйских. В течение всего XI в. они почти неуклонно расширяли свои территории. После отката в конце века экспансия возобновилась с новой силой, когда в 1110 г. был аннексирован Мэн. Анжуйцы, чьи территориальные амбиции столкнулись с сопротивлением англо-нормандской державы (у которой они яростно оспаривали Мэн), стали для Людовика VI ценными союзниками против этого общего врага. Но брак Жоффруа Красивого и Матильды, наследницы английской короны, в 1127 г. стал предвестником союза обоих государств и переломил ситуацию: начала формироваться грозная «империя Плантагенетов», с которой преемникам Людовика VI придется столкнуться. Остаются княжества, в дела которых король вмешивался непосредственно. Прежде всего это мелкие государства Центральной Франции, графства Овернь и Невер, сеньория Бурбон, на которые он считал естественным распространить свое влияние, замиряя южные земли домена. Он предпринял два похода на графа Овернского из-за жалобы епископа Клермонского (1122–1126), но настоящего успеха не добился. Операция против Аймона II де Бурбона в 1109 г., похоже, имела более стойкий эффект; наконец, Ниверне населяли королевские «верные», такие как епископ Оксерский или граф Гильом II. Аналогичная ситуация существовала и к северу от королевского домена, в графстве Вермандуа: оно принадлежало графу из рода Капетингов, который к тому же был ближайшим советником короля — своего двоюродного брата. Тест: фламандское дело Фландрия была одним из главных феодальных государств, ее экономическое развитие шло полным ходом, урбанизация продвинулась далеко, а ее графы, каждый из которых правил очень недолго, начиная с Роберта II (1093–1111) упорно предпочитали искоренять беспорядки, а не строить новые крепости. Из всех крупных светских вассалов именно со стороны этих графов король мог рассчитывать на самую постоянную поддержку: фламандский отряд регулярно пополнял королевское войско и был многочисленным (притом, что граф был обязан приводить всего двадцать рыцарей), а Роберт II и вслед за ним Балдуин VII нашли в королевских походах смерть (соответственно, в 1111 и в 1119 г.). Однако после заключения в 1120 г. договора между Карлом Добрым и Генрихом I, фламандские войска уже не так часто приходили на королевский зов и больше не воевали против англо-нормандцев, хотя раньше делали это весьма охотно. Проблема наследования Карлу Доброму, убитому 2 марта 1127 г., стала решающим испытанием, которое позволило оценить власть короля в этом фьефе, как будто наиболее открытом для его влияния. Карл, само восшествие которого на престол не обошлось без затруднений, не оставил наследника, а четкого обычая в этой сфере не существовало. В какой мере король имел возможность навязывать свою волю беспокойной знати и вполне утвердившимся городам, претендовавшим на право самостоятельно избирать нового сеньора? Собрав знать в Аррасе, Людовик сумел добиться от нее согласия признать его кандидата Вильгельма Клитона, сына Роберта Коротконогого — бывшего герцога Нормандского. Вильгельм как креатура Людовика должен был обеспечить ему полную покорность Фландрии. Фактически Людовик управлял сам все время, пока оставался в этой стране с целью покарать убийц. Осажденные в башне, которая примыкала к церкви Святого Донациана в Брюгге (той самой, где они совершили свое преступление), они в конечном счете сдались и 5 мая 1127 г. были сброшены с вершины башни. Но после отъезда короля оплошности Вильгельма Клитона привели к всеобщему восстанию городов, поддержанному частью знати; восставшие обратились к главному сопернику Вильгельма в борьбе за наследство Карла Доброго — Тьерри Эльзасскому, и весной 1128 г. тот взял верх. Только после этого король, которого задержала война, развязанная Гарландами, пришел к Вильгельму на помощь. Слишком поздно, судя по резкому ответу бюргеров Брюгге на предложение вступить в переговоры. Выдвинув Людовику VI обвинение, что он продал графство Вильгельму Клитону, они также отказали ему во всяком праве вмешиваться в избрание графа. Людовик отреагировал вяло — церковными санкциями и скоро снятой осадой Лилля, в котором находился Тьерри. Смерть Вильгельма, смертельно раненного при попытке продолжить борьбу, закрыла вопрос. Королю оставалось лишь признать нового графа. Королевская власть и автономия княжеств: попытка подвести итог Фламандский эпизод, очевидно, показал, что король Франции пока далеко не всегда мог напрямую диктовать свою волю жителям больших фьефов. Это был вполне явственный провал попытки усилить королевскую власть над княжествами. То есть с этой точки зрения итоги царствования Людовика VI были весьма скромными. Кроме Фландрии, где все закончилось неудачей, он нигде не вел последовательной политики с целью влиять на крупных феодалов. Его отношения с ними почти полностью исключали понятие «власти» и по преимуществу сводились к союзам, почти не отличавшимся от тех, какие эти феодалы заключали с английским королем. Какой-нибудь Тибо IV Блуаский мог позволить себе почти всю жизнь быть активным врагом короля, и тот, как бы это его ни раздражало, не имел реальных возможностей исправить ситуацию. Тем не менее Жан-Франсуа Лемаринье отмечает, что королевская власть начала укрепляться: это проявлялось как в постоянном присутствии в войске короля некоторых феодальных контингентов, так и в настойчивых требованиях к территориальным князьям принести оммаж[141]. Даже те, кто изначально был не расположен это делать, как герцоги Нормандские и Аквитанские, в конечном счете его принесли, пусть даже «на границе» и за часть своих государств[142]. Наконец, Лемаринье обнаруживает в двух фразах Сугерия зачатки представлений о верховенстве французского короля над королем-герцогом Нормандии. Но надо сказать, что эти признаки укрепления власти остаются очень слабыми и им противоречат другие данные: например, карта адресатов, которым рассылались акты Людовика VI[143], лишь в самых исключительных случаях не совпадает с пределами королевского домена. И пока что количество территориальных князей, являвшихся ко двору, даже по торжественным случаям, можно было сосчитать по пальцам двух рук. В общем, только призывы в королевское войско имели ощутимое воздействие; конечно, приходили всегда одни и те же контингенты: фламандцы, жители Ниверне и Вермандуа — почти всякий раз, часто прибывали анжуйцы, остальные же не появлялись почти никогда (кроме исключительного случая в июле 1124 г.) — из безразличия, из-за удаленности либо (как герцог Нормандский) из принципа. Во всяком случае, служба нескольких крупных вассалов в войске короля показывает, что его не совсем игнорировали в собственном королевстве. Существовала и другая связь, соединявшая государя с некоторыми территориями за пределами домена, — отношения верности или просто дружбы, какие традиционно поддерживали с короной некоторые епископства и монастыри, соответственно распространяя королевское влияние. В общем, все это подтверждает, что Людовик VI практически не мог перенести свою деятельность за пределы королевского домена. Тем не менее крупные феодалы уважали этого короля, который был не способен на них воздействовать: не надо забывать, что он, как минимум к концу царствования, был богаче и сильней любого из своих вассалов (за исключением, естественно, англо-нормандского короля) и что его престиж значительно возвышал его над ними. Образ действий Людовика Толстого, поистине королевский, показывает, что он сознавал это превосходство[144].
Англо-нормандское королевство
Англо-нормандское могущество Английский король, вассал Капетингов за Нормандию, с полным правом может упоминаться в этой главе, посвященной равным ему; к тому же связи между обоими королевствами в тот период неразделимо переплелись с теми связями, какие между собой и со своими сеньорами поддерживали большие фьефы. Франко-английские отношения, интенсивные и сумбурные, во многом становятся непонятными, если изъять их из этого контекста. Тридцать лет — с тех пор как Генрих I отобрал Нормандию у своего брата Роберта Коротконогого в 1106 г., и до смерти Генриха в 1135 г. — вражда между обоими королевствами практически не прекращалась и трижды выливалась в открытую войну. Силы были неравными: Генрих I располагал значительно большими ресурсами в людях и деньгах, чем Людовик VI и мог рассчитывать на союз с Тибо IV Блуаским и многими менее значительными сеньорами королевского домена. Худшей организацией капетингских сил легко объясняются (независимо от той или иной тактической ошибки командования) их поражения в боях. Но у французского короля тоже были дипломатические ресурсы: мы только что видели, что его естественными союзниками против англо-нормандцев были графы Фландрские и Анжуйские. Кроме того, он умел разжигать распри внутри нормандской знати или пользоваться ими, поддерживая Вильгельма Клитона, неудачливого претендента на герцогскую корону, у которого было некоторое количество приверженцев. Наконец, шателены Вексена, пограничной области между обеими державами, которая до Филиппа Августа будет ареной столкновений между ними, делились на два лагеря и довольно часто переходили из одного в другой, но франкофильская тенденция среди них все-таки преобладала. Зная обо всех этих союзах, можно понять, что Людовик VI скорей успешно выдерживал эту конфронтацию. Почти непрерывная война (1109–1119) В 1109 г. молодой король оказался лицом к лицу с первой коалицией Генриха, Тибо IV и вассалов, принявших участие в интриге Филиппа Мантского. До 1113 г. он метался от одного противника к другому. Тибо, побежденный при Турне, подчинился и в 1109 г. принял участие в походе на Вексен, а в 1111 г. вновь поменял лагерь и в следующем году разбил королевскую армию при Тури. Сражение приЖизоре и взятие Манта (фьефа изменника Филиппа Мантского) в 1109 г., взятие Мелана в 1110 г., гибель в бою графа Роберта II Фландрского в следующем году — вот самые заметные события этой войны, которая закончилась в марте 1113 г. подписанием Жизорского договора. Людовик должен был признать сюзеренитет Генриха над Бретанью и над Мэном, за который его союзник Фульк Анжуйский был вынужден принести оммаж. В 1116 г. Людовик, Фульк и Балдуин, граф Фландрский, возобновили военные действия, чтобы поддержать притязания Вильгельма Клитона. Два года война шла вяло, пока Людовик VI был занят разрешением конфликтов с вассалами. В начале 1118 г. союзники предприняли совместное и победоносное наступление на Генриха I, потерявшего немалые территории как в Вексене, так и в Мэне. Но ситуацию переломило 20 августа 1119 г. — сокрушительное поражение Людовика VI при Бремюле, на реке Андель, всего в двух десятках километров восточнее Руана. Когда король продвигался в глубь вражеской территории, на него неожиданно напала гораздо более многочисленная армия и он счел делом чести вступить в бой. В сражении погибли немногие, но поражение французов было полным. Людовик VI немедленно возобновил наступление, собрав всех бойцов, каких мог; он сжег Иври и осадил Бретей, но не взял этот город. Эта новая неудача привела его в такое бешенство, что он едва не сжег Шартр в отместку графу Тибо, однако настойчивые мольбы городского духовенства заставили его отказаться от этой мысли. К тому же он растерял всех союзников: Балдуин VII Фландрский погиб в бою, Ангерран де Шомон, основной из его «верных» в Вексене, тоже умер, а Фульк Анжуйский заключил мир с Генрихом I. Тогда он попытался добиться, воспользовавшись созывом в Реймсе церковного собора (в конце октября 1119 г.), чтобы Каликст II осудил Генриха и Тибо, но в конечном счете был вынужден довольствоваться посредничеством папы, который в ноябре 1119 г. в Жизоре встретился с английским королем. В следующем году был заключен мир на основе statu quo ante — стороны вернули друг другу замки и пленников, тем не менее Людовик получил от Вильгельма Аделина, сына и наследника Генриха I, оммаж за Нормандию. Новая политическая ситуация и начало длительного мирного периода 25 ноября того же года Вильгельм Аделин утонул при крушении «Белого корабля», в результате чего у Генриха не осталось прямых наследников мужского пола. Вновь активизировался Вильгельм Клитон и заручился поддержкой Фулька V и двух магнатов — Амори де Монфора и Галерана де Мелана, за которыми потянулась многочисленная знать из Нормандии и Вексена. Осенью 1123 г. Генрих I пошел на них войной и добился от императора Генриха, своего зятя, чтобы тот в свою очередь напал на Францию. Сам он вторгся в Вексен; согласно Сугерию, союзники его отбросили; согласно Ордерику Виталию, он одержал над ними большую победу при Ружемутье (недалеко от Понт-Одемера) в марте 1124 г., причем французский король в этой войне не участвовал. Что касается Генриха V, то он отступил без боя в августе 1124 г., когда узнал, что крупные вассалы отозвались на брошенный Людовиком VI призыв в ост и что в Реймсе собралась внушительная королевская армия. В 1127 г. поражение и смерть Вильгельма Клитона во Фландрии и брак наследницы англо-нормандского государства с наследником анжуйского графства окончательно лишили Людовика VI всякой возможности сколотить коалицию против Генриха I. С тех пор Франция и Англия тридцать лет не воевали между собой. Последние годы царствования были исполнены надежд на прочный мир. Англия, расколотая кризисом наследования, пока более не представляла угрозы, тогда как коалицию, прежде всегда готовую образоваться против нее, раздробили династические перемены в Анжу и Фландрии; Блуаско-Шампанское княжество как будто сближалось с Французским королевством; наконец, Людовик VI подчинил фрондировавших сеньоров, крупных и мелких, которые раньше поддерживали любую агрессию с англо-нормандской и шампанской сторон. Итак, очень многие элементы политической игры в этой северо-западной части Западной Европы поменяли свое положение, но их перестановка еще не завершилась, и в ее результате возникнет опасный сосед Капетингов — государство Плантагенетов.Церковные дела: французская церковь, папство и борьба за инвеституру
Отношения с французской церковью
В царствование Людовика VI начал складываться союз между капетингской монархией и церковью (как римской, так и французской), созданию которого прежде долго мешали императорское влияние в Риме, а потом личные проблемы Филиппа I и его склонность к симонии. Собственно, этот союз возник еще до смерти Филиппа, когда гот 2 декабря 1104 г. примирился с церковью, а в 1107 г. принял Пасхалия II. Визит папы дал возможность заключить соглашение по вопросу об инвеституре епископов (жгучей проблеме нескольких десятилетий), оказавшееся практичным и прочным. Король — покровитель и друг церкви Первая треть XII в., несомненно, стала таким периодом в истории церкви, когда деятельность монахов была наиболее плодотворной. Тогда активно развивались ордены, основанные в конце прошлого века, и повсюду возникали их отделения. Их влияние очень сильно проявлялось в образе жизни, какой усваивало белое духовенство и даже миряне. Король не мог остаться в стороне от этого всеобщего увлечения монастырской жизнью и раздавал все новые привилегии и дары цистерцианцам, премонстрантам, фонтевристам и другим, менее распространенным орденам. Он сам в 1113 г. основал в Париже аббатство регулярных каноников Сен-Виктор, которое позже приобрело исключительное интеллектуальное и духовное влияние. Он также безупречно выполнял свою роль защитника церквей и их имущества, никогда не отказываясь карать грабителей и гонителей. В походах на Гуго дю Пюизе в 1111 г. и на Тома де Марля в 1115 г. Людовик выступал как «светская рука» власти, исполняющая приговор, вынесенный церковным собранием. Добиваясь соблюдения «Божьего мира» по просьбе клириков, провозгласивших таковой, король фактически делал его ненужным: ведь к «Божьему миру» прибегали, чтобы компенсировать беспомощность предков Людовика[145]. Его деятельность и деятельность его преемников вскоре позволили утвердиться новому принципу: все церкви охраняет король[146]. Этот постепенный переход всего контроля над миром и безопасностью церквей в руки королевской власти пока что проявлялся лишь неброско, в виде согласия между обеими властями, которое воплощалось в присутствии при особе короля авторитетных клириков — прежде всего Ива Шартрского, отношения которого с Людовиком часто были непростыми, но который оказал монархии неоценимые услуги, а также Сугерия, тоже пламенного защитника церковных свобод, но более чуткого к политическим надобностям. Защита королевской прерогативы Все становилось сложней, когда интересы короны входили в конфликт с интересами церкви. Первым поводом для столкновения стало усиление королевской юстиции, отныне желавшей стоять выше церковных судов и даже иметь право судить клириков. Церковники, хоть были и рады возможности прибегать к помощи «светской руки», чтобы защититься от посягательств светских сеньоров, тем не менее не хотели отказываться от своей судебной автономии. Долгое соперничество обеих юрисдикций еще только начиналось, но Людовик VI энергично утверждал на практике верховенство королевских судов. При нем в королевский суд впервые принесли апелляцию на приговор церковного суда. Таких высших сановников, как епископ Клермонский, аббат Мориньи или епископ Ланский, судил королевский суд, хоть они и претендовали на судебную автономию. Еще тяжелей был вопрос выборов епископа, по двум причинам: получение доходов с вакантных церковных должностей приносило государю немалый вклад в казну, а идея, что светская власть должна прекратить вмешательство в назначение и инвеституру клириков, уже полвека как была самым важным и самым спорным элементом церковной реформы. Обычай, установившийся в епископствах и аббатствах, контролируемых Капетингами, не нарушал прав короля, при этом оставляя почти полную свободу выборщикам и не посягая на верховенство папы в духовной сфере. Король давал разрешение па проведение выборов епископа или аббата (licentia eligendi), после чего более или менее энергично поддерживал какого-либо кандидата (но в принципе не навязывал его) и принимал от нового избранника присягу на верность, прежде чем инвестировать его владениями и светскими полномочиями, подобающими по должности. Людовик VI упорно отстаивал эту позицию, и его твердость обычно увенчивалась успехом. Если некоторые коллегии выборщиков пытались действовать по-своему, папы предлагали собственного кандидата, а новые избранники отказывались приносить клятву верности, то они почти никогда не добивались успеха; часто, но не всегда королевские кандидаты отличались склонностью к симонии, как минимум к консерватизму, и не давали хода клирикам, открыто выступавшим за реформу. Когда Людовик был еще только соправителем отца, вспыхнули бовезийский и парижский конфликты, порожденные амбициями Этьена де Гарланда, а потом — реймсский конфликт, последствия которого сказывались до самой коронации нового суверена. Еще одно столкновение произошло в 1109 г. в связи с выборами аббата монастыря Мориньи, который Капетинги особо ценили. В 1112 г. король навязал своего кандидата в качестве преемника Годрика Ланского, опять-таки чтобы угодить Этьену де Гарланду — при таком новом епископе освобождалась должность декана церкви Сент-Круа в Орлеане, на которую тот зарился. В 1115 г. в Оксере были избраны одновременно два епископа: одного поддерживал король, другого, клюнийца, — папа. В 1118–1119 гг. аналогичный конфликт возник в Туре, но на сей раз папа и король пришли к соглашению. В 1122 г. сам Сугерий навлек на себя королевский гнев, когда был избран аббатом Сен-Дени (без ведома короля и в его отсутствие) без позволения провести выборы. Наконец, что касается выборов епископа Аррасского в 1131 г., то до нас дошло письмо, которое Людовик VI направил выборщикам, прося поддержать одного кандидата. В целом таких столкновения, пусть и довольно многочисленные, похоже, происходили в меньшинстве случаев, и, вероятно, из этого следует, что все остальное время королевская воля не встречала сопротивления. Доктрина, разработанная тогда, в целом фактически поддерживала капетингскую практику. Ив Шартрский, самый авторитетный из ее создателей, проложил умеренный путь между радикализмом реформистов первого григорианского поколения и упорным старанием некоторых суверенов, особенно императоров, полностью сохранить за собой контроль над иерархией. «Какое значение имеют внешние формы инвеституры? — писал Ив в 1095 г. — Важно, чтобы короли не намеревались жаловать чего-либо духовной области и сообразовывались с выбором духовенства, даруя избраннику имения и прочее имущество, которое церкви держат от королевских щедрот». Поколение спустя Гуго Сен-Викторский и сам Бернард Клервоский рассуждали точно так же[147]. Таким образом, какими бы неоднозначными ни были некоторые кандидатуры, каких поддерживал Людовик VI, вопрос назначения епископов был в его царствование решен удовлетворительно и надолго. Конфликты из-за распоряжения бенефициями и из-за реформы капитулов Эффект этого важного достижения был, к сожалению, частично смазан из-за нескольких дел, поначалу мелких, но вызвавших резкие столкновения между королем и самыми прославленными из прелатов-реформаторов. Так, в 1114–1115 гг. возник разлад между Ивом Шартрским и чиновниками-прево его церкви, которые взимали с нее хоть и освященные обычаем, но чрезмерные сборы. Из-за упорства обеих сторон этот ничтожный эпизод перерос в долгий конфликт, в который вмешался и папа, поддержав епископа. В 1126 г. Хильдеберт Лаварденский, архиепископ Турский, не позволил королю назначать каноников своего капитула и был вынужден на четыре года удалиться в изгнание, после чего дорого заплатил, чтобы вернуться в милость. Тем временем каноники вели борьбу меж собой, не гнушаясь физическим насилием, а один был даже искалечен противниками. В 1128 г. в конфликт с королем в свою очередь вступил Стефан Санлисский, епископ Парижский: король не разрешил ввести в капитул собора Парижской Богоматери регулярных каноников из Сен-Виктора, как намеревался епископ. Как и его турского собрата, Стефана лишили владений и изгнали; святой Бернард резко протестовал, но папа не стал раздражать суверена. Неизвестно, как закончился этот конфликт, который, во всяком случае, хорошо показывает неоднозначность церковной политики Людовика VI. Он сам основал аббатство Сен-Виктор и хотел сделать его очагом обновления, но не решился распространить реформу на капитулы, которые сам контролировал. Ведь после этого он не смог бы располагать пребендами, которые давали ему ценную возможность вознаграждать друзей и слуг короны и вводить надежных людей в состав высшего епархиального духовенства. Конфликты из-за распоряжения бенефициями капитулов были в конечном счете более чреваты последствиями, чем раздоры, порожденные епископскими выборами. На конец царствования пришлись и другие дела: конфликт между королем и Генрихом Санглие, архиепископом Сансским, в 1129 г., прямое столкновение со Святым престолом в 1134 г., из-за того, что сын короля Генрих, аббат Сен-Меллона в Понтуазе, завладел пребендой, и прежде всего два эпизода, которые закончились убийствами и серьезно скомпрометировали короля. Насилие в орлеанском капитуле Сент-Круа вылилось в убийство заместителя декана Аршамбо, только что взятого под защиту папой (в конце 1132 г. или в первом полугодии 1133 г.); убийцы пользовались покровительством королевской канцелярии. Через недолгое время, 20 августа 1133 г., в присутствии епископа Парижского вассалы Этьена де Гарланда, приходившиеся племянниками одному сановнику капитула Парижской Богоматери, зарезали приора Сен-Виктора. Убийц, осужденных папой и собранием епископов в Жуарре, королевская юстиция в обоих случаях преследовала очень вяло. Эта относительная безнаказанность сильно повредила добрым отношениям монарха с папством и с частью епископов. Итак, царствование завершилось в атмосфере скрытого недовольства, которая была вполне под стать противоречиям политики Людовика VI в отношении его духовенства.Отношения с папством
Установление превосходных отношений с папами было одним из больших достижений царствования Людовика VI. Если обстоятельства, сделавшие французского короля необходимым для пап и «родным сыном римской церкви» (по собственному выражению Людовика VI), способствовали этому, то его вмешательства в дела французской церкви портили дело. Но благоразумие пап и короля и их потребность в поддержке друг друга не позволили развиться какому-либо серьезному кризису в их отношениях. Завершение борьбы за инвеституру Первая фаза этих отношений еще проходила под знаком последних потрясений спора об инвеституре. Капетингская монархия была самой надежной опорой Пасхалия И: собор, созванный Людовиком VI во Вьенне в 1112 г., осудил Генриха V, а позже король принял легата Конона Пренестинского, который два года (1114–1115) возобновлял это осуждение. Геласий II, изгнанный из Рима, нашел убежище во Франции и в январе 1119 г. умер в Клюни. Его преемник Каликст II был не кем иным, как шурином короля, и сотрудничество между обеими властями никогда не будет столь тесным, как в его понтификат. Он тоже долго гостил во Французском королевстве и 20–21 октября 1119 г. созвал там Реймсский церковный собор, еще раз осудивший императора, но сделавший реальный шаг к окончательному соглашению с ним, которое будет заключено через три года в Вормсе. Угрозу германского вторжения в августе 1124 г., которая сошла на нет благодаря сосредоточению войск вассалов вокруг Людовика VI, вероятно, можно воспринимать, хотя бы отчасти, как попытку Генриха V взять реванш. Впрочем, весь этот период папы могли только выражать благодарность союзнику, не противореча ему в вопросах, по которым они имели противоположное мнение — например, насчет создания Турнейской епархии или соперничества архиепископов Сансского и Лионского. Зато и увещание, с каким Каликст II обратился к Генриху I, было не столь резким, как желал бы Людовик. Схизма Анаклета После Вормсского конкордата папа несколько охладел к Франции, что было вполне естественно, так как он больше не нуждался в помощи Капетингов. На этот период пришлись ссоры короля с архиепископом Сансским, архиепископом Турским, епископом Парижским. В Риме Гонорий II старался, официально осуждая короля, щадить оба лагеря. Его смерть и избрание двух пап в 1130 г. снова сделали французского короля необходимым союзником папы: Людовик поддержал Иннокентия II, согласившись с мнением французских епископов, которые в сентябре-октябре 1130 г. собирались в Этампе. Когда Иннокентия изгнали из Рима, он немедленно прибыл во Францию и за несколько месяцев получил признание со стороны Генриха I и Лотаря III. Через год он короновал короля Людовика Молодого после внезапной смерти брата и созвал в Реймсе вселенский собор. Как и после 1123 г., папа стал менее тепло относиться к французскому королю, когда вернулся в свое государство и перестал нуждаться в Людовике. На сей раз ситуацию отравили еще и тяжелые инциденты (убийства 1132–1133 гг.), но перед смертью короля отношения снова улучшились. Похоже, в продолжение всего царствования Людовик VI поддерживал со сменявшими друг друга папами особые связи: никакие разногласия, разделявшие их, не могли полностью пересилить гармонию, в целом царившую в отношениях между ними. Царствование Людовика VI принято представлять как первый большой этап утверждения монархии и территориального объединения Франции. И оно действительно было очень важным, пусть даже историки отличаются чрезмерной благосклонностью к нему. Существование написанной Сугерием биографии — исключительного и откровенно апологетического источника, привлекательная и энергичная личность короля, отсутствие затруднений в различении «добрых» п «злых» и суровые наказания, каким подвергались последние, — все эго способствовало формированию явно положительного образа царствования как в народной памяти, так и в монархической и республиканской историографии. Фигуры Филиппа I и Людовика VII от такого слишком невыгодного соседства, вне всякого сомнения, поблекли, и в результате их реальная роль в создании капетингской системы оказалась недооцененной. Завершая главу, надо напомнить, что рамки, в которых действовал Людовик VI, были очень тесными, что он не приобрел новых территорий, не улучшил контроль над крупными вассалами, а его дипломатическое влияние в Западной Европе было очень ограниченным. Но, отметив, что Людовику VI повезло с историографами и что его деятельность знала пределы, все-таки надо присоединиться к хору его апологетов: да, это в его царствование начались возрождение королевской власти и объединение национальной территории, это при нем капетингская монархия обеспечила себе солидную домениальную базу, сделавшую возможными завоевания Филиппа Августа, наконец, при нем французские короли начали приобретать ценный имидж защитников слабых, друзей горожан, преданных сынов церкви.Глава II Правление Людовика VII (1137–1180): скромное утверждение королевской власти (Франсуа Менан)
Родившемуся в 1120 или 1121 г. второму сыну Людовика VI и Аделаиды Савойской, Людовику Молодому, вероятно, было предназначено стать служителем церкви. Он учился в школе при соборе Нотр-Дам в Париже, когда случайная гибель его старшего брата Филиппа (13 октября 1131 г.) изменила его судьбу. Людовика тотчас же провозгласили соправителем его отца и препроводили в Реймс, где его миропомазал папа Иннокентий, собравший в этом городе церковный собор (25 октября). Сугерий объясняет спешку опасениями, которые вызывало здоровье старого короля. Мимоходом аббат Сен-Дени отмечает, что принц был «красивым ребенком», — и мы больше ничего не знаем о нем в юношеском возрасте. В ноябре 1135 г. король, думая, что умирает, дал наследнику свои последние рекомендации и вручил кольцо, которое считал символом своей власти. Впрочем, Людовик наследовал корону лишь спустя два года: его отец скончался в то время, когда юноша возвращался из Бордо, где женился на Алиеноре Аквитанской. Таким образом, к тому моменту, как он взошел на престол, Людовик VII не был полностью лишен политического опыта, поскольку вот уже шесть лет как был приобщен к власти. Но новому королю исполнилось всего шестнадцать лет, и ему не пришлось взрослеть прежде времени из-за интриг и войн, как его отцу. К тому же, кажется, что слабеющий Людовик VI до последнего сохранял руководство делами. В первые годы юность и фактическая неопытность нового короля, его желание поддержать политические достижения своего отца подтолкнули его к несколько сумбурной активности. К тридцати годам, после великой эпопеи с крестовым походом и истории развода с Алиенорой, это был уже совсем иной человек, зрелый и благоразумный — уставший, говорили некоторые, — которому предстояло бороться с угрозой, исходившей от Плантагенета[148]. Правивший между одинаково прославленными отцом и сыном, подпекаемый куда более могущественным королем Англии, Людовик VII казался историкам прошлого блеклым персонажем. Ныне наиболее беспристрастные ученые расценивают его как «государя средних способностей», «определенно здравомыслящего, обладавшего реалистичным взглядом на вещи», но «явно склонного к апатии или по меньшей мере не испытывавшего особого пристрастия к управлению» (Марсель Пако) или «степенного и нуждающегося в средствах» (Ив Сассье). Слабые с троны характера навлекли на Людовика немало критики: сначала он был излишне деятелен, стремясь упрочить свою власть, но при этом вел себя неосторожно и задиристо по отношению к Церкви. Затем он полностью изменился — как говорили, под глубоким впечатлением от поджога церкви в Витри-ан-Пертуа, где укрылось свыше тысячи человек, во время шампанского похода 1142–1143 гг. Всю оставшуюся жизнь король будет до крайности религиозен, кроток, послушен священникам — короче, превратится в полумонаха, если верить Алиеноре. Его привычка затягивать дела, нежелание действовать, особенно военным путем, лишь усилятся по достижении пятидесятилетия, когда силы Людовика начнут слабеть. Однако внимательный анализ показывает, что, невзирая на невзрачную внешнюю сторону, правление Людовика VII представляет важный этап утверждения капетингской монархии.Правление молодого короля (1137–1149)
Первые инициативы
Королевское окружение и соперничество При дворе не было недостатка в людях, которые рассчитывали влиять на молодого человека. Они принадлежали к двум лагерям, и первые годы правления Людовика прошли под знаком их соперничества. С одной стороны, королева-мать Аделаида Морьенская и сенешаль Рауль де Вермандуа, которых король изгнал от двора после ссоры — Аделаида упрекнула своего сына за расточительность, — но призвал обратно в конце 1138 г. Аделаида, снова вышедшая замуж за коннетабля Матье де Монморанси, до самой своей смерти в 1154 г. больше не будет играть значимой роли, но Рауль еще окажется в центре важных политических событий. С другой стороны — Сугерий, убеждавший короля благоволить Церкви и выступавший за дружбу с Тибо Шампанским, к которой он уже подтолкнул Людовика VI. Успех Сугерия был недолог: он устроил встречу короля с Тибо, который принес Людовику VII оммаж в Оксере в начале 1138 г. Но граф Шампани отказался помочь королю во время его походов на Пуатье, а затем на Тулузу: то был разрыв, а потом началась война. При дворе Сугерий, по всей видимости, был отстранен от дел (1140 г.?), как и его друг канцлер Альгрен; Рауль же, напротив, упрочил свое положение. В то же время новая фигура стала оказывать влияние на короля: Людовик, страстно влюбленный в свою жену, охотно следовал советам Алиеноры, которую окружала группа аквитанцев. Вместо Сугерия в доверие короля вошел клирик, куда менее бескорыстный, чем его предшественник — Кадюрк. Он получил пост канцлера, отнятый у Альгрена (1140 г.), и прибрал к рукам немало церковных бенефициев. За этим исключением, церковнослужители высокого ранга также редко встречались в окружении Людовика VII, как и его отца. На первом этапе его правления (до начала 50-x гг.) при короле состояли те же самые линьяжи великих чинов, что служили его предшественнику; однако, возможно, уже наметилась тенденция — впоследствии она станет определяющей — заменять их куда менее значимыми лицами. Первые шаги Людовика VII. Распри с Римом Начало правления Людовика VII прошло тем легче, что англо-нормандское королевство и германскую империю раздирали династические кризисы, не дававшие им возможности вмешаться в события за границей. Поэтому на протяжении долгих лет новый король мог спокойно заниматься своим королевством. После вмешательства в дела коммуны, созданной жителями Орлеана, и поездок в Бургундию и Аквитанию, во время которых Людовик принял — и ему это удалось сделать проще, чем отцу — оммаж от крупных сеньоров, новый король устроил поход во владения Алиеноры, чтобы подавить бунт в Пуатье и волнения некоторых сеньоров во главе с сеньором Тальмона (лето 1138 г.). Спустя три года Людовик вернулся в Аквитанию, чтобы военным путем добиться прав на графство Тулузское, полученных им от Алиеноры — отняв его у своего вассала Альфонса-Иордана. За исключением этих двух поездок Аквитания жила сама по себе, под властью некоторых доверенных людей. На протяжении этих первых лет правления Людовик все более твердо подчеркивал, что не собирается ничего уступать из королевских прерогатив в церковной сфере. Он проявил в вопросе церковных выборов непреклонность — отчасти она оправдывалась бесцеремонностью прелатов-реформаторов, — что, впрочем, иногда приводило к неловким ситуациям. Ряд инцидентов произошел во время выборов на епископские кафедры Лангра (1138 г.), Пуатье (1141 г.), посты аббата Мориньи (1140 г.) и архиепископа Реймса (1138–1139 гг.). Король пытался сделать так, чтобы церковные посты как можно дольше оставались незаняты, и он бы мог заправлять церковным имуществом: поэтому он не давал своего согласия, если процедура выборов не была соблюдена в точности. В Реймсе после смерти архиепископа он разрешил создать коммуну (прежде чем запретить ее в 1140 г.), которая покусилась на прерогативы церквей. Неудивительно, что Иннокентий II и святой Бернард были недовольны. По-настоящему серьезный конфликт вспыхнул в 1141 г. из-за выборов на архиепископскую кафедру Буржа. На этот раз король выдвинул своего ставленника — им был не кто иной, как королевский канцлер Кадюрк, — и запретил избирать кандидата папы, Пьера де ла Шатра. Выборщики проигнорировали мнение короля, конфликт обострился, Иннокентий II отлучил Людовика от церкви; новоизбранный архиепископ, которого не пускали в его город, укрылся подле графа Шампанского. Другое дело подлило масла в огонь, придав распре политическую окраску: аннуляция брака Рауля де Вермандуа, вознамерившегося жениться на сестре Алиеноры, Петронилле. Но отвергнутая супруга Рауля, Элеонора, приходилась племянницей Тибо Шампанскому: она бежала к своему дяде, который обратился с жалобой к папе. Папский легат возобновил процесс, приговор об аннуляции брака отменили на соборе, заседавшем в Шампани, а вынесшие его епископы — родственники и друзья Алиеноры — были наказаны. Король горой встал за Рауля, отлученного от церкви за свой отказ подчиниться, и начал войну против Тибо, который и без того слишком часто вел себя враждебно по отношению к своему государю. «Аквитанская» и «вермандуаская» партии при дворе взяли вверх над «шампанской» партией; и королевская власть стала еще более неприязненно относиться к самым рьяным клирикам-реформаторам — большим друзьям графа Шампанского. Война с Шампанью (1142–1144) Военные действия разворачивались крайне удачно для короля: он захватил большую часть земель Тибо, который так и не смог организовать должную оборону. Разгул насилия достиг своего апогея во время взятия Витри-ан-Пертуа, когда — вероятно, вопреки воле короля, но на его глазах — были заживо сожжены тысяча триста человек, укрывшихся в церкви. Тибо выглядел побежденным, хотя он сохранил под своим контролем шампанские города, за исключением Реймса и Шалона. Первый мирный договор, устроенный стараниями Сугерия и святого Бернарда, продемонстрировал, как тесно распри из-за религиозных вопросов были связаны с войной; эвакуация королевских войск с захваченных территорий должна была произойти в обмен на снятие отлучения с Рауля и Петрониллы. Однако договор стал прелюдией ко «дню одураченных»: после того как Тибо вернул свои владения, Иннокентий II возобновил отлучение; дело о Буржском архиепископстве оставалось нерешенным. Поэтому война вспыхнула вновь, и лишь смерть Иннокентия II позволила сторонам прийти к компромиссу весной 1144 г.: королевские войска ушли из Шампани, Пьер де ла Шатр воссел на архиепископском престоле в Бурже, а с короля был снят интердикт. Одним лишь Раулю и Петронилле предстояло дожидаться кончины Элеоноры Шампанской, чтобы их союз был признан официально. Так снова сложились условия для того, чтобы капетингская монархия после короткого перерыва вернула себе расположение церкви; также начался период длительного сближения королевской власти с шампанской династией, намеченного десятью годами ранее. Вторжение в Нормандию Сначала Людовик встал на сторону Стефана Блуаского, выдав свою родную сестру Констанцию за сына английского короля, Евстахия Булонского (1140 г.) и пожаловав ему Нормандию (1141 г.). Однако занятые в Англии борьбой с Матильдой, Стефан и Евстахий не смогли помешать ее мужу, Жоффруа Плантагенету, завоевать нормандское герцогство (1143–1144 гг.); в этом ему помог Тьерри Эльзасский. Так, в 1144 г. ситуация вокруг капетингского домена складывалась не лучшим образом: он оказался зажат между Шампанью, где шла война, и крупным союзом, складывавшимся на его западной окраине. Людовик VII отреагировал рассудительно: после того как с Церковью и шампанцами на востоке был заключен мир, он посчитал, что уже не успеет помешать завоеванию Нормандии, но зато сможет извлечь из этого выгоду; он двинулся со своим войском к границе и осадил одну из крепостей. Чтобы избежать столкновения еще и с этим противником, Жоффруа Плантагенет согласился уступить королю Жизор, власть над которым Капетинги и англо-нормандцы так часто оспаривали друг у друга, а также несколько других замков в Вексене (май 1144 г.). Итак, можно задаться вопросом: а что к тому времени, когда король отправился в крестовый поход, осталось от десяти лет этой интенсивной политической деятельности, притязаний и войн? Никакого существенного приобретения (поскольку уступка Жизора окажется эфемерной) и возврат к прежним позициям по всем пунктам: например, отношения с Церковью и некоторыми крупными вассалами или равновесие сил на западной окраине королевства. Возможно, энергия, проявленная молодым королем, заставила подданных лучше его уважать и подчиняться: но это был единственный результат, к тому же непостоянный, которого ему удалось добиться.Крестовый поход
Призыв к крестовому походу Год 1144-й стал для королевства годом вновь обретенного мира, разрешенных проблем, возрожденной дружбы монархии и Церкви. Королева ждала долгожданного ребенка — правда, она родит девочку, а не наследника престола. Торжественное освящение хоров в Сен-Дени (1 ноября), посреди огромного стечения народа, было лучшим отражением наступившей гармонии. Но этот год завершился событием совсем иной тональности, которое, хоть и произошло далеко, возымеет серьезные последствия для королевства: накануне Рождества Зенги, правитель Мосула, захватил Эдессу, один из ключевых городов христианских государств в Святой Земле. Эта катастрофа напрямую угрожала другим христианским государствам на Востоке, начиная с Антиохии, которой управлял дядя Алиеноры. Спустя год папа Евгений III, приняв посольства от франков и армян Святой Земли, призвал государей Запада — особенно французов — прийти им на помощь. Король тут же решил сам принять крест: неожиданная инициатива, удивившая французскую знать и папу, но не вызвавшая у них особого восторга. Король отправлялся в крестовый поход, впервые Капетинг покидал пределы королевства ради крупномасштабного предприятия. Сама поспешность решения Людовика наталкивает на мысль о давно вынашиваемом плане, современники, пытаясь понять этот поступок, вспоминали об обращении Людовика к покаянной жизни после взятия Витри и, быть может, о возобновленном обете, принесенном в свое время его старшим братом. Осознание королевского долга, надежда повысить престиж тоже могли сыграть свою роль — равно как и родственные связи князя Антиохийского с королевой. Но когда король поделился своим замыслом (на Рождество 1145 г.) с собранием, созванным в Бурже, его заявление встретили весьма сдержанно; даже Сугерий и святой Бернард замялись. Но папа, боровшийся в э го время с римской коммуной, дал себя уговорить. На Пасху 1146 г. Бернард Клервоский, обратившись к толпе, собравшейся на холме в Безеле, красноречиво живописал замысел короля, представив его от своего имени; и ему удалось пробудить дремавший до того энтузиазм. На Рождество он в свою очередь убедил Конрада III примкнуть к крестоносцам, затем призвал еще к двум походам — на мусульман, обосновавшихся в Португалии, и приэльбских язычников. В феврале 1147 г. на собрании в Этампе Людовик VII, который только что в последний раз объехал всю южную часть своего государства, принял решение о маршруте для крестоносцев (как и во время Первого крестового похода, выбрали путь по суше) и занимался организационными делами; при этом кажется, что в вопросе цели и стратегии ясности достигнуто не было. 11 июня король взял орифламму в Сен-Дени, спустя несколько дней войска, стянутые под Мец, двинулись в путь. Их возглавляло немало крупных вассалов: графы Фландрии, Невера, Тулузы, брат короля Роберт (тогда граф Першский), сын графа Шампани. Без сомнения, это была одна из самых многочисленных армий, что собирались в ту эпоху; но ее обременяло множество людей, воинами не являвшихся — скорее паломники, чем крестоносцы, которым разрешили присоединиться к войску. Сам король вез с собой жену. Поход и его последствия для королевской власти В этом томе еще будет рассказано про Второй крестовый поход; поэтому мы остановимся лишь на тех аспектах, которые имели для королевства важные последствия. Для нас главное — что поход не удался. Но в свое время этот фундаментальный итог никак не запятнал образ короля. Недопонимание с германцами, византийцами, христианами Святой Земли, подчас переходившее в стычки и, возможно, подкрепленное предательством, не оставило никакого шанса на успех. В большинстве случаев, делая стратегический выбор, руководители похода ошибались и, что важнее, — постоянно колебались. Нескончаемый переход через Малую Азию, перемежаемый кровопролитными поражениями, стал настоящей дорогой на Голгофу для двух больших армий — германской и французской. Плачевное отступление от Дамаска увенчало эту вереницу напрасных страданий и неудач. Хотя в провале Второго крестового похода сурово упрекали Бернара Клервоского, его пламенного пропагандиста, это поражение практически не ставили в вину королю Франции — и это притом, что именно он первым захотел отправиться в экспедицию, увлек за собой своих вассалов и командовал ими. Конечно, он не стяжал в походе воинской славы, на которую мог рассчитывать; однако лишь горстка злопыхателей вроде его брата Роберта еще до возвращения домой возлагала на короля ответственность за катастрофу; к тому же эта попытка очернить Людовика не имела долгосрочных последствий. Она была самой незначительной из тех обвинений и порочащих слухов, что циркулировали в этот печальный 1149 г, об Алиеноре, Бернарде, Сугерии и франкских правителях Святой Земли. Ко всему прочему король отправился в поход «скорее как паломник, нежели как политик или воин»[149], в надежде совершить акт покаяния — как и прочие крестоносцы, привлеченные проповедью Бернарда. Современники особенно отмечали безупречное поведение Людовика VII в крестовом походе, как вождя и как воина, так же как и возвышенную сцену посещения им Святых мест за шесть месяцев экспедиции. Другое важное достижение: французская знать, массово участвовавшая в походе, научилась признавать своего короля и подчиняться ему. Это продолжительное военное товарищество сложилось в тот самый момент, когда капетингские короли начинали оказывать все более серьезное влияние на львиную долю королевства. Регентство Сугерия В известной степени уже само отсутствие Людовика VII пошло на пользу королевской власти, показав: она уже достаточно окрепла для того, чтобы функционировать даже когда король находится далеко в отъезде: конечно, это был невольный, но знаковый тест в истории капетингской монархии. Правда, регентом, которому Людовик поручил управлять королевством, был исключительно способный человек — Сугерий. Когда его выбрали регентом на собрании в Этампле, Сугерий дал свое согласие лишь при том условии, что будет представлять не только короля, но и папу римского, под чьей опекой должно было пребывать королевство на время крестового похода. Эта особая опека со стороны Церкви полностью соответствовала привилегиям, которыми традиционно пользовались паломники и крестоносцы. Таким образом, на протяжении двух с половиной лет регент мог так же действовать, как папский легат, — без титула, но зато с постоянной поддержкой Рима. Сугерий получил всю полноту власти над королевством — как светскую, гак и духовную. Конечно, к нему приставили еще двух сорегентов, графа Рауля де Вермандуа и архиепископа Реймсского Самсона де Мавуазена, но правил Сугерий один. Архиепископ вообще не вмешивался, а сенешаль своими интригами принес больше затруднений, нежели пользы. Сугерию пришлось столкнуться со сложностями двух разновидностей: финансовыми проблемами и беспорядками. Он блестяще справился и с первыми, и со вторыми. Крестовый поход стоил очень дорого: еще до того, как отправиться в дорогу, король собрал экстраординарный налог, который, по-видимому, был довольно тяжелым и вызвал недовольство подданных. Король также неоднократно — как до, так и во время похода — брал крупные суммы взаймы, и, сверх того, Сугерию приходилось посылать ему еще денег. Бремя этих затрат тяжко сказалось на финансах королевства, но Сугерий был как раз тем человеком, кто мог выпутаться из подобной ситуации. В 1149 г. он отправил королю отчет — свидетельство его успешного правления: деньги найдены, жалованье заплачено, королевские здания содержатся в надлежащем порядке, причем Сугерий даже снова накопил денежный резерв, который король получит после своего возвращения. Вторую разновидность сложностей представляли собой волнения, которые не могли не вспыхнуть в различных местностях королевства из-за продолжительного отсутствия короля и большинства крупных сеньоров: частные войны, разбойные нападения, движения с целью добиться самоуправления в некоторых городах. В общем, в этом не было ничего серьезного, возможно даже, что беспорядков произошло не больше, чем в обычное время. Некоторые крупные сеньоры, не принявшие участие в крестовом походе — из числа самых строптивых — Тибо Шампанский и Жоффруа Плантагенет, — даже не попытались воспользоваться сложившейся ситуацией в своих интересах. Самые серьезные неприятности доставили как раз те, на чью помощь королевская власть должна была рассчитывать. Рауль де Вермандуа ввязался в войну со своим тестем и занял двусмысленную позицию во всех интригах, которые плелись в то время. Канцлер Кадюрк, временно снятый со своей должности, вымогал деньги с Аквитании под предлогом, что возвращает займ, сделанный королю, а затем устроил в Бурже заговор против своего старого соперника, архиепископа Пьера де ла Шатра. Наконец, родной брат короля, граф Роберт, вернувшийся из крестового похода (в конце 1148 или начале 1149 г.) после ссоры с Людовиком VII, принялся распространять клеветнические слухи о поведении государя; он также занялся интригами, возможно, в надежде сменить Людовика на троне и, во всяком случае, подготовить феодальный мятеж, в который более-менее прямо были вовлечены сенешаль Вермандуа, сын Тибо Шампанского Генрих и несколько других сеньоров. Но Сугерий, при немалой поддержке папы и таких крупных вассалов, как Тьерри Эльзасский, сохранил контроль над ситуацией, созвав собрание знати королевства в Суассоне (8 марта 1149 г.) и умоляя короля ускорить свое возвращение. Уже первой же встречи с королем хватило, чтобы показать надуманность всех обвинений, выдвинутых против Сугерия. В общем, тридцать месяцев регентства продемонстрировали, насколько уверенно чувствовала себя королевская власть по прошествии полувека. В отсутствии короля и почти всей правящей верхушки королевства ситуация в целом складывалась куда более спокойная, чем в любой средний год начала столетия. Те волнения, которые все же начались на различных уровнях, были погашены без применения силы и не привели к настоящему кризису. Как показали итоги правления Сугерия, организация королевства функционировала по-прежнему. После этого испытания оказалось, что положение капетингской монархии стало куда более устойчивым, как на практике (деньги поступали в казну, беспорядки не распространялись дальше), так и в концептуальном плане: понятие королевской власти, символом которой Сугерий впервые сделал корону, теперь четко отделялось от персоны государя. Отсутствие монарха больше не приводило к безвластию и не освобождало подданных от их обязанности подчиняться.Борьба против Генриха II Плантагенета
Становление «Империи Плантагенетов» и развод Людовика VII
Возвышение Плантагенетов Провал крестового похода надолго отбил у короля и его вассалов всякую охоту снова воевать с мусульманами. Планы подобного рода, составленные в ответ на предложения Рожера II Сицилийского, были встречены более чем прохладно на ассамблее, собравшейся в Шартре, чтобы ихрассмотреть (7 мая 1150 г.). Лишь несколько упрямцев — такие как Сугерий или Тьерри Эльзасский — все еще подумывали отправиться в Святую Землю. Для остальных же эта страница была перевернута. Кроме того, внимания короля настоятельно требовала новая серьезная угроза — стремительно растущее могущество дома Плантагенетов. Мы еще коснемся в этом томе перипетий затяжной междоусобной войны, практически без перерыва терзавшей Англию в 1136–1153 гг. Достаточно будет напомнить, что эту войну за наследство Генриха I вели между собой племянник покойного короля, Стефан Блуаский, и его дочь Матильда, вдова императора Генриха V, которая во второй раз вышла замуж за сына графа Анжуйского, Жоффруа Плантагенета. Победив в Англии, Стефан, наоборот, проиграл в Нормандии. Плантагенеты, которые еще до этого после долгой борьбы захватили Мэн, таким образом прибрали к рукам всю западную часть королевства. Ловкость Жоффруа и его сына Генриха вкупе с целой серией благоприятных обстоятельств принесет им еще больше. Первое столкновение (1150–1151) Людовик VII, занятый войной с Шампанью, слишком поздно обеспокоился завоеванием Нормандии. И только после возвращения из крестового похода его не на шутку встревожили действия Жоффруа. В начале 1150 г. тот пожаловал герцогство своему сыну, не спросив согласия своего сюзерена. Людовик был готов тут же начать войну из-за этого серьезного нарушения феодальных обычаев, которое граничило с притязаниями на независимость, которые нередко высказывали нормандские герцоги: столкновение удалось отсрочить благодаря вмешательству Тьерри Эльзасского и сдерживающему посредничеству Сугерия, но после смерти последнего король заявил, что собирается отдать Нормандию сыну Стефана Блуаского Евстахию, и перешел в наступление (весна 1151 г.). В конце августа в Париже был заключен мир, по которому Жоффруа и его наследник вновь подтвердили, что уступают Людовику Жизор; Генрих принес Людовику оммаж за Нормандию. Дело завершилось полным успехом для французского короля, который совсем не горел желанием ввязываться в рискованную авантюру. Несколькими неделями позже Жоффруа скоропостижно скончался, оставив все свои владения Генриху, который, в принципе, должен был отдать часть из них своему младшему брату, после того как сам завоюет Англию. Развод Людовика VII Во время пребывания в Париже Генриху Плантагенету, этому двадцатилетнему юноше, посчастливилось понравиться Алиеноре, которая была старше его на десять лет — и как раз в тот момент, когда Людовик уже практически решился с нею расстаться. Четырнадцати лет брака с лихвой хватило, чтобы показать — супруги просто не созданы для того, чтобы ладить друг с другом. На протяжении последующих восьми столетий хронисты и историки наперебой живописали характер (фривольный) и нрав (легкомысленный) Алиеноры, прирожденной дочери Юга и куртуазной цивилизации, попавшей в более грубую среду, ставшей супругой человека, который хоть поначалу и был в нее влюблен, но вскоре стал «целомудренным, как монах» (если верить самой Алиеноре). Отсутствие наследника мужского пола, этот классический «подводный камень» для коронованных пар Средневековья, уже предвещал близкий развод, когда вроде бы вскрылась неверность королевы. Это событие произошло во время пребывания супружеской пары в Антиохии в 1148 г.; виновником был не кто иной, как родной дядя Алиеноры, красавец Раймунд де Пуатье, который повел себя с племянницей по меньшей мере подозрительно. Вдобавок Алиенора заявила, что не может быть женой Людовика, поскольку приходится ему родственницей, и отказалась ехать вместе с ним в Иерусалим. Слухи о произошедшем вскоре достигли Рима и Франции, а королю пришлось силой увозить с собой жену. Настоятельные уговоры папы Евгения III во время остановки Людовика и Алиеноры в Риме не помогли: супруги так и не помирились. Нам неизвестно (несмотря на явный интерес хронистов к подобным проступкам королевских особ), как далеко зашел флирт королевы с Генрихом Плантагенетом летом 1151 г. Тем не менее именно тогда король решил в свою очередь воспользоваться аргументом о кровном родстве, чтобы добиться развода. И Людовик, и Алиенора были потомками Роберта Благочестивого и приходились друг другу родственниками в колене, запрещенном тогда церковными канонами. Собрание епископов, созванное в Божанси 21 марта 1152 г., без возражений приступило к аннуляции брака. Меньше, чем два месяца спустя Алиенора, вернувшаяся в свои владения, вышла замуж за Генриха Плантагенета в Пуатье. Из-за этого брака (в котором родилось восемь детей) западная половина королевства на целых полвека вышла из-под контроля Капетингов. Перечисление роковых последствий этого развода для Франции стало еще одним обязательным моментом для хронистов и историков, которые в подробностях повествовали, как король своим неосмотрительным поступком отказался от огромных территорий, тем самым усилив своего опасного противника. Однако тщательный анализ сложившейся ситуации, сделанный некоторыми добросовестными историками, показывает, что у Людовика не было другого выхода: он не мог больше позволить скандалам продолжаться и наносить урон королевскому престижу. С другой стороны, проблема наследия тоже была неразрешимой: если бы у королевы каким-то чудом родился бы сын, то его законность оказалась бы под сомнением; если же Алиенора так и не смогла бы произвести на свет ребенка мужского пола, то преемственность династии была бы прервана и возможные наследники во главе с Робертом де Дре не стали бы приемлемым выходом. Да и как, наконец, можно было предвидеть серию смертей (Евстахия, наследника Стефана Блуаского, самого Стефана и Жоффруа Анжуйского, брата Генриха Плантагенета), позволившую герцогу Нормандскому надолго собрать под своей властью столько земель? Кто мог ожидать запоздалой плодовитости от Алиеноры? Что же касается утраты Аквитании, то даже можно было сказать — пусть и с некоторым преувеличением — что оно ниспослано самим провидением. Еще не пришло время маленькому королевскому домену «переварить» такую прибавку; поэтому только к лучшему было, что еще слабая капетингская монархия не стала и дальше возиться с этим огромным неуправляемым придатком[150].Столкновение с Генрихом II
Положение противников Как бы то ни было, спустя восемь месяцев после развода Генрих II стал королем Англии и за несколько лет поднял эту страну из руин и анархии, куда ее ввергла междоусобная война. Развив неутомимую активность, без конца переезжая из одного конца своих земель в другой, Генрих смог придать этому разобщенному конгломерату владений не однородность — что было невозможно, — но некоторую сплоченность, что придало ему особый вес в дипломатической игре. Молодой человек, преисполненный амбициозных замыслов, новый король стал проводить крайне энергичную, если не сказать агрессивную, внешнюю политику на всех границах, от Шотландии до Гаскони. По отношению к этому деятельному соседу, которому фортуна улыбалась снова и снова, Людовик VII придерживался оборонительной политики. За несколько лет, прошедших после возвращения из крестового похода, он потерял всех своих близких и доверенных советников; старые советники, перешедшие к нему от отца: Сугерий, Рауль де Вермандуа и другие — умерли; новые люди были назначены на все крупные коронные должности, поскольку все, кто занимал их раньше, либо также умерли, либо были отстранены. В те же самые годы скончались и Бернард Клервоский, Евгений III, Тибо Шампанский, Конрад III: все они вместе с Людовиком являлись ведущими партнерами дипломатической игры — иногда, правда, довольно острой, — но при этом были для французского короля абсолютно понятными и привычными людьми. Стараясь справиться с такими крупномасштабными переменами, король утратил присущий ему некогда динамизм: он колебался, делая выбор, склонялся к маловыгодным для него компромиссам. Пусть проводимая им в те годы политика внешне и смотрелась блекло, но на деле она была проницательной; ее последствия в будущем окажутся плодотворными во многих отношениях. Начало «первой Столетней войны» (1152–1160) Отныне во внешней политике королевства преобладала война с англо-нормандцами, перемежаемая многочисленными и без конца возобновляемыми перемириями. Эти враждебные действия положили начало тому, что иногда называют «первой Столетней войной», которая в действительности прекратилась только с заключением Парижского мира в 1259 г. Летом 1152 г. Людовик VII вступил в союз с Евстахием Булонским, Жоффруа Анжуйским и юным графом Шампанским Генрихом; позднее к ним примкнул Тьерри Эльзасский. С другой стороны, второй брак с дочерью Альфонса VII Кастильского Констанцией позволил Людовику снова заняться дипломатией в южном направлении. Начав воевать в Нормандии и Вексене, союзники сумели захватить несколько замков, но так и не перешли в крупномасштабное наступление. В августе 1154 г. был заключен мир; Людовик возвращал все, что им было завоевано, окончательно отказывался от Аквитании и соглашался на денежную компенсацию. В феврале 1156 г. Генрих, которому пришлось столкнуться с последним восстанием своего брата (тот умер на следующий год), согласился принести оммаж «на границе» за все свои континентальные владения. За этим жестом доброй воли последовало сближение между двумя королями, которое продержалось четыре года. В августе 1158 г. стороны достигли договоренности о женитьбе сына английского короля, Генриха Младшего, на Маргарите, дочери Людовика, который отдавал за ней в качестве приданого Вексен (ту самую область, которую сам Генрих уступил ему во время завоевания Нормандии); оба помолвленных были еще совсем маленькими детьми. Затем английский и французский короли подготовили совместный поход на герцога Бретани; Генрих самостоятельно завершит это предприятие, закрепив за собой Нант — который был отдан его брату — и подготовив почву для аннексии всего герцогства, которую он реализует спустя два года. Во время пребывания в Париже Плантагенет отчасти добился удовлетворения одного своего требования, которое могло бы возыметь значимые политические последствия: должность сенешаля королевства, на которую анжуйские графы претендовали уже давно, основываясь на более чем спорных аргументах. Генрих тут же воспользовался полууступкой Людовика для похода на Бретань, устроенного от имени французского короля; но иных ощутимых выгод английский король не получил: Генрих Младший всего лишь дважды по случайным поводам прислуживал своему сюзерену за столом, и настоящий сенешаль, Тибо Блуаский, сохранил свой пост. Этот период сотрудничества, особенно выгодный Плантагенету, завершился к концу года, когда английский король заявил о правах Алиеноры на графство Тулузское — точь-в-точь как в свое время сделал Людовик VII. За этой претензией прослеживались и другие территориальные амбиции — на Керси, Руэг, быть может, Овернь. Однако уже некоторые инициативы, принятые Людовиком VII после развода, свидетельствуют об интересе, проявленном им к южной части королевства. Поэтому ссора была неизбежна. В июне 1159 г. Генрих собрал огромное войско в Пуатье и занял почти весь Керси и Руэг. Французский король во главе горстки всадников ринулся в Тулузу. Генрих осадил город, но в конце концов снял осаду в октябре, так и не решившись пойти на приступ: уважение, которое он питал к своему сюзерену, помешало ему сойтись с ним в прямом бою. Оставив войска, чтобы охранять завоеванные им земли, он отправился на другой фронт войны, в Вексен; после стычек противники заключили эфемерный мир в мае 1160 г., на принципах status quo (Шинонский договор): Генрих сохранил за собой только Кагор и несколько замков в Керси. Вторая фаза войны (1160–1169) В октябре 1160 г. король Англии обошел договор, сыграв свадьбу Генриха Младшего и Маргариты и прибрав к рукам приданое дочери французского короля, Вексен, который до того был отдан под охрану госпитальерам. Война тотчас вспыхнула вновь, особенно на границе Мэна и Анжу. Граф Тибо Блуаский, ненадолго перешедший в лагерь англичанина в предыдущем году, снова стал сражаться на стороне Людовика VII, для которого военные действия в целом приняли неблагоприятный оборот. В конце 1161 г. перемирие приостановило столкновения до 1166 г. Но оба противника продолжали бороться исподволь: Генрих вторгся в Тулузен, Людовик ответил походом в помощь оверньскому духовенству в лучших традициях Людовика VI, подстрекал мятежи в Бретани и Пуату, укрепил союз с Фландрией и Шампанью, принял изгнанного из Англии Томаса Бекета (ноябрь 1164 г.) и извлек выгоду из пребывания Александра III на французской земле (1163–1165). В 1166 г. Генрих II возобновил открытую войну, завоевав Бретань, а затем устремившись в Овернь; потом он вернулся, чтобы защитить Вексен от нападения французов (лето-осень 1167 г.). В следующем году противники теряли очки в разных областях: Генрих пострадал от дела Бекета, но лишил Людовика некоторых из оказывавших тому поддержку лиц (например, купив нейтралитет графа Булонского) и заключил союз с Фридрихом Барбароссой. После длительных переговоров оба короля заключили соглашение на встрече в Монмирайе (6 января 1169 г.). Генрих сохранил Бретань, Людовик принял оммаж от его сыновей за континентальные владения (от Ричарда за Аквитанию, от Генриха Младшего за все остальное). Наконец, Ричард был помолвлен с Алисой, второй дочерью Людовика. Проблемы, связанные с южными землями, в договоре не поднимались. Это соглашение серьезно не нарушалось до 1172 г.: в августе его возобновили, однако долго оно гак не продлилось. В целом же, равновесие сил медленно изменялось на протяжении этих фаз чередования мелкомасштабных боев и настороженного мира. Хотя военные действия и не привели ни к какому решающему результату, события скорее пошли на пользу Капетингу: теперь у него появился сын-наследник (1165 г.), его все больше уважали на восточных и южных границах королевства, его поддерживали папа римский и французская Церковь. В то же самое время Плантагенету немало повредило сопротивление, а затем убийство архиепископа Кентерберийского Томаса Бекета (29 декабря 1170 г.), ему часто приходилось подавлять мятежи, которые впоследствии только будут усиливаться. Тем не менее могущество Генриха оставалось огромным, и оно еще выросло после его завоеваний в кельтских областях. Впрочем, оба противника противостояли друг другу на юге Франции, который подходил для масштабных дипломатических маневров. Последние сражения (1173–1174) и мир Уже стареющим королям пришлось сойтись в рамках еще одного конфликта. Генрих II все еще не умерил свои территориальные аппетиты. В январе 1173 г. он добился долгожданного успеха, когда его сын Ричард, герцог Аквитании, получил тесный оммаж от графа Тулузского, неосторожно ослабившего свои связи с Францией. Но Людовик VII ответил тем же, добившись оммажа от беспокойного графа Маконского и его вассалов. В феврале 1173 г. Генриху пришлось столкнуться с серьезным мятежом, в котором участвовали его сыновья, супруга, шотландский король и многочисленные пуатевинские, анжуйские и бретонские вассалы. Людовик поддержал восставших, правда, не очень энергично: в конце концов он вошел с войском в Нормандию, но затем отступил при приближении наемников Генриха II (лето 1173 г.). Короли заключили перемирие, что позволило Генриху подавить все очаги восстания. Весной 1174 г. Людовик предпринял более серьезное военное усилие, отправившись осаждать Руан, но потерпел неудачу из-за стремительного отпора со стороны Генриха (август). 24 сентября Плантагенет примирился со своими сыновьями при посредничестве Людовика (договор в Монлуи). Мир между двумя королевствами был заключен лишь 21 сентября 1177 г., в Нонанкуре, после того как Людовик — при благожелательной поддержке Святого престола- ловко устранил новую угрозу войны. В который раз Генрих признал себя вассалом французского короля, и территориальный статус-кво было восстановлен. Непростой вопрос о браке между Маргаритой и Ричардом наконец был урегулирован. По настоянию Александра III оба государя, невзирая на свой возраст, обещали отправиться в крестовый поход. Этот последний договор увенчал успехом сопротивление Капетинга: за четверть века, проведенных в интригах и войнах, король Англии заполучил лишь Бретань — которая, по правде сказать, и так уже отдалилась от королевства, — несколько южных замков, оммаж графа Тулузского — но не само графство, — и вернул себе Вексен. Сам король Франции ничего не завоевал: но он существенно расширил влияние на своих крупных вассалов, их духовенство, их подданных: авторитет монархии возрос как внутри королевского домена, так и к северу и югу от него.Людовик VII в своём королевстве
Этот заголовок, своего рода вариация названия монографии Марселя Пако, призван подчеркнуть то, что, вероятно, было фундаментальным достижением царствования: усиление власти короля и ее постепенную экспансию за пределы королевского домена.Управление
Обновление персонального состава и развитие институтов Можно только сказать, что при Людовике VII произошло настоящее развитие институтов: ведь при его сыне, и почти сразу, станет заметно, что службы двора специализированы и что администрация робко пытается рационализировать себя. Но начало этому развитию, иногда едва заметными движениями, положило царствование Людовика VII. Так, тогда впервые упоминаются бальи, еще с неопределенными функциями. Королевская юстиция больше не встречала противодействия в домене и начала вмешиваться в дела, которые касались крупных вассалов (чаще всего их отношений с церквями) и которые королевская курия считала подлежащими своей юрисдикции. Иногда суд выносил даже настоящие приговоры, открыто указывавшие на обвиняемого, — огромный шаг вперед по сравнению с осторожными решениями третейских судов, какими ограничивалась феодальная юстиция. Впервые говорится, что в заседании курии принял участие профессиональный юрист (iurisperitus) — мэтр Монье, крупная фигура в парижских школах, и он, конечно, был не один. Автором одного трактата по уголовному праву, основанного на трудах болонских романистов, мог быть королевский нотарий Гиральд Буржский, и в актах, выходивших из стен канцелярии, то тут, то там можно заметить влияние ученого права. Дело не ограничивалось юридической сферой: королевский совет (consilium, curia In consilio) начал приобретать облик учреждения, где постоянно заседало несколько человек (consiliarii), мнения которых влияли на решения короля. Наряду с очень знатными особами: родственниками короля, прелатами или крупными вассалами (архиепископами Реймсскими — Генрихом, потом Вильгельмом Белоруким, сенешалем Тибо, Филиппом Эльзасским) — там попадались люди, возвысившиеся только за заслуги: клирики, как Тьерри Галеран или бессменный Кадюрк, рыцари, как Бушар ле Вотр, куриальные чиновники, как камергеры Адам и Готье. Конечно, исходя из того, что росло число этих «верных», игравших важные роли, не имевших иной поддержки, кроме доверия короля, но еще отнюдь не специализированных, еще слишком рано утверждать, что совет стал профессиональным. Однако решительные перемены в королевском окружении начались. С другой стороны, мы видели, что главные советники и высшие сановники предыдущего царствования исчезли (умерли или были отстранены) на рубеже 1150 г. Процедура замещения не столь значительных постов — кравчего, казначея и коннетабля — изменений не претерпела. Обе первых должности сохранили наследственный характер, оставшись соответственно в семьях Ле Бутелье де Санлисов и Бомонов, третья не вышла за пределы круга одних и тех же фамилий, хорошо нам знакомых с тех пор, и после Гуго де Шомона досталась Матье де Монморанси, потом четыре года оставалась вакантной и далее перешла к Раулю де Клермону. Зато назначения на два ключевых поста, канцлера и сенешаля, заслуживают комментария, так как предвещали существенное изменение установок власти. Канцлерскую должность, окончательно отнятую у беспокойного Кадюрка, с 1150 по 1172 г. занимал Гуго де Шанфлери, епископ Суассонский. Этот второстепенный прелат, которому на этом посту полагалось играть очень важную роль, через двадцать два года был удален от дел — может быть, именно из-за веса, какой он приобрел, и еще семь лет ему не находилось преемника. Новый канцлер, Гуго дю Пюизе, был столь же неприметным, каким в начале карьеры был епископ Суассонский. Что касается сенешаля Рауля де Вермандуа, то на эту должность только через два года после его смерти, в 1154 г., был назначен граф Тибо Блуаский, сохранявший ее до своей смерти в 1191 г., несмотря на временный переход на сторону Генриха II в 1159 г. Выбор епископа Суассонского был, конечно, выбором «технического специалиста». Выбор графа Блуаского, наоборот, — чисто политическое решение, с которого началось укрепление связей короны с Блуа-Шампанским домом. Появление такого нового сенешаля также означало, что ко двору возвращаются знатные бароны, давно покинувшие его; это стало одним из самых явных признаков роста престижа Капетингов. Наконец, оба назначения имеют и общее черты: они показывали, что больше не осталось приближенных советников высокого полета, какими были, например, Сугерий и Рауль де Вермандуа, а в более низком стилистическом регистре — Кадюрк и Этьен де Гарланд. При дворе отныне находились либо незаметные люди, облеченные королевским доверием и эффективно делавшие свое дело, либо знатные вельможи, которые не жили близ монарха постоянно и иногда занимали посты, имевшие в основном почетный характер (ведь на пост сенешаля претендовал даже английский король). Промежуточный эшелон, то есть высокопоставленные чиновники из высшей аристократии Иль-де-Франса, обладавшие реальным влиянием, понемногу исчезал. Это перераспределение ролей дополнялось еще одной институциональной переменой: на периодические собрания магнатов королевства, при Людовике VI очень мало посещаемые, теперь собирались самые знатные сеньоры, обсуждавшие и утверждавшие важные королевские решения (в Безеле в 1146 г., в Этампе в 1147 г., в Суассоне в 1155 г., в Париже в 1177 г.). Эта тенденция к объединению крупных вассалов изменила лексикон канцелярии, которая стала называть их словом «бароны», вероятно, ассоциируя с соратниками Карла Великого; начало появляться и название «пэры» как реминисценция из той же эпохи. Таким образом, трансформации куриальной среды выглядят одним из отсветов прогрессивного развития, какое претерпевали королевская власть, отношения между сувереном и территориальными князьями и осознание функции монарха, усваиваемое различными группами общества. Расширение королевской власти Это осознание, а также укрепление связей, давно ослабших, какие соединяли крупных вассалов со своим королем, было одним из элементов, и не самым ничтожным, того обширного феномена, который, возможно, стал крупнейшим достижением эпохи Людовика VII, — «расширения моральной власти короля» (Ашиль Люшер), которое непосредственно подготавливало расширение его власти физической. Людовик VII старался выполнять важнейшие обязанности короля, как раз те, к выполнению которых было особо чувствительно общественное сознание, — вершить суд и сохранять мир. Людовик VI в свое время добился, чтобы правосудие и мир царили в его домене, и, если его сыну еще приходилось бороться с отдельными непокорными шателенами Иль-де-Франса, эти походы уже не имели эпического облика, какой обретали ранее; область, которую напрямую контролировал король, была прочно замиренной. Теперь он взялся распространять свою власть на все королевство — на совокупность территорий, подчиненных ему опосредованно. Мы рассказывали, что он вызывал крупных вассалов к себе на суд, чтобы они ответили за свои бесчинства. Он выступал в Оверни против графов, в Веле — против виконтов Полиньяка, против графов Неверских, нападавших на аббатство Безеле, и против врагов Клюни. Его покровительства искали многие епископы и церкви Юга, сожалевшие, что в этих краях, слишком далеких от Парижа, оно едва ли могло проявиться по-иному, кроме как в форме грамот. Почти повсюду изъявляли уважение королю и доверие к нему. Еще одним проявлением этого феномена были попытки арьер-вассалов короны, иногда очень далеких в географическом плане, сблизиться с королевской властью непосредственно или хотя бы получить от короля помощь. По меньшей мере в моральном, если пока не в фактическом отношении, королевство вновь обрело границы Francia occidentalism[151] 843 г. Сближение с Шампанским домом, походы в Бургундию, установление связей с Дофине и долиной Соны (входившими в состав Арелатского королевства и принадлежавшими императору) вполне явственно означали неприятие претензий на верховенство, которые с момента вступления на престол выдвигал Барбаросса. Десять лет (1152–1162) император предпринимал все новые поездки на эти западные и юго-западные окраины своего государства, заключал там союзы и оказывал давление, притом что его предшественников они заботили мало; наивысшую угрозу для Франции создал подписанный в 1157 г. союз между Генрихом II и Фридрихом I; но проблемы, с которыми Фридрих столкнулся в Италии, и схизма привели к тому, что тиски, грозившие сомкнуться, разжались, и Капетинг смог позволить себе настоящее дипломатическое наступление на Юго-Восток, на имперскую землю, несколько улучшив отношения с Фридрихом (встреча в Вокулере в 1171 г.). На Юге утрата Аквитании в 1152 г. ничуть не остановила распространения капетингского влияния; каналом для него были особые отношения с графами Тулузскими, часто нуждавшимися в королевской помощи, выражалось оно и в прямых связях с городом Тулузой, церквями, виконтессой Нарбоннской и другими крупными и мелкими сеньорами (см. карта 9). Здесь, как и в других местах, знакомству с королем способствовали его поездки — он пересек Юг зимой 1154–1155 г., возвращаясь из Компостелы, а позже проехал через Юго-Восток, направляясь в Гранд-Шартрез. Еще немало переездов напомнило подданным всего королевства о существовании их государя: времена изменились, и Франция стала куда менее разъединенной из-за трудности проезда, чем век-два назад. Во всех направлениях тянулись «длинные руки короля с целью защитить всех и оказать им покровительство» — так в 1154 г, выражалась королевская канцелярия. Только Запад, который заблокировала экспансия Плантагенета, оставался почти непроницаемым для распространения престижа французского монарха.
Кроме осуществления бесчисленных отдельных акций, король, стремясь насадить мир, начал искать некое общее и нормативное его выражение во время подготовки к крестовому походу: папа и король совместно возложили на Сугерия обязанность хранить мир в королевстве. Но уже собрание 10 июня 1155 г. в Суассоне торжественно провозгласило, что король вновь взял на себя ответственность за мир во всем королевстве, который его предшественники были неспособны обеспечить; десять лет после этого церкви, крестьяне, купцы и все жители королевства должны были наслаждаться полным миром и безопасностью, а нарушители мира — держать ответ перед королевским судом, если решений судей на местах окажется недостаточно. Этот авторитетный тон, это притязание на участие в делах всего королевства были присущи уже Людовику VI, но еще естественней усвоил их Людовик VII[152]. Что касается самого факта издания закона, это был совершенно новый феномен для капетингской Франции; последователем Людовика VII в этом станет Людовик Святой. Другой вопрос, был ли монарх вполне уверен, что располагает средствами, позволяющими провести его эдикт в жизнь; в северо-восточной четверти страны, князья которой (герцог Бургундский, графы Шампанский, Труаский, Неверский) присутствовали в Суассоне, — вероятно, да; в других местах — вероятно, нет. Не суть: этот текст все равно стал важным этапом в процессе утверждения монархической власти во Франции. Он очень четко обозначает момент, когда Божий мир, который с тысячного года худо-бедно обеспечивала церковь, стал миром короля[153]. Новое укрепление главных королевских функций начало искать себе и другую форму выражения — литературную и историческую. До тех пор Капетинги предпочитали хранить молчание о своем происхождении, которое не давало им права вступать на престол, за что некоторые противники не упускали случая их упрекнуть. Зато в царствование Людовика VII династическое чувство усилилось и начало искать себе подтверждения в двух взаимоисключающих направлениях. С одной стороны, укреплялась «гордость за то, что ты Капетинг»: французские короли, отныне прочно утвердившиеся, больше не скрывали, что их предками были Робертины и Оттоны[154]. С другой стороны, появились поползновения связать династию с Каролингами и тем самым придать ей единственную форму легитимности, по-настоящему признанную коллективной памятью[155]. Любопытно, что все первые попытки такого рода, еще при Людовике VI, предпринимались не в королевском домене и не при дворе. Лишь в начале следующего царствования главный центр капетингской историографии, аббатство Сен-Дени, сделало первые шаги к сближению монархии с капетингской моделью, выпустив переработанную версию «Истории Карла Великого и Роланда» — очень фантастической хроники, приписываемой Турпину, легендарному соратнику Карла Великого. Этот текст, изначально связанный с паломничеством в Компостелу, имел большой успех во второй половине века. Монахи Сен-Дени использовали его и с тем, чтобы сфабриковать подложную грамоту Карла Великого, укреплявшую особую связь их аббатства с королевской властью. Разработка представления о более или менее легендарных каролингских истоках династии происходила в конце века очень активно, а недолгое возвеличивание ее настоящих предков прекратилось.
Домен
Итак, на всех уровнях — на уровне коллективного воображаемого, на законодательном уровне, как и на уровне очень ощутимого участия в мелких делах страны, — Людовик VII постепенно укреплял свою власть и, возможно, прежде всего престиж короны. Эта деятельность опиралась на ограниченную, но надежную материальную базу — ресурсы домена. Управление доменом и доходы короля Королевский домен, значительно расширенный Филиппом I и немного — Людовиком VI, требовал от Людовика VII пристального внимания, особенно после 1152 г. Он практически не увеличил домен, но усердно эксплуатировал его. Впрочем, эта перемена отношения (которую можно было предчувствовать еще в царствование Людовика VI) соответствовала общим тенденциям развития: времена создания новых сеньорий, внезапных изменений территориальных границ миновали, настало время для организации земледелия и приумножения доходов. Король, наученный примером Сугерия, взялся за дела, где экономические интересы и политическое утверждение, как при Людовике VI, оставались неразделимы. Собирать людей и использовать земли значило также демонстрировать королевское присутствие, ослаблять или сокрушать соседних сеньоров, контролировать жизненно важные маршруты. Но военные акции были уже не столь настоятельно необходимы, как в прошлое царствование, потому что домен почти замирили. С другой стороны, напомним, что понятие «королевский домен» означало вовсе не компактную территорию, а совокупность земель и всевозможных налогов: дорожных и мостовых пошлин, податей с городов, судебных прибылей, сеньориальных податей, доходов от покровительства церквям и т. д.; этот разнородный набор от Лана до Орлеана и был главным источником королевских ресурсов. Интенсификация эксплуатации домена выразилась прежде всего в росте количества превотств: этих базовых территориальных единиц королевской администрации вместо 21 или 22 стало 37. Больше всего новых превотств создали в Гатине — области, где, как мы скоро увидим, больше всего было и новых деревень. Некоторые города получили по второму прево, а в Париже этих чиновников было трое. Зато принципы местного управления остались неизменными: прево брали свою должность на откуп, иногда даже получали во фьеф, а король пока с большим трудом сдерживал их притязания на наследственную передачу должности — как и в большинстве европейских государств, во Франции Людовика VII администрация Нового времени переживала лишь стадию предыстории. Остается выяснить, какие ресурсы домен предоставлял королю. Долгое время считали, что они были очень богатыми и превосходили 200 тыс. ливров в год, основываясь на ошибочном толковании единственного текста, содержащего конкретные цифры, — записей Конона, прево Лозаннской церкви, о разговоре, который он услышал на похоронах Филиппа Августа. Сегодня известно, что эта цифра — 19 тыс. ливров — равнялась годовому доходу, а не месячному; вероятно, это была откупная плата прево — основной твердый ресурс короля. Это очень мало, но, должно быть, эта сумма составляла лишь часть (почти треть) обычного дохода, а экстраординарные доходы, размер которых нам остается неизвестен, представляли собой, конечно, не просто скромную добавку[156]. Историки считали и пересчитывали цифры, сугубо гипотетические, чтобы оценить вероятный объем ресурсов Людовика VII. Все сошлись на одном принципиальном утверждении: эти ресурсы были намного больше, чем у любого из его вассалов, за исключением Генриха II. В остальном, кроме этого, мнения разошлись: на взгляд Джона Болдуина, «такой доход (который Филипп II унаследовал от отца) был недостаточно существенным, чтобы вести сильную королевскую политику в противовес крупным баронам и прежде всего Генриху II»[157]. На взгляд Карла Ф. Вернера и других, доходы французского короля ставили его на очень почетное место среди европейских монархов, доходы же самого Генриха II, несомненно превосходившие доходы Людовика, тем не менее были сопоставимы с ними. Сельская местность Королевская активность в сфере организации земледелия в ту эпоху особо проявлялась в Гатине, то есть на юго-востоке домена; это была область, где владения короны располагались плотней всего, а также одна из марок (в данном случае — на границе Франции и Шампани), которые были сравнительно мало населены и в которых тогда наибольший размах получили расчистки. За двадцать последних лет царствования Людовик VII пожаловал много хартий поселения и вольности, как, впрочем, со своей стороны поступали граф Шампанский, архиепископ Сансский и более мелкие сеньоры. Крупнейшими населенными пунктами, заложенными королем в этой области, были Вильнев-сюр-Йонн (1163–1164) и Флажи (1177–1178). Из Вильневов, разбросанных на остальной территории домена, упомянем также Вильнев-жукст-Этамп (1170), дополнивший начинания Людовика VI. Что касается содержимого пожалованных хартий, то они оставались очень далеки от всякой идеи коллективной автономии. Впрочем, многие из них просто воспроизводили кутюмы Лорриса. Король предоставлял привилегии и своим людям, но нельзя сказать, чтобы он, как и Людовик VI, много делал для освобождения сервов. Действительно важные коллективные вольные, предоставленные сервам десятка деревень в Орлеанской области, датируются только последним годом царствования, когда старый монарх сам практически не правил. Города Что касается городского населения, жаждавшего свободы, то Людовик VII охотно соглашался уступать ему некоторые подати, какие взимал с города или профессии. Именно при нем в документации стали упоминаться организации ремесленников — менял, пекарей и, может быть, кожевников Парижа, мясников Этампа, пекарей Понтуаза. Привилегии, получаемые ими, предоставляли им монополию, облегчали (не всегда) налоговое бремя, но также были рассчитаны на то, чтобы лучше контролировать основные виды деятельности городского населения. 15 силу других привилегий снижение податей или уступка королевских прав распространялись на всех бюргеров города — в Шатонеф-ле-Тур (1141 и 1144 г.), Орлеане (1147 г.), Санлисе и Мелене (1173 г.), Компьене (1152 и 1179 г.), Лане и несколько раз в Бурже. В большинстве городов, облагодетельствованных таким образом, были постоянные королевские резиденции — король старался крепче связать себя с бюргерами, стимулировать их активность, а его отказ от доходов компенсировали особые выплаты, вполне возмещавшие ему ущерб. Действиями в том же направлении была и организация рынков и ярмарок с выгодными условиями обложения — в Этампе, Орлеане, Манте, Монлери и т. д. Париж, все более выглядевший столицей во время долгих пребываний короля и его служащих, выиграл от нескольких мер, самой известной из которых стала привилегия «ганзе речных купцов», которая подтвердила и расширила в 1170–1171 гг. привилегию, пожалованную Людовиком VI, и стала основой развития парижского муниципалитета. Зато Людовик старался, чтобы в городах, принадлежавших непосредственно ему, как можно меньше развивалось коммунальное движение. В начале царствования инициативы такого рода были подавлены в Орлеане и Пуатье; коммуна в Турню была запрещена в 1171 или 1172 г., а в Сансе распущена в 1147 г., после того как ее разрешили в 1141 г. Во многих случаях частичные вольности, о предоставлении которых только что шла речь, становились компенсацией запрета коммуны (в Орлеане, в Шатонеф-ле-Тур) или наименьшим злом в ситуации разгула насилия (в Компьене). К коммунам, учрежденным в предыдущем поколении, на которое в большей степени, чем на поколение Людовика VII, пришелся подъем этого движения, отношение было иным — к их существованию уже привыкли, и они стали факторами поддержания порядка: в Нуайоне, Бове, Лане, Суассоне и, несомненно, в Манте король мог лишь подтвердить признание коммун. Что касается новых движений, грозивших власти епископов, которых король опекал, то к ним он относился откровенно негативно. Мы, конечно, видели, что в Реймсе он сначала (в 1138–1139 гг.) утвердил образование коммуны вопреки протестам духовенства, но это был политический маневр, который он в 1140 г. прекратил, и в дальнейшем, хоть и не слишком энергично, поддерживал своего брата Генриха, ставшего архиепископом, в борьбе с притязаниями горожан. В Безеле он с помощью оружия защищал аббатство против подвластных ему горожан, организовавших в 1155 г. коммуну при поддержке графа Неверского; когда другой граф Неверский так же поступил в 1176 г. в Оксере, король тоже запретил эту коммуну, невыгодную епископу. Позиция Людовика VII по отношению к коммунальному движению в целом представляется более сдержанной, чем писали о ней историки, старавшиеся найти в его царствование «начало объединения народных классов с тем, кто в их глазах олицетворял порядок, справедливость и сопротивление феодалам» (Ашиль Люшер). Шарль Пти-Дютайи, более проницательный, уже заметил, что Людовик «испытывал нерешительность, колебался» и «как будто чувствовал те же отвращение и страх, какие самостоятельность бюргеров внушала церкви». В целом он был прямым продолжателем линии отца. Как и тот, он иногда благосклонно относился к коммунам в городах, не принадлежавших ему, но не в своих городах. Так же как и тот, он одобрял их в качестве факторов сохранения общественного порядка и в качестве сообществ, непосредственно связанных с королевской властью; так, он охотно подтверждал признание тех из них, которые хорошо себя зарекомендовали, но обуздывал и подавлял те, которые выходили за границы, установленные им самим. Наконец, как и тот, он совсем не любил (после того как угасли фрондерские поползновения, вдохновлявшие его в молодости, например, в Реймсском деле), чтобы горожане, борясь за свои требования, посягали на привилегии духовенства, которому он покровительствовал и которое его поддерживало.Церковь
Царствование Людовика VII пришлось на период сравнительного религиозного мира: столкновения, вызванные реформой духовенства и спором об инвеституре, утихли, а насилие, которое породит борьба с ересью, еще почти не предчувствовалось. Однако за этим спокойствием крылась интенсивная деятельность: строительство больших зданий в стиле первого готического искусства шло на капетингских землях полным ходом, схоластическое мышление достигло зрелости, а объединение парижских магистров предвещало появление университета. Цистерцианцы закрепляли результаты чрезвычайно активного развития, какого достигли за полвека, коллегиальные церкви регулярных каноников в свою очередь переживали пик экспансии, а способные, достойные и самостоятельные епископы пожинали плоды реформы. Личность французского короля, благочестивого, пропитанного религиозной культурой, друга клириков, живших святой жизнью, не диссонировала с этой эпохой углубления религиозного чувства и совершенствования образования духовенства. Отношения с французской церковью У себя в королевстве Людовик VII, может быть, в первую очередь представал защитником церквей- епископства, монастыри, коллегиальные и простые сельские церкви пользовались привилегиями, какие он им щедро раздавал: Марсель Пако насчитал таких документов не менее 452. Правда, 275 из них были просто подтверждениями прежних; остальные представляли собой отказы от пошлин или рент, дарения королевских имуществ или (очень часто) официальное предоставление королевского покровительства владениям какой-либо церкви. Эти грамоты жаловали не только церквям, непосредственно зависимым от монарха, — мы видели, что подобные привилегии давали, например, церквям Юга. Поэтому ему приходилось выступать, иногда с оружием в руках, в защиту церквей, которым он предоставил свою гарантию, от их светских соседей. Тем самым традиция, какую в своих доменах заложил Людовик VI, распространилась на добрую часть королевства и стала эффективным орудием расширения королевской власти. Действия Людовика VII, конечно, прежде всего затрагивали Иль-де-Франс и окружавшие его земли, но добирался он и до Оверни, Ниверне, Везеле, Клюни и других мест. Забота короля о религиозных учреждениях выходила за пределы мирского покровительства и дарений: несколько раз он брался реформировать монастыри и особенно коллегиальные церкви. Самые важные, а также самые трудные из этих действий имели отношение к секулярным каноникам Святой Женевьевы в Париже и Святого Корнелия в Компьене. Действуя согласованно, чтобы преодолеть их упорное сопротивление, Людовик VII и Евгений III заменили их соответственно регулярными канониками и монахами Сен-Дени (в1148 г. и 1150 г.). Тем самым король продемонстрировал заботу о духовном здоровье церкви и интерес к черному духовенству. Последнему, прежде всего новым орденам (во главе с цистерцианцами и тамплиерами), эффектная экспансия которых начала терять темп, король предоставил и щедрые дары, в частности освобождение от дорожных и мостовых пошлин, необходимое для их экономической деятельности (см. карта 10).
Особенно хорошо нам знакома для царствования Людовика VII еще одна большая область отношений между королевской властью и церковью — осуществление в двадцати двух «королевских» епископствах (которых в его царствование стало двадцать пять) регального права (regale), разрешение избирать нового епископа и утверждение его избрания[158]. Регальное право (прерогатива, позволявшая королю управлять епархией и присваивать ее доходы, пока кафедра вакантна) оказывало существенное влияние на королевские финансы, выбор епископов был элементом решающей важности для контроля над королевством. После инцидентов, которые ознаменовали начало царствования, Людовик проявлял примечательную осторожность в использовании этих прерогатив. Тем не менее благодаря ловкости и тому, что ключевые кафедры занимали такие прелаты, как его брат Генрих или шурин Вильгельм, он сумел провести немало кандидатур епископов, согласие которых на сотрудничество было ему обеспечено. Он распространил свое влияние и на четыре епископства Нарбоннской провинции, связи с которой установил во время поездки 1154–1155 гг. Таким образом, «стиль Людовика VII», воплощение гибкости и респектабельности, принес особо удовлетворительные результаты в том, что касалось отношений с церковной иерархией. Отношения с папством В этой сфере Людовик VII тоже с 1144 г. сохранил и улучшил превосходные отношения, какие его отец поддерживал с Римом. Первый период пришелся в основном на понтификат Евгения III (1145–1153) и прежде всего на его пребывание во Франции во время подготовки к крестовому походу; взаимопонимание между папой, королем и Сугерием было безупречным и продолжилось во время регентства, когда папа усердно выполнял свое обещание контролировать королевство и даже пытался примирить короля с королевой. Второй особый период начался после того, как осенью 1160 г. Людовик признал Александра III, а в 1163–1165 гг. папа снова жил во Франции, в Сансе. Как и в 1147–1148 гг., монарх получил от присутствия папы большую выгоду: оно, как и в первый раз, позволило укрепить власть короля (в данном случае благодаря ряду его выступлений против расхитителей церковных имуществ), а также усилило его позицию по сравнению с Плантагенетом, который тоже поддержал Александра, но скоро потерял достигнутые преимущества, вступив в конфликт с Томасом Бекетом. Кроме того, во время, когда император погряз в схизме и итальянских проблемах, французский король благодаря этому «хорошему выбору» приобрел некоторый международный престиж. Поскольку его встреча с Барбароссой в Сен-Жан-де-Лон дважды (29 августа и 22 сентября 1162 г.) так и не состоялась, это удачно избавило его от трудной дипломатической ситуации, которая была создана оплошностью его собственных послов и грозила обойтись ему дорого: ведь предполагался не менее чем третейский суд для выбора между двумя папами (и он явно оказался бы не в пользу Александра) в присутствии обоих монархов. Впоследствии отношения между Людовиком VII и Александром остались наилучшими. В 1177 г. король при угрозе нового нападения Англии, с которой он не хотел воевать, сумел добиться вмешательства папы — тот нуждался в нем, желая организовать новый крестовый поход. И папа вынудил Генриха II заключить Нонанкурский договор. Таким образом, в плане отношений с церковью царствование завершилось заметными достижениями. После трудностей начала правления Людовик VII смягчил отношение к свободам церкви. Не отказываясь от притязаний на светскую власть, он стал более сговорчивым и больше не пытался заходить слишком далеко в использовании своих прерогатив. Это стремление к доброму согласию с церковной иерархией многие современники и историки осуждали, видя в нем слабость короля — святоши и клерикала. Тщательный анализ, произведенный Марселем Пако[159], напротив, показал, что Людовик VII сумел, щепетильно соблюдая приобретенные церковью свободы, отстоять королевскую прерогативу и даже, более скрытно, но более эффективно, чем отец, влиять на решения прелатов. О той же мудрости и ловкости свидетельствуют его отношения с Евгением III и Александром III. Впрочем, его церковную политику следует рассматривать с учетом его глубокой набожности и его представлений о королевской функции, в его понимании, что бы ни говорили, обязанности христианского государя никогда не смешивались со слепой покорностью главам церкви: он занимает достойное место между Сугерием и Людовиком Святым.
Конец царствования
События последних десяти лет царствования во многом объясняются тем, что король состарился: ему пошел лишь шестой десяток, но усталость, а потом болезнь все более мешали ему действовать, а тем более воевать. После нормандских походов 1173 и 1174 г., закончившихся поспешными отступлениями, и большого восстания против Генриха II, которым Людовик VII не сумел воспользоваться, он больше почти не покидал домен. Благодаря вмешательству папы он ловко избежал последнего нападения Генриха II, но даже дипломатия в конце его жизни выглядит менее активной. В 1177 г. он тяжело заболел, а в сентябре 1 179 г. по возвращении из последней поездки, паломничества на могилу Томаса Бекета ради выздоровления сына, его разбил односторонний паралич. Умер он только 18 сентября 1180 г., но к тому времени уже более года не имел никакой реальной власти. Филипп, коронованный 1 ноября 1179 г., следующей весной отобрал у него королевскую печать, опасаясь, как бы его ослаблением не воспользовались шампанские дядья. Ведь в политической жизни последних лет царствования доминировала борьба Фландрского и Шампанского домов за влияние. С одной стороны — Филипп Эльзасский, с другой — королева и ее братья торопились обеспечить себе выгодную позицию, пока король не сменился. Первый стал самым приближенным лицом к старому государю, вторые сохраняли почти господствующее положение при дворе. После того как 23 апреля 1180 г. Филипп II женился на племяннице Филиппа Эльзасского, соперничество обоих кланов быстро вылилось в войну — сначала между собой, потом против молодого короля. Ожесточенность соперничества крупных феодалов, сравнительный упадок власти короля, который позволил втянуть себя в их распри и вступал с этими людьми в союзы, вместо того чтобы поискать жену в какой-нибудь царствующей фамилии, характерны для атмосферы конца царствования, тяжело сказавшейся на французском дворе. Несмотря на вполне удовлетворительное завершение борьбы с Плантагенетом, несмотря на авторитет, приобретенный среди подданных, король как будто выпал из европейской дипломатии, погрязнув в придворных раздорах, каких не бывало уже давно. Однако новый король скоро сумеет развеять это гнетущее впечатление. Реальную важность этого царствования, которую слишком часто трудно разглядеть из-за дипломатических проблем и недостаточно яркой личности короля, можно было бы показать, задав несколько таких вопросов, ответ на которые будет один и тот же, но часто неожиданный. Кто из капетингских монархов начал распространять королевскую власть за пределы Иль-де-Франса, до Бургундии, до южных границ Центрального массива и даже до Лангедока? Не Филипп Август, а Людовик VII. Кто из капетингских монархов издал первый ордонанс о мире в королевстве? Не Филипп Август и не Людовик IX, а Людовик VII. Кто из суверенов Западной Европы первым отправился в крестовый поход, придав династии величайший престиж? Людовик VII. А кому из Капетингов образцовый христианский и почти монашеский образ жизни принес всеобщее уважение и благосклонность церкви? Не Людовику Святому, а Людовику VII. Эти вопросы, конечно, маскируют слабые стороны царствования: великим монархом во Франции в тот период был, по меньшей мере на первый взгляд, Генрих II; крестовый поход потерпел неудачу; ограниченные ресурсы домена исключали какую-либо масштабную внешнюю политику; мир, провозглашенный королем, и уважение к его власти все еще зависели от доброй воли его крупных вассалов. Но мы также полагаем, что показали: поведение Людовика VII, зиждившееся на глубоко христианском представлении о королевском сане, предвосхитившем представления Людовика Святого, принесло ему прочные симпатии духовенства и населения и тем самым укрепило и расширило авторитет, какой приобрел для династии его отец. Этого нельзя сказать о его непоследовательной и нерешительной внешней политике или о его неудачном крестовом походе, хотя в оправдание первой можно сказать, что она представляла собой меньшее зло, а второго — что это был важный этап упрочения власти Капетингов. Во всяком случае, можно утверждать, что король, наученный горьким опытом (возможно — пожаром в Витри, разумеется — крестовым походом, разводом, а также усилением Плантагенета), опираясь на процветание домена, добрые отношения с церковью и вассалами, после 1152 г. проводил мудрую и осмотрительную, пусть не всегда динамичную политику. Его преемники пожнут плоды его кропотливого труда, повысив престиж и расширив власть капетингской монархии.Глава III Филипп Август (1180–1223): «Время перемен» для капетингской власти (Франсуа Менан)
Рождение Филиппа (21 августа 1165 г.) было встречено бурным всплеском народного ликования, а король объявил, что счастлив наконец обрести сына, поскольку был «устрашен таким множеством дочерей». Он ждал этого сына со времен своего первого брака, на протяжении примерно тридцати лет, и отсутствие отпрыска мужского пола могло бы создать ему серьезные сложности. Филипп оправдает возложенные на него надежды — он вознесет Францию в первый ряд великих держав Западной Европы. Названия двух значимых современных работ, посвященных его правлению, говорят сами за себя: одна книга называется «Время перемен», во второй король представлен как человек, заложивший «фундамент королевской власти». Нельзя лучше подытожить всю важность этого периода в истории капетингской монархии и Франции. Обстоятельства помогли Филиппу реализовать этот великий замысел: он унаследовал державу, которая, хоть и была небольшой, но стала сильной благодаря упорным стараниям его отца и деда. У него в запасе было много времени — Филипп правил на протяжении сорока трех лет, — и ему повезло, что его главный противник, Иоанн Безземельный, совершал ошибки одну за другой и страдал психической неуравновешенностью. Но прежде всего Филиппу помогли его качества государственного деятеля. Один каноник монастыря Сен-Мартен в Туре оставил нам очень живой портрет этого государя: «Красивый и ладно скроенный, он был лысым; краснолицый и жизнерадостный, он любил вино, вкусно поесть и женщин. Щедрый к друзьям, он был жаден до имущества своих врагов и слыл наиопытнейшим человеком в искусстве интриги. Благочестивый и мудрый в совете, он никогда не изменял своему слову и выносил быстрые и справедливые приговоры. Окрыленный победой, он боялся за свою жизнь и выходил из себя так же легко, как успокаивался. Он обуздал злокозненность магнатов королевства и подстрекал их к распрям, но никогда не казнил никого из тех, кого держал в тюрьме. Прибегая к совету людей безродных, он не испытывал ненависти ни к кому, разве что на краткий миг, и показал себя укротителем гордецов, защитником Церкви и кормильцем бедных»[160]. В общем, Филипп был хорошим товарищем, унаследовавшим от предков вкус в жизни, но прежде всего прирожденным правителем: умный (но не очень образованный), ловкий до беспринципности дипломат, человек, способный прийти к быстрому решению (правда, в отдельных случаях несколько поспешному) и упорно его выполнять, прагматик — не особенно щепетильный, но и не злобный или циничный. Что касается войны, которая занимала большую часть его царствования, то он посвящал себя ей с усердием и некоторым талантом, но не проявил при этом ни особой страсти, ни гения. Франция вряд ли могла бы попасть в лучшие руки, чтобы пережить тот опасный, но многообещающий период, каким был рубеж двух столетий.Трудные годы (1180–1203)
Первое десятилетие: борьба с крупными вассалами и Генрихом II
Победа над феодальными коалициями и расширение королевского домена (1180–1185) Филипп взял власть в свои руки за год до смерти своего отца, когда тот, разбитый параличом, не мог больше править самостоятельно (сентябрь 1179 г.). Коронация (1 ноября 1179 г.) и женитьба (23 апреля 1180 г.) наследника, передача королевской печати от старого короля (весна 1180 г.) стали этапами пути, который привел Филиппа к официальному наследованию, когда 18 сентября 1180 г. прикованный к постели Людовик скончался. Несмотря на свой юный возраст, Филипп сразу же — хотя и не без некоторых затруднений — обеспечил себе свободу действий по отношению к своему окружению, навязав ему несколько решений, возымевших важные последствия. Два семейных клана делили между собой влияние при дворе в последние годы предыдущего царствования: дом Блуа-Шампань, пребывавший при власти вот уже как двадцать лет, и граф Фландрии Филипп Эльзасский, который пошел на сближение с Людовиком в последние годы его правления и считался наставником Филиппа. Он упрочил свое влияние, устроив свадьбу Филиппа — раз уж у него не было собственной дочери — со своей племянницей Изабеллой де Эно, которой едва исполнилось десять лет. В утешение принцу, которому могла бы достаться невеста из какого-либо королевского рода, Изабелла принесла великолепное приданое, состоявшее из земель, которые вскоре сольются в единый удел под названием Артуа, с богатыми городами Аррасом, Сент-Омером, Бопомом и Эром — важными центрами североевропейской торговли (см. карта 11).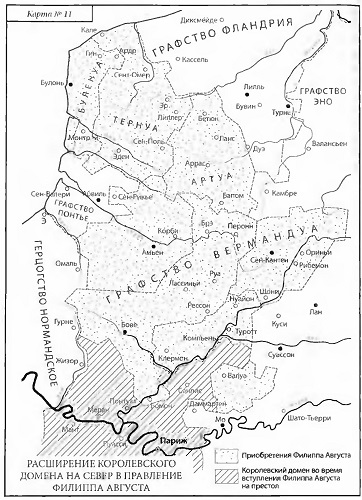
С помощью этого брачного союза Филипп Эльзасский мог надеяться занять при дворе такое же верховенствующее положение, что ранее занимали шампанцы благодаря королеве Адели. Однако последние отреагировали очень резко, перейдя к активному сопротивлению: Адель покинула двор и нашла пристанище у брата Тибо; конфликт прекратился благодаря неожиданному посредничеству Генриха II Плантагенета, которого призвала на помощь Адель и который, казалось, поначалу намеревался ее поддержать. Ради того, чтобы сохранить мир, Генрих договорился с юным королем (встреча в Жизоре в июне 1180 г.) и добился, чтобы Филипп вернул свое расположение королеве-матери и ее братьям (Иври, 28 июня). На протяжении нескольких лет Генрих будет придерживаться этой примирительной, даже, можно сказать, дружественной линии поведения по отношению к Филиппу; его благожелательный нейтралитет позволит французскому королю преодолеть интриги его крупных вассалов и родственников. На самом деле ни граф Фландрии, ни шампанцы не были довольны достигнутым соглашением: ведь было ясно, что новый король, воспользовавшись поддержкой Генриха II, намерен избавиться от любой опеки — и одного, и другого клана. Поэтому вчерашние противники нашли общий язык: 14 мая 1181 г. четверо братьев блуа-шампанского дома, Филипп Эльзасский, Балдуин де Эно (тесть короля), герцог Бургундский Гуго III и прочие лица заключили между собой союз. Но из шампанцев лишь Этьен де Сансерр, горячая голова, остался верен участникам коалиции и взялся за оружие вместе с ними. На протяжении двух лет король при поддержке опытных военачальников противостоял одновременному натиску своих противников: летом 1181 г. он по очереди отбросил Этьена, угрожавшего захватить Орлеан, и армию фламандцев, которая появилась в двадцати километрах от Парижа. В 1182 г. смерть Элизабет де Вермандуа предоставила королю шанс вернуть земли, отошедшие ее мужу Филиппу Эльзасскому. После перемирия война возобновилась в 1184 г. и закончилась в июле 1185 г.: Филипп Эльзасский, видя, что интриги французского короля посеяли рознь между его союзниками, попытался в последний раз перейти в наступление, но в конце концов отказался вступать в решающее сражение и предпочел принять тяжелые условия мира в Бове. Король сохранил приданое супруги и приобрел большую часть Вермандуа с Амьеном: то было первое из впечатляющих прибавлений к королевскому домену, осуществленных за время его правления. Вермандуа, находившееся совсем близко от Парижа, чуть было не ускользнуло от Капетингов — но отныне оно им принадлежало. Война с Плантагенетами: общие черты, первый этап (1186–1189) Разобравшись с претензиями фламандцев, Филипп мог заняться Плантагенетами. Его борьба сначала с Генрихом II, потом его сыновьями, Ричардом и Иоанном, была естественным продолжением долгого конфликта, начавшегося в правление Людовика VII. Мир стал невозможным из-за соседства с обширным территориальным комплексом Плантагенетов, их стремления распространить свою власть па юг Франции и особенно из-за их нежелания признавать себя полноправными вассалами французского короля, который таким обратом терял большую часть своих прав сюзерена. Капетинги не могли примириться с тем, чтобы собирание королевства, ставшее важной тенденцией западной политической истории, было бы блокировано, а может быть, и сведено на нет из-за существования этой огромной «кисты». Однако при Филиппе столкновение с Плантагенетами приобретает совсем иную форму: конечно, соотношение сил осталось неравным, но психологические условия полностью изменились по сравнению с тем временем, когда неутомимый Генрих II беспрестанно тревожил Людовика VII, а тот лишь оборонялся в ответ. Теперь у династии Плантагенетов возникли серьезные трудности: Генрих постарел и устал; споры из-за раздела наследства вызвали между его сыновьями трения, вскоре переросшие в ожесточенное соперничество, которое было только на руку центробежным силам этого скопления разнородных земель. Лишь несколько лет, в недолгое правление Ричарда, «империя Плантагенетов» функционировала как относительно спаянное пространство. В сравнении с этим семейным и территориальным расколом капетингская Франция — хоть и не смогла избежать изъянов, присущих всем феодальным монархиям, — находилась под управлением ловкого и энергичного государя, чью власть всерьез никто не оспаривал. Молодой человек, не имевший соперников, Филипп мог спокойно ждать, пока время работало на него: сын монарха, кропотливо трудившегося во имя усиления королевской власти, он располагал ресурсами, без всякого сомнения, меньшими, чем Плантагенеты, но зато контролировал их гораздо лучше. Он умел мастерски извлекать пользу из слабостей противника, играя на распрях, раздиравших вражеский линьяж. Но французский король также сполна использовал военные и финансовые ресурсы, полученные в результате начатой им административной реорганизации. Наконец, Филипп прибег к законным средствам, на которые имел право благодаря достигшим завершенности феодальным институтам. Непокорные вассалы французского короля, Плантагенеты были легкой целью для юридических нападок, которые оказывали немалый эффект на их собственных вассалов, пока еще всецело проникнутых феодальной концепцией государства и политической моралью.

В военном плане операции практически не прекращались и часто мобилизовали довольно значительные силы; однако велись они практически всегда в одних и тех же пограничных областях. Сражения были скорее стычками, нежели настоящими битвами и проходили всегда в одних и тех же районах, которые противники без конца завоевывали и отвоевывали. Лишь дважды Филиппу Августу удалось захватить обширные территории: в 1187–1189 гг. (Берри, Анжу, Мэн) и в 1193–1194 гг. (Верхняя Нормандия). В остальное время двумя главными зонами сражений были нормандский Вексен, уже несколько поколений служивший классическим местом для столкновений и встреч, с его ключевой крепостью Жизор, и Берри, где противники оспаривали друг у друга прежде всего Иссуден и его окрестности (см. карту 12). Военные действия также часто затрагивали Турень, Анжу, Мэн и Вермандуа. В каждом из этих регионов передвижения войск были привязаны к нескольким очень крупным замкам: Жизор, Лош, Шинон и позднее Шато-Гайяр контролировали основные пути. Вся стратегия, как и дипломатия, была нацелена на то, чтобы захватить их в первую очередь, и государи тратили деньги, не считая, на укрепление своих твердынь. Вокруг этих огромных цитаделей была создана сеть мелких замков: из-за этого большинство военных кампаний превращалось в череду осад, которые прерывались стычками и налетами, разорявшими окрестности. Так, оборона нормандской границы, как это явствует из счетов 1202–1203 гг., была организована вокруг пяти больших крепостей, каждую из которых окружали три или четыре замка поменьше. Эти войны с Плантагенетами были очень жестокими, как из-за обращения с воинами — нередко пленников убивали, — так и из-за почти систематических грабежей и поджогов. Обе воюющие стороны, особенно Плантагенеты, у которых было больше денег, во множестве нанимали наемников («рутьеров» или «коттеро»), и присутствие на войне этой солдатни, безжалостной, не привыкшей уважать кодекс рыцарской чести, солдатни, которую презирали даже ее наниматели, немало поспособствовало тому, что конфликты этого периода отличались крайней жестокостью; наемники не играли такой важной роли ни до 1160 г., ни после битвы при Бувине. Таким образом, роль крупных крепостей, серьезно повлиявших на военную стратегию, и участие в боевых действиях наемников — что изменило поведение сражавшихся — ощутимо отличают войны Филиппа Августа от войн первых Капетингов: от феодальной войны, которая была на пути к тому, чтобы превратиться в войну государств. Армия Филиппа Августа все еще оставалась феодальным войском, но трансформация военных обычаев шла вровень с реформой административной организации, которая в ту пору была в самом разгаре как у Плантагенетов, так и в капетингском королевстве. В 1186 г. Филипп вспомнил о старых спорах по поводу Вексена, о браке и приданом своей сестры Алисы и об оммаже за Аквитанию. В мае 1187 г. он открыл боевые действия, захватив Берри. С того времени столкновения чередовались с бесплодными переговорами и быстро нарушаемыми перемириями. Как и в случае войны с крупными вассалами, Филипп сеял распри между своими противниками, льстя и поддерживая сыновей против их отца: это было совсем не сложно, гак как семейство Плантагенетов уже давно раздирали соперничество и зависть. Сначала французский король близко сошелся с Жоффруа, третьим сыном Генриха II, графом Бретани, но тот погиб на турнире в 1186 г.; старший, Генрих Молодой, уже умер в 1183 г. Оставались Ричард и Иоанн; Филипп привлек обоих на свою сторону — первого открыто, второго втайне. В 1186 г. Филипп стал большим другом Ричарда и поддержал его требования к отцу: Ричард хотел, чтобы отец признал его наследником короны, допустил к власти и дал наконец жениться на сестре Филиппа Алисе — она уже давно была ему обещана, но ее удерживал у себя его отец, Генрих II. Ричард также хотел сохранить за собой Аквитанию, которую его отец собирался передать Иоанну. В ноябре 1188 г. во время переговоров в Бонмулене Ричард публично оставил своего отца и принес оммаж Филиппу. Они оба затем воевали со старым королем в Мэне и Анжу, и тому пришлось бежать из Манса; заболев, Генрих отказался продолжать борьбу. После долгого отступления он согласился на навязанные ему условия (договор в Азе, 4 июля), но сразу же после этого скончался (6 июля 1189 г.). Ричард получил все свое наследство. По договору, заключенному им с Филиппом в Жизоре в конце июня, французский король получил из всех завоеваний, на которые мог рассчитывать, только Иссуден и Грассе в Берри, захваченные им во время войны; на протяжении пятнадцати лет Филипп и Плантагенеты не перестанут с остервенением оспаривать их друг у друга. Ричард был противником совсем иного масштаба, чем старый Генрих, и у него не было слабостей, которыми ловкий король Франции мог бы воспользоваться.
Крестовый поход
Экспедиция Иерусалим и почти вся Святая земля попали в руки Саладина в 1187 г., и призыв о помощи взбудоражил все дворы Западной Европы. Во время одной из встреч в январе 1188 г. Филипп и Генрих дали обет крестоносцев по настоянию папского легата и тут же воспользовались этим, чтобы собрать экстраординарный налог. Ричард взял крест несколькими месяцами позже, и император Фридрих Барбаросса был первым из всех, кто выступил в крестовый поход. В августе 1189 г. первые крестоносцы прибыли в Святую землю и осадили Акру, город, занимавший ключевое место в коммуникациях крестоносных государств. Короли больше не могли откладывать свой отъезд, но никто из них не хотел выступать первым, оставив свободное поле действия другому. В конце концов они вместе отбыли из Везеле в июле 1190 г., но в море вышли по отдельности. Почти все крупные вассалы сопровождали Филиппа. Многие из них так и не вернулись из этого недолгого, но смертоносного похода. Крестовый поход не положил конец переговорам и соперничеству между двумя государями. Во время остановки на Сицилии они разрешили вопрос о помолвке Ричарда с Алисой, который вызывал столько споров и пересудов. Первым подоспев под стены Акры (20 апреля 1191 г.), Филипп взял на себя руководство осадой; Ричард присоединился к нему в июне, и город сдался 12 июля после кровопролитных штурмов. На всем протяжении похода Филипп, несмотря на все дружеские заверения, страдал от присутствия Ричарда: неустрашимый, купавшийся в роскоши, вот-вот готовый стать героем легенды, английский король затмевал своего сеньора, который неоднократно демонстрировал свою зависть. Споры из-за наследия Иерусалимского королевства дали им новый повод для вражды, так как каждый поддержал своего кандидата на престол. 31 июля Филипп прервал свой крестовый поход, который по сути только начинался: он заболел, его выводил из себя Ричард, но к тому же Филипп рвался уладить вопрос о наследстве Филиппа Эльзасского, умершего во время осады. Проехав через Рим, французский король вернулся в Париж 27 декабря 1191 г. Управление королевством во время крестового похода В отсутствие государя королевством управляли королева-мать и ее брат, архиепископ Реймсский. Этот выбор был практически неизбежен, поскольку речь шла о самых высокопоставленных лицах королевства, доступных на тот момент: место канцлера было тогда не занято, сенешаль Тибо Блуаский отправился в крестовый поход вместе с другими крупными баронами, а королева Изабелла умерла в 1187 г. С другой стороны, конфликт между королем и шампанским домом вот уже десять лет как завершился, и Филипп чувствовал себя достаточно уверенно на троне, чтобы не бояться подобных делегаций полномочий. Знаменитый текст, который организовывал управление королевством в отсутствие государя, обычно принято называть «завещанием Филиппа Августа», по тому названию, что дал ему Ригор; к тому же в него включены статьи действительно завещательного характера, в которых король отдавал распоряжения касательно своей казны. Но на самом деле речь идет о первом большом ордонансе Капетингов, где получил новый размах тот жанр текста, к которому первым вернулся Людовик VII. В первых же строках этого документа было намечено определение государства — новаторское для того времени: «королевское служение заключается в том, чтобы всеми силами позаботиться о нуждах подданных и превознести общественную пользу над личной выгодой государя». Другие статьи тоже очень интересны: впервые (если не считать одного беглого упоминания в правление Людовика VII) речь идет о бальи и разъясняется суть их обязанностей. Роль, сыгранная при Филиппе людьми скромного происхождения, вряд ли освещена где-нибудь лучше, чем в этом документе, который вводил на время горожан в совет и прикреплял их к управленцам на местах. Множество предосторожностей было принято, чтобы ограничить инициативы регентов — предыдущий крестовый поход показал, что даже близкие короля могут повести себя дурно в его отсутствие, — и власть бальи и прево: контроль над управленцами на местах являлся извечной проблемой капетингской монархии. Регентство — тем более такое недолгое — пройдет без каких-либо проблем. Функционирование институтов еще более улучшилось со Второго крестового похода, который ознаменовал собой этап в утверждении монархической власти. Но решающий прогресс был еще только намечен в тексте 1190 г.: он по-настоящему начнется только после возвращения короля.Суровый конец столетия
Фламандское наследство и развод Прежде чем снова встретиться лицом к лицу с Плантагенетом, французский король по возвращении в свое королевство устроил великолепное дело — уладил к собственной выгоде наследование Фландрии. Тотчас же после смерти Филиппа Эльзасского он приказал регентам захватить приданое Изабеллы де Эно — Артуа и часть Вермандуа, — на которое покойный располагал правом пожизненного пользования. Затем он передал графине Элеоноре, последней из представителей дома Вермандуа, то, что осталось от этого графства и Валуа. Причем король должен был унаследовать эти земли, если Элеонора умрет бездетной, что было крайне вероятным после четырех бездетных браков. Он также обеспечил себе контроль над графством Булонским и тем самым завершил задачу по подчинению этого региона между Фландрией и королевским доменом, который начал прибирать к рукам еще при жизни Филиппа Эльзасского. Тем временем король Филипп сам загнал себя в ловушку, из которой ему так и не удастся выбраться: ради иллюзорных перспектив союза против Англии он женился на датской принцессе Ингебурге. Внезапно охваченный болезненным отвращением к невесте после свадебной ночи (14 августа 1193 г.), король отказался от всякого общения с нею и повелел аннулировать брак на собрании услужливых епископов (5 ноября). Однако папа римский Целестин III, вникнув в суть дела, затягивал с ответом. Тем временем Филипп снова женился (июнь 1196 г.), на этот раз на германской княгине Агнессе Меранской (более престижной партии не нашлось из-за двусмысленного матримониального положения, в котором находился Филипп): позднее она родит ему дочь и сына. Но с избранием понтификом Иннокентия III дело о разводе снова вышло на первый план: новый папа, человек нрава непреклонного, сразу же приказал королю вернуть к себе Ингебургу, прежде чем возобновить процедуру аннулирования брака. Поскольку Филипп не подчинился, на его королевство был наложен интердикт (13 января 1200 г.). В сентябре король воссоединился с Ингебургой — по крайней мере внешне. В марте 1201 г. процесс вновь начался в Суассоне: устав от проволочек судей и опасаясь невыгодного для себя приговора, Филипп уехал, забрав с собой Ингебургу, как будто бы передумав с ней разводиться. В июле Агнесса умерла во время родов, дав королю сына. С этого момента положение Филиппа стало более определенным. В ноябре Иннокентий согласился узаконить детей короля от Агнессы. Проблема Ингебурги по-прежнему оставалась предметом запутанного разбирательства, поскольку Филипп все так же жаждал от нее избавиться: но теперь его дипломатические последствия уже не были такими тяжелыми, как раньше. Ричард Львиное Сердце Столкновение политических амбиций и личное соперничество английского и французского королей сделали неотвратимым возобновление конфликта, который еще до крестового похода свел в борьбе Капетингов и Плантагенетов. На протяжении одиннадцати лет, с 1193 по 1204 г., война, практически не прекращавшаяся и более интенсивная, чем было принято в то время, бушевала на приграничных землях от Вексена до Берри, втягивая в борьбу соседние княжества. В распоряжении Ричарда было больше людей и денег — и его неудержимая отвага: все сражения и большинство дипломатических маневров обернулись к его выгоде. Однако, как и во времена Генриха II, Филипп имел на руках козырь, которым он пользовался с необычайной ловкостью: распри между Плантагенетами, сначала между Иоанном и Ричардом, потом между Артуром и Иоанном. Продолжительное отсутствие Ричарда развязало Филиппу руки на два с половиной года: король Англии вернулся из крестового похода и последовавшего за ним плена лишь в марте 1194 г. Известно, что французский король сделал все, чтобы продлить этот плен, пришедшийся для него как нельзя более кстати. Пока Ричард оставался в Святой Земле, Филипп все же соблюдал клятву о ненападении, которую дал английскому государю. Но как только он узнал о пленении Ричарда, Филипп попытался захватить как можно больше земель, до того как, по его собственному выражению, «дьявол не вырвется на волю». Слабовольный Иоанн Безземельный принес ему оммаж и даже по тайному договору уступил всю Нормандию к северу от Сены, кроме Руана, равно как Вексен, Эвре, Тур, Лош, Амбуаз, Монришар (январь 1194 г.). На самом деле Филипп уже захватил большинство этих земель предыдущим летом и принялся дополнять свои завоевания весной 1194 г. Но Ричард, высадившись во Франции в мае 1194 г., собрал крупный отряд наемников и стремительно прервал операции французского короля, нанося ему поражение за поражением. Он вынудил Филиппа спешно снять осаду с Вернея, вернул себе Эвре, переданный ему Иоанном Безземельным, который бросил короля Франции так же быстро, как в свое время примкнул к нему, настиг Филиппа в Вандомуа и еще раз разбил его при Фретевале. Мир, заключенный в январе 1196 г. между противниками в Гайоне, подтвердил разгром французов, оставив Филиппу из всех его завоеваний только Жизор. Тем не менее враждебные действия возобновились почти сразу же: от Вексена до Берри войска сходились в бою без решающего результата, но при этом жестоко разоряли сельские местности. На этот раз Филипп потерпел крах на дипломатическом поприще. За немалую цену Ричард переманил на свою сторону нового графа Фландрии и Эно Балдуина IX, графа Булонского Рено де Даммартена и почти всех менее важных вассалов франко-фламандского пограничья, чьей верности Филипп Август добивался на протяжении нескольких лет. Граф Тулузский, граф Блуа, герцогство Бретонское заключили мир с Плантагенетом. Избрание германским императором Оттона Брауншвейгского, племянника и креатуры Ричарда, стало еще одним значимым событием, ознаменовавшим неудачу Филиппа Августа: со своей стороны, Капетинг придерживался союза с Филиппом Швабским, соперником Оттона, который казался тогда более слабой кандидатурой. Ричард усилил свои позиции и другим способом: он возвел огромную крепость Шато-Гайяр, которая должна была преградить французам дорогу в Нормандию; 1197 и 1198 г. снова были отмечены поражениями французов: за провальным походом во Фландрию последовало контрнаступление фламандцев, захвативших Сент-Омер, Эр и Турне (1197 г.), новая неудача в столкновении с Ричардом (у Курселя под Жизором, сентябрь 1198 г.) и другое поражение при Верноне. В начале 1199 г. Филипп согласился на переговоры. Он добился перемирия сроком на пять лет и сохранил Жизор, но должен был подтвердить свой отказ от прежних завоеваний и обещать женить своего сына на племяннице Ричарда, Бланке Кастильской. Самым унизительным условием перемирия стал отказ от союза с Филиппом Швабским и Пероннский договор, по которому Филипп Август уступал Балдуину Фландрскому все завоеванные тем укрепления. Таким образом, перед лицом государства Плантагенетов король Франции оказался практически в том же положении, что и двадцать лет тому назад, в самом начале своего правления: ни шедевры дипломатического искусства, продемонстрированные им за все эти годы, ни практически непрестанные войны, разорявшие обширные области, так ни к чему и не привели; более того, именно он выглядел побежденным. На северной границе дела обстояли еще хуже: графство Фландрия стряхнуло капетингскую опеку и вернуло себе часть земель, утраченных по договору в Бове; терпеливо накопленные территориальные присоединения были потеряны, преданность людей — подорвана. Но этот мрачный период завершился неожиданным событием, разом изменившим параметры политической игры, событием, из которого Филипп Август сумел извлечь наибольшую выгоду: 26 марта 1199 г. Ричард Львиное Сердце был смертельно ранен во время осады одного лимузенского замка. Иоанн Безземельный Иоанн наследовал своему брату и точно так же стал противником своего прежнего союзника Филиппа Августа, как и его брат Ричард после смерти своего отца. К счастью для Филиппа, то был враг совсем иной закалки, нежели Ричард. И хотя Иоанн был правителем умным, способным принимать великолепные решения как на войне, так и на поприще дипломатических интриг, серьезные недостатки его характера негативно сказывались на всех его начинаниях; неуравновешенный и малодушный человек, он вел себя неумело и оскорбительно по отношению к своим союзникам и вассалам, переходя от бурной активности к полной бездеятельности. В борьбе с таким противником, пусть и располагавшим огромными ресурсами государства Плантагенетов, Филипп Август мог продемонстрировать весь свой талант. Внутренние проблемы, в которых завяз Иоанн, измены крупных континентальных вассалов, которых английскому королю словно нравилось задирать, только облегчили задачу Капетингу. Французский государь сразу же нашел союзника, который позволил ему вновь стравить между собой представителей рода Плантагенетов: племянник Иоанна, Артур, как сын его старшего брата выдвинул свои претензии на часть наследства, доставшегося новому английскому королю. Бретонцы массово перешли на его сторону, как и множество анжуйских сеньоров во главе с Гильомом де Рошем. Филипп принял оммаж от Артура (весна 1199 г.) и вместе ним предпринял поход на Мэн. Но Гильом де Рош и его друзья, которых волновали виды короля Франции на их регион, покинули его лагерь, вынудив Филиппа спешно отступить. Интердикт, наложенный папой римским на Французское королевство из-за дела о разводе (январь 1200 г.), убедил короля договориться с его противниками: Балдуином Фландрским (Пероннский договор, январь 1200 г.), Рено де Даммартеном и особенно Иоанном Безземельным (Тульский договор, 22 мая 1200 г.). Оба короля пошли на серьезные уступки: Филипп перестал поддерживать Артура и признал за Иоанном права на все наследство Ричарда и сюзеренитет над Бретанью; взамен он получил спорные области Вексена, Эвре и Иссудена, добился от английского короля признания его сюзеренитета над всеми континентальными владениями Плантагенетов с выплатой рельефа в 20 000 марок и тесный оммаж от графа Фландрии. Было принято окончательное решение о свадьбе будущего Людовика VIII и Бланки Кастильской, племянницы Иоанна, о которой зашла речь еще в предыдущее царствование. Таким образом, Капетинг отказался от раздела «империи Плантагенетов», по крайней мере временно, и взамен добился территориальных приобретений, которых не сумел заполучить с помощью оружия. Так завершился — скорее с позитивным итогом для Франции — почти непрерывный двадцатилетний конфликт. В беспорядочных и повторяющихся столкновениях тем не менее можно проследить эволюцию соотношения сил между двумя крупными державами: практически на протяжении всего периода наступательной тактики придерживался именно Капетинг. Его воинственность — следствие не только юношеской горячности, но и все возраставшей мощи Французского королевства. Правда, все нападения Филиппа Августа на Плантагенетов регулярно заканчивались неудачами, за исключением тех случаев, когда поражения Плантагенетов были вызваны их распрями друг с другом. Капетингская монархия становилась все сильнее — дальше мы увидим, как именно, — но баланс сил все еще был бы не в ее пользу, если бы противник не совершил серьезную ошибку, а именно это произошло в 1200 г. Последний же урок, который можно извлечь из этих конфликтов — та весомая роль, которая принадлежала крупным вассалам: граф Фландрии, герцог Бретани, но также Рено Булонский, Гильом де Рош, Эмери де Туар и прочие бароны Запада могли склонить чашу весов в вооруженном конфликте либо в одну, либо в другую сторону в зависимости от своего выбора — и на этот выбор принесенная клятва верности оказывала отнюдь не решающее влияние. Квазиравновесие между двумя воюющими сторонами объясняет выдвижение крупных феодалов на первый план политических отношений.Славные годы (1203–1223)
Завоевания 1203–1204 гг.
Конфискация фьефов Плантагенетов, убийство Артура Мир продержался меньше двух лет: с 1201 г. короли так или иначе нарушали договор. Мотивом или предлогом для решающего разрыва стало оскорбление, нанесенное Иоанном крупному пуатевинскому линьяжу Лузиньянов. Гуго де Лузиньян должен был жениться на наследнице графа Ангулемского Изабелле; это слияние двух крупных и непокорных родов грозило стать обременительным для Плантагенета. Иоанн решил проблему: он похитил невесту, которая ему понравилась, и сам женился на ней (1200 г.). Такое поведение было привычным для феодального мира, и вполне возможно, что Лузиньяны довольствовались справедливым возмещением; но Иоанн с его умением наживать себе врагов лишь усугубил нанесенную им обиду. Тогда Лузиньяны пожаловались своему сюзерену, французскому королю, и тот воспользовался случаем, чтобы применить феодальное право во всей его строгости. Иоанна призвали предстать перед курией пэров: когда же он не явился, его приговорили к конфискации всех его фьефов (28 апреля 1202 г.). Этот приговор, вскоре возымевший серьезные последствия, предельно ярко иллюстрирует намерение Капетингов обратить в свою пользу феодальные обычаи, от которых они так пострадали в XI; теперь же эти обычаи могли благоприятствовать французским королям, поскольку те становились все сильнее, а феодальные кутюмы, фиксировавшиеся все более подробно, предельно ясно очерчивали прерогативы сеньора. На самом деле у Филиппа хватало и других причин для возобновления враждебных действий; и, кроме того, теперь, когда его ссора с Римом была улажена, он снова располагал средствами, чтобы продолжать борьбу. Другим благоприятным фактором стало отбытие в крестовый поход возможных союзников Англии — графов Фландрии, Труа и Блуа. Филипп вторгся в Нормандию в 1202 г., в то время как Артур, снова ставший его союзником, непосредственным вассаломи даже будущим зятем, открыл кампанию в Анжу. Однако из-за нового предательства Гильома де Роша Артур и все поддерживавшие его бароны попали в плен (Мирбо, между Анжером и Пуатье, 1 августа). Но в который раз оплошности и неискренность английского короля все испортили. Он не сдержал ни одного обещания, которые дал Гильому де Рошу в обмен на поддержку, и грубо обошелся с анжуйской знатью. Что до Артура, то сначала его заточили в Фалезе, потом перевели в Руан, где он пропал; возможно, что Иоанн собственноручно прикончил своего племянника, несмотря на то что пообещал Гильому де Рошу его освободить. Слухи о смерти Артура, которая имела место, без сомнения, в апреле 1203 г. — появились зимой 1202–1203 гг. и привели в лагерь французского короля большое число бретонских, анжуйских, пуатевинских и даже нормандских сеньоров. Движение достигло своего апогея в марте, когда Гильом де Рош и группа других крупных баронов принесли оммаж Филиппу, заключив с ним настоящий договор, который на этот раз они больше не нарушали. Завоевание Анжу и Нормандии Всеобщее отступничество крупных феодалов стало роковым ударом для «империи Плантагенетов», В то время как король Франции напал на Нормандию, Гильом де Рош со своими друзьями завоевывали от имени Филиппа Мэн и Анжу и остановились только у самой Луары. Другой крупный луарский сеньор, также не славившийся чрезмерной преданностью, Ги де Туар, во главе бретонцев напал на Нормандию, с другой стороны. Задержавшись на десять месяцев под стенами осажденного Шато-Гайяра этого «засова от ворот области» французское войско завладело крепостью 6 марта 1204 г., тогда как Иоанн, охваченный одним из своих приступов апатии, не сделал ни одной попытки ее спасти. Укрывшись на другом конце Нормандии, он отплыл в Англию в декабре 1203 г. Многочисленные и хорошо укрепленные твердыни герцогства больше не сопротивлялись; один Руан продержался немного. Иннокентий напрасно предпринимал многочисленные демарши в надежде остановить французское наступление. В конце июня 1204 г. король Франции стал хозяином всей Нормандии. Таким образом, в руки Капетингов попали все земли Плантагенетов к северу от Луары — либо присоединились сами, либо были захвачены. Никогда еще с начала своей династии Капетинги столько не завоевывали и отныне, еще в большей степени, чем после территориальных захватов во Фландрии, Филипп заслуживал прозвища Август (тот, кто увеличивает, auget, согласно более правдоподобной этимологии), которым его впоследствии наградят. Впрочем, заметим, что завоеванные провинции и так были частью королевства: они представляли собой фьефы, которые Плантагенеты держали от короля Франции (как это подтвердил Тульский договор). Многие из этих фьефов только сменили своего владельца: больше не было графов Анжуйских или Мэнских, ни герцогов Нормандских, поскольку король сохранил за собой эти титулы с прилагавшимися к ним обширными угодьями. Напротив, многие из вассалов второго уровня, вовремя примкнув к новому сеньору, сохранили свои фьефы, как, например, анжуйские бароны, сплотившиеся вокруг Гильома де Роша. Другие фьефы король конфисковал и раздал своим сторонникам; вернув себе королевское расположение, Рено де Даммартен также получил от Филиппа несколько нормандских графств. В целом, несмотря на эти уступки, монархия извлекла из завоевания двойную выгоду: королевский домен вырос в разы, особенно в Нормандии, где герцогу принадлежали очень обширные права и огромные владения; король также укрепил свою власть над сетью вассалов, от которой не получал практически ничего, пока ее возглавлял англо-нормандский король, создававший своего рода экран между королем Франции и его подвассалами (кстати, один из пунктов приговора, вынесенного Иоанну его пэрами, гласил, что он и его предки не выполняли никакой службы и не подчинялись более своему сеньору). Главным из фьефов, вернувшихся в орбиту Капетингов, была Бретань; ни один король Франции не обладал над этой территорией такой властью, как Филипп (см. карта 13).
Напротив, сеньоры Пуату повели себя строптиво в отношении французских начинаний. Еще сильнее, чем в Анжу, крупные феодалы — Лузиньяны, виконты Туара, Лиможа, Шательро, Савари де Молеон и прочие — ценили свою независимость и непостоянство. Плантагенеты осуществляли над ними лишь теоретическую власть, и они вовсе не намеревались отрекаться от собственной свободы. Находясь в отдалении от своих баз, ожидая английского контрнаступления, король Франции так и не сможет по-настоящему навязать им свою власть. Летом 1204 г. Филипп покинул едва подчиненную Нормандию, чтобы отправиться в поход к югу от Луары. Он захватил Пуатье, занял Сентонж и блокировал две крупных крепости Плантагенетов, Лош и Шинон, которые сдались только после годичной осады. Но в 1206 г. сенешаль Пуату Эмери де Туар вместе с Савари де Молеоном и прочими сеньорами перешел в другой лагерь, открыв двери Иоанну Безземельному, который высадился в Ла-Рошели. Все завоевания французов к югу от Луары были потеряны. Это положение после боев, не принесших никому решающего перевеса, и было зафиксировано в Туарском перемирии, заключенном на два года 13 октября 1206 г. Новый французский поход, предпринятый в 1208 г., тоже не принес ожидаемых результатов.
От Туарского перемирия до Ла Рош-о-Мун: восемь лет передышки
Эволюция обеих держав С 1206 по 1213 г. французские и английские войска не встречались в бою. Эта долгая пауза прервала период почти не прекращавшихся войн, длившихся четверть века. С одной стороны, этот перерыв объясняется все возраставшим сопротивлением, которое вызвали методы управления Иоанна. Английский король вступил в открытый конфликт со Святым престолом и церковной иерархией Англии (1206 г.); в конце концов папа римский наложил на английское королевство интердикт (1212 г.), что стало причиной всеобщего недовольства и ослабило позиции Иоанна в политическом плане. Своими оплошностями Иоанн оттолкнул от себя значительную часть знати, причем далеко не один крупный сеньор соблазнился посулами, расточаемыми королем Франции. Напротив, Филипп Август воспользовался перемирием, чтобы продолжить усиливать свою власть: завоеванные провинции были интегрированы в королевство, особенно Нормандия, чьи великолепные институты с выгодой использовали французские чиновники. После первой фазы подъема, вызванного мудрым правлением предыдущего десятилетия, ресурсы короля ждал новый и существенный рост. Благодаря череде случайностей Филипп получил шанс расширить свою власть и доходы иным способом: герцогство Бретонское, графства Фландрия-Эно и Шампань перешли под его опеку после смерти Артура, Балдуина IX и Тибо III — оба последних сеньора не вернулись из Четвертого крестового похода. Опираясь на феодальные кутюмы, которые его могущество позволяло теперь навязать крупным вассалам — чего не делали его предки, — Филипп потребовал значительных выплат по праву рельефа, возмещения издержек за опеку и подчинил бдительному надзору юных наследников. С другой стороны, он воспользовался бездеятельностью Иоанна Безземельного, чтобы завершить завоевание Оверни, которое его предшественники начали под видом защиты епископов Клермона от графов Клермона и Рьома, но были вынуждены приостановить из-за давления со стороны короля-герцога Аквитании. Графы Клермонские подчинились в 1199 г., графы Рьома были лишены своих владений, перешедших к преданному Ги де Дампьеру, сеньору Бурбонскому (1213 г.). Наконец, крестовый поход французских баронов в Альбижуа открыл широкие перспективы для политических потрясений на юге, из которых король Франции — пусть он и отказался встать во главе своих вассалов, — не мог не извлечь выгоды. Новые приготовления к войне Ситуация стремительно менялась на протяжении 1213 г.: хотя Иоанну и не удалось снискать уважение своих подданных, он добился блистательного дипломатического прорыва. Поддержка, которую он расточал своему племяннику Оттону Брауншвейгскому, в конце концов увенчалась успехом: в 1209 г., после смерти Филиппа Швабского, Оттон получил императорскую корону. Капетингская дипломатия, напротив, оказалась в деликатном положении, поскольку ей пришлось искать нового кандидата. Иоанн также приобрел двух ценных союзников: Рено Булонский поднял мятеж против французского короля в 1211 г. и принес оммаж королю Англии; и новый граф Фландрии, который посчитал, что король обделил его во время восшествия на графский престол, постепенно склонялся к разрыву в мае-апреле 1213 г., когда он воздержался от того, чтобы оказать своему сеньору феодальную помощь, и затем также принес оммаж Иоанну (июль 1213 г. — январь 1214 г.). Многие фламандские города, опасавшиеся посягательств со стороны французского короля, в 1212 г. самостоятельно заключили союз с Плантагенетом. Некоторые князья, в том числе граф Голландии и герцог Лимбургский, сделали то же самое, соблазнившись деньгами, щедро раздаваемыми Иоанном. Дело дошло до того, что перед искушением не смогли устоять даже ближайшие вассалы французского короля, такие как Эрве, граф Неверский, и Филипп де Куртене. Наконец, Иоанн сделал мастерский ход — он примирился с Иннокентием III 13–15 мая 1213 г., тогда как французский флот уже готовился высадить войска в Англии с папского благословения. Иоанн не только покорился папе римскому и добился снятия интердикта, но и объявил себя вассалом Святого престола, которому обещал выплачивать ежегодную подать. Таким образом, папа вновь стал играть роль, которая так долго ему принадлежала — роль покровителя Англии; но военные приготовления слишком далеко зашли, чтобы посредничество папы могло оказать какое-нибудь воздействие на врагов. Как и в 1204 г., оно не сможет помешать французам победить. Между тем король Франции действительно задумал вторгнуться в Англию и посадить на ее трон своего сына Людовика. Уже один такой проект способен показать, насколько изменилось соотношение сил с начала царствования Филиппа. С другой стороны, Филиппа подталкивали к войне дипломатические маневры англичан; кажется даже, что Иннокентий III в самом начале 1213 г. поручил ему низложить Иоанна, упорствовавшего в своих заблуждениях. Как бы то ни было, 8 апреля 1213 г. король собрал магнатов королевства в Суассоне, чтобы познакомить их со своим планом по вторжению в Англию и оговорить прерогативы, которыми будет пользоваться принц Людовик после завоевания. В мае он собрал большой флот в фламандских портах; 22 мая папский легат доставил ему весть о примирении Иоанна с понтификом; однако это известие не повлияло на планы Филиппа. 24 мая он окончательно порвал с Ферраном Фландрским и направился в отказавшийся ему подчиниться Гент, который он собирался захватить до выхода в море. Но 30 мая английские войска, неожиданно высадившись на суше вместе с Рено Булонским, сожгли часть флота, стоявшего на якоре в Дамме. Их тотчас же отбросили, но зло уже свершилось: выйти в море теперь было невозможно, и Филипп сжег все оставшиеся корабли. Король вернулся к оборонительной тактике, ожидая нападения союзников. На протяжении одного года два войска разоряли Фландрию, тогда как все сеньоры региона воспользовались этими событиями, чтобы свести между собой счеты.Год Бувина
Победа при ла Рош-о-Муэне Эти операции, разорительные для Фландрии и ее окрестностей, не принесли противникам решающего перевеса. Но Иоанн со своими союзниками, преисполненные надежд, подготовили крупномасштабный план, предусматривавший крах капетингского могущества. Если верить хронистам, все они были воодушевлены стойкой ненавистью к королю Франции и собирались в союзе покончить со слишком быстро возраставшим могуществом Филиппа Августа. Враги намеревались взять его в тиски: Иоанн с юга, остальные с севера. Первый после долгих проволочек высадился в Ла-Рошели 16 февраля 1214 г., и к нему незамедлительно примкнула знать Пуату, Сентонжа, Ангумуа и Лимузена. В апреле Филипп попытался затормозить это движение, предприняв поход, но, как кажется, так и не вышел за южные границы Берри. Не приняв боя, Плантагенет бежал на юг, «словно уж», по выражению Вильгельма Бретонца. Филипп не мог себе позволить ни оторваться от своих тылов, ни оставить надолго фронт во Фландрии, где вот-вот должна была начаться решающая партия. Поэтому король поручил принцу Людовику остановить англичан на Луаре. Обе армии встретились 2 июля под стенами замка ла Рош-о-Муэн (возле Анжера), который осадил Иоанн. Настоящего сражения так и не произошло: английский король поспешно отступил, бросив свои войска еще до того, как французы появились на горизонте, и остановился только в Ла-Рошели. У Людовика же не было достаточно сил, чтобы преследовать врага. Победа при Бувине и ее последствия Решающее столкновение произошло спустя чуть менее месяца во Фландрии. 27 июля Филипп Август в большой битве разгромил коалицию, состоявшую из всех союзников Иоанна Безземельного: императора Оттона IV, графа Феррана Фландрского, Рено Булонского, герцога Брабантского и прочих крупных германских сеньоров, ополчения многих фламандских городов, графа Солсбери и наемников на английском жалованье во главе с Гуго де Бовом. Это было самое крупное сражение из тех, что когда-либо давали Капетинги, и победа в нем была безоговорочной. Политические последствия были огромны и сказались далеко за пределами французских границ. Оттон IV закончил свой путь государственного деятеля, оставив поле свободным для Фридриха И; его поражение стало настоящим подарком для Иннокентия III, который избавился от своего главного врага. Иоанн Безземельный окончательно вернулся в Англию, где подданные все сильнее оспаривали власть этого полностью дискредитировавшего себя государя и вскоре вынудили его пойти на серьезные уступки. Фландрия, чей граф оставался в плену на протяжении долгих тринадцати лет, вновь перешла под контроль французского короля, даже если города испытывали к нему стойкую неприязнь. Что касается самого короля, то он раз и навсегда избавился от угрозы со стороны Плантагенета, все территориальные проблемы, тяготевшие над северной границей королевства, были решены, и среди главных вассалов уже и речи не шло ни о какой «фронде». Последствия победы были по меньшей мере также важны в вопросах престижа. Отныне Капетинг мог заслуженно считаться великим государем, поскольку он одолел правителей двух самых больших государств Западной Европы, заключивших против него союз. Отметим мимоходом исключительный характер столкновения между Францией и империей, ведь эти государства существовали в двух разных, не соприкасавшихся между собой сферах деятельности и потому обычно не имели повода воевать друг с другом. Все претензии императоров главенствовать над остальными государями Западной Европы, и особенно над Капетингами, оказались тщетными — и этот факт добавил славы королю Филиппу. Кроме того, если верить хронистам, коалиция вызвала тревогу у подданных французского государя; и их ликование после известия о победе было соизмеримо с прежним беспокойством. Вильгельм Бретонец составил знаменитое описание триумфального возвращения в Париж короля вместе его пленниками. Так монархия миновала новый важный этап в процессе своего утверждения. Напротив, победа не принесла никакой выгоды в Аквитании; тотчас же после битвы при Бувине Филипп двинулся со своим войском на Луару, но так и не рискнул начинать новый поход — опыт подсказывал, что в этом регионе, полном переменчивых феодалов, он будет безрезультатным. Король ограничился тем, что заключил с Иоанном перемирие сроком на пять лет, мало чем отличавшееся от туарского перемирия 1206 г. (Шинон, 18 сентября 1214 г.). Французские завоевания к северу от Луары были подтверждены, но пуатевинские бароны, которым позволили самим выбирать себе сеньора, во множестве примкнули к Иоанну, который не представлял угрозы для их независимости. Кроме того, король Англии выплатил 60 000 ливров. Продленный в 1220 г. Шинонский договор обеспечил статус-кво на этой последней общей границе, оставшейся между двумя королевствами.Конец царствования
Благодаря победам, одержанным на всех направлениях, последнее десятилетие правления Филиппа прошло без тревог и опасностей, характерных для подавляющего большинства предыдущих периодов. Теперь Филиппу Августу не нужно было ни защищать свое королевство, ни сражаться в пограничных областях, он больше мог не опасаться измены своих вассалов. Отныне войны будут вестись на внешних территориях; в Англии, затем на юге; и войсками командовать будет не сам король, а его старший сын. Поход в Англию Восстав против Иоанна Безземельного, английские феодалы и их союзники, горожане и прелаты, избрали королем принца Людовика, который выступал от имени своей супруги Бланки Кастильской, имевшей права на корону (1215 г.). Отец позволил ему вновь приступить к проекту похода за Ла-Манш; этот план был свернут двумя годами ранее, но на этот раз Людовик отчалил в Англию в ответ на зов значительной части своих будущих подданных. Папа попытался защитить Иоанна, своего вассала, и отлучил от церкви участников экспедиции; поэтому французский король придерживался как можно более нейтральной позиции, одновременно оказывая своему сыну материальную поддержку. Поход начался удачно; высадившись на английском побережье 21 мая 1216 г., Людовик вступил в Лондон и захватил весь восток острова; наемники, набранные Иоанном, его бросили; казалось, что ожидания Людовика вот-вот сбудутся. Но смерть Иоанна (19 октября 1216 г.) все изменила: регентский совет, где решающий голос принадлежал папскому легату и старому вассалу Плантагенетов, Вильгельму Маршалу, короновал сына умершего короля — восьмилетнего Генриха III. Ловкая политика Святого престола, который провозгласил крестовый поход против французов, привела к массированному переходу англичан на сторону Генриха. Военные поражения довершили остальное: пленение многих вождей французской партии и четырехсот рыцарей в битве при Линкольне в апреле 1217 г., а также корабля Эсташа Монаха, знаменитого пирата на службе у Людовика, еще с сотней рыцарей на борту в августе. 11 сентября 1217 г. Людовик отказался от борьбы, заключив мирный договор в Ламбете. Альбигойский крестовый поход Вскоре другая экспедиция — и с более серьезными последствиями — привлекла внимание принца Людовика. Несмотря на предложения, которые папа повторял с 1204 г., Филипп Август постоянно отказывался лично возглавить крестовый поход против альбигойцев. Король ссылался на невозможность оставить свое королевство перед лицом опасности, грозившей со стороны Иоанна Безземельного; кроме того, он сильно сомневался в том, что следует разрушать феодальный порядок графства Тулузского исходя из предполагаемого обвинения в ереси и приравнивания к истинным катарам простых симпатизировавших или безразличных южан. В 1209 г. крупные и мелкие сеньоры королевского домена отправились в крестовый поход с согласия короля, но без его участия. В 1213 г. вопреки всему принц Людовик уже готовился присоединиться к крестоносцам, но отец предпочел возложить на него задачу по высадке в Англии. И только после Бувина Людовик смог присоединиться к войску Симона де Монфора, и то всего лишь на сорок дней. В остальном замена графа Тулузского и его вассалов на Симона и северофранцузских сеньоров привела к неоспоримому усилению королевской власти. Теперь Филипп имел дело с людьми, которые привыкли ему повиноваться — и считали, что это в их интересах, — а не с крупными далекими сеньорами, традиционно очень независимыми, какими являлись южные феодалы. К тому же вероятно, что в это время король ясно сознавал, что ему представился исключительный случай расширить свой домен, и сознательно дал ситуации дозреть. Во всяком случае, ни один современный источник не позволяет четко объяснить его выжидательную политику. Лишь после смерти Симона де Монфора, когда вся завоеванная территория вот-вот могла выскользнуть из рук крестоносцев, король разрешил сыну снова вмешаться. Главным, что случилось во время похода 1219 г., была резня жителей Марманда. После того как он напрасно осаждал Тулузу, Людовик вернулся на север, как и в первый раз, через сорок дней после начала экспедиции. В 1221 г. король послал на юг другой отряд, и тоже без убедительных результатов. Его наследники окончательно уладят проблему ереси и южный вопрос в целом, с наибольшей выгодой для династии. Однако еще до смерти Филиппа развязка уже была близка: столкнувшись с нехваткой ресурсов, Амори де Монфор завещал королю свои владения на юге. Походы в Англию и на юг нисколько не потревожили мир, который воцарился в королевстве после триумфа 1214 г. Отказавшись напрямую ввязываться в новые авантюры, Филипп провел последние годы, округляя свои владения за счет кропотливых присоединений по случаю того или иного феодального наследства и совершенствуя созданную им администрацию. Итак, наследство, обеспеченное благодаря наличию одаренного наследника, хорошо управляемое и существенно выросшее в размерах королевство, поверженные враги, постоянно увеличивающиеся ресурсы: какой еще государь может похвастаться более позитивным итогом своего царствования? Королевская идеология Победы Филиппа, так же как его мудрое и умелое правление, окончательно обеспечили капетингской монархии неоспоримую власть, следы которой прослеживаются во всех деталях. Например, Филипп изменил традиционную титулатуру «король франков» на «король Франции». В 1202 г. папа мимоходом, объясняя в булле «Per Venerabilem», почему он узаконил детей Агнессы Меранской, признал, что над французским королем нет никакой высшей мирской власти; это подразумевало, что Филипп ни в коей мере не является ни подчиненным императора, ни даже ниже его по положению, на что последний постоянно претендовал. Историки охотно приводят в подтверждение устойчивости монархии тот факт, что Филипп не стал при жизни короновать сына, как это делали первые Капетинги, — и больше так поступать не будут; по мнению большинства авторов, это свидетельствует, что передаче короны по наследству отныне ничто не угрожало. Но не все так однозначно: Людовик был единственным сыном, чьи права на корону были неоспоримы, у него не было потенциальных соперников, а потому и спешить с его коронацией при жизни отца смысла не имело; скорее сложившийся обычай изменил Людовик VII, у которого тоже был один законный сын; но Филипп был коронован лишь тогда, когда его отец стал неспособен править самостоятельно[161]. Рассмотрим ореол, окружавший монархию, и развитие символики власти на другом примере: погребение Филиппа, эпизод, с которого во Франции вошла в обиход новая практика, навеянная Византией или Плантагенетами. Тело короля с инсигниями его власти выставлялось для почитания его подданным, прежде чем предать его земле согласно торжественному церемониалу; и местом погребения отныне стало Сен-Дени, без других вариантов, таких как в случае с Филиппом I (Флери) и Людовиком VII (Барбо). Престиж усопшего был настолько высок, что даже собрали несколько доказательств, свидетельствующих о его святости; однако эта попытка, в общем-то нередкая для государей гой эпохи, мало вязалась с личностью Филиппа; придется подождать царствования его сына, чтобы капетингская династия могла обзавестись этим весомым козырем. Это спокойное утверждение династии не могло обойтись без перемен в сфере воображаемого. Вновь обретенное могущество королевства лишь подстегнуло тех, кто желал оправдать сохранение власти в руках потомков Гуго Капета, которых, случалось, упрекали в узурпации каролингского наследия. Немало сюжетов, известных уже с давних пор, снова были введены в оборот, чтобы прославить древность династии и узаконить ее власть. Вспомнили о пророчестве, которое святой Валерий якобы сделал Гуго Капету: его потомки сохранят власть на протяжении семи поколений. Приближение означенного срока счастливо совпало с тем, что другие современники называли «возвращением королевства роду Каролингов»: женитьба Филиппа на Изабелле де Эно, — которая действительно принадлежала к потомству великого императора, — позволила заявить, что в лице их сына Людовика VIII корона вернулась к Каролингам, но без того, чтобы Капетинги ее потеряли. На самом деле этот брак был далеко не первым из тех, что смешали кровь обоих семейств, и некоторые люди вспоминали, что и мать Филиппа принадлежала к потомкам Каролингов. Другая схема уходила еще дальше, превращая франков в потомков троянцев, бежавших после падения их города. В XIV–XV вв. этот миф станет официальной и широко распространенной доктриной происхождения французской знати и ее королей. Таким образом царствование Филиппа стало решающим этапом в становлении этой доктрины — и ярко это видно на примере пассажей Ригора. Впрочем, похоже, что сам король и его окружение не придавали особой важности этим реконструкциям. Еще в большей степени, чем его предки, образцом для подражания служили Карл Великий и другие предшественники династии, с которыми Филиппа более или менее открыто сравнивали. Именно такого взгляда придерживался Эгидий Парижский в своей большой поэме «Кагolinus», вспоминая применительно к принцу Людовику о доблести и подвигах Карла Великого. Такие символические шаги, как учреждение подле короля двенадцати пэров или использование во время коронации меча, якобы принадлежавшего Карлу Великому, — тоже относятся к представлениям того же порядка. Подобные ссылки на каролингское прошлое также позволяли пробить брешь в императорской пропаганде, утверждавшей, что лишь Фридрих Барбаросса и его преемники являлись достойными и исключительными наследниками Карла Великого. Такая позиция не была полностью лишена политической целесообразности (в 1204 г. Иннокентий III упоминал о каролингских корнях Филиппа), но королевская власть черпала источники для своей легитимизации по большей части в ином: наследственности, миропомазании, победе и поддержке со стороны подданных. Именно на этих моментах еще больше, чем на происхождении династии, делали упор биографы, когда сохраняли память о великих свершениях короля: с правления Филиппа в Сен-Дени расцвела королевская историография, которую начал развивать еще Сугерий. Два великих имени выделяются среди группы сочинителей, которые в то время посвятили себя повествованию о капетингской истории. Первый из них, Ригор, врач, ставший монахом, довел королевскую биографию (Gesta Philippi Augusti) до момента своей смерти в 1206 г.; его труд продолжил Вильгельм Бретонец, духовник Филиппа Августа, который, как и Ригор, черпал сведения в королевских архивах и архивах Сен-Дени. Вильгельм прибавил к «Gesta» стихотворную версию, «Филиппиды», где прославлял короля таким же образом, как Эгидий Парижский восхвалял подвиги Карла Великого, а Пьер Рига, самый выдающийся из этого сообщества поэтов, — Александра в своей знаменитой «Александриде» (ок. 1176–1182 гг.). Не будучи слишком многочисленной, историография царствования Филиппа отличается полнотой и однополностью повествования; она основана на первосортной информации и не всегда хвалит короля. Даже несмотря на свое безразличие к словесности, Филипп Август сумел встроить память о своих достижениях в латинскую литературу, которая переживала в то время свой последний великий расцвет.Административные преобразования
Перелом в европейской административной практике
Если и есть область, в которой правление Филиппа заслуживает названия «времени перемен» (temps de mutation), которое ему присвоили на коллоквиуме 1980 г., то эта область — администрация. Без сомнения, перемены, которые пережила королевская администрация на рубеже XII и XIII вв., менее зрелищны, чем крупные победы и территориальная экспансия, но от этого они не становятся менее решающими; более того, именно эти перемены позволили королю одержать его победы и осуществить завоевания, а затем и значительно облегчить интеграцию присоединенных земель. Долгое время историки датировали эти административные преобразования периодом после завоевания Нормандии. Это объясняли по большей части влиянием, которое оказали нормандские институты — действительно, очень эффективные — на королевское окружение, искавшее образцы для того, чтобы улучшить свои методы управления. Но Джон Болдуин, проведя куда более тщательный анализ, чем его предшественники, показал, что в реальности «решающим десятилетием» являются 1190–1203 гг.[162] Именно тогда началось систематическое собирание королевских архивов, редакция реестров, сохранявших важные сведения, составление счетов, что потребовало учреждения специализированного ведомства; также были определены обязанности бальи, вокруг которых происходило становление местной администрации. В последующие годы правления Филипп усовершенствовал свой великий организаторский труд, программа которого была в общих чертах намечена в ордонансе 1190 г. Труд систематический, продолжавшийся непрерывно в силу того, что с королем работала группа компетентных и преданных людей, которые поступили на службу около 80–90 гг. XII в. и потому могли оставаться с ним до конца царствования. Перемены, которые тогда преобразили механизм французской администрации, были первым этапом долгого процесса «генезиса государства Нового времени»[163], который получил новое ускорение в правление Людовика Святого и Филиппа Красивого. Фундаментальная заслуга соратников Филиппа Августа заключается в том, что они смогли первыми составить и применить план адаптации средств деятельности государства к новым политическим, экономическим и культурным условиям. Конечно, реализация этого первого этапа может показаться скромной по сравнению со средствами, которыми располагало правительство следующих столетий, но зато она сильно отличается от предшествующей административной практики Капетингов — скорее домениальной, чем государственной. Кроме того, Франция Филиппа Августа лишь примкнула к движению, в эти же годы или чуть ранее охватившему другие западноевропейские государства — Англию под властью Плантагенетов, нормандское королевство Южной Италии, папскую курию и итальянские коммуны. Крупные княжества не только не остались в стороне, но и выступали в роли инициаторов этого процесса: Шампань, а особенно Фландрия и Нормандия прилагали серьезные усилия по усовершенствованию своей администрации еще до того, как Филипп взошел на трон. К тому же соратники Филиппа Августа руководствовались тем или иным нововведением, которое появлялось во Фландрии или Нормандии чуть раньше, чем во Франции. Разъездные «юстициарии» Генриха II и «бальи» и «юстициарии», введенные Филиппом Эльзасским в Вермандуа, а затем и во Фландрии, были непосредственными предшественниками французских бальи с их изначальными полномочиями проверяющих и разъездных судей. То же самое и с финансовыми институтами: английской палатой Шахматной доски с ее «казначейскими свитками» (счетами, занесенными на пергаментные свитки и сохраняемыми с 1130 г.), нормандской палатой Шахматной доски (с 1180 г.), фламандским «Большим списком» (домениальные счета) 1187 г. Присоединение Артуа и Вермандуа, затем Нормандии и сохранение их институтов лишь помогло французским властям создать свои собственные структуры управления; постоянные контакты с Англией и особенно Фландрией стали для французов другим источником вдохновения. Кропотливое сопоставление французских документов (счетов 1202–1203 гг.) с их фламандскими и нормандскими аналогами показало, что, вопреки сходству структуры, между ними существует значительное различие. Вдобавок некоторые своеобразные черты французской системы счета уже прослеживаются в ордонансе 1190 г., еще до присоединения этих провинций. В целом, вместо того чтобы искать в северо-восточных княжествах точные образцы методов французских управленцев, следует сделать вывод об общей направленности, возникшей благодаря сходным ситуациям, целям и менталитету. Помимо поиска параллельного развития и заимствований у этих трех государств, который позволяет выявить немало сходных моментов, нужно отметить, что усовершенствование инструментария власти являлось общим феноменом для западноевропейских государств этого времени. Повсюду власти стали заводить архивы, содержавшиеся в надлежащем порядке, вести счета, реестры, куда заносили перечень земель, вассалов, доходов, куда помещали копии самых важных документов и выжимку из переписки. Повсюду стремились заменить местных представителей государя — в той или иной степени феодального происхождения — верными и сменяемыми чиновниками. Повсюду короли, герцоги и графы издавали законы с тем, чтобы установить мир и оказать покровительство торговле, старались подчинить подданных своему суду, контролировать иерархию вассалов и добиться передачи им крепостей. Таким образом, становление административных структур и практик — по правде сказать, еще находившихся в зачаточном состоянии, — во Французском королевстве вписывается в общую эволюцию европейских государств, как больших, так и маленьких. Речь идет только об одной стороне — но, несомненно, наиболее значимой, — возрождения государства, характерного для Западной Европы XII в. Важно мимоходом обратить внимание на два аспекта этого рождения «административной монархии». Прежде всего, она нисколько не противоречила (а скорее наоборот) «феодальной монархии». С другой стороны, она основывалась — так же или еще больше, чем на техническом подъеме, который оставался неуверенным, — на изменении менталитета и становлении правящих элит. Советникам Филиппа Августа было присуще то, что Болдуин назвал «любовью к отчетности» (esprit de bilan), не совместимым с устной традицией и тягой к щедрости, которые характеризовали до этого времени феодальные власти; можно еще использовать выражение, близкое к тому, что предложил немецкий историк Г. Келлер, согласно которому эти советники воплощали собой стремление к «письменной фиксации» (Verschriftlichung), охватившее административные элиты практически во всей Западой Европе на рубеже двух столетий: подсчитать, переписать, сохранить данные в письменном виде — вот что было для них важно. Этот новый тип мышления был продуктом «возрождения XII века», которое взрастило — отчасти в еще молодых университетах — светскую, юридическую и техническую культуру.Центральная администрация: персонал
Ослабление позиций великих чинов и крупных вассалов После событий, связанных с Гарландами, Людовик VI и Людовик VII энергично боролись, чтобы воспрепятствовать передаче придворных должностей по наследству и ограничить влияние занимавших их лиц всякий раз, когда они могли угрожать королевской власти. Единственных чинов, которые в определенной степени могли рассчитывать на передачу своего поста по наследству: кравчий, камерарий, коннетабль — держали в стороне от реальной власти, тогда как на высшие посты (сенешаля и канцлера) назначали — или оставляли их незанятыми — таким образом, чтобы новые назначенцы не могли воспользоваться своими титулами и вмешаться в дела королевства. Эта эволюция достигла своего апогея при Филиппе Августе: посты канцлера и сенешаля оставались вакантными на протяжении первых лет его царствования, после смерти их держателей в 1184 и 1191 гг., а три других крупных чина, обычно принадлежавших знатным семействам Иль-де-Франса, практически бездействовали; лишь коннетабль вновь обрел некоторый прилив активности, когда эту должность доверили простому шателену, Дре де Мелло (1191–1218). Как и в случае с великими чинами, знатных сеньоров отстранили от политических решений. Однако достижение предыдущего царствования было сохранено: территориальные князья окончательно заучили дорогу ко двору, они с большой помпой присутствовали там на торжественных мероприятиях, приводили свои отряды в королевское войско, иногда оказывали услуги в делах королевской дипломатии. Но Филипп Август энергично боролся с их претензиями на то, чтобы направлять его политику. Разрыв в начале царствования с шампанскими и фламандскими кланами и последовавшие за ним войны навсегда покончили с зависимостью решений короля от придворных интриг. Настоящая гекатомба крупных сеньоров в Третьем крестовом походе, отъезды и новые смерти в Четвертом походе также помогли королю совладать со своими баронами. После того как со сцены сошли такие крупные фигуры, как Филипп Эльзасский и Тибо Блуаский, их место никто не занял. Кажется, что после 1190 г. доверие короля все еще сохраняли архиепископ Вильгельм Белорукий (до того, как он впал в немилость и 1200 г.) и Филипп де Дре, епископ Бове. Высшая знать отныне была не в курсе дел королевства. Правда, она по-прежнему имела право совещательного голоса на собраниях, которые король по примеру своего отца созывал перед каждым крупным поворотом своей политики: отказом от посредничества папы в отношениях с Иоанном Безземельным и 1203 г., вторжением в Англию десятью годами позже или, в несколько ином виде, разводом и конфискацией фьефов Плантагенетов. Приближенные короля Многих современников Филиппа Августа удивлял очень своеобразный подбор людей, помогавших королю выработать концепцию его политики и провести ее в жизнь: их было немного, все они были довольно скромного происхождения (рыцарские линьяжи, в большинстве случае идентифицируемые) и пользовались полным доверием государя, осуществляя от его имени — но без особого титула — крайне широкие полномочия. Дела королевства решались исключительно в этом узком кругу во время тайных совещаний. Не один хронист высказывал возмущение скромным социальным происхождением советников («мелкий рыцарь», «низкородные люди») и исключительным положением этой группы, «которым король имел обыкновение изливать свою душу и доверять тайные мысли»[164]. Некоторые из тех, кто был принят и в Лондоне, и в Париже, противопоставляли этот способ управления «водовороту» людей, идей и амбиций, царивших при английском дворе, и заключали, что именно в этом кроется причина успеха французских планов, подготавливаемых втайне и эффективно претворяемых в жизнь. Французское правительство вступило в новую фазу своего развития, доведя до апогея тенденцию, которой старались следовать все предыдущие короли, окружая себя персонажами более-менее скромного положения: после преобладания при Людовике VI чинов из числа знати Иль-де-Франса (шателенов или нет) и возвращения при Людовике VII крупных сеньоров, совпавшего с первыми шагами по замене великих чинов управленцами второго уровня, победила последняя направленность (после 1190 г.). Таким образом, королевский совет существенно изменил свой состав: после того как оттуда исключили крупных сеньоров, в него стали входить лишь те, кто занимался реальными делами; королевский совет начинал становиться постоянным и отчасти формальным институтом. Среди этих людей, которых мы сегодня знаем благодаря работам Джона Болдуина, двое особенно выделяются как «главные участники совета», которым было поручено исполнение решающих задач: брат Герен, рыцарь-госпитальер, и Варфоломей де Руа, рыцарь короля, выходец из мелкой знати Вермандуа. После них шел первый круг близких советников, включавший маршала Генриха Клемана, чье семейство сделало своим уделом занятие военным командованием, камергер Готье, оставшийся от предыдущего царствования, и его сыновья Урс и Готье Молодой, также состоявшие в чине камергера. К ним можно причислить и брата Эмара, рыцаря-тамплиера, ответственного за королевскую казну; правда, обязанности держали его отчасти в стороне. Ко второму кругу, также пользовавшемуся полным доверием короля, но не настолько близкому, как первый, принадлежали двенадцать или четырнадцать персон: клирики, такие как сменявшие друг друг деканы аббатства Святого Мартина Турского (Сен-Мартен де Тур) магистр Ансельм и Эд Клеман (брат Генриха), и декан соборного капитула Парижа магистр Готье Корню (племянник предыдущего); военные, такие как оба Гильома де Барра, отец и сын, рыцари из Вексена, и оба Гильома де Гарланда, тоже отец с сыном, потомки знаменитого придворного рода; камергеры, такие как трое братьев Тристанов. Таким образом, эти советники почти все являлись клириками или рыцарями, уже получившими должность при дворе; к тому же часть из них принадлежала к семействам, которые традиционно находились на придворной службе вот уже одно, два или три поколения и которые король, по понятным причинам, жаловал своим доверием. Эти линьяжи практически по наследству занимали второстепенные, но значимые должности, такие как камергера, помощника камерария, который в силу своих обязанностей был близким к государю человеком, или маршала, замещавшего сенешаля в том, что касалось военного руководства. В целом, редко случалось, чтобы они строго специализировались на том или ином деле: лишь брат Эмар и военные, такие как Клеманы, де Барры и Гарланды, не выходили за пределы своих обязанностей; прочие выполняли разные задания — вершили правосудие, производили платежи, инспектировали постройки, улаживали тяжбы между знатными лицами или командовали войсками во время военных кампаний. Свою компетенцию они обрели благодаря долгому опыту на королевской службе; многие клирики могли прибавить к этому университетское образование, что подтверждает их звание «магистр» (мэтр); эта тенденция набирать советников из университета в дальнейшем лишь укрепится. Но прежде всего король требовал от своих приближенных — даже больше, чем особенных знаний, — безупречной преданности. Эти люди, которым было примерно столько же лет, как самому королю, или чуть меньше, поступили к нему на службу в начале их активной жизни, и лишь смерть разлучила их. Долгая совместная работа способствовала тому, что их группа стала более сплоченной и эффективной. Последняя составляющая, придававшая им силу, — отсутствие личных амбиций: служба у Филиппа Августа обеспечивала им достаток (как видно из списка драгоценностей, розданных приближенным) и часто теплые места для их детей, но и речи не могло быть о том, чтобы, опираясь на свое служебное положение, они сделали бы исключительную карьеру вроде той, что в свое время выстроили Этьен де Гарланд или Кадюрк. Клирики получали в вознаграждение за службу хорошую пребенду, надежду стать епископом (но не гарантированно, так как выборы все ещеоставались в принципе свободными), а рыцари — богатое владение (например, в Нормандии после ее завоевания) или устроенный королем брак с состоятельной наследницей.Центральная администрация: функционирование
При Филиппе Августе королевскую администрацию ждало одновременно качественное и количественное преобразование. Ее поле деятельности значительно увеличилось благодаря расширению домена и усилению монархической власти; технику работы затронула серия решающих нововведений, которые превратили царствование Филиппа в первый этап длительного вызревания «государства Нового времени». Правосудие В том, что касается отправления правосудия, Филипп Август по сути не изменил практику своих предшественников: прево судили в своих округах от имени короля, королевская курия принимала апелляции по мере своего передвижения с места на место и выносила решения но самым важным делам. Ордонанс 1190 г. ввел два новшества. С одной стороны, учреждалось промежуточное звено в лице бальи, которые раз в месяц должны были собирать суд, чтобы ответить на апелляции на приговоры, вынесенные прево, и разрешить дела первой инстанции, особенно те, что затрагивали права короля. С другой стороны, королевская курия, собранная в Париже три раза в год, должна была принимать апелляции на приговоры бальи, но также и все другие жалобы, поданные жителями королевства (не только королевского домена, как в случае с бальи). Ассизы (суды) бальи (чье название и принцип действия, новые для королевства, напоминают англо-нормандские институты) очень быстро стали существенным колесом в механизме правосудия и местной администрации. Напротив, в том, что касалось судебного функционирования курии, с предыдущего царствования ничего не изменилось: ни периодичность заседания, ни место, ни точный состав персонала, ни тем более четкие правила для процедуры апелляции. Не кажется, чтобы король требовал от людей, подчиненных сеньориальному правосудию, систематически обращаться в королевский суд. И только в особых случаях, вызванных определенными обстоятельствами, между королевской курией и местными судебными органами возникала постоянная связь: в том или ином городе, обладавшем особыми правами (например, Лан), или в Нормандии, где палата Шахматной доски, судебная курия герцога, состоявшая из баронов под председательством представителя государя, по-прежнему собиралась дважды в год в Фалезе, затем Кане, чтобы принять апелляции на приговоры суда (ассизы) бальяжа. Финансы: доходы Финансы были той сферой королевской администрации, где «перемены», характеризовавшие это царствование, оказались наиболее очевидными: они были количественными, поскольку менее чем за полвека королевский доход вырос в несколько раз, и качественными, потому что ресурсы диверсифицировались, по мере того как власть государя выходила за пределы домена, и появились бухгалтерские документы. Выраженный рост королевского дохода был одновременно самым примечательным признаком и одной из непосредственных причин трансформации, сделавшей из территориального княжества, почти неотличимого от других, могучее государство. Ведь этот рост был не просто следствием территориального расширения: он объяснялся и тем, что королевские служащие теперь систематически искали источники доходов, какими прежде пренебрегали; а также применением бухгалтерских методов, исключавших потери и растраты; проникновением в сферы, позволявшие королевской власти получать новые ресурсы, например рельеф с крупных фьефов. Доходы, какими располагал Филипп в начале царствования, больше вызывают вопросы, чем внушают уверенность, ведь непонятно, какую точно часть (треть? больше?) составляет единственная точно известная цифра — 19 тыс. ливров[165]. Зато мы знаем, что в 1202–1203 гг. ординарный доход увеличился до 115 тыс. ливров, а в 1221 г. — почти до 200 тыс. Для некоторых годов к нему надо добавить очень крупные денежные поступления из побочных источников, такие как рельефы (с графства Фландрия в 1192 г. был выплачен рельеф в размере 10 тыс. ливров, в 1212 г. — 50 тыс., в 1227 г. — 15 тыс.) или налог за неучастие в сержантской службе (26 тыс. ливров в 1202 г.). Следовательно, размер бюджета французской монархии в течение царствования изменился на порядок. Половина этих ресурсов в 1202–1203 гг. поступала от эксплуатации сельскохозяйственных угодий, 20 % составляли талья и другие налоги с городов, 5 % — регальный сбор с церквей (величина крайне переменная), 7 % — судебные налоги, 2 % — военные и еще 16 % разных или неопознанных поступлений. То есть по составу королевские доходы оставались в основном доходами традиционной сеньории, коль скоро среди них преобладали поступления от сельского хозяйства, дополнявшиеся судебными штрафами. Рост таких доходов в очень большой степени отражает как расширение домена за счет завоеваний, так и улучшение управления: с 1180 по 1202 г., то есть в период, когда расширение территории ограничилось присоединением Пикардии, продукт с домена вырос на три четверти. Таким образом, стремление к контролю и учету, масштабы которого мы еще увидим, немедленно принесло плоды. Но доход, получаемый за пределами домена, тоже быстро рос и диверсифицировался. Однако бремя привычки сдерживало такое реструктурирование королевского дохода, ограничивая нововведения и прежде всего исключая сбор любого прямого, общего и постоянного налога. Талья, в принципе, налог такого типа, фактически была сеньориальной податью, и ей установили узкие пределы: она взималась только на землях домена, почти не затрагивая сельских жителей и не распространяясь на вновь аннексированные провинции. Принося очень разный доход в зависимости от места сбора, талья составляла в целом около десятой части королевского дохода в 1202–1203 гг. (6800 ливров — талья как таковая, 4200 — аналогичные налоги). Значит, Филипп Август должен был искать другие способы, чтобы увеличить эти ресурсы. Все европейские государства, малые и большие, столкнувшись с новыми потребностями (прежде всего военными), на рубеже веков испытывали такую же нужду в обильном и постоянном доходе, какой привычные фискальные методы едва ли могли обеспечить. Во Франции, как и в других местах, взимаемые средства, какие получало государство, напрямую зависели от укрепления его власти. Когда укрепление шло особо быстро, соответственно росли и ресурсы. Большие фьефы облагались огромными рельефами (от каких прежде им удавалось уклониться), поводы для взимания которых находили самые разные — в частности, крестовые походы. На протяжении царствования Филиппа Августа это принесло в сумме более 150 тыс. ливров; кроме того, охрану этих фьефов на время несовершеннолетия владельца отныне обеспечивал король, получая от этого немалые финансовые выгоды. Регальный сбор, взимавшийся с епископств, которых после завоеваний стало гораздо больше, принял форму рациональной эксплуатации их ресурсов, а не более или менее беспорядочного грабежа, каким прежде занимались королевские чиновники. Возможность для налогообложения, пока неумелого, давал подъем городов и торговли. Историки не уверены, что подати, взимавшиеся с торговли напрямую, дорожные и рыночные пошлины, были очень доходными: князья охотно устанавливали невысокие тарифы, чтобы поощрять коммерцию. Но король мог использовать косвенные средства, чтобы получить свою долю от обогащения городского общества: талья обременяла по преимуществу города; подать, взимавшаяся в обмен на обещание не портить монету, принесла в 1202–1203 гг., вероятно, более 8 тыс. ливров. Другой формой обложения торговой и финансовой деятельности был налог на евреев (1250 ливров в 1202–1203 гг., а позже и больше: в 1227 г. талья, полученная от евреев, составила 8682 ливра). Наконец, война, в то время становившаяся прерогативой больших государств, означала не только расходы, но и доходы — нерегулярные, потому что они поступали в случае конфликта, но способные существенно пополнить бюджет. Если трудно определить, какие налоги за неучастие платили вассалы, не являвшиеся по зову в королевское войско, то известно, что налог за неучастие в сержантской службе, взимавшийся с городов и монастырей домена, в 1202 г. принес короне внушительную сумму — 26 тыс. ливров. Итак, увеличение доходов монархии было важнейшим элементом успеха Филиппа Августа. Не менее важной представляется диверсификация этих доходов, даже если она не выходила за рамки попыток и нерегулярных денежных поступлений. Новый территориальный и политический масштаб государства больше не позволял капетингскому монарху «жить за свой счет», как это делали его предки. Финансы: расходы Принцип устройства капетингской администрации состоял в том, чтобы местные расходы, возложенные на прево и бальи (откуп, содержание построек, снабжение, милостыня и рентные фьефы, назначенные с управляемой ими территории), оплачивали они сами из доходов, которые получают. За финансовый период 1202–1203 гг. эти расходы составили всего 12 % их доходов, то есть эксплуатация королевского домена выглядит очень рентабельной. Бальи и прево оплачивали также некоторые расходы неместного характера, например поенные расходы, которые, вероятно, в 1202–1203 гг. были связаны с кампаниями против Иоанна Безземельного, — на это шло 16 % их походов. Что касается оставшейся суммы (более двух третей доходов, (а 1202–1203 гг.), то ее помещали в королевскую казну в Тампле, ко-юрой ведал брат Герен или брат Эмар, и за ее счет покрывали две больших статьи расходов — на королевский дворец (то есть на содержание монарха и двора) и на войну. Дворцовые расходы до 1227 г. известны очень плохо; за 1227 г. они равнялись 85 тыс. ливров — сумма очень крупная по сравнению с соответствующими цифрами за более поздние периоды, дошедшими до нас. Несомненно, при Филиппе Августе, имевшем прочную репутацию экономного хозяина, они были намного ниже. Что касается военных расходов, они, естественно, сильно варьировались в зависимости от того, вело королевство войну или нет, ведь постоянной армии практически не существовало. В военное время деньги тратились в основном на снабжение, а еще больше на жалованье — не столько наемникам, которых было мало, сколько рыцарям и сержантам, служившим дольше обязательного срока. Из расчета 6 су в день на рыцаря и 8 денье на пешего сержанта это жалованье в 1202–1203 гг. составило в сумме 27 тыс. ливров для войск на нормандской границе (вероятно, представлявших собой большую часть армии) плюс 3290 ливров для наемников. Снабжение, экипировка, замена убитых лошадей и фортификационные работы за гот же период и только в нормандских марках стоили почти вдвое больше. Таким образом, за год на войну в Нормандии король потратил 83 тыс. ливров; сюда надо добавить расходы (неизвестные нам) на войска, тогда же развернутые на Луаре, стоимость большой программы крепостного строительства, затеянного Филиппом Августом, и некоторые затраты, к примеру, на вооружение, которые почти не фигурируют в казначейских счетах. Итак, военный бюджет поглощал во время войны все ординарные доходы монархии; доходы ad hoc (налоги за неучастие в военной службе) составляли только незначительную их часть. Несмотря на эти крупные затраты и сложности с разработкой новых ресурсов, Филипп Август умел не только сбалансировать свой бюджет, но и собрать значительные резервы. Период 1202–1203 гг., когда подготовка к решающей военной кампании шла полным ходом, у Джона Болдуина оставил «впечатление, (что) финансы Филиппа в полном порядке и пригодны для поддержания его политических замыслов». Присоединение доменов Плантагенетов и долгие мирные периоды после битвы при Бувине позволили накопить немало излишков. Первые по-настоящему полные бюджетные росписи, какими мы располагаем, за 1221 и 1227 гг., показывают, что король сберегал треть доходов. В 1221 г. казна располагала резервом, составлявшим 81 % годового бюджета. Поэтому Филипп Август, распоряжаясь этими деньгами как личными средствами, мог в завещании, составленном в 1222 г., оставить воистину роскошное наследство на общую сумму в 790 тыс. ливров, то есть почти в четыре раза больше годового бюджета королевства. Конон из Лозанны, приводящий из вторых рук сведения о финансах Филиппа незадолго до смерти последнего[166], говорит о двух миллионах ливров, но, похоже, преувеличивает. Даже если исходить из завещания, становится понятным, что король, возложивший на бюджет такой расход, был абсолютно уверен в надежности своих ресурсов. Бухгалтерские и административные методы Чтобы достичь такого триумфального финансового баланса, служащие короля отнюдь не пренебрегали новыми бухгалтерскими методами. Применяться эти методы начали, вероятно, после отъезда короля в крестовый поход. В самом деле, ордонанс 1190 г. потребовал, чтобы бальи и прево трижды в год отчитывались перед казной, передавали в нее излишки доходов, и чтобы эти операции записывались. С другой стороны, Вильгельм Бретонец сообщает, что среди архивов, утраченных в битве при Фретевале, были и фискальные документы, из которых король получал сведения о своих ресурсах. Первые сохранившиеся отчеты относятся к 1202–1203 финансовому году — это «первый бюджет французской монархии», как озаглавили его издатели. Эти отчеты соответствуют предписаниям 1190 г.: бальи и прево должны были трижды в год подробно расписывать свои доходы и расходы. Есть также несколько иной документ за 1221 г., содержащий роспись всех королевских финансов по основным статьям и свидетельствующий о неизменном совершенствовании бухгалтерских методов, — ведь он позволяет получить общий обзор, в отличие от документа 1202–1203 гг. Какими бы примитивными и даже несколько путаными (по меньшей мере, в глазах историка) ни были эти отчеты, для королевской власти они означали огромный прогресс, позволяя контролировать деятельность местных управленцев, сохранять данные о ней и сообразовывать политические проекты с финансовыми возможностями. Некоторые историки утверждали, что и предшественники Филиппа Августа уже располагали инструментами бухгалтерского учета, хотя бы грубыми, но от таких инструментов не сохранилось и следа. Впрочем, все государства Европы в этом отношении развивались сходным образом: повсюду, как мы говорили, приблизительно в этот период государи обзавелись органами финансового контроля и потребовали составить первые письменные балансы. Двор Филиппа Августа, как и все дворы, жаждал увековечить права и деяния государя, создав обширные и удобные в обращении архивы. Поражение при Фретевале, когда по меньшей мере немалая часть королевских архивов осталась в руках противника, похоже, дало решающий импульс этому масштабному замыслу, с которого началось рождение французских государственных архивов. Готье Молодому было поручено восстановить утраченную документацию и систематизировать ее. Ряд расследований вновь напомнил о владениях и правах короля во всем домене, а к сохранению документов (благодаря которому зародилось учреждение, вскоре названное Сокровищницей хартий) добавили создание реестров, куда переписывались основные тексты, составленные или полученные канцелярией. В порядке, который несколько раз меняли ради удобства, в этих реестрах можно найти привилегии, пожалованные королем, а также материалы расследований о его правах и всевозможные списки — вассалов, аббатств и коммун, обязанных нести военную службу, епископств и коммун, зависимых от короля, с их привилегиями, крепостей, арсеналов с их содержимым, видных пленников после Бувина… Все это стало хранилищем необходимой информации для королевского окружения. Таким образом, за несколько лет капетингская администрация обзавелась инструментами, эквивалентными тем, какие использовали другие, более передовые государства Европы. Это быстрое развитие управленческих методов позволило ей лучше контролировать быстро расширявшийся домен.Местная администрация
В старом домене: бальи и прево Одним из главных нововведений правления Филиппа Августа было создание должности бальи или, точнее, увеличение численности бальи и первые попытки уточнить их компетенцию. До тех пор управление доменом держалось на прево, которые брали свою должность на откуп и осуществляли на подведомственной территории все права короля. С прошлого царствования наряду с ними ненадолго стали появляться бальи, роль которых была пока малопонятной. Раньше мы отметили, что их название и некоторые черты, характерные для должности, напоминают об аналогичных служащих графа Фландрского или герцога Нормандского. Хорошо заметными их внезапно сделал ордонанс 1190 г. В 1202 г. бальи было двенадцать человек, они часто работали по двое или по трое и передвигались в пределах подчиненной территории, еще нечетко ограниченной. Они проводили ежемесячные судебные заседания (ассизы), принимали штрафы, собирали всевозможные экстраординарные или нерегулярные поступления (талью, лесные сборы…), производили некоторые выплаты, например, в связи с войной, и взимали регалию с церквей. В общем, они отвечали за все экстраординарные ресурсы и расходы, тогда как прево брали на откуп ординарную часть местных финансов. Как и прево, они трижды в год отчитывались перед двором. Но бальи сразу же получили полномочия контролировать деятельность прево, производить расследования о королевских правах и вообще проводить в жизнь все повеления короля. В качестве адресатов королевских инструкций постоянно упоминались только они или, во всяком случае, в первую очередь они, а потом прево. Значение их должности заметно по жалованью, не меньшему или намного большему жалованья рыцаря (10 су), и по стараниям властей переводить некоторых из них на другие территории из опасения, что их влияние на местах может чрезмерно вырасти. Бальи полагалось быть всецело преданными королю. Их набирали из той же социальной группы, что и королевских приближенных, — из рыцарей Иль-де-Франса, и, так же как эти приближенные, они выполняли свои обязанности очень долго. Некоторое количество курьезных историй, появившихся до конца царствования, показывает, насколько эти люди уже стали могущественными и как благодаря им укрепился авторитет королевской власти. В новом домене Еще до того, как перемены в капетингской администрации стали явными, ей пришлось приспособиться к разнообразию институтов на территориях, недавно присоединенных к домену. Впрочем, королевские чиновники извлекали из этой ситуации пользу, совершенствуя управление старым доменом. Историки часто и, несомненно, с преувеличениями отмечали важность взаимных заимствований, когда речь шла о Нормандии. Тем не менее надо напомнить, что провинции, приобретенные Филиппом Августом, и после присоединения все еще включали немало земель, подчинявшихся королевской власти лишь косвенно: аллоды, фьефы, которые непосредственно или опосредованно держал какой-либо крупный сеньор, церковные земли, над частью которых король осуществлял патронаж, общины жителей, имевшие более или менее широкие обычные привилегии или коммунальные хартии. По отношению ко всем этим землям и их жителям король располагал лишь прерогативами, которые строго ограничивал обычай и которые все были разными. Полной и безраздельной властью он обладал только над владениями, ранее принадлежавшими сеньорам, которым он наследовал: герцогу Нормандскому, графам Фландрскому, Вермандуа, Анжуйскому… Прерогативы государя, очень широкие в Нормандии, в других местах были гораздо меньшими. Таким образом, завоевания Филиппа никоим образом не следует рассматривать как продвижение линии границы — скорей в них надо видеть добавление новых элементов к мозаике земель, прямых или верховных прав и личных связей, из которых и состоял королевский домен. Однако в целом можно сказать, что власть короля становилась все прочней, по мере того как расширялась в географическом плане. Ее усилению способствовали всевозможные феномены — использование и адаптация прежних институтов, покупка сеньорий, назначение все новых чиновников, таких как бальи, передача «верным» земель, конфискованных у врагов, создание особых отношений с городскими коммунами и с церквями. По мере установления этих тысяч связей власть короля крепла, препоны, которые ставила ей традиционная самостоятельность местных сеньоров, исчезали, и в целом границы домена все более сближались с границами королевства. Тому же способствовала унификация местных кутюм в региональных рамках, начавшаяся в то время (см. карта 14).
Новые провинции, развитие институтов в которых происходило очень неодинаково, получили очень разный статус. В Вермандуа, Валуа, Амьенуа и Артуа во время более или менее продолжительного перехода в состав Фландрии появилась администрация, предвосхищавшая королевскую, с домениальными счетами, бальи, энергичной центральной властью; совершенно естественным образом ее сменили новые капетингские институты. Нормандия также располагала превосходными руководящими кадрами, но здесь адаптация не происходила сама собой — в ходе многочисленных реформ назначались все новые служащие, а на кутюмы и на обычаи управления глубокий отпечаток уже наложила долгая совместная с Англией власть. Филипп отменил должность сенешаля, замещавшего короля во время отсутствия, но сохранил важнейший институт — палату Шахматной доски, выполнявшую две функции: апелляционного суда, правомочного пересматривать решения местных ассизов, и органа финансового контроля. Каждый год на ее заседаниях председательствовали клирик и рыцарь из королевской курии (чаще всего брат Герен и Готье Молодой), а запись отчетов и приговоров продолжалась. Что касается местных служащих, в частности уполномоченных вершить суд, который в значительной степени сохранил здесь публичный характер, то они были трех видов: виконты (приблизительно соответствовавшие капетингским прево), разъездные судьи (justiciers itinerants, напоминавшие французских бальи) и бальи (довольно заметно отличавшиеся от одноименных французских чиновников, хотя бы тем, что подведомственная территория им была четко определена). Понемногу к носителям этих разных должностей добавились, в большинстве сменив их, бальи капетингского образца. Зато бальи старого домена позаимствовали в Нормандии идею четко ограниченных подвластных территорий, или бальяжей. Ассимиляция Нормандии дополнялась назначением исключительно французских кадров (притом, что нормандская администрация не одно поколение была одной из лучших в Европе) и конфискацией у доброй части аристократии владений, которые распределялись среди королевских «верных». В Анжу, Мэне и Турени проблемы были совсем другими: власть Плантагенетом ощущалась здесь несравненно слабей, чем в Нормандии, и им так и не удалось покончить с независимостью крупных феодальных родов; в результате завоевания правящий класс далеко не был лишен своих земель, как в Нормандии, напротив, он даже усилился, потому что именно его поддержка помогла этим провинциям войти в состав Франции. Филипп был вынужден признать его самостоятельность, подтвердив полномочия наследственного сенешаля Гильома де Роша и оставив за ним все королевские прерогативы в Анжу и Мэне. Королевская власть наверстала свое после смерти Гильома и его зятя и наследника Эмери де Краона. Зато Турень была передана под непосредственное управление королевских служащих. Что касается Пуату, эта местность практически избежала подчинения королевской власти, да исключением Пуатье и окрестностей; остальное осталось в руках нескольких знатных родов, находившихся под влиянием Англии, но прежде всего дороживших независимостью.
Партнёры короля
Вассалы
«Феодальная монархия» и «административная монархия» Мы только что проанализировали строительство Филиппом Августом «административной монархии», но этого термина недостаточно для исчерпывающего описания всех компонентов его системы управления. Королевская власть в то время представляла собой еще и «феодальную монархию», основные характеристики которой следует привести. Мы увидим, что оба ее аспекта, «административный» и «феодальный», вовсе не исключали, а во многом дополняли друг друга. Это были две составных части одного и того же замысла, рассчитанного на рационализацию отношений между многочисленными более или менее самостоятельными элементами, образовавшими королевство, и на ориентацию этих отношений в направлении короля. Об административных отношениях можно говорить скорей применительно к домену, о феодальных — применительно к частям королевства, над которыми король имел лишь опосредованную власть и которые назывались держаниями. Взаимодополняемость и переплетение феодальных и административных структур обнаруживаются и в других европейских государствах того времени — как в Англии, так и на Сицилии или в Италии как стране коммун и Фридриха I. А Филипп Август только перенял то стремление воссоздать и возглавить феодальную пирамиду, какое мы уже встречали в некоторых действиях его отца и в текстах Сугерия; однако его ловкость и благоприятные обстоятельства позволили ему очень далеко продвинуться в реализации этого замысла. Укрепление феодальных уз Феодальная монархия вполне очевидным образом существовала до Филиппа Августа, потому что на этом принципе зиждилась сама королевская власть Франции, но при первых Капетингах она почти не функционировала. Фактическая и правовая независимость вассалов всех уровней не позволяла королю иметь доступ к ресурсам, которыми они располагали. Мы видели, что Людовик VI и особенно Людовик VII начали добиваться от крупных вассалов принесения оммажа, более регулярной службы, поддержки своих главных решений и даже вмешиваться в конфликты между территориальными князьями и их людьми. Филипп продолжил эти усилия, всемерно используя возможности, предоставлявшиеся ему феодальным обычаем, который тогда как раз окончательно фиксировался и который он без колебаний менял, когда мог. На принцип, сформулированный Сугерием: король находится на вершине феодальной пирамиды, но сам не обязан никому приносить оммаж, — не раз ссылались, когда Филипп приобретал фьефы, обремененные оммажем другим сеньорам, и отказывался им подчиняться. Зато все прямые вассалы короля отныне беспрекословно приносили ему оммаж (в немалой мере это стало заслугой Людовика VII), их обязательства записывались и хранились в королевских архивах. Тем самым «дух баланса» проникал и в феодальную практику, в которой априорно преобладала противоположная ментальность. С другой стороны, король пытался устанавливать прямые связи с арьер-вассалами вопреки традиционному правилу «вассал моего вассала — не мой вассал», существенно ограничивавшему его влияние на феодальный мир. В 1209 г. ордонанс, изданный в Вильнев-сюр-Йонн, изменил правила наследования фьефов: младшие сыновья, которым, согласно родовой кутюме (coutume de parage), распространявшейся все шире, причиталась часть наследства, отныне должны были приносить оммаж не старшему брату, а непосредственно его сеньору. Это приостановило дробление, грозившее власти крупных сеньоров. Другой большой шаг в том же направлении был предпринят, когда последних обязали требовать от собственных вассалов сохранения верности королю. Опять-таки «дух баланса» побуждал власти немедленно пользоваться каждым усилением короля, составляя списки сотен вассалов, классифицируемых в порядке иерархии. Но установить или укрепить связи с вассалами было недостаточно, надо было еще сделать их действенными. Для этого Филипп использовал такую меру, как финансовое поручительство: друзья вассала, гарантировавшие, согласно сложившейся практике, что он выполнит обязательства, в случае его уклонения отныне должны были платить большой штраф. В самых эффектных из своих политических маневров Филипп прибегнул к судебным прерогативам, какими располагал в качестве сеньора. Имеются в виду знаменитые процессы, возбужденные в королевском суде, который заседал в качестве феодального, против Иоанна Безземельного и Рено Булонского. Первого вызвали в суд по жалобе Гуго де Лузиньяна, его вассала и арьер-вассала короля; второй, которого с серьезными основаниями можно было заподозрить в измене, отказался передавать в залог замок. Оба не явились, и суд приговорил их к конфискации фьефов, которая была произведена силой. В обоих случаях король использовал возможности, которые давало феодальное право, но которые почти никогда не применялись против могущественных вассалов и, во всяком случае, по-настоящему не рассматривались. Эти приговоры, хоть и были по сути хитрыми уловками ради решения проблем, мириться с которыми было уже невозможно, демонстрировали силу того, кто посмел их вынести. Еще более ярко это новое соотношение сил сюзерена и вассала проявилось в отношениях короля с более мелкими сеньорами, которым приходилось принимать обязательство пускать его в свои замки, испрашивать его позволения на вступление в брак и вообще действовать только с его одобрения. Независимость феодалов исчезла не только в королевском домене, но и в очень обширной зоне капетингского влияния, отныне распространившегося за Луару, до Роны, границ Лотарингии и Фландрии. Феодальные вложения и доходы Далекий от мысли сокращать численность вассалов ради увеличения домена как такового, что могло бы казаться более выгодным, Филипп использовал рост ресурсов, чтобы раздавать новые фьефы. Земли, конфискованные после завоевания Нормандии, были в массовом порядке распределены среди «верных» (которые бывали не столь уж верными, как Рено Булонский), как и некоторое количество владений, принадлежавших короне или специально купленных. Но самым поразительным феноменом, возможно, было создание многочисленных рентных фьефов, позволявших королю заручаться службой вассала в обмен на ежегодные выплаты за счет того или иного коронного дохода. В реестрах зафиксировано более пяти тысяч ливров, выплаченных в качестве такой ренты (впрочем, это не огромная сумма, если сопоставить ее с королевскими доходами). В большинстве случаев такие уступки служили платой за верность или хотя бы нейтралитет тем сеньорам, которых могли переманивать к себе на службу Плантагенеты. Почти половина из записанных пяти тысяч ливров была отправлена во Фландрию — место, где соперничество династий было особо острым. Рентные фьефы жаловали и французским рыцарям, вступавшим в королевскую армию, но такая возможность укрепить вооруженные силы не использовалась в широком масштабе — несомненно, потому, что этому слишком мешало традиционное ограничение срока службы. На самом деле королевская власть, несмотря на все усилия по укреплению связей и фиксации обязательств, по-прежнему не очень-то могла решить задачу, ради которой изначально создавалась феодальная система, — составить армию. В 1214 г. Филипп, несмотря на чрезвычайную ситуацию, смог собрать в обеих своих армиях во Фландрии и на Луаре всего две тысячи рыцарей; вассальных обязательств было, конечно, еще недостаточно, чтобы удержать этих рыцарей в войске на все время, необходимое для военных действий, — несколько месяцев, а то и несколько лет. Вероятно, с тех пор чтобы набрать полупостоянную армию стали предпочитать другие решения, — такие как платная служба рыцарей, что отражено в многочисленных счетах за 1202–1203 гг. Наконец, Филипп Август стал притязать на такие прерогативы феодального сеньора, для навязывания которых его предшественники были недостаточно сильны, — право получать рельеф при передаче наследства и осуществлять опеку над несовершеннолетними наследниками, которая сопровождалась охраной фьефа. Это право позволяло сеньору управлять фьефом во время несовершеннолетия наследников, получать от этого существенный доход и контролировать вступление наследников в брак. Применительно к крупным княжествам оно открывало политические перспективы первостепенной важности. Ведь высшая знать королевства в царствование Филиппа пережила настоящую гекатомбу, прежде всего из-за крестовых походов, в которых она участвовала в массовом порядке и которые были до крайности гибельными. Многочисленные рельефы, опека и охрана больших фьефов принесли королю солидные прибыли. Рельеф платили либо деньгами (выше приводились огромные суммы, выплаченные Фландрией или Плантагенетами), либо в форме уступок территорий. Королевский домен расширился за счет Монтаржи и Жьена, отнятых у графства Неверского, за счет Амьена, Руа, Мондидье и Перонна, которые уступили граф Фландрский и графиня Вермандуа, за счет Ланса, полученного от графа Булонского, и за счет других городов. Что касается охраны, то после Четвертого крестового похода, не без больших политических и финансовых выгод, Филипп осуществлял охрану Шампани (более двадцати лет) и Фландрии. Жесткие условия, какие он поставил при заключении брака Жанны Фландрской, в конечном счете подтолкнули ее мужа к восстанию, хоть его и выбрали в расчете на покорность. В тот же период король после смерти Артура Бретонского взял под контроль Бретань и поместил ее под опеку, позволившую ему посадить на ее престол герцогов из рода Капетингов. В целом методы, какими Филипп обеспечивал себе выполнение роли сеньора, принесли ему значительные финансовые, политические и территориальные приобретения.Города
Коммуны Сомнениям, какие могло вызывать отношение Людовика VI и Людовика VII к желанию горожан освободиться, применительно к Филиппу Августу места нет: этот Капетинг явно испытывал больше симпатии к коммунам, чем все остальные. Всего два враждебных к ним акта, а именно упразднение коммун в Ланской области в 1190 г. и в Этампе в 1199 г., связаны с совершенно особыми ситуациями и немного значат в сравнении с двумя десятками хартий, какие он предоставил городам и бургам Иль-де-Франса, Пикардии, Нормандии, и еще большим числом коммун, привилегии которых он подтвердил, а то и расширил. В отличие от предшественников, он без колебаний учреждал коммуны даже в королевском домене. Городам (например, Парижу), не получившим коммунальной хартии, он давал существенные привилегии, особо выгодные для купцов и для организаторов ремесленного производства. Эта политика тем поразительней, что Филипп был последним Капетингом, жаловавшим в домене коммунальные хартии, если не считать единственной, которую в начале царствования выдал Людовик VIII. На его царствование пришлись одновременно апогей и окончание королевского покровительства городскому самоуправлению. Эту щедрость Филиппа можно понять, только соотнеся ее с политическим контекстом. Прежде всего надо сказать, что за век облик коммун сильно изменился. Они уже мало походили на революционные организации, какими были для многих современников Ланского дела. Прочно попав в руки патрицианских династий, которые обладание властью делало консервативными, они все реже сталкивались «в лоб» с церковными властями или с феодалами. Участие (конечно, недолгое) именитых горожан в регентском совете и в комиссиях по контролю за местными чиновниками, какого пожелал Филипп в 1190 г., выдало патент на благонадежность всей их социальной группе и ясно показало, какое доверие существовало в отношениях между королем и горожанами, проявляясь в тысяче мелочей. Уступки Филиппа объясняются и нуждой: почти все города, получившие их, находились на северной или западной окраине королевства, под фламандской и англо-нормандской угрозой. Укрепленные, собиравшие ополчение, приверженные королевской власти, эти города образовали защитный пояс, военное значение которого не следует недооценивать. Что касается городов Нормандии и Артуа, задача состояла в том, чтобы после завоевания снискать их расположение. Кстати, показательно, что после Бувина, когда король уже не нуждался в коммунах, он больше почти не жаловал хартий. С другой стороны, коммуны в обмен на свои вольности предоставляли ренты и тысячи сержантов. Эти ресурсы, которые королевские служащие тщательно инвентаризировали и которых неуклонно требовали, были очень важны для монархии. Зато можно отметить, что Филипп был не щедрей предшественников по отношению к сервам домена, которых почти не освобождал, притом что предоставлял вольности крестьянам, селившимся в деревнях, которые он основывал. То есть в отношении к деревне он придерживался линии поведения предков. Развитие торговли и городов Впрочем, королевское благоволение к городским правящим группам проявлялось не исключительно в политических реалиях: Филипп продолжал и развивал меры по покровительству торговле и ее поощрению, предпринятые Людовиком VI и Людовиком VII. Возможности, которые он предоставил купцам, с расширением его власти получили крупный масштаб. Он несколько раз гарантировал купцам, зависимым от князей, с которыми воевал, особенно фламандцам, что они не пострадают от враждебных действий. Он также старался, чтобы политические потрясения не причинили вред торговле аннексированных областей, прежде всего Нормандии. Парижские купцы, несомненно, по-прежнему имели преимущество в торговле с руанцами, но король в своих решениях явно стремился к компромиссам и компенсировал нормандцам ущерб, например, сняв эмбарго на торговлю с государством Плантагенетов или разрешив ростовщикам Фалеза и Кана взимать непомерные проценты. Все эти знаки внимания вполне показывают, какую ответственность мог сознавать король перед торговыми сетями и социопрофессиональными группами, достигшими тогда зрелости, и сколь огромный интерес он должен был к ним испытывать. Ведь царствование Филиппа приблизительно совпало с первым подъемом западноевропейской торговли и, в частности, шампанских ярмарок, а его политический триумф — с развитием торговой динамики Северной Франции, которой итальянцы еще всерьез не угрожали. Это была также эпоха, когда наблюдатель, сколь бы близорук он ни был, уже не мог не заметить роста городов и когда власти начали принимать значительные меры для упорядочения этого роста. Строительство городских стен, охвативших более обширную площадь, — как это было сделано в Париже — было в глазах монарха наиболее срочной из таких мер. Париж Впрочем, если Париж все более явно играл роль столицы, это символизирует растущую значимость городского фактора и интерес, какой к нему проявлял Филипп Август. Напомним некоторые из его решений, укрепивших первенство Парижа. В политическом плане закрепление архивов на постоянном месте, строительство Лувра, тенденция к образованию центральной администрации, которая бы действовала в отсутствие монарха, — все это были шаги, важные для возникновения постоянной столицы. Усиливалась и экономическая роль Парижа, л также позиции «ганзы речных купцов», объединявшей крупных купцов: она добилась монополии на ввоз вина (основного продукта питания, перевозимого по Сене), потом контроля над замерами вина и зерна, а когда король доверил ей сбор налогов в городе, она стала подобием муниципалитета. Король и горожане совместно проводили большие работы: были оборудованы крытые рынки, ставшие центром нового торгового квартала, усовершенствован порт, строительство новой окружной стены сделало Париж первоклассной крепостью, мощение улиц и разные градостроительные операции улучшали качество жизни. Наконец, именно при Филиппе Августе был основан университет, с его привилегией независимости от епископального канцлера и от королевской юстиции, с его институтами (коллегиями, факультетами, в состав которых входили магистры и школяры), с самим его названием. Таким образом, разные составные части столицы постепенно обретали свою форму — в том же темпе, в каком росло королевство и утверждалась власть короля. Евреи Наконец, нельзя говорить о городской политике Филиппа Августа, не коснувшись его отношений с евреями, образовавшими во многих городах домена крупные и экономически очень активные группы. Традиционно находясь под личным контролем и покровительством короля, они специализировались на процентных ссудах, которые христианам в принципе были запрещены. Судя по результатам расследования, проведенного по всему домену в 1208 г., неоплаченные им долги составляли не менее 250 тыс. ливров, то есть превышали годовой бюджет королевства. Первые Капетинги и особенно Людовик VII брали с этого золотого дна свою долю в обмен на покровительство. Впрочем, так же поступали и другие крупные сеньоры, например граф Шампанский или король-герцог Нормандии; они спорили из-за евреев, обвиняя друг друга в их переманивании. Однако Филипп Август в самом начале царствования порвал с этой традицией корыстной терпимости: то ли из принципа, то ли из слепой алчности, а может быть, чтобы угодить парижским купцам, он арестовал всех евреев домена, а потом изгнал их, предварительно вынудив заплатить огромный выкуп (более 30 тыс. ливров, согласно одному хронисту), и конфисковал их имущество. Долговые обязательства перед ними были аннулированы, но пятую часть присвоил король (1180–1182). В 1198 г. он изменил политику; евреи были призваны обратно, поставлены под защиту, их обложили специальной тальей и пошлиной за регистрацию сделок. Последние были регламентированы, и введена максимальная процентная ставка — 43 %. Организованная таким образом эксплуатация евреев принесла в 1217 г. сумму в 7750 ливров.Церковь
В истории царствования Филиппа Августа отношения с церковью занимают менее важное место, чем при его предшественниках. Для папства, власть которого процветала, времена стали менее беспокойными, а проблемы реформирования клира и захвата мирянами церковного имущества нашли в целом приемлемые решения. Главной религиозной проблемой отныне стала проблема ереси, касавшаяся в основном Юга, еще очень далекого; мы видели, что Филипп Август, почти не приняв участия в радикальном искоренении катаризма, далеко не остался равнодушен к нему. Время, когда королевская власть начала пожинать плоды его выжидательной политики, пришло только к моменту его смерти. Отношения с папами были активными, часто даже трудными (они могли обостряться из-за характеров обоих партнеров), но они ни разу ни приобрели столь драматичного оборота, как во времена схизм или борьбы за реформу клира. Традиция тесного сотрудничества, какое поддерживали обе власти со времен Людовика VI, могла выносить нелегкие испытания, не прерываясь: так произошло поочередно в трех случаях. Перваянескончаемая история — развод с Ингебургой, которого упорно добивался Филипп и в котором Иннокентий III ему отказывал, — отравила эти отношения на десять лет (1193–1203) и достигла кульминации в 1200 г., когда королевство почти на год попало под интердикт. Долгий конфликт с Иоанном Безземельным стал еще одним поводом для трений с Иннокентием III, который выступал в качестве посредника, пытаясь защитить английского монарха, когда тот, попав в трудную ситуацию (1204, 1213 г.), заявлял, что подчиняется Риму. В 1212–1213 гг., наоборот, папа, возмущенный до предела церковной политикой Иоанна, призывал Филиппа вторгнуться в Англию. Французский король пользовался призывами к войне и отлучением своих врагов, но отказывался делать какие-либо уступки, когда папа убеждал его быть мягче с Плантагенетом. Наконец, борьба за императорскую корону после смерти Генриха V внесла на десять лет (1198–1208) раздор в отношения между Иннокентием, который поддерживал Оттона Брауншвейгского, и Филиппом, который видел в Оттоне прежде всего родственника и естественного союзника Плантагенетов и поэтому объявил себя сторонником Филиппа Швабского. Когда после смерти последнего Оттон, наконец коронованный, в 1210 г. сбросил маску и нарушил все обещания, данные папе, тот мог только присоединиться к французскому королю, чтобы поддержать молодого Фридриха II, избранного с их помощью и на их деньги в 1212 г. Одним из главных последствий битвы при Бувине стала окончательная победа Фридриха. И одна из причин этого конфликта заключалась в том, что французский король теперь впервые желал оставить за собой возможность принимать участие в выборах императора, воздействуя на них и расходуя свои деньги в пользу одного из кандидатов; это было еще одним свидетельством международной значимости, какую приобрела капетингская монархия. Отношения с французской церковью стали мирными, с тех пор как была гарантирована свобода епископских выборов. Филипп никогда (кроме двух случаев в начале царствования) не вмешивался в их ход, порядок которого он четко описал в ордонансе 1190 г. Он ограничивался тем, что получал доход от регального сбора, отныне введенного в жесткие границы. Тем не менее очень похоже, что большинство кандидатов и так были для него приемлемы, так что ему не было необходимости оказывать давление. Трения с духовенством возникали скорей из-за мирских проблем — расширения юрисдикции церковных судов, которые далеко не ограничивались духовными делами, и все более активно соперничали с мирскими судами, или нежелания некоторых епископов направлять воинов в королевское войско. Наконец, на отношениях между королем и его епископами непосредственно сказывались конфликты с Иннокентием III: те из епископов, кто выполнил интердикт 1200 г., были изгнаны со своих кафедр, к величайшей выгоде королевской казны, присвоившей их доходы; однако огромное большинство приняло сторону короля, и это показывает, что политика невмешательства в выборы не ослабила верности епископата. В общем, по меркам отношений между церковью и государством в Средние века, часто напряженных, во всем этом не было ничего экстраординарного. Королевство, какое, умерев, оставил Филипп Август, сильно изменилось по сравнению с тем, какое ему завещал отец. Даже если реабилитировать деятельность последнего, как мы это сделали, все равно нельзя не признать, что царствование Филиппа действительно было «временем перемен», каких капетингская Франция еще не знала. Прежде всего произошло территориальное изменение, превратившее домен Капетингов — почти такое же княжество, как другие — в одно из первых государств Западной Европы: выросшая в несколько раз территория, богатые ресурсы, власть, признаваемая до самых границ королевства, авторитет победителя и мудреца — вот козыри, которые Филипп передал преемникам. Перемена затронула и формы управления: одновременно были созданы «административная монархия» и «феодальная монархия», и отныне у королевской власти были инструменты, необходимые для управления большим государством: всецело преданные администраторы, обладавшие «управленческой культурой» (еще слабо специализированной, но очень однородной), элементарные бухгалтерские и архивные методы, укрепившиеся юридические отношения с вассалами, жесткое ограничение самостоятельности церкви. Тем самым Франция Филиппа Августа заняла свое место в мощном движении, направленном на возрождение государства и воодушевлявшем Европу конца XII в. Третья большая перемена, следствие обеих предыдущих, относится к геополитическому равновесию в Европе: «империя Плантагенетов» была разрушена, Священная Римская империя побеждена и разорвана на части, силу южных государств подорвали крестовые походы; Франция, новичок в кругу великих держав, воспользовалась их упадком. Но утверждение капетингской монархии знаменовало также переход от «времени княжеств», каким был XII в., ко «времени монархий»: герцогств и некоторых графств, которые стали настоящими государствами, соперничавшими в богатстве и прежде всего в организации с государством Капетингов, которое зависело от союзнических отношений с ними, король мог больше не опасаться; более того, он взял их под контроль, включил в королевский домен (Нормандию, Анжу, а вскоре и Пуату), посадил на их престолы дружественные или родственные династии (Фландрия, Бретань) либо с помощью дипломатических и матримониальных маневров подготовил их присоединение (Шампань, Тулузское графство). Тем самым монархия в конечном счете воспользовалась силой, приобретенной княжествами, которые в какой-то момент поставили ее под угрозу. Впрочем, утверждение капетингской монархии при Филиппе Августе было всего лишь политическим аспектом феномена, затронувшего также экономику, демографию, культуру и искусство. Во всех сферах на его царствование пришлось преобладание Северной Франции, в первой четверти XII в., возможно, достигшее высшей точки. Большие расчистки, демографический скачок, процветание городов и их городской элиты — все эти явления преобразили тогда и другие регионы, по там приобрели особо динамичный характер. Домен и его окраины (Нормандия и особенно Фландрия и Шампань) были тогда жизненными центрами торговли и промышленного производства северной половины Франции; их купцы уже вступили в регулярные контакты с итальянцами, но еще не уступили последним господство в финансовых и торговых операциях. Столь же исключительным был этот период в сфере искусства, ученой культуры или культуры знати: готическая архитектура соборов Иль-де-Франса, схоластическое мышление парижских университетских ученых, «искусство жить» княжеских дворов (от турнира до романа) стали образцами для всей Западной Европы, Не забудем ни о рождении столицы, которой предстояло стать первой в Европе, ни о расселении французской знати на Юге, как и на Ближнем Востоке, где она создавала все новые королевства и княжества, столь же недолговечные, сколь и блистательные. Царствование Филиппа Августа, время перемен, было для королевства также временем распространения влияния на Западную Европу и даже за ее пределы.Глава IV Религиозная и культурная жизнь во Франции в XII в. (1108–1223) (Бернар Мердриньяк)
Социальные перемены, которые после восшествия на трон династии Капетингов стали ощутимыми для клириков, ускорились в течение XII в., когда население росло, а производство и торговля развивались. Отчасти по инициативе папства (окруженного монастырскими реформаторами) и, как ни парадоксально, вопреки притязаниям монахов, желавшим, ссылаясь на совершенство своей жизни по уставу, направлять верующих, задачу руководства зарождавшимся христианским обществом постепенно перехватило белое духовенство. Значит, ему следовало понемногу прививать этому обществу правила поведения. Упор на сакраментальных возможностях, присущих священническому сану, дает ключ к новозаветному христианству, которое насаждали реформаторы. Как показал Андре Воше, культ креста и освященной гостии, крестовые походы и ностальгия по начальным евангельским временам, побуждавшая людей уходить в отшельники, в то же время были и проявлениями христианства Воплощения. В конце XII в. синодальные статуты Эда де Сюлли, епископа Парижского (1195–1208), предписывали возносить освященную гостию. Так разрешилось противоречие между евангелическими чаяниями мирян и их критическим отношением к нравам белого духовенства: поскольку для того, чтобы тело Христово предстало глазам верующих, оказалось необходимым посредничество священника, это укрепило сакральность его сана.Проведение «Григорианской» реформы
Бесспорно, что между сторонниками движения за возрождение монастырей, которое происходило в предыдущем веке, и приверженцами реформы церкви, требовавшими для нее полной свободы действий (libertas ecclesiae) и желавшими освободить ее от опеки королей и сеньоров, существовала духовная преемственность. Известно, что Эд де Шатильон, ставший папой под именем Урбана II (1088–1099), прежде был клюнийским монахом и в своих действиях всегда ссылался на «монашеское призвание». Подчиненная напрямую Риму клюнийская конгрегация, оказывавшая влияние на весь латинский христианский мир, конечно, способствовала все большей его централизации вокруг Рима, хотя бы насаждением культа святого Петра. Своими молитвами эти богомольцы поддерживали нравственное реформирование клира. Но они были также косвенно втянуты в борьбу за инвеституру, потому что привилегия непосредственно подчиняться Святому престолу вызывала частые конфликты из-за юрисдикции. На Юге, где орден располагал многочисленными сторонниками — родственниками и клиентами аббатов, половину григорианских епископов составляли выходцы из Клюни. Действительно, для реформаторов первым шагом к возрождению белого духовенства было нравственное совершенствование епископата, а это предполагало, что под вопросом окажется его политический статус. Во Французском королевстве Капетинги сохранили за собой прямые прерогативы приблизительно на треть всех епископств, а епископства, зависимые от феодалов, предоставляли королям некоторые косвенные преимущества. Становлению феодальных монархий предшествовала духовная унификация папского христианства. Римская церковь уже становилась «главой и осью всех церквей». Однако во Франции борьба за инвеституру не имела той остроты, как в соседней империи. Чтобы не сражаться на несколько фронтов, папство было вынуждено сдерживаться и не задевать королевскую власть. Скрытая напряженность, какая пришлась на царствование Филиппа I и начало царствования Людовика VI, дала время обеим сторонам найти почетный выход из ситуации. За полвека последняя значительно изменилась. Благодаря усилиям для ее прояснения, особенно со стороны Ива Шартрского, принятый modus vivendi позволил епископам королевства в основном сохранить причастность к светской власти, без чего «служителям Божьим пришлось бы отказаться от исполнения своих административных обязанностей и удалиться от мира», как отметил Ив Шартрский. Разделение духовного и светского, которое в конечном счете навязал епископат, служило оправданием для «новой формы» королевской власти. Однако монашество по-прежнему считалось образцом совершенства: главные столпы капетингской власти (Сугерий, Петр Достопочтенный, Бернард Клервоский) были бенедиктинскими аббатами! Бернард Клервоский непрестанно вмешивался в выборы епископов или аббатов. «Презрение к миру» (профанному), какое демонстрировали белые монахи, шло вразрез с клюнийским пониманием духовности. В 1124–1125 гг. Бернард Клервоский резко критиковал Клюни. Этот орден только что, в период, когда его аббатом был Понс де Мельгей (1109–1122), пережил кризис, который аббату Петру Достопочтенному (1122–1156) удалось уладить «благоразумно» (в бенедиктинском понимании[167]). Конечно, Клюни был вынужден отказаться от ведущей роли в христианском мире и ограничиться управлением теми землями и монастырями, которые от него зависели. Тем не менее орден остался центром обширной сети аристократических взаимосвязей. Бернард обличал также упадок аббатства Сен-Дени. В 1127 г. он побудил Сугерия заняться исправлением нравов этого монастыря. Когда Сугерий (ум. 1151), сторонник разделения духовного и светского, был аббатом Сен-Дени, в скриптории аббатства происходила окончательная доработка псевдоисторических документов, заложивших основы королевской идеологии в период утверждения власти Капетингов. В 1130 г., когда началась схизма Анаклета, Бернард Клервоский на соборе в Этампе возглавил партию сторонников Иннокентия II, к которой убедил присоединиться Людовика VI и французскую церковь. Восемь лет, повысив тем самым роль своего ордена, Бернард ездил по Европе и боролся за победу того папы, которого считал законным. Своего пика его влияние достигло в 1145 г., когда папой был избран цистерцианец Евгений III (1145–1153), чьим духовным наставником считал себя Бернард (см. трактат «Рассуждения об умении хорошо управлять»). Когда григорианские реформаторы обличали светскую инвеституру, это относилось ко всем церковным бенефициям, включая скромные сельские церкви: сакральное не должно было зависеть от феодального общества. В результате на рубеже веков зародилось движение за реституцию «частных» церквей и доходов от них, которыми сеньоры — были они потомками основателей или нет — располагали, на их взгляд, по наследственному праву. Разумеется, поскольку отношения зависимости в феодальном обществе представляли собой сложную и запутанную систему, на то, чтобы такая передача стала реальностью, понадобилось несколько поколений. Эти реституции оказались выгодны, как правило, не столько епископам, сколько аббатствам; даже цистерцианцы с конца XII в. в конце концов начали извлекать из них пользу. Впрочем, как в ситуации значительного роста дарений отличать такие «реституции» от традиционной практики завещаний в пользу церковных учреждений в качестве страховки от неприятностей на том свете? Чтобы на самом деле произошла «реституция», владельцы церквей должны были глубоко проникнуться пафосом обвинительных речей реформаторов. Тем, кто испытывал соблазн воспротивиться, епископат часто угрожал отлучением (и эта угроза почти всегда исполнялась). Еще более эффективным оружием был интердикт, потому что он приостанавливал все богослужения на территории, подвергнутой этому наказанию. Когда интердикт обрушивался на князей и крупных сеньоров, он мог побудить верующих выступить против своих правителей. В течение всего XII в. никто из капетингских королей, независимо, кстати, от благочестия, не избегнул таких церковных санкций. Церковь стремилась навязать светской власти концепцию брака, соответствующую монашеским представлениям. Под стать отлучению Филиппа I в 1092 г. был и интердикт, который Иннокентий III в 1200 г. наложил на королевство Филиппа Августа в наказание за повторный брак короля. На самом деле, как подчеркнул Жорж Дюби, в течение XII в. меж собой боролись две концепции брака. Моногамия, которую проповедовали клирики, не отвечала интересам аристократии. Ведь свадебные обряды, отличавшие дозволенные союзы от всех остальных, гарантировали передачу наследства только законным детям. Но возможность развода («прелюбодеяния», на взгляд клириков) оставалась необходимой для мирян, чтобы продолжить род или при случае заключить более выгодный брак. В такой системе представлений увязывание николаизма с симонией, какое совершали реформаторы, выглядит логичным. Заставляя белое духовенство соблюдать монастырскую дисциплину, его полностью отсекали от феодальных патрилинейных родов. Но, чтобы этот разрыв не ослабил церковь, она в то же время должна была контролировать семейные структуры феодального общества. Ужесточение канонических законов о «кровосмешении», не допускавших браки между кровными родственниками (в широком смысле, то есть подразумевалось и символическое родство между крестными и крестниками), касалось всех знатных семейств. Когда по этим соображениям брак аннулировался, дети становились незаконнорожденными. Исключать бастардов из числа наследников начали в некоторых регионах именно с XII в. Дискриминация, какой подвергались дети священников, постепенно распространилась на всех детей, рожденных вне законного брака. К 1120 г. стать епископом мог только законнорожденный. Все бастарды, независимо от того, были ли их родители клириками или нет, исключались из рядов духовенства; однако они могли стать монахами или регулярными канониками, что позволяло обойти закон, рукоположив впоследствии священника в монастыре.Черное духовенство и белое духовенство
Отождествляя церковь с духовенством, церковные реформаторы рыли ров, отделявший клириков от христианского населения. Папство опиралось на монахов, чтобы противостоять епископату, слишком зависимому от монаршей власти. В свою очередь епископам, которые боролись с николаизмом и симонией и желали разделять духовное и светское, пришлось уточнять, как они относятся к неформальному стремлению некоторых особо ревностных мирян к «апостольской жизни». Последние, убежденные (на том же основании, что и монахи, сторонники «ангельской жизни»), что христианство, если хочет сохраниться, должно «вырваться из-под власти мира и материи», как сформулировал Андре Воше, все-таки не намеревались запираться в монастыре — прихожей рая, отрезанной от внешнего мира. Ведь чтобы гарантировать себе спасение, верующие ждали от служителей Божьих свидетельства, созвучного Евангелию. Первенство монашеского совершенства под сомнение не ставилось, но клюнийскую модель стал вытеснять идеал sequela Christi («следовать обнаженным за обнаженным Христом»): мол, право проповедовать имеют только те, чье поведение соответствует слову Божию. Именно благодаря впечатлению, что их дела соответствуют словам, бродячие проповедники конца XI в., откровенно бравшие за образец восточных отцов-пустынников, основателей монашества, и увлекали за собой толпы. Здесь функцию «пустыни» выполняли леса (со всем грузом смутной сакральности, обременявшим их). В пределах Мэна и Бретани вокруг сильных личностей, таких как Петр де л’Этуаль (ум. 1114), Бернард Тиронский (ум. 1117), Виталий из Савиньи (ум. 1122) или Роберт д’Арбриссель (ум. 1116), собирались группы отшельников… Другие вдохновители этого отшельнического движения осмеливались даже подстрекать народ к выражениям антиклерикальных чувств. Пусть ни один из отшельников как будто не вышел за пределы ортодоксии, но все-таки сфера их влияния уже предвосхищала аудиторию, к которой в следующие десятилетия обратились еретики. Так, странствующий монах Генрих Лозаннский (или Клюнийский) находил учеников («генрикианцев») именно на Юге, куда в 1145 г. пришел спорить с ними Бернард Клервоский. Пусть отшельничество существовало во все времена, но взлет его популярности во второй половине XI в. совпал с подъемом волны «народного» христианства. Мы видели в предыдущей главе, что, как и основание Фонтевро в 1101 г. Робертом д’Арбрисселем, эволюция цистерцианского ордена отражала твердую решимость части церковной иерархии восстановить контроль над этими движениями, с трудом поддававшимися управлению. Маленькая отшельническая община, которую собрал Роберт Молемский (ум. 1111), захирела бы, если бы в 1112 г. в нее не явился Бернард де Фонтен во главе трех десятков знатных молодых людей из своего рода. Этот приток новых членов рыцарского происхождения позволил «новому монастырю» в свою очередь создать филиалы. Поочередно возникли аббатства Ла-Ферте (1113), Понтиньи (1114), Моримон и Клерво (1115) в семейном имении Бернарда, ставшего его настоятелем. В ответ на централизацию клюнийского ордена цистерцианская конгрегация объединила дочерние цистерцианские аббатства Хартией милосердия (в 1119 г. ее утвердил своей буллой Каликст II), которая оставляла им обширную автономию, но в качестве фактора единства вводила ежегодные (с 1116 г.) собрания генерального капитула. Опять же, в отличие от Клюни, Сито поначалу не стремился выйти из-под епископской юрисдикции, но по мере усиления власти генерального капитула права епископата сокращались, а после смерти святого Бернарда папство даровало цистерцианским монастырям широкие привилегии прямого подчинения Святому престолу. Благодаря необыкновенному престижу Бернарда Клервоского (1090–1153) цистерцианская конгрегация распространилась по королевству (и по всему христианскому миру); каждый монастырь был автономен, но сохранял связь с каким-то из пяти головных аббатств. Одним только Клервоским аббатством было создано шестьдесят восемь дочерних обителей. Поскольку цистерцианцы решили сами эксплуатировать свои земельные угодья (приток пожертвований иссякал), они разработали для этого самые эффективные методы (например, скотоводства). Многочисленные конверзы избавили клиросных монахов от физического труда, работая на ригах, удаленных от аббатств, процветание которых они обеспечивали. Тем самым цистерцианцы включились в торговую, меновую систему наемного труда, утратив первоначальный аскетизм. Стремление привести образ жизни каноников (имевших попечение о душах верующих) в соответствие с образом жизни монахов стало одной из причин, по каким белое духовенство хотело вновь взять руководство церковью в свои руки. Ранняя (с первых десятилетий XI в.) регуляризация соборных капитулов была специфичной для Юга. На деле для перехода к общинному образу жизни, а тем более к обязательной бедности требовалось пройти несколько стадий. Неизбежным следствием этих реформ стало более эффективное управление достоянием капитулов, оказавшихся хозяевами крупных сеньорий. Как правило, в епархиях северной части страны (кроме епархии Се) духовенство соборов или коллегиальных церквей держалось за свои прерогативы. То есть регуляризации здесь не сопутствовала каноническая реформа. Чаще всего довольствовались возвращением Каролингского устава, в лучшем случае украсив его выдержками из святого Августина. Однако некоторые канонические общины, взыскуя строгости и подлинности, во второй половине XI в. приняли устав святого Августина. Его называли Ordo antiquus [Старым уставом (лат.)], когда сторонники ordo novus [нового уставa (лат.)], такие как каноники Шпрингирсбаха-на-Мозеле в начале XII в. или вслед за ними, в 1120 г., премонстранты, добавляли к нему Ordo monasterii [Монастырский устав (лат.)], тоже приписываемый святому Августину. Регулярные капитулы, поначалу из-за разного происхождения и из-за расхождения в целях не имевшие меж собой никакой организационной связи, в итоге объединились в конгрегации — парижскую Святого Виктора (основанную в 1108 г. Гильомом из Шампо) или авиньонскую Святого Руфа (основанную в 1039 г., а через полтора века уже объединявшую шесть десятков приоратов). Каноники этой конгрегации, которых возглавил будущий папа-англичанин Адриан IV (1154–1159), вероятно, способствовали насаждению римского права в долине Рейна. С тех пор принадлежность к соборному капитулу часто (но не обязательно) становилась решающим фактором для доступа к должности главы епархии. Как кардиналы (с 1059 г.) назначали папу, так и соборные капитулы в XII в. повсюду брали избрание епископов исключительно на себя. Епископ тем меньше подчинялся политической власти, чем сильней становилась его зависимость от Рима. Мирян из коллегий выборщиков постепенно исключали, тогда как монахи, если они получили пребенды, по-прежнему участвовали в выборах. Клюнийцы присутствовали в Шартре, Орлеане, Труа, члены конгрегации Святого Виктора — в Париже, Шартре и Туре. В конечном счете сан епископа стал привычным венцом карьеры для священников знатного происхождения, которые резервировали за собой доступ в число каноников. То есть реформа не уничтожила аристократических прерогатив на епископский сан — отныне они распространялись на внутренние церковные процедуры. В течение века улучшился и сам контингент епископов. Во многих епархиях (Лиможе, Ангулеме, Сенте, Пуатье, Каркассоне) можно обнаружить клюнийское влияние. В Провансе в первой половине XII в. три епископа были выходцами из коллегиальной церкви Сен-Руф, семерых дал орден Клюни и шестерых — Сен-Виктор в Марселе; соборные капитулы выдвинули из своего состава восемь епископов для собственных соборов и шесть — для чужих. После того как результаты выборов утверждал митрополит, епископа помазывали, и он начинал отправлять власть при помощи сотрудников, чаще всего из состава капитула, который обеспечивал постоянство института. В важнейших епархиях в епископскую курию, возглавляемую канцлером (хранителем печатей) и казначеем (ответственным за финансы), входили клирики, способные составлять документы, какие были необходимы для централизованного управления епархией. По мере того как церковное судопроизводство отделялось от светского суда, оно делалось все сложнее. В северных епархиях Франции в последние десятилетия XII в. (Реймс, 1182 г.; Ле-Ман, 1191 г.) официал — сменяемый представитель епископа — разбирал дела, подсудные церковному суду (for), то есть в которых были замешаны духовные лица. Пострижение по указанию епископа означало вступление в состав духовенства и давало судебный и налоговый иммунитет. Таким образом, не все, кого постригли, желали стать священниками, — некоторые (как горожане-клирики в Реймсе) довольствовались малыми чинами, другие становились иподиаконами или диаконами (что предполагало целибат) и выполняли важные церковные обязанности, но при этом не будучи рукоположены в священники. С другой стороны, контроль епископа над своим клиром становился более ощутимым по мере восстановления функций архидиакона, одновременно «дублера» епископа[168] и видного члена капитула, иногда бравшего на себя руководство капитулом. Риск возникновения споров о подсудности уменьшало дробление епархий на несколько округов (архидиаконств и, на более низком уровне, деканств, в которые назначались архипресвитеры). На деле ситуация могла быть очень разной: то архидиакон не имел территориальной компетенции, то епархия включала несколько архидиаконств; в одном месте сохранились границы времен раннего Средневековья, в другом деление территории выглядит позднейшим. Это укрепление епархиальных структур явно приводило к росту епископских доходов (mense). Епископ в принципе должен был получать свою долю десятины с урожая и взимал налоги с приходских священников во время соборов или епископских «визитаций». Таким образом, пастырские заботы высшего духовенства по преимуществу сводились к более плотной опеке приходского клира. Сеть приходов в XII в. стала более частой также вследствие демографического роста и связанных с ним масштабных работ по распашке нови. Сельских приходов становилось все больше как в результате строительства новых деревень, так и в результате дробления крупнейших из прежних округов, происходившего в разном темпе. В городе расширение новых кварталов и развитие бургов приводили с запозданием к возведению новых второстепенных храмов в полноценных приходских центрах. Так, если в XII в. нужды верующих Санса обеспечивал только собор, то в 1220 г. город разделили на тринадцать приходов. Реформаторы хотели восстановить принцип власти епископа над приходскими священниками. По существу, этот клир мог оказаться в самых непохожих положениях. Каноники, которые должны были печься о душах верующих, иногда передоверяли службу в приходе клирикам-заместителям (недельным священникам, священникам-надзирателям, квартальным священникам). Это «низшее духовенство» и обеспечивало регулярность служб в соборе или коллегиальной церкви. Членов капитула могли посылать на службу во внешние приходы — имеются в виду obedenciers (или приоры) на Юге в XII в. Каноники коллегиальных церквей, часто привязанные к своим пастырским обязанностям, порой препятствовали созданию новых приходов. Приходское духовенство, имевшее незнатное происхождение, еще нередко было вынуждено передавать основную часть доходов от прихода светским или церковным «патронам». Это стало одной из причин накопления бенефициев в одних руках, которое клеймили соборы, и абсентеизма, который был его следствием. Когда приходские священники не жили у себя в приходе, они сваливали свои обязанности на викариев или капелланов. Поэтому одной из главных забот капитулов и епископов был контроль над тем, чтобы заведения хорошо функционировали, и чтобы непрерывно происходила подготовка мало-мальски образованных клириков. Традиционная монастырская школа, учитель которой старался «прояснять веру» (clarificare fidem) собратьев, уже не соответствовала ожиданиям церкви от новых форм образования, связанных с оживлением городской жизни. Признанной задачей учителя теперь была подготовка знатных каноников, тех, кого Доминик Бартелеми называет «высокопоставленными чиновниками постгригорианской церкви». Так, в епископальных школах, которые организовали тогда в расширявшихся городах (Анжере, Реймсе, Орлеане…), обучение стало специализированным. Между учителем, который давал, и учениками, которые получали, возникла экономическая связь: теперь учитель утверждал, что приводит доказательства с целью «удостоверить веру» (certificate fidem). Семь свободных искусств, традиционно считавшихся «служанками богословия», постепенно приобретали автономию. Учителя часто бывали бродячими. Росцелин (ум. около 1120), один из учителей Абеляра, какое-то время составлявший славу соборной школы Тура, прошел также через Компьень и Лош, прежде чем закончить карьеру и сане епископа Суассонского, а потом архиепископа Реймсского. В самом деле каждый из этих центров имел специализацию. В Лане учили богословию, В Орлеане изучали поэтов. В Монпелье с начала XII в. преобладала медицина. Шартрская школа, основанная в начале предыдущего века епископом Фульбертом, в XII в. была еще знаменита благодаря деятельности епископа Ива Шартрского, получившего образование в аббатстве Ле-Бек. Директор школы Бернард Шартрский (ум. около 1126) и его брат Тьерри, сменивший его, были бретонскими клириками, прошедшими через парижские школы. Своим юным ученикам, рабски копировавшим древних, Бернард Шартрский советовал писать так, чтобы тоже стать достойными подражания. В этот самый контекст и надо поместить (иначе оно будет превратно понято) сравнение, которое сделал этот грамматик и которое в XII в. часто повторяли, — якобы его современники по сравнению с древними были «подобны карликам, сидящим на плечах гигантов»: они видели дальше последних, но приписывали им всю заслугу. В Париже обучали риторике, диалектике и богословию. Отдельные учителя поселились на горе Сен-Женевьев, где преподавали у себя дома. Тем самым они не подпадали под юрисдикцию директора епископальной школы, которому епископ поручил выдавать «лицензию на преподавание». Они учили применять логическое умозаключение там, где авторитет Писания (и отцов церкви) не позволяет получить удовлетворительный ответ. В этой бурлящей интеллектуальной среде вспыхнул сбор об «универсалиях». Обладают ли «идеи» реальным существованием, как считало большинство «реалистов»? Или же это только слова, как утверждали «номиналисты»? В этой полемике все доступное ему искусство диалектики проявил Абеляр (1079–1142). Руководствуясь только разумом, он предложил новое решение проблемы «универсалий» и вышел за ее пределы, поставив новый вопрос, которому предстояло стать классическим: имели бы роды и виды значимость для мышления, если бы соответствующие индивиды перестали существовать? Сохранило бы смысл название розы, если бы роз больше не было? Тем самым он сумел ввести метод схоластического умозаключения (sic et non, «да и нет») в богословие. Для него был важней всего метод, так же как и сознание, что полностью постичь истину невозможно: «Во всем, что я излагаю, — писал он, — я не претендую дать определение Истины, я только высказываю свое мнение!» В основе этого интеллектуального «возрождения» XII в. лежало усвоение привычки к интенсивной духовной жизни, доступной тогда только элите. От Ансельма из Ле-Бека (ум. 1109) до Алана Лилльского (ум. 1203) целое течение общественной мысли, к которому сначала принадлежало лишь меньшинство, но которое в конечном счете добилось признания, утверждало, по словам Андре Воше: «Пусть разум и вера отнюдь не противостоят друг другу, но дополняют друг друга». Когда святой Ансельм определил веру как «ищущую разумения», это тоже означало совет христианам овладевать багажом знаний, который может стать им доступным по мере развития их разума. «Святое неведение» простых верующих было залогом их покорности духовенству. Но не следовало допускать, чтобы невежество «простецов» угрожало им соблазниться либо «еретической испорченностью», либо «чарами, какими пользуются христиане, не имеющие разумной веры», как проповедовал Морис де Сюлли, епископ Парижский (1160–1196). Вопреки ереси и суевериям, в отсутствие катехезы, проповедь должна была давать верующим азы религиозного образования. Парижский учитель Алан Лилльский в своем «Искусстве проповеди» дал ей определение, широко распространившееся: «Публичное и коллективное обучение нравам и вере во имя наставления людей, с опорой на разум и с обращением к авторитетным источникам». «Учителя-проповедники» (magistri predicatores) второй половины XII в., ярким представителем которых был богослов Фульк из Нейи, ученик Петра Кантора, сделали проповедь своей «главной задачей», отмежевавшись от эксцентричности отшельников и бродячих проповедников начала века, которые действовали без оглядки на какое-либо руководство приходом. Проповедь стала важной составляющей пастырских обязанностей реформированного епископата. На практике епископ был вынужден делегировать свою функцию религиозного просветителя приходским священникам. А ведь иерархи понимали, что этому клиру недостает образованности. С XII в. распространились тексты под названием «Искусство проповеди»; Морис де Сюлли позаботился (около 1170 г.) составить для своих священников сборник проповедей, кратко напоминавших о моральных обязанностях христиан. И руководство, написанное Аланом Лилльским, дошло до нас более чем в сотне рукописей! От Бернарда Клервоского до парижских учителей проповедники обращались к избранной аудитории (монахам, каноникам, студентам, священникам и церковным соборам), в обязанность которым вменялось донести их поучение до верующих.Влияние реформы на общество
Петр Ломбардский (ок. 1095–1160), «Сентенции» которого стали одним из основных руководств по религиозному образованию, делил христиан на majores («лучших», то есть клириков), обязанных по должности обучать «эксплицитному» знанию положений веры и проповедовать ее, и на minores («меньших», то есть мирян), которым достаточно имплицитной» веры. Знание жестов и формул, позволявших общаться с потусторонним миром, явно придавало клирикам престиж, терпеть посягательства на который они были мало склонны. После монастырской реформы и реформы белого духовенства в конце XII в. настало время реформировать воинское сословие. Резню (настоящую!), которой сопровождалось взятие Иерусалима в 1099 г., сочли равносильной крещению кровью (символическому), которое реабилитировало социальную группу, виновную во многих бесчинствах. Противоречие между насилием и христианской благой вестью нашло парадоксальное разрешение. На основе расплывчатого августиновского понятия «справедливой» войны (или, скорей, «достойной оправдания») реформаторы разработали концепцию «священной» («сакральной») войны. Так грубые milites превратились, не меняя статуса, в milites Christi («воинов Христа»), продолжавших вести с врагами церкви тот бой, какой монахи вели с дьяволом. Клирики и мирское воинство различались причастностью к насилию. Но в качестве «сотрудников священства»[169] феодалам и рыцарям надлежало сражаться во имя восстановления справедливости, что еще недавно было по преимуществу королевской миссией. В феодальном обществе, где отправление власти опиралось на вооруженную силу, рыцари (milites), подчиненные высшей княжеской и графской аристократии, постепенно сливались со знатью, пользуясь бесспорным повышением своей роли в обществе. По рассуждению Робера Фоссье, церковь таким образом осознала «[…] роль, какую сможет навязать этой военной аристократии. Если воинское ремесло — это служение (ministerium), оно может, должно быть освящено»[170]. Так в течение всего XII в. формировалось представление о рыцаре, миссия которого — защищать «народ Иисуса», и таким его изобразил Этьен де Фужер (ум. 1178), капеллан Генриха II Плантагенета, в своей «Книге манер». На самом деле это восхваление рыцарства относится более к окружению князей (графов Фландрии или Шампани, Плантагенетов), чем ко двору капетингских королей. Церковь признала эту миссию, согласившись принимать участие в церемонии посвящения в рыцари, которая первоначально была мирским ритуалом инициации молодого воина. Жан Флори считает, что во второй половине XII в. такие посвящения стали обычными. Освятив некоторые ритуалы перехода (такие как посвящение в рыцари) и даже некоторые социальные функции (такие как рыцарство), церковь рискнула морально поддержать конформистские аспекты набожности верующих XII в. Ведь мирское благочестие стремилось найти себе конкретное внешнее проявление. Умерщвление плоти, какое предписывала церковь, не создавало проблем в обществе, где угроза голода ощущалась постоянно. Периоды поста (Великий пост, четыре дня в начале каждого времени года, пятница, суббота, кануны литургических праздников…) становились все длинней. Зато, словно в качестве компенсации, карнавал и средопостье давали возможность для всех излишеств, какие только можно вообразить. Неизмеримое величие Господа (которому молились, соединив ладони, — типичная поза вассала) служит объяснением, почему верующие чаще всего обращались к Нему через посредство Его святых. Мощи служили залогом физического присутствия святых и обеспечивали их функцию посредников между Богом и людьми. На реликвариях клялись, их носили во время процессий, восстанавливая гармонию в отношениях между небом и землей, ради хорошего урожая или прекращения эпидемии. Практически никто не сомневался в реальности чудес. Напоминая об исцелениях, совершенных Христом в Евангелиях, случаи чудесного излечения вызывали у верующих ощущение «взаимной проницаемости ощутимого и сверхъестественного миров», которое, по Ле Гоффу, представляло собой характерную черту ментальностей феодальной эпохи. Храмы, где хранились эти святые мощи, обладали сильной притягательностью для верующих. Разница между местными или региональными святилищами и крупными центрами паломничества, привлекавшими множество паломников, как Сент-Фуа в Конке и прежде всего Сантьяго-де-Компостела, Рим и Иерусалим, состояла только в масштабах. По логике «дар — встречный дар» такая заслуга, как паломничество, побуждала Бога оказывать милости тому, кто его совершил. Кстати, Бог постоянно вмешивался в повседневную жизнь. Политические события, природные катастрофы, обстоятельства частной и коллективной жизни толковались как проявления имманентной справедливости. Борьба Бога и дьявола непрестанно шла на этом свете. В зависимости от заслуг верующих ожидали рай или ад на вечные времена. Однако доктринальная неопределенность в отношении периода, отделяющего (загробный) суд над индивидом от Страшного суда, давала все возможности верить в привидения, находящиеся в переходном состоянии «несмертности» (amortalite), по выражению Жана Делюмо. Исследования Жака Ле Гоффа о «Рождении чистилища»[171] показывают, что церковь старалась заменить дуалистическую схему (рай-ад), унаследованную от раннего Средневековья, «троичной схемой» того света. Сколь бы глубока ни была эта вера, термин «вера» в феодальном обществе определялся не как противоположность неверию — он противопоставлялся воззрениям «неверных». А «неверным» в то время на границах западного мира были мусульмане, с которыми сражались крестоносцы; внутри самого христианского мира неверными были евреи, положение которых, долгое время привилегированное, со времен Первого крестового похода стало ухудшаться. С тех пор статус «терпимого меньшинства», который имели еврейские общины, укоренившиеся в Лангедоке, а также в Шампани или Эльзасе, оказался под вопросом. Разве не были они «чужеродным телом» внутри христианского мира, единство которого в борьбе с исламом встало на повестку дня? Если рост антииудаизма на самом деле совпал с выдвижением программы дальнейшей христианизации верующих христиан, эти трения не мешали еврейским общинам процветать. Хотя они в основном состояли из нескольких семейств, но были многочисленны и широко разбросаны (в Иль-де-Франсе или Шампани их было по сто пятьдесят, в Бургундии — пятьдесят). Шампанские города (Шалон, Реймс, Труа…) были блистательными центрами их культуры. Сильные еврейские общины Юга (в Жероне, Марселе, Нарбонне…) поддерживали связь с единоверцами в Испании, находившимися в особо благоприятном положении. Таким образом, растущая нетерпимость, жертвами которой бывали евреи, пока проявлялась лишь спорадически. То тут, то там им навязывали традиционные знаки отличия. Евреям, которых все больше лишали возможности быть землевладельцами и рыцарями, оставались только денежные операции (необходимые для выдачи кредита), как раз когда церковь запретила ростовщичество. Злоба, какую христиане-заемщики питали к своим кредиторам-евреям, была тем сильней, что последним оставалось только давать взаймы на короткое время небольшие суммы под высокие проценты. От этого страдали представители самых скромных социальных категорий. Однако первое изгнание евреев из королевского домена, которое в 1182 г. предпринял Филипп Август, воспитанный в презрении к Израилю, произошло скорей ради улучшения сбора королевских налогов, чем по религиозным мотивам. Точно так же, когда IV Латеранский собор 1215 г. велел им одеваться иначе, чем их соседи — xристиане, «еще ладно, — подчеркнул Жан Делюмо, — что это не вошло в обычай».Зарождение ересей и возникновение профанной культуры
В полной мере осознать тот факт, что григорианские реформаторы уделяли особое внимание таинству Воплощения,можно лишь в контексте экономической «непосредственности» XII в., и отсюда понятно, что свобода людей и воздействие человека на природу имели тогда положительные коннотации. Эта реабилитация труда в период, когда углублялся ров между духовным и светским, оставляла мирян на профанной стороне этого рва, тогда как духовенство отдалялось от христианского населения. Обострялось противоречие между фактом обогащения церкви (восстановление десятины; парадокс экономического успеха цистерцианцев, давших обет бедности!) и ее неспособностью использовать новые формы хозяйственной деятельности. В этой атмосфере недоверия еретические движения открывали перед городскими трудящимися перспективы обретения духовного достоинства и признания их места в обществе. С поздней Античности и по XI в. еретические взгляды исповедовали лишь маленькие разрозненные группки людей, словно религиозное невежество массы верующих оберегало ее от доктринальных отклонений. Бурный всплеск активности, вдохновленной Евангелием, каким сопровождался прогресс григорианской реформы, дал, как мы видели, отдельным проповедникам, почти вышедшим из-под контроля, возможность распространять более или менее неортодоксальные идеи. Но эти группы крамольников выглядели немногочисленными, и их быстро обуздывали. После некоторого перерыва недовольство существующей церковью вновь набрало силу. Теперь от антиклерикальной полемики перешли к сомнениям в самом институте церкви. Ереси были характерны не только для южных областей, но на Юге они во второй половине XII в. распространились особенно широко. Начиная с Григория VII и Урбана II невмешательства пап в местную жизнь здесь были достаточно назойливыми, чтобы не вызвать реакции. Заметный экономический подъем, который переживал тогда Юг, привел к значительному накоплению средств у церквей и монастырей. Представители разных протестных движений проповедовали здесь идеал возвращения к евангельской бедности (в то время как рост производства и торговли усиливал социальное расслоение) и прямого доступа мирян к Божьей благой вести (которую монополизировали клирики — хранители Писания). В числе этих религиозных течений были вальденсы (Valdenses, они же «смиренные» и «лионские бедняки»), взявшие себе название от фамилии Пьера Вальдо, главного вдохновителя их движения. В 1180 г. архиепископ Лионский запретил этой общине неподготовленных мирян всякую проповедь. Вальдо отказался признать этот запрет и был отлучен. Вследствие гонений, которые начались после этого, вальденство постепенно превратилось в ересь, не признававшую священства и таинств. Общины вальденсов обосновались в Лангедоке, периодически создавая новые в соседних областях и добравшись при этом до Лотарингии и Северной Франции (Арраса). Они долгое время сохранялись в области Бриансона. Хотя противники иногда путали их с катарами, вальденсы не имели с последними ничего общего и резко полемизировали с ними. В «Трактате против еретиков», написанном знаменитым парижским учителем Аланом Лилльским (ум. 1203), автор тщательно разделяет их учения. Он провел некоторое время в Монпелье (вероятно, став там цистерцианцем), где ему довелось лично спорить с еретиками обоих направлений. Тогда как вальденсы поначалу расходились с церковью только в дисциплинарном плане, катары утверждали, что необходимое обновление должно сопровождаться пересмотром всех догматов, какие проповедует церковь. Обличение «добрыми людьми» слабостей и пороков официальной церкви по своей страстности сравнимо с призывами монахов к евангельской бедности и «презрению к миру». Оправдывая отказ сеньоров возвращать десятину, «истинные христиане» неизбежно привлекали к себе симпатии сельской знати. Точно так же, когда церковь, категорически осудив ростовщичество, вызвала у купцов и заимодавцев психологический дискомфорт, катары избавили ростовщиков от всяких душевных страданий. Эта секта также всегда представляла меньшинство населения. Но из-за сочувствия, какое вызывал катаризм, подавить его было трудно. Ни проповедь Бернарда Клервоского в 1145 г., ни проповеди цистерцианских легатов, посланных Иннокентием III на Юг в 1198 г., ни деятельность Доминика де Гусмана (1170–1221) не сумели уничтожить это движение. Еретические движения, характерные не исключительно для южных областей, но развивавшиеся там во второй половине XII в. особо активно, и (вполне реальный) антиклерикализм трубадуров слишком тесно связывать не стоит. На самом деле оригинальная культура на полдороге от устной культуры к ученой возникла в результате растущего разрыва между клириками и мирянами и фрустрации, которую испытывала из-за этого мелкая и средняя знать. Действительно, с начала XI в. литературу на народно-разговорном языке, учитывавшую специфические ценности мирян, начали записывать. Составление житий святых на романском языке (как «Песнь о святой Вере» или «Песнь о святом Алексии»), несомненно, открыло путь «песням о деяниях», повествовавшим о подвигах героев-воинов, которые вошли в легенду. С конца XI в. эти длинные эпопеи, которые публично пели жонглеры, распространялись в виде рукописей. Теперь уже не считают, как в свое время Жак Бедье, что эти эпопеи родились в результате сотрудничества клириков и жонглеров на дорогах, ведущих в Компостелу. Но многие специалисты настаивают, что движение по таким дорогам было одним из факторов распространения эпопей. То есть клирики — хранители письменной культуры — были причастны к возникновению этой литературы. Самая старинная из средневековых «песен о деяниях», дошедших до нас, — «Песнь о Роланде». Так христианство осознавало само себя в контексте «священной войны» с неверными. Другой иллюстрацией к этому утверждению служит успех «Деяний нарбоннцев»: их герой Гильом Оранжский якобы закончил поприще отшельником и оставил свое имя обители Сен-Гильем-дю-Дезер, которую посещали паломники, шедшие в Компостелу. Но в то время как зарождалась эта рыцарская идеология, растущее желание монархической власти усилиться делало чаяния феодалов беспочвенными. В этих условиях куртуазную литературу можно, несомненно, определить, как эскапистскую (litterature d'evasion), как литературу, обучавшую хорошему тону беспокойную молодежь, которую старались собирать вокруг себя князья. Признание в любви «даме» (как правило, супруге сеньора) копировало ритуал вассального оммажа. У южных трубадуров fin' amor («утонченная любовь») не обязательно ассоциировалась с воинскими подвигами. Зато в «романах», предназначенных для аристократической публики анжуйского или шампанского дворов, преобладала тема любви, вдохновляющей на героические деяния. Было бы анахронизмом принципиально противопоставлять куртуазную любовь и нормы сексуального поведения, какие пыталась внедрить церковь. Клирики часто выходили из тех же семейств, что и постоянные читатели такой литературы. Оставить без внимания рыцарское происхождение Бернарда де Фонтена значило бы рискнуть совершенно превратно понять трактат «О любви к Богу» или комментарий к «Песни Песней» аббата Клерво. Можно согласиться с рассуждением Андре Боше: «Как и любовь к избраннице куртуазных поэтов, любовь, которую торжественно обещали божественному супругу, могла быть только безупречной, бескорыстной и чистой. Следовало изгнать всякий страх и отдаваться, не испытывая ни тени надежды на вознаграждение. Душа, достигшая этого состояния, выносилась за свои пределы и повергалась в восторг».IV Латеранский собор (1215)
Таким образом, с конца XI в. условия религиозной жизни верующих сильно изменились. Уже недостаточно было, чтобы народ возглавляли вожди — xристиане и чтобы он платил десятину. Рост ереси заставлял церковную иерархию срочно реагировать, пока не рассыпалось все. Поэтому постарались — этот процесс был начат III Латеранским собором 1179 г., но достиг апогея после IV Латеранского собора 1215 г. — добиться, чтобы миряне глубоко усвоили практику религиозных обрядов, и упорядочить их верования. Папа Иннокентий III, получивший образование во французской и болонской школах, созвал в Латеране Четвертый собор с отчетливым намерением реформировать церковь и преобразовать нравы, а также искоренить ересь. Каноны, принятые отцами собора 1215 г., официально осуждали катаризм и перечисляли меры для его подавления. Таким образом, IV Латеранский собор торжественно признал результаты крестового похода против альбигойцев (см. соответствующую главу) и распространил на участвовавших крестоносцев те же привилегии, какими пользовались участники боев на Святой земле. Собор одобрил подвиги Симона де Монфора и в его пользу лишил владений Раймунда Транкавеля и графа Тулузского, которого упрекали в подозрительной терпимости к еретикам. Тем самым папа выступил в качестве «настоящего распределителя больших фьефов» (по выражению Жана Шелини[172]), он же взялся хранить Прованс для младшего графа Тулузского, Раймунда VII. С другой стороны, чтобы не допустить возвращения ереси, устанавливали плотный контроль над религиозной жизнью мирян. Вот почему наряду с мерами, рассчитанными на очищение культа мощей и искоренение николаизма и симонии, канон utriusque sexus («обоего пола») предписал мирянам старше семи лет причащаться и исповедоваться у себя в приходе не реже раза в год. Наконец, отклонение от намеченного пути участников Четвертого крестового похода 1204 г., которые направились в Константинополь, побудило собор призвать к новому папскому крестовому походу, в котором готовы были участвовать лишь немногие французские воины ввиду перспектив, какие перед последними открывал альбигойский крестовый поход. Популярность народных ересей с конца XII в. — это одно из свидетельств желания масс выйти из пассивного состояния. После того как фактическое первенство римской церкви было обеспечено, церковным иерархам уже ничто не мешало перейти ко второму этапу программы реформаторов — к обеспечению торжества религии не только «в голове» церкви, но и «в членах». А ведь в течение всего XII в. успехи нищенствующих орденов, усиление университетов и строительство соборов создавали впечатление «цельного» христианства. Однако именно в этот «век веры» церковь столкнулась с самыми сильными вызовами, какие только встречала до тех пор, и тогда же потерпели провал блистательные теократические теории пап-канонистов.Глава V Готическое искусство во Франции в XII и XIII вв. (Бернар Мердриньяк)
На том же основании, что и определение «романский», определение «готический», которое применяют к средневековому искусству середины XII — начала XVI в., следует считать анахронизмом, но тем не менее ради удобства оно по-прежнему используется. А ведь термин «готический», появившийся в эпоху Возрождения, имеет очень отрицательную коннотацию, поскольку подразумевает (ошибочно — нужно ли уточнять?), что изобретение этого архитектурного стиля восходит ко временам «варварских нашествий». То есть с них якобы начался долгий период упадка, который продолжался с момента гибели Римской империи до возрождения наук, искусств и литературы в XVI в., якобы восстановившем связи с Античностью! Слово, которое бросил Рафаэль (ум. 1520), чтобы принизить средневековое искусство, в следующем поколении популяризировал художник Вазари (ум. 1575), автор «Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550), которому, кстати, мы также обязаны фресками во Флоренции и в Ватикане («Сражение при Лепанто»), То есть пытаться избегать употребления этого прилагательного, освященного веками, было бы наивностью или педантизмом. Зато следует остерегаться схематических теорий, претендующих на установление прямых причинных связей между политическим контекстом и художественными реалиями. Нелепо противопоставлять романское искусство, якобы «монастырское» и вписанное в феодальный контекст, искусству готическому как «коммунальному» и связанному с усилением власти короля. Однако надо признать, что готическое искусство, конечно, отражает тенденцию к унификации художественных форм и что его подъем совпал со стадией централизации политической власти.Обстоятельства появления готического стиля
Вариация романского искусства Кстати, дать определение готического искусства как в хронологическом, так и в стилистическом плане очень трудно. Стрельчатая арка или стрельчатый свод, которые традиционно считают характерными для готики, на самом деле были романскими нововведениями, впервые появившимися в англо-нормандской архитектуре. В самом деле, чтобы сохранять высоту и освещенность своих романских церквей, Нормандия поначалу предпочитала сводам крыши на стропилах. В конце XI в. там возводили крестовые своды большой площади. Потом, чтобы облегчить свод, между его ребрами стали крестовидно располагать нервюры, «стрелки», тщательно подгоняя их друг к другу, В результате свод стал легче, что позволяло строить более просторные и высокие нефы. К тому же, поскольку вес свода передавался на определенные зоны, появилась возможность делать проемы в боковых стенах между этими зонами. Так, стрельчатым сводом покрыли хоры романского Даремского собора в Великобритании (около 1095 г.). В ту же эпоху тот же прием был использован для перекрытия хоров церкви в Лессе (около 1098 г.) в Нормандии. Главный неф аббатства Святого Стефана в Кане («Мужского аббатства», освященного в 1077 г.) на втором этапе строительства (около 1130 г.) в свою очередь перекрыли стрельчатым сводом. Эта система, которая поначалу была только региональным вариантом романской архитектуры, достигла долины Уазы (церковь в Мориенвале — несомненно, не более чем подражание более совершенным образцам, не дошедшим до нас) и Иль-де-Франса (деамбулаторий церкви Сен-Мартен-де-Шан в Париже, около 1135 г.). Искусство света Широкое распространение стрельчатого свода и аркбутанов (появившихся в конце XII в.), передававших усилие распора от сводов, позволило снижать нагрузку на здание, делая его при этом светлей и сохраняя его вертикальность. Это решение (несомненно, объясняющее восприимчивость публики нашего времени к готическому искусству) позволяет как утверждать, что «ни один стиль не был в более глубокой степени архитектурным»[173], чем готическое искусство, так и парадоксально считать его «архитектурным извращением», поскольку каменные стены заменялись стеклянными перегородками. Витражи и огромные «розы» окрашивали свет (в Шартре, Бурже, Ле-Мане…). Церковь поднималась настолько высоко, насколько было возможно, поднимая друг на друга аркады, галереи, трифорий и верхние окна (свод собора в Бове в XIII в. дважды обрушился). По гармоничному фасаду, обрамленному башнями или шпилями, можно было снаружи понять, как выглядит поперечный разрез нефа. Это монументальное воплощение «принципа прояснения» перекликалось с философскими и богословскими построениями учителей схоластики. Для их трудов были характерны та же логика взаимосвязей и членения и тот же размах, что и для современных им зданий. Вот почему гипотезу о «причинно-следственной связи» между «схоластическим мышлением» и «готической архитектурой» нельзя отметать с порога. Ведь эти новые архитектурные формы возникали во времена Абеляра и Гильберта Поретанского. Первые «суммы теологии» создавались тогда же, когда появилась готика как таковая, — в последней трети XII в. Сравнение писательского метода Фомы Аквинского в середине XIII в. с готическим собором[174] в противоположность методу Гильома из Сент-Амура, еще ассоциирующемуся с романским архитектурным стилем, — блистательно. Согласно Эрвину Панофскому, эти хронологические совпадения неслучайны и объясняются распространением habitus'а, созданного схоластикой и влиявшего на архитектуру. Эту «ментальную привычку» можно определить, как «систему глубоко усвоенных схем, позволяющих порождать все мысли, перцепции и действия, характерные для какой-то культуры и только для нее»[175]. Так, «принцип прояснения», царивший в схоластическом мышлении, на взгляд этого автора, «совершенно естественно, поскольку схоластика имела монополию на образование, был принят всеми людьми, ведшими интеллектуальную жизнь, став настоящей "ментальной привычкой”», а значит, и архитекторами, «которых тоже считали схоластами». Единственный (но показательный!) пример: на могиле архитектора Пьера де Монтрея, работавшего в соборе Парижской Богоматери во второй половине XIII в., была сделана надпись «доктор каменщиков»! В самом деле: так же как университетские мыслители, которым уподобляет его это титулование, старались проводить ясное различие между «святилищем веры» и «сферой рационального познания», провозглашая при этом, что «содержание этого святилища должно оставаться ясно различимым […], классическая готическая архитектура отделяет внутренний объем от внешнего пространства, добиваясь при этом, чтобы первый в некотором роде проецировался через структуру, служащую ему оболочкой» (Эрвин Панофский). Французское королевское искусство Общим для схоластики и готического искусства был и центр, откуда они распространялись, — Иль-де-Франс, ядро королевского домена. Старания капетингских королей централизовать власть, предпринимавшиеся со второй половины XIII в., неизбежно породили тенденцию к унификации художественных форм, выражавшуюся в распространении специфического стиля. Капетинг, провозглашавшийся королем «милостью Божьей», становился объектом поклонения в настоящей монархической религии, одним из полюсов которой служило аббатство Сен-Дени, где хранились инсигнии королевской власти и составлялись официальные «Хроники», а другим — Реймсский собор, где (в память о крещении Хлодвига) совершали миропомазание, наделявшее государя сверхъестественными способностями. Перестройка фасада и «шеве» монастырской церкви Сен-Дени (1140–1144), предпринятая Сугерием, советником Людовика VII, ознаменовала появление специфически «французского» искусства. Век спустя, когда как раз перестраивались хоры и трансепт королевского аббатства (с 1231 г.), уже полным ходом шло строительство собора Реймсской Богоматери, начатое архитектором Жаном из Орбе около 1210 г. и продолжавшееся до конца века. Однако за исключением Сент-Шапель, на строительство которой, начатое в 1242 г. по инициативе Людовика IX, выделившего сумму в 40 тыс. турских ливров, королевских строек как таковых было немного. Меценатство, которым занимались Капетинги, в основном было скромнее демонстративного меценатства английских королей. Король Франции предпочитал быть не заказчиком («патроном», если использовать терминологию, предложенную Пьером дю Коломбье[176]), а донатором или основателем, в дальнейшем же ограничивался тем, что демонстрировал благосклонность к начинанию — и при необходимости давал субсидии. Настоящими покровителями были аббаты (как Сугерий, создавший годовой фонд в двести ливров для строительства «шеве» Сен-Дени) и прежде всего епископы, бравшие на себя инициативу расширения и украшения своих соборов: так поступал Морис де Сюлли в отношении собора Парижской Богоматери, Готье де Мортань в Лане или Вильгельм де Сеньеле в Оксере. Наряду с ними строительством церквей руководили и соборные капитулы, поручая контроль над стройкой канонику («работнику», «строительному мастеру») или даже мирянину, как было в Шартре, где в семье Дагонов эта должность передавалась по наследству.Периодизация и распространение готики
Первый шаг: Сен-Дени Первым шедевром готики была базилика Сен-Дени. В обоих сочинениях, «Об управлении» и «Об освящении», Сугерий хвалится, что лично надзирал за работами по расширению монастырской церкви и даже «при помощи геометрических и арифметических инструментов» сам сверял расположение нового «шеве» по отношению к переднему нефу. Написанное аббатом подтвердили данные археологии. В 1140 г. в западной части церкви каролингский неф соединили двумя травеями с пока еще массивным нартексом, принадлежавшим к построенным в англо-нормандском духе частям здания, к которым относился фасад с двумя башнями, разделенный в честь Троицы на три части на трех уровнях. Новый «шеве» в восточной части здания, построенный, как в паломнических церквях, был освящен в 1144 г. Обширная крипта послужила фундаментом для хоров с двойным деамбулаторием, который лишь стрельчатая кровля соединила с семью едва выступающими радиальными капеллами, окружавшими его. Архитектурным новшеством здесь стала новая концепция храма: церковь уже не была тщательно закупоренным пространством, ей следовало впускать свет, который Сугерий считал совершенной связью между человеком и Богом. Церковному зданию как символу веры подобало не замыкаться на себе, а быть широко доступным, как даяние милости. От «первого готического искусства» до «классической эпохи» Ряд больших соборов в сердце капетингского домена служат вехами развития «первого готического искусства» второй половины XII в. Это было еще «переходное искусство». Так, в Сансском соборе, планы которого были разработаны к 1130 г. и который освятили в 1163 г., впервые появился трехъярусный профиль (большие аркады, трифорий и верхние окна), «который в конечном счете превратил приделы в боковые нефы»[177]. Для хоров Сен-Жермен-де-Пре (1163 г.) тоже характерно это трехэтажное расположение, заметное также в Провенском соборе и обнаруживающееся в архитектуре хоров церкви Везеле (после 1185 г.) в Бургундии. Но поначалу шире распространенными были четырехэтажные варианты (большие аркады, галереи, трифорий и верхние окна) — от церквей Святого Ремигия в Реймсе и «Богоматери в долине» в Шалоне до Нуайона (1150–1185) или Лана (1155–1225). Собор Парижской Богоматери (строившийся с 1163 по 1220 г.) — несомненно, самый прославленный памятник того периода, хотя бы потому, что тогда город по-настоящему стал столицей Филиппа Августа. Архитектор задумал этот памятник как четырехэтажный, без трифория (большие аркады, галереи, окулюс, верхние окна), с высотой свода 34 м. В нефе акцентированы вертикальные линии. Поэтому пришлось усилить хоры и неф многочисленными аркбутанами. Трансепт настолько не выступает из стены, что окруженный двумя рядами приделов главный неф кажется непрерывным. «Классическая эпоха»: распространение в XIII в. шартрской модели За исключением коллегиальной церкви в Манте, подражаний собору Парижской Богоматери оказалось немного. Зато новшества, разработанные во время перестройки Шартрского собора (1194–1220), оказали влияние на некоторые стройки, начавшиеся в то время в королевском домене. В 1194 г. пожар оставил от собора Шартрской Богоматери только фасад и обе западных башни. Над романской криптой, выстроенной Фульбертом в 1028 г., поднялось здание, имеющее в плане форму латинского креста. Работы начались с нефа, а потом технические решения, опробованные на нем, были применены к трансепту и хорам (освященным в 1260 г. в присутствии Людовика IX). Как и в Сансе в предыдущем веке, профиль сделан трехъярусным (большие аркады и верхние окна разделены трифорием). Безупречный расчет аркбутанов позволил отказаться от верхней стены и исключить галерею, что дало возможность сделать выше боковые нефы. Внутреннее освещение с тех пор обеспечивали большие «розы», куда вставлялись витражи. Увеличение высоты боковых нефов и верхних окон характерно для памятников, архитекторы которых испытали влияние собора Шартрской Богоматери. Суассонский собор (раньше 1250 г.) воспроизводит трехъярусный профиль своего шартрского прототипа. А вот Реймсский собор (построенный несколькими архитекторами, сменявшимися в течение целого века) выдержал единство стиля, заданного его основателем Жаном из Орбе после 1211 г. Как и в Шартре, трифорий отделяет здесь большие аркады от верхних окон. Высота свода достигает 32 м. Проемы в стенах сделаны на западном фасаде, где тимпаны заменили «розами». Амьенский собор, строительство которого началось около 1220 г., - самый просторный из всех. Использование вертикальных линий привлекает здесь взгляд к своду, высота которого доходит до 43 м. Тогда же и в том же духе были произведены существенные перестройки хоров и трансепта (1231 г.), а потом нефа (1240 г.) церкви Сен-Дени, а также собора Парижской Богоматери (см. соответствующие записи). Эти здания значительных размеров стоили очень дорого, поэтому их количество ограничено. Амбициозная идея построить собор в Бове (1225–1272) якобы даже полностью остановила развитие города! В 1225 г. епископ Милон и его каноники решили десять лет отдавать на строительство аннаты со всех вакантных бенефициев епархии и десятину из своих доходов. Оба его преемника старались поддерживать темп работ: Гильом де Грез (ум. 1267), например, пожертвовал шесть тысяч ливров. Но обрушение в 1284 г. части свода (высота которого в районе хоров достигала 48 м) произошло тогда, когда работы уже прекратились. Однако это единство стиля не обошлось без исключений, каким стал собор Святого Стефана в Бурже. Его замысел принадлежит архиепископу Анри де Сюлли (ум. 1199), брату Мориса де Сюлли — строителя собора Парижской Богоматери. Строительство, начатое к 1200 г. его преемником, было в основном закончено около 1280 г. За огромным фасадом с пятью порталами находится главный неф, разделенный на пять отдельных нефов аркадами и высокими колоннами и выводящий прямо к хорам и задней стене апсиды безо всякого трансепта, который бы пересекал его. Влияние этого памятника ощутимо в хорах собора Нотр-Дам-де-ла-Кутюр в Ле-Мане (1217–1273), подражанием которым в свою очередь стал «шеве» в Кутансе. В самом деле, до середины XIII в. Западная Франция (Анжу, Мэн и Пуату), где властвовали Плантагенеты, оригинально развивала старинные традиции: для нее были характерны обширные нефы без трансептов либо зальные церкви с тремя главными нефами равной высоты. Так, «сомкнутые» (то есть выпуклые, как купола) своды нефа Анжерского собора (1149–1153) напоминают купольные постройки Ангулема или Фонтевро. Точно так же в Бургундии готическое искусство, появившееся там в начале XIII в. (церковь Сен-Мартен в Кламси; Оксер, около 1215 г.), сопротивлялось шартрскому влиянию. Два характерных приема (проход перед верхними окнами по лозаннскому образцу, 1180–1232; «шеве» с понижающимися апсидами, как в аббатстве Сент-Ивед в Брене) использованы при постройке церкви Дижонской Богоматери (около 1220–1230 гг.), шестичастные своды которой — откровенно «антишартрские». Лучистая готика В своем «стремлении к нематериальности»[178] хоры Амьенского собора (завершенные к 1269 г.) уже предвещали бесплотные здания конца XIII в. и следующего века. Поиск изощренного равновесия и самой впечатляющей освещенности грозил обернуться виртуозностью как самоцелью. В самом деле, «лучистое» искусство лишь довело до предела утонченность архитектуры предыдущего периода. Проемы в стенах делались все больше, чтобы дать место огромным витражам. Эта изысканность была логична для Сент-Шапель, воздвигнутой Людовиком IX с 1242 по 1248 г. как монументальный реликварий для фрагмента тернового венца и других реликвий, связанных со Страстями Господними, потому что они должны были быть видны всем верующим, чтобы в географическом, политическом и теологическом планах концентрировать на себе их благоговение. Но она могла породить и сухость стеклянной клетки, как в коллегиальной церкви Сент-Юрбен в Труа (построенной по инициативе папы Урбана IV, уроженца этого города), — хоры и трансепт здесь возведены архитектором Жаном Ланглуа (1263–1266), а витражи опускаются до высоты трех метров от земли. Из Иль-де-Франса готика распространилась по всему королевству и по Европе. Но она должна была приспосабливаться к местным традициям. Нормандия, откуда вышло столько форм, использовавшихся готикой, была присоединена к королевству в первые годы XIII в. С тех пор там появилось «французское» искусство, взаимодействуя с прежними архитектурными стилями, — в соответствующем духе были созданы аббатство Мон-Сен-Мишель (1203–1228) и главные соборы региона, вплоть до хоров собора в Эвре во второй половине XIII в. или руанской церкви Сент-Уан в начале XIV в. В соседней Бретани соборы Доля, Кемпера, Сен-Поль-де-Леона, монастырские церкви Сен-Матье или Редона в числе прочих свидетельствуют об умении производителей работ гармонично сочетать заимствования из нормандского искусства и искусства Южной Англии с готикой королевского домена. Готическое искусство проникло также в центр страны и на Юг. Было бы нелепо видеть в этом просто импорт, следствие альбигойского «крестового похода». Разве строительство Тулузского собора, имеющего стрельчатый свод, началось не раньше осады 1211 г.? Тем не менее «искусство страны “ойль”» приноравливалось здесь к исторической ситуации XIII в. Показателен пример Жана Дешана (ум. 1295), упомянутый Анри Фосийоном[179]: сформировавшись как архитектор на стройках Амьена, Сен-Дени и Суассона, он работал в Клермоне (после 1262 г.), потом в Лиможе (1273) и Родезе (около 1277 г.), прежде чем внести вклад в завершение хоров Нарбоннского собора (1286). Это лучистое здание с огромными проемами на двух этажах, размеры которого были задуманы гигантскими, так никогда и не было завершено: одни только хоры имеют 54 м в длину, 48 м в ширину и 40 м в высоту. Хоры базилики Сен-Назер в Каркассоне (построенные к 1269 г.) тоже напоминают церковь Сент-Юрбен в Труа и испытали влияние парижской архитектуры. Память о недавней борьбе с катарами придала некоторым из этих церквей облик крепостей с узкими окнами (например, массивному собору Сент-Сесиль в Альби, начатому в 1282 г. и построенному из кирпича). Роль монашеских орденов Монашеские ордены сыграли важную роль в распространении го-гики, которую они, разумеется, приспособили к требованиям своих уставов. Так, во второй половине XII в. цистерцианцы в пику Клюни отчасти усвоили строгость и аскетизм, характерные поначалу для нового монастырского стиля. Последний представлял собой «некое промежуточное звено между романским и первым готическим искусством» (Жан-Пьер Виллем). В самом деле, очень скоро цистерцианцы стали распространителями стрельчатых сводов, при этом не восприняв духа новой архитектуры. Кстати, данные археологии показали, что цистерцианского плана, для которого был бы характерен плоский «шеве», как в церкви аббатства Моримон (около 1160 г.), не существовало. Здесь из деамбулатория, соответствующего прямоугольному плану хоров (черта строгости стиля), идут входы в многочисленные капеллы. Существование однонефных церквей, каких на Юге много, иногда связывают с цистерцианским влиянием — через цилиндрические своды Фонтене. Однако у церквей, построенных в XIII в. в монастырях братьев-проповедников, чаще всего один неф. Такая планировка была рассчитана на улучшение акустики, а значит, способствовала проповеди, которая составляла для нищенствующих орденов смысл существования. Поскольку они принимали участие в искоренении катарской ереси, они играли важную роль в адаптации готического искусства для южных областей. Зато церковь Якобинцев в Тулузе (начата около 1260 г.) построена по тому же плану, что и парижский монастырь этого ордена: главный неф, подобно залу капитула, разделен на два меньших — один для монахов, другой для мирян, приходящих слушать их проповеди.Технологии и художественное творчество
Развитие строительных технологий Эти новые архитектурные формы, основанные на целой системе арок и опорных столбов, не были техническими новшествами как таковыми, а появились в результате знакомства подрядчиков XIII в. с техническими приемами, изобретенными в предыдущем веке. Собственно, готический стиль смог возникнуть благодаря соединению бургундской ломаной арки, англо-нормандского стрельчатого свода и аркбутана. Ломаную арку римского происхождения очень рано вспомнили романские архитекторы, увидевшие в этом решении возможность упростить технику строительства: при удалении центральной части полуциркульной арки получалось две полуарки, которые поддерживали друг друга и давали возможность для возведения аркад. При строительстве стрельчатых сводов временные деревянные кружала, необходимые при возведении цилиндрических сводов, заменялись каменными стрелками, выполнявшими функцию постоянной крепи. Такие своды, сперва (в начале XII в. в Нормандии) квадратные в плане и чаще всего шестичастные (с тремя стрельчатыми арками), в самом конце XII в. стали «продолговатыми» (прямоугольными) в плане (например, в Нуайоне, в Лизье), и, наконец, в XIII в. в зданиях, строившихся по шартрской модели, уже не использовали других сводов. Этот свод был применен для самых сложных планов (квадратного, продолговатого, трапецеидального, треугольного) и, в частности, решил проблему перекрытия изогнутых травей деамбулатория. Вес стрельчатых сводов архитекторы распределяли по определенным точкам, усиливаемым подпорными узлами. Снижать нагрузку на стены со стороны центрального свода позволяли аркбутаны. Во многих романских зданиях (например, в церкви Троицы в Кане) под крышами приделов прятались подпорные стены или поперечные арки (Серизи-ла-Форе). Готическое искусство использовало технические возможности и декоративные аспекты этой арки из клинчатых камней одинаковой длины, которая перекидывалась через придел, упираясь в боковую стену и передавая нагрузку на пяту, служившую в то же время контрфорсом для приделов. Вопреки устоявшемуся мнению, аркбутаны Сансского собора (около 1140 г.) и церкви Сен-Жермен-де-Пре (около 1150 г.) возведены не позже верхних частей обоих зданий. Значит, использование такой технологии при строительстве собора Парижской Богоматери (около 1180 г.) не знаменует «настоящего рождения готической архитектуры» (Франсис Сале, потом Анри Фосийон), потому что эта техника фактически восходит к первой половине XII в. Готический «гуманизм» и монументальная скульптура Легкость несущих стен и все более смелое проделывание в них окон как следствия таких архитектурных решений вели к сокращению доли массы по отношению к поверхностям и объемам. При этом элементы, которые могли бы помешать непосредственному восприятию этого соотношения, исключались. Вот почему капители, объем которых уменьшился и которые терялись наверху высоких колонн, перестали богато украшать, и они отныне имели только растительный декор (все более реалистичный). Точно так же из-за увеличения проемов в стенах сокращалось место для настенных фресок, кроме как на Юге, где эти проемы были реже, а витражи — меньших размеров (за исключением базилики Сен-Назер в Каркассоне). По той же причине снизилась роль скульптуры внутри здания и повысилась снаружи, как на порталах и портиках, так и на верхних частях построек (башни, фронтоны, опоры аркбутанов). Таким образом скульптура начинала приобретать независимость от здания. Отказ от иератической стилизации романского искусства означал стремление изображать людей в «искупленной красоте»: в XIII в. во Франции «встречаются только лица без портретных черт, идеализированные и типизированные» (Пьер дю Коломбье). Так происходило утверждение если не «готического гуманизма», то по меньшей мере «христианства Воплощения», по формулировке Андре Воше, которое проявлялось также в обилии изображений святой Девы — Богоматери, совпавшем по времени с усилением ее культа. Зарождение готической скульптуры нельзя представить в виде линейной эволюции — это была стадия многочисленных экспериментов. Хотя скульптурный ансамбль фасада Сен-Дени (около 1140 г.) не раз уродовали и снова реставрировали, его можно считать первым примером готического фасада. Круглая скульптура в форме статуй-колонн, украшающих опоры арок, представляла собой новшество в том смысле, что они как бы приобретали независимость от окружения. В «королевском портале» западного фасада Шартра старейшие статуи-колонны (около 1145 г.) еще близки к романскому стилю, тогда как восемь позднейших статуй центрального входа словно стремятся отделиться от колонн, формы которых подчеркивают. В перестроенном в XIII в. портале Святой Анны собора Парижской Богоматери (около 1150–1160 гг.) шартрское влияние развивается в этом направлении дальше. Для завершения этой переходной стадии характерны стиль и тематика скульптуры на портале Санлисского собора (после 1170 г.): на тимпане, архитраве, архивольтах скульптура посвящена Деве Марии, тогда как на оконных откосах цари Израиля уступили место патриархам и пророкам. Появление санлисской скульптуры не означало непосредственного перехода к позднейшим произведениям, разве что на уровне тематики. Зато скульптуры фасада Ланского собора, самого конца XII в., оказали влияние на скульптурное оформление порталов шартрского трансепта (1210–1220), тогда как в Сансе или Париже явно формировался «классицизм» готической скульптуры первой половины XIII в. В то же время в Реймсе утверждался «антикизирующий» стиль, проанализировать который позволяют записные книжки Виллара де Оннекура. В его набросках трактовка складок одежды напоминает фигуры в античном духе из группы «Встреча Марии с Елизаветой» на центральном портале Реймсского собора (около 1235 г.). Утонченность, исподволь проникшая на тимпан центрального портала собора Парижской Богоматери («Христос-судия», «ангел с гвоздями» — около 1240 г.), достигла высшего предела с появлением «Благого амьенского Бога» (несомненно, созданного в то же время), представляющего собой «высшее и самое показательное выражение монументального искусства Средневековья» (Анри Фосийон). Эти влияния сошлись вместе в работах мастерской, изваявшей (ранее 1248 г.) статуи двенадцати апостолов для хоров Сент-Шапель. Этот вычурный стиль, созданный на парижских стройках, быстро распространился за пределы Иль-де-Франса, о чем свидетельствуют как оформление западного фасада Буржского собора (около 1250 г.), так и сохранившиеся фрагменты его амвона. Та же тенденция к маньеризму обнаруживается в Реймсе, где изваяли «улыбающегося ангела» (около 1255 г.). Парижское искусство второй половины XIII в. сочетало классицизм и маньеризм, о чем свидетельствует южный портал трансепта собора Парижской Богоматери, выполненный Жаном де Шеллем и Пьером де Монтреем. Эти тенденции распространились с возникновением больших порталов, создатели которых обращались к прежним темам, — в Бордо, Руане, Оксере… Однако на рубеже XIV в. монументальное искусство вышло из употребления и обозначилась тенденция к отделению скульптуры от архитектуры. Поначалу нижние части стен стали украшать изящными, но лишенными всякой архитектурной функции барельефами, как в Оксерском соборе, полном реминисценций романской скульптуры. И, главное, все больше становилось статуй, прикрепленных к колоннам (Сен-Назер в Каркассоне, 1300–1322), украшающих амвоны и алтари либо гробницы. Распространение таких проявлений благочестия, вероятно, отражало тенденцию к большей индивидуализации веры. Искусство витража и использование света Проемы в стенах делались все больше, и в них вставляли большие витражи и огромные «розы». Поэтому окна должны были делиться на части каменными импостами, в которые заделывались горбыльки (barlotieres, прямые или изогнутые железные полоски), державшие витражные стекла, которые окрашивали свет. В самом деле, увеличение поверхности витражей (в Шартрском соборе — более 2600 м2) не означало большей интенсивности освещения. Стекло, изготовлявшееся на основе кремнезема и поташа либо соды (в зависимости от природы используемой растительной золы), имело более высокое качество, чем прежде, но хуже излучало. Темные цвета (особенно красный и синий) заменялись светлыми, которые отныне преобладали. Чтобы в здании было не слишком темно, применяли «гризайль» из белого стекла, украшенный геометрическими фигурами. За исключением Сен-Дени, отдельные медальоны которого дают представление о шести витражах «шеве», задуманных Сугерием, от искусства XII в. по существу сохранилось только несколько витражей западного фасада Шартра и витражи в неглубоких нишах верхних окон нефа и хоров базилики Святого Ремигия в Реймсе, где возвышаются крупные фигуры королей, пророков, апостолов или святых епископов. Та же иконографическая программа обнаруживается в соборах XIII в., где витражами можно было занять огромные пространства: в нижних окнах маленького размера были представлены крошечные сюжеты, а верхние украшали один-два крупных персонажа. В Шартре благодаря отказу от галерей в пользу аркбутанов стены стали гладкими, и наибольшее внимание стало привлекать внутреннее освещение. Поэтому шартрский ансамбль, созданный между 1200–1210 гг. и приблизительно 1236 г., выглядит как бы синтезом витражного искусства первой половины XIII в. В нефе, где совместно работало несколько мастерских, витражи в более архаичном духе соседствуют с теми, для которых характерен новый классицизм и которые находятся на хорах и в трансепте. Прекрасные ансамбли того времени можно найти в Ле-Мане, Бурже, Клермон-Ферране, Лионе и Реймсе. При Людовике IX в витражном искусстве господствовали парижские витражи. Сент-Шапель словно была воздвигнута «вокруг» своих витражей, из которых еще сохранилось пятнадцать окон. Многочисленные мелкие изображения посвящены сюжетам о реликвиях Страстей Господних из священной истории. Наложение гризайля на цветные стекла позволило отделывать контуры персонажей, как поступали художники-миниатюристы. Так начался процесс, приведший к тому, что Анри Фосийон назвал «бессмыслицей» конца Средневековья, — к «прозрачной картине, повешенной на окно». По мнению этого великого историка, это было одним из аспектов «упадка», который, согласно некоторым специалистам, испытало пламенеющее искусство позднего Средневековья, когда носителем готики «уже не была архитектура и ее заполонила иллюзия пространства». Недавно эту оценку оспорил Ален Эрланд-Бранденбург[180], склонный считать ее анахроничной. Если в наши дни «витраж стал самоценным и соперничает с живописью», это не значит, что так же было и в готическую эпоху, «для которой витраж был архитектурой», благодаря тому, что выполнял двойную функцию — «замыкания объема и прозрачной перегородки».Глава VI Крестовые походы в XII и XIII вв. (Бернар Мердриньяк)
Крестовые походы в XII в.
Когда по завершении Первого крестового похода[181] дорога в Святую землю через Анатолию оказалась перерезана, это сделало необходимым взять под контроль палестинское побережье. Выживание латинских поселений теперь зависело прежде всего от организации морского сообщения с Западом.Иерусалимское королевство и франкские княжества Святой земли
Настоящим основателем Иерусалимского королевства был Балдуин Булонский, брат Готфрида Бульонского, коронованный Даимбертом Пизанским на Рождество 1100 г. Даимберт, архиепископ, присоединившийся со 120 кораблями к крестоносцам после взятия Святого города, добился, чтобы его признали патриархом, и намеревался основать церковную сеньорию под покровительством «защитника Гроба Господня». Но его притязания на Иерусалим и Яффу оказались под вопросом после смерти Готфрида. Это событие не помешало захвату Хайфы в 1100 г. при содействии венецианской эскадры, соперничавшей с пизанским флотом. В следующем году прибытие генуэзских кораблей позволило Балдуину I (1100–1118) занять фатимидские порты Арсуф и Цезарею. В 1104 г. была взята Акра. Контрнаступления египтян не принесли им решительных успехов. Фатимидская армия, поддержанная дамасскими турками, в 1105 г. была обращена в бегство в долине Рамлы. После этого Балдуин смог в 1110 г. захватить порты Бейрут и Сидон. В то время как Иерусалимское королевство быстро расширилось на восток до Мертвого моря и на юг до Красного моря, завоевание побережья продолжалось в том темпе, в каком прибывали флотилии паломников. Тир был взят в 1124 г. с помощью венецианского флота, а Аскалон пал только в 1154 г. Триполийское графство Раймунд Сен-Жильский, которому пришлось отказаться от Антиохии (а потом от иерусалимской короны), уехал к византийцам. Затем вместе с уцелевшими крестоносцами из арьергардного похода он в 1102 г. захватил Тортосу и приступил к осаде Триполи, которую после его смерти в 1105 г. продолжил его родственник Гильом Иордан. Крепость пала в 1109 г. благодаря подходу генуэзско-провансальского флота, который привел Бертран, сын графа Тулузского, прибывший, чтобы предъявить притязания на отцовское наследство. Военное вмешательство других крестоносных князей дало повод для созыва общего собрания, позволившего Балдуину I утвердить свой сюзеренитет над Триполийским графством, разделив его между обоими соперниками. Когда через некоторое время Гильом Иордан — подозрительно своевременно — умер, Бертран смог объединить в своих руках всю территорию вокруг долины реки Оронт, взяв под контроль дороги в Хомс и Хаму, а также Ливанский хребет. Антиохийское княжество и Эдесское графство Обосновавшись в Антиохии (захваченной в 1098 г.), Боэмунд Тарентский в 1101–1102 гг. попытался выкроить себе княжество в Киликии и Латакии вопреки интересам Византии. Вступив в союз с Балдуином де Бургом (возглавившим Эдесское графство, когда его кузен и тезка был возведен на иерусалимский трон), он выступил против мосульских турок и эмиров Верхнего Междуречья. После того как во время сражения при Харране в 1104 г. Балдуин попал в плен, Ридван, малик («царь») Алеппо, создал угрозу для Антиохийского княжества, а Византия воспользовалась ситуацией и напала на Киликию. Боэмунд возвратился в Европу, чтобы собрать подкрепления. Его поход в Грецию провалился, и в 1108 г. он был вынужден пообещать императору, что вернет Антиохию. Его племянник Танкред, находившийся в то время в Палестине, отказался признавать этот договор. Он с успехом продолжил борьбу с византийцами и алеппскими турками, но не смог навязать свой сюзеренитет соседним Эдесскому и Триполийскому графствам. Организация латинских государств В самом деле, иерусалимскому королю постепенно удалось установить свою гегемонию над другими латинскими государствами. Начавшиеся с 1010 г. непрестанные нападения атабеков (военачальников турок, которые опекали малолетних князей) Мосула, подстрекаемых багдадским султаном, вынудили франкских вождей координировать боевые действия. Победа, которую в 1119 г. одержал на Кровавом поле (ager sanguinis) Иль-Гази, артукидский правитель Мардина, самостоятельно возобновивший боевые действия, обезглавила франкскую аристократию и отдала Антиохию и Эдессу на милость туркменов. Балдуин II (1118–1131), бывший граф Эдессы, наследовавший своему кузену на иерусалимском троне, должен был помогать вассальным княжествам, организовав несколько походов; в конечном счете Артукиды в 1123 г. взяли в плен его самого. Отпущенный на свободу за выкуп в следующем году, он провел военную операцию против Алеппо при поддержке вассалов и местных союзников. Усиление иерусалимского короля происходило одновременно с территориальной экспансией латинских государств. Закрепившись на прибрежной полосе, они пытались отодвинуть границу до пустыни, что им совершенно не удалось. К большому караванному пути из Междуречья в Аравию они приблизились только юго-восточнее Мертвого моря, где возвели Крак-де-Моав (крак — «крепость») и Крак-де-Монреаль. В других местах военные сооружения, господствовавшие над Сирийской впадиной, выполняли не только стратегическую функцию. Они позволяли контролировать территории, аннексированные франкскими сеньорами. Однако такие города, как Алеппо и Дамаск, которые франки несколько раз пытались захватить, хоть и лишились части прилегающих территорий, но более или менее успешно сумели избежать франкской власти (см. карта 15).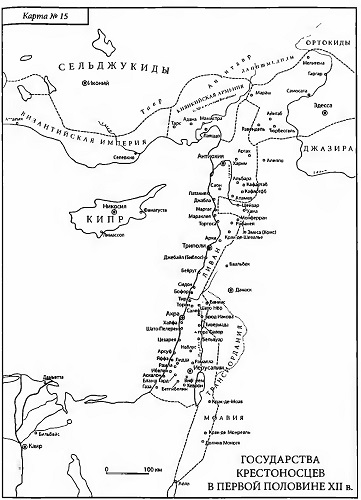
На самом деле главная слабость крестоносных поселений крылась в демографии. Крестоносцам не хватало людских ресурсов, чтобы обеспечить единство завоеванных территорий. Постоянную боевую силу (несколько сотен рыцарей) давала одна феодальная система, построенная по строго иерархическому принципу, с тем чтобы всегда была возможность выставить бойцов. Милитаризация ордена тамплиеров (1128) и ордена госпитальеров (около 1135 г.) выглядит необходимой (если не достаточной) реакцией на эту потребность в профессиональном войске. Личный состав этих военных орденов насчитывал около пятисот рыцарей, к которым добавлялось несколько тысяч пеших сержантов и туркополов (туземных вспомогательных войск). Они взяли на себя контроль передвижения по дорогам, и им доверили главные крепости (такие как Крак-де-Шевалье, которая господствовала над долиной Хомса и которую в 1145 г. уступили госпитальерам). Эпизодической помощи со стороны паломников и европейских флотов было недостаточно, чтобы восполнить эту нехватку численности. Прирост сил, прибывших из латинского христианского мира, бывал решающим только в случае больших крестовых походов, которые возглавляли европейские монархи. Вот бы только эти подкрепления не ослабляла неэффективность командования! Поэтому латинские государства в Палестине могли держаться только благодаря тому, что их противники были разобщены. Второй крестовый поход[182] Сделки местных вождей с франкскими воинами в конце концов начали вызывать недовольство мусульманского населения. В 1125 г. Бурзуки, атабек Мосула, взял под контроль Алеппо. Его убийство в 1126 г. отсрочило осуществление его планов объединения мусульманской Сирии. Его преемник Зенги, которого в 1127 г. назначил сельджукский султан, продолжил его политику перегруппировки сил ислама под лозунгом «священной войны». В регион несколько раз, в 1137 и 1142 г., вводил войска император Иоанн Комнин, чтобы отстоять византийские притязания на Киликию и Антиохию. Не вникая в детали походов Зенги на франков и их случайных союзников (в 1137 г., например, он вынудил Фулька Анжуйского, короля Иерусалима (1131–1143), уступить крепость Монферран), здесь достаточно отметить, что эти походы привели в 1144 г. к падению Эдессы, некстати оставленной без защиты. Узнав об этом, Людовик VII в 1145 г. принял решение направиться в крестовый поход, несмотря на возражения Сугерия. Король добился от папы Евгения III провозглашения Второго крестового похода, проповедовать который было поручено Бернарду Клервоскому, хотя поначалу тот отнесся к этой идее сдержанно. Проповедь, которую произнес Бернард на собрании баронов в Везеле в 1146 г., побудила многих из них принять крест. В Шпейере ему удалось убедить императора Конрада III организовать собственную экспедицию. Трения между рыцарями и простыми участниками похода, взаимная неприязнь обеих армий, напряженные отношения с византийцами осложнили переход через Малую Азию. После нескольких неудач крестоносцев безоружные паломники были оставлены на милость турок, которые их перебили. Конрад III по морю достиг Акры, тогда как Людовик VII дошел до Антиохии. Теперь крестовый поход обрел вид паломничества монархов. Людовик VII предпочел соединиться с Конрадом III в Иерусалиме, чем штурмовать Алеппо, что уговаривал его сделать Раймунд де Пуатье, князь Антиохии, а ведь это, несомненно, позволило бы вернуть Эдессу. Оба монарха зря растратили силы в походе на Дамаск, вместо того чтобы попробовать объединиться с правителем этого города против сына Зенги — Нур ад-Дина, пришедшего к тому времени к власти в Алеппо. Конрад III сделал выводы из этой неудачи ив 1148 г. вернулся в Германию. Людовик VII еще некоторое время провоевал, но тоже в 1149 г. отправился обратно во Францию вместе с королевой Алиенорой Аквитанской, только что потребовавшей расторжения их брака. Бернард Клервоский тяжело пережил итоговую неудачу, объяснив ее испорченностью нравов христиан. Ведь крестоносная идея утратила единство: чаяния народа — это было одно дело, амбиции монархов — другое, духовный идеал клириков — третье. Так или иначе, долгое отсутствие Капетинга дало возможность убедиться, что для функционирования королевской власти личное присутствие короля уже не обязательно. Новое соотношение сил в Святой земле Однако на Востоке, в то время как франки окончательно взяли побережье под свой контроль (Балдуин III в 1153 г. занял Аскалон), Нур-ад-Дин, наследовавший Зенги в качестве правителя Алеппо и Хомса, к 1151 г. захватил всю территорию Эдесского графства и взял последние крепости, какие еще были за Оронтом у Антиохийского княжества. Он сделал Сирию единым блоком, навязав ей суннитскую ортодоксию (в 1154 г. он аннексировал Дамаск, в 1155 г. — Баальбек, в 1157 г. — Шейзар). С 1159 по 1177 г. союз франков с византийским императором Мануилом Комнином на основе признания его сюзереном обеспечивал в регионе относительную стабильность; это дало сирийскому государству и латинскому королевству возможность устроить «гонку за Египет» — фатимидский Египет пребывал в упадке. Сначала господствующую позицию обеспечил себе король Амори I (1163–1174), организовав в 1167 г. поход на Александрию при участии пизанского флота, но в следующем году, когда франко-византийское вторжение потерпело неудачу, власть над Египтом захватил Саладин (Салах ад-Дин), сын наместника-курда на службе у Нур ад-Дина, и в 1169 г. восстановил там суннитскую ортодоксию. После смерти Нур ад-Дина Саладин, провозглашенный правителем Египта и Сирии, прежде всего постарался не допустить распада блока, объединенного его предшественником (походы на Алеппо в 1183 г. и на Мосул в 1185 г.). Сельджуки, окончательно упрочив свою власть в Анатолии в 1176 г., лишили Иерусалимское королевство всякой возможности прибегнуть к помощи византийцев. С другой стороны, вопрос наследования Балдуину V (умершему в детстве племяннику прокаженного короля Балдуина IV, 1173–1185) породил кризис, столкнув меж собой сторонников Раймунда III Триполийского и сторонников Ги де Лузиньяна (1186–1192): оба выдвинули притязания на трон. Тем временем провокация со стороны Рено де Шатильона, сеньора Трансиордании, дала Саладину повод расторгнуть заключенное в 1185 г. перемирие. Он разгромил франкские войска при Хаттине в 1187 г. и воспользовался этой победой, чтобы занять Иерусалим и практически всю Иудею, и Галилею. Он вторгся в Триполийское графство и Антиохийское княжество. Сопротивление, какое оказали Тир (оборону которого возглавлял Конрад Монферратский), а также Триполи и Антиохия, позволило подготовить Третий крестовый поход. В 1189 г. при поддержке первых крестоносцев, прибывших из Европы, Ги де Лузиньян осадил Акру. Третий крестовый поход[183] По зову папы римского император Фридрих Барбаросса и короли Франции и Англии в 1188 г. приняли крест. Для финансирования экспедиции Генрих II Плантагенет и Филипп Август ввели специальный налог — «саладинову десятину», взимавшуюся с клириков и мирян, которые не принимали участия в походе. Ведь отныне тех, кто сражаться не будет, с собой не брали. Фридрих Барбаросса был первым, кто отправился в путь в 1189 г. с внушительной армией (вероятно, в двадцать тысяч рыцарей). Вековая напряженность в отношениях между греческой империей и латинскими государствами, обостренная недавними событиями (резня итальянских купцов в Византии в 1182 г., разграбление Фессалоник сицилийскими норманнами в 1185 г.), объясняет, почему происходили столкновения между германскими отрядами и вооруженными силами византийского императора Исаака Ангела, подписавшего в 1189 г. договор с Саладином. Тем не менее Исааку пришлось обеспечить крестоносцам переправу в Малую Азию. Но Фридрих Барбаросса, победив в 1190 г. турок при Иконии, случайно утонул во время переправы через Салеф. Многие из выживших при переходе через Анатолию, пав духом, умерли под Антиохией от эпидемии. Лишь горстка уцелевших во главе с Фридрихом Швабским приняла участие в осаде Акры. Филипп Август и Ричард Львиное Сердце отплыли по морю в 1190 г. и не замедлили поссориться. По дороге английский король в 1191 г. захватил остров Кипр, принадлежавший византийцам. Прибытие крестоносцев ускорило сдачу Акры (1191 г.), осажденной уже два года, как ни старался Саладин помочь крепости. Но соперничество обоих королей погубило поход: Филипп Август, сославшись на нездоровье, немедленно покинул Святую землю, оставив своих рыцарей сражаться без него. Ричард, хоть и одержал несколько побед, так не решился штурмовать Иерусалим. В 1192 г. он заключил с Саладином перемирие на три года, предоставлявшее франкам свободу паломничества и отдававшее им во владение прибрежную полосу от Тира до Яффы. Этот договор дал Генриху Шампанскому (1192–1197), сумевшему благодаря браку наследовать Ги де Лузиньяну, возможность реорганизовать «Акрское королевство». Так как Генрих VI, сын Фридриха Барбароссы, и 1197 г. умер, его планы нового крестового похода не были реализованы. Но первые отряды, посланные им, захватили Бейрут, восстановив тем самым сообщение между Акрой и Триполи, в то время как мусульмане отбили Яффу. Король Кипра Амори II де Лузиньян (1197–1205), наследовавший Генриху Шампанскому, объединил под своей властью все латинские поселения на Востоке. Айюбиды, уже не рассматривая их как угрозу, разделили владения Саладина меж собой при верховенстве каирского султана; перемирия несколько раз продлевались (в 1198, 1204, 1212, 1229 г.), и итальянские торговые коммуны, игравшие ведущую роль в перестройке латинских колоний, соперничали за место на рынках Леванта.
Крестовые походы в XIII в.
Как и это изменение политической обстановки на Востоке, укрепление папской власти на Западе в XIII в. изменило сами крестовые походы — они стали орудием теократической стратегии папства. Систематизация крестового похода Время от времени, не поддаваясь контролю, воскресало идеальное народное представление о крестовом походе как прежде всего о паломничестве бедняков, избранных Богом, в земной Иерусалим. «Крестовый поход детей» в 1212 г. стал стихийным проявлением разочарования деклассированных элементов при известии о повороте Четвертого крестового похода; участники крестового похода «пастушков» (крестьян) в 1251 г., узнав о поражении Людовика IX под Мансурой, начали нападать на евреев. Однако институт (буллы, легаты, десятины, привилегии) уже действовал. Папа Иннокентий III создал юридический аппарат, позволявший организовать походы. Впервые повод для взимания налога (2,5 %) с церковных доходов для частичного финансирования экспедиции дал Третий крестовый поход. Четвертый Латеранский собор 1215 г. предписал, чтобы на Пятый крестовый поход клирики три года платили двадцатую часть от своих доходов (папа и кардиналы — десятую!). С 1145 г. папство резервировало за собой (во всяком случае, формально, в виде обнародования буллы) инициативу объявления крестового похода, а его проповедь поручало легатам, отвечавшим и за духовное руководство экспедицией. Во избежание новых несвоевременных инициатив, исходящих от проповедников из народа, ответственность за эту проповедь возложили на монахов (иногда цистерцианских) или регулярных каноников, а потом, в XIII в., главным образом на нищенствующие ордены. Отпущение грехов, какое с XI в. обещали отъезжающим в крестовый поход, через посредство настоящего прейскуранта выплат и даров породило систему налогообложения, обогащавшую папскую казну. Крестоносец (так же как его семья и имущество) выходил из-под светской юрисдикции и подлежал уже церковному суду. Выбор морского пути делал неизбежным заключение политических и коммерческих соглашений с итальянскими городами (Пизой, Генуей, Венецией), которые обеспечивали сообщение с Востоком и практически одни располагали средствами для необходимых перевозок по морю. Кроме «общих переправ», регулярно проводились ежегодные «переправы» (весной и осенью) — для тех, кто выполнял крестоносный обет в индивидуальном порядке. Благодаря получаемым дарам, как в Европе, так и на Святой земле, военные ордены (тамплиеры и госпитальеры) скопили огромные состояния, позволявшие им выдавать европейцам, стесненным в деньгах, кредиты на крестовый поход; долг отдавали по возвращении в Европу (см. карта 16).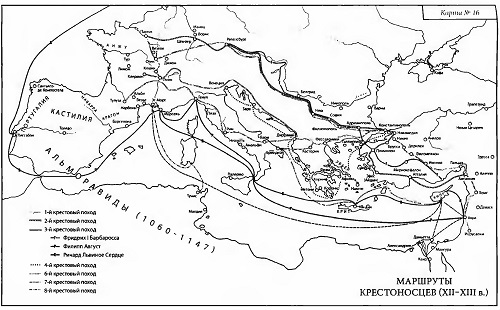
Эти фискальные и пропагандистские инструменты, созданные для защиты Святой земли, папство применяло для финансирования всех своих политических начинаний в XIII в. То есть священная война велась уже не исключительно с неверными — ее могли объявить всем, кто вдруг окажется врагом Рима. Вот почему европейские монархи, за исключением Людовика IX, теперь редко принимали участие в крестовых походах, которые преследовали в основном политико-религиозные цели.
Четвертый крестовый поход
Провал планов Генриха VI побудил папу Иннокентия III (1198–1216) сразу после восшествия на Святой престол взять на себя инициативу «крестового похода, вдохновленного именно папством»[184], пламенным пропагандистом которого во Французском королевстве сделался Фульк из Нейи. Чтобы избежать препятствий, каких можно было ожидать на сухопутной дороге, шампанские и фламандские крестоносцы заключили соглашение с Венецией на перевозку по морю и снабжение ожидаемых тридцати тысяч человек за 84 тыс. марок. Но в 1202 г. крестоносцы, собравшиеся в Венеции, оказались не в состоянии выплатить условленную сумму. Энрико Дандоло, дож Венеции, обещал Бонифацию Монферратскому, возглавившему поход, простить им долг, если они нападут на далматинский порт Задар, контролировавший тогда торговлю в Адриатическом море. Взятие этого христианского города вызвало в армии протесты (некоторые, как Симон де Монфор, отказались сражаться), и папа отлучил крестоносцев от церкви (временно). Между тем Алексей (сын константинопольского императора Исаака Ангела, свергнутого братом в 1195 г.) предложил им восстановить отца на престоле в обмен за военную поддержку и финансирование экспедиции, окончание византийской схизмы и предоставление венецианцам торговых льгот. Несмотря на формальные возражения Иннокентия III и колебания части армии, в 1203 г. крестоносцы повернули на Константинополь. Исаак Ангел и его сын Алексей IV вновь обрели власть, но вскоре, в 1204 г., были свергнуты в результате мятежа против латинян. Крестоносцы пошли на штурм и разграбили город. Самым долговременным результатом этого отклонения от первоначального курса стало не столько основание эфемерной Латинской империи на Востоке, сколько создание обширной венецианской колониальной империи в Эгейском море.Пятый крестовый поход
Четвертый Латеранский собор 1215 г. в завершение своей работы призвал проповедовать новую экспедицию, которая бы отправилась с Сицилии в 1217 г. Французские рыцари, поглощенные альбигойским крестовым походом, который давал им такие же духовные и материальные выгоды, в Пятом крестовом походе практически не участвовали. Крестоносцы (поначалу в основном австрийцы и венгры) во главе с Жаном де Бриенном, королем Акры и Иерусалима (1210–1225), и Эндре II Венгерским не сумели взять крепость на горе Фавор, угрожавшую Акре. Венгры в 1218 г. удалились, а остаток армии, усиленный прибывшими новыми бойцами, снова заняв Цезарею и укрепив гору Кармель, в том же 1218 г. отправился осаждать Дамьетту, важный египетский торговый город. Айюбидский султан пообещал вернуть основную часть территории бывшего Иерусалимского королевства, если осаду снимут. Но из-за неуступчивости папского легата договориться не удалось. После падения города легат хотел объявить крестовый поход на Каир. Однако, потерпев поражение на открытой местности под Мансурой, христианская армия была вынуждена вернуть Дамьетту султану и уйти без какого-либо результата, кроме заключения в 1221 г. перемирия на восемь лет.Шестой крестовый поход
Фридрих II принял крест в 1215 г. Коронованный в 1220 г. императорской короной, он стал королем Иерусалима вследствие брака с дочерью Жана де Бриенна, но без конца откладывал отъезд в Святую землю. Интердикт, наложенный на него папой Григорием IX, не помешал ему наконец отплыть в 1228 г. Выросший на Сицилии, где смешивалось византийское и мусульманское влияние, отлученный император из-за своей «исламофилии» пожелал вступить в переговоры с египетским султаном аль-Камилем. Яффаский договор 1229 г. вернул латинскому королевству Иерусалим (оставшийся открытым городом), а также Назарет, Вифлеем и некоторые аннексированные территории. Но императорская власть вошла в конфликт с франкской аристократией Святой земли и с военными орденами. Крестоносцы, продолжавшие прибывать на Восток, становились участниками этих внутренних распрей. Проводя «политику качелей» и балансируя между египетским и дамасским султанами, они добились возвращения значительной части бывшего Иерусалимского королевства. Но бесконечные гражданские войны привели к изгнанию имперцев в 1243 г. и к взятию Иерусалима в 1244 г. войсками египетского султана, одержавшими при Форбии победу над франками и их дамасскими союзниками. «Государств крестоносцев» больше практически не осталось, лишь разрозненные и соперничающие поселения.«Осень крестовых походов»
В этих условиях планы обоих вселенских соборов, один за другим прошедших в Лионе (в 1245 и 1274 г.), и экспедиции[185] Людовика IX в Египет в 1248 г., а потом в Тунис в 1270 г. почти не имели шансов на успех. У последних королей Акры и Иерусалима и у военных орденов больше не было сил противостоять нападениям мамлюков, взявших в 1250 г. власть в Египте. В 1291 г. армия мамлюков осадила Акру, павшую через сорок дней; цитадель, которую героически обороняли тамплиеры, сдалась на десять дней позже. Впоследствии латиняне потеряли последние цитадели — Тир, Сидон, Шато-Пелерен… Лишь Кипрское королевство сумело сохраниться до конца Средних веков. Несмотря на вековые — но в конечном счете поверхностные — контакты между «пуленами» (латинскими поселенцами, обосновавшимися в Палестине) и местным населением, крестовые походы обострили взаимное непонимание между христианами и мусульманами и, главное, упрочили разрыв между греками и латинянами. К концу XIII в. крестоносная идеология стала утопией, которую князья и папство использовали по своему усмотрению и которую можно было наполнять самым разным содержанием.
Часть третья
Капетингская Франция с 1223 по 1328 г.
 Первая монархия Европы
Первая монархия Европы
Глава I Людовик VIII: амбициозный принц, государь-завоеватель (1223–1226) (Эрве Мартен)
У принца Людовика, старшего сына Филиппа Августа, появившегося на свет 5 сентября 1187 г., подругой детства была Бланка, дочь Альфонса VIII Кастильского и Элеоноры Английской. Став позже его женой, Бланка приобрела на него большое влияние: «Женщина по рождению, она вела себя в совете подобно мужчине», — признавал английский хронист Матвей Парижский. Наследный принц, которому отец тоже не давал воли, не был коронован в качестве соправителя, и только в 1209 г., когда ему исполнилось двадцать два года, его посвятили в рыцари. Образованный, приобщенный Амальриком Венским к свободным искусствам, проникнутый каролингскими представлениями, он увлекался некоторыми химерическими идеями. Как личность он резко контрастировал с отцом: бледный и тщедушный, он не отличался ни жизнелюбием, ни цветущим обликом победителя при Бувине; верный супруг, он не ведал таких порывов чувств, как возлюбленный Агнессы Меранской; о нем, «святом человеке», никто не посмел бы сказать, что он едва избежал ада, как уверяли некоторые exempla[186] в отношении его знаменитого родителя. Тем не менее Людовик VIII унаследовал от Филиппа Августа по меньшей мере два грандиозных замысла — добить державу Плантагенетов и завоевать еретический Юг. Царствование его было кратковременным, как видно по датам. Неприметный государь? С этим уже можно поспорить. Эпическая поэма «Деяния Людовика VIII» (Gesta Ludovici VIII), написанная в 1228 г. клириком Николаем Брейским, славит два его главных свершения, сильно поразивших современников: взятие Ла-Рошели и взятие Авиньона. Другие источники тоже сообщают о его подвигах — будь то Альберик из Труа-Фонтена, Вильгельм Бретонец, Винцент из Бове, Бетюнский аноним или Турская хроника. Набор сохранившихся нарративных документов и дипломатических памятников позволил Шарлю Пти-Дютайи завершить в 1894 г. солидное «Исследование о жизни и царствовании Людовика VIII (1187–1226)»[187]. Этот обобщающий труд теперь устарел благодаря недавно вышедшей книге Жерара Сивери, посвященной «Людовику VIII Льву» и изданной в 1995 г.[188] Последующие страницы очень многим обязаны этой книге, предлагающей новый взгляд на самого малоизвестного из королей династии Капетингов.Долгое обучение власти под строгим надзором (по 1213 г.)
Принц Людовик был Каролингом, настоящим потомком Карла Великого по матери, Изабелле де Эно, скончавшейся в 1190 г. в возрасте двадцати лет. Он прошел рыцарскую подготовку под руководством маршала Генриха Клемана в обществе нескольких сыновей крупных вассалов. Интеллектуальное образование он получил в королевском дворце, под присмотром парижского магистра Амальрика Венского. Любивший литературу и готовый ей покровительствовать, прежде всего он был человеком действия, большим любителем турниров. Политическую программу для него начертал в 1200 г. клирик Эгидий Парижский в сочинении, озаглавленном «Carolinus». Жерар Сивери вычитал там между строк критику авторитаризма Филиппа Августа и его окружения. Ведь, по мнению Эгидия Парижского, королю следовало в первую очередь быть арбитром. Он должен был уважать нравы и обычаи феодалов и церковнослужителей и помнить, что Карл Великий без колебаний наделял магнатов большими полномочиями. Автор, который без особого сочувствия относился к административным реформам предыдущего десятилетия, приводил в пример императора Запада явно в консервативных целях. Кастильский брак стал важным этапом в формировании личности будущего Людовика VIII. Чтобы укрепить мир между Филиппом Августом и Иоанном Безземельным, удачным ходом выглядело решение женить в 1200 г. наследного принца на Бланке, дочери Альфонса VIII Кастильского и Элеоноры, сестры английского короля. Этот матримониальный союз имел столь же политический характер, как и договор на острове Ле-Гуле, заключенный в том же году. Новобрачным было, соответственно, тринадцать и двенадцать лет. Их первый ребенок, Филипп, родится через девять лет. Проникнутые куртуазными ценностями, окруженные юными принцессами и принцами, в числе которых был поэт Тибо Шампанский, они умели удачно сочетать любовь и брачные узы. Поскольку в 1206–1207 гг. в королевстве нарастало недовольство, Людовик против воли мог сделаться знаменем противников отца. Последние жаловались на произвол королевских бальи и обличали злоупотребления, от которых страдали епископы, рыцари и горожане. Возможно, в окружении наследного принца, которому в 1207 г. исполнился двадцать один год и посвящение которого в рыцари затягивали, происходило определенное брожение. Не опасались ли его наверху? Это можно допустить, зная о гонениях, каким подвергли его учителя Амальрика Венского, обвиненного в пантеизме, и учеников последнего, которых спешно поставили на одну доску с альбигойцами и в этом качестве приговорили к костру или заключению. Возможно, страшились не столько учения Амальрика как такового, сколько возникшего в той же среде пророчества, согласно которому Людовика ждала славная судьба и он должен был стать «бессмертным королем эпохи Святого Духа». Подавляя движение амальрикан, брат Герен и его присные посылали предупреждение противникам. Добавим, что в тот период Филипп Август не делал ничего, чтобы поощрить старшего сына: мало того, что король не допускал его в соправители, но еще и отложил его посвящение в рыцари до 1209 г. и не давал ему никакой самостоятельности в управлении графством Артуа, которое тот получил от матери. Людовик был только сеньором, но не графом этой области, где ему удалось в 1212 г. отвоевать Сент-Омер и Эр-сюр-ла-Лис и где он сумел привить населению преданность короне, но где у него никогда не было независимой канцелярии. Высшие сановники отца считали графство Артуа неотъемлемой частью королевства.Служба династии и личные амбиции (1213–1223)
С 1213 по 1215 г. принц Людовик оказал династии Капетингов важные услуги. Первый план экспедиции в Британию был составлен, когда папа Иннокентий III в январе 1213 г. низложил Иоанна Безземельного. Верховный понтифик предложил Филиппу Августу устроить крестовый поход за Ла-Манш. Судя по официальным французским документам, речь шла о том, чтобы передать Англию Людовику, сославшись на права Бланки Кастильской. Поскольку Иоанн Безземельный в конце концов покорился папе, экспедицию отменили. Королевское войско направилось во Фландрию, чтобы покарать графа Феррана, нападения которого во Франции прежде опасались. Покрыв себя славой при Дамме, Людовик с июня по декабрь 1213 г. возглавлял кампанию сам. В следующем году он добился выдающегося успеха в борьбе с Иоанном Безземельным. Высадившись в Ла-Рошели, британский монарх привлек на свою сторону баронов Пуату и двинулся на Париж. По пути, рассчитывая на мощь своей армии, он решил захватить ла Рош-о-Муэн близ Анжера. Перейдя в это время в атаку, принц Людовик обратил английскую армию в бегство без столкновения как такового. В 1215 г. он совершил поход на альбигойский Юг для поддержки Симона де Монфора, которому помог захватить Тулузу. Личные амбиции наследного принца пробудила экспедиция в Британию, происходившая с весны 1216 г. по осень 1217 г. Эта авантюра началась с обращения английских баронов, восставших против Иоанна Безземельного. Осенью 1215 г. эмиссары мятежников предложили старшему сыну Филиппа Августа корону Англии. Это неожиданное предложение можно понять, если знать, что королевский камерарий Варфоломей де Руа состоял в родстве с графом Лестерским и открыто одобрял замысел. Капетингский государь довольствовался тем, что оказал начинанию осторожную поддержку. В свою очередь Людовик и Бланка возмечтали об английской короне, тем более что весной 1216 г. поход начался при лучших предзнаменованиях. Через пролив переправились беспрепятственно, и лондонское население оказало Людовику радушный прием. Для знати и церковнослужителей далекий король был лучше близкого тирана. Это было для них прекрасной возможностью сохранить свои вольности. Военные удачи и присоединение новых сторонников позволили Людовику с мая по июль 1216 г. занять Юго-Восточную Англию. Ветер начал меняться в октябре, после смерти Иоанна Безземельного. Восшествие на престол девятилетнего Генриха III позволило баронам рассчитывать на то, что до его совершеннолетия они будут самостоятельными. Плантагенетская партия, поддержанная папой Гонорием III, объединилась вокруг Вильгельма Маршала, знаменитого турнирного бойца, увековеченного Жаном Трувером, достигшего вершины карьеры и удостоенного титула «правителя короля и королевства» (rector regis et regni). Людовик Французский, воспринимавшийся теперь как нежеланный пришелец, не мог удержаться от того, чтобы прибегнуть к принуждению, и захватил бенефиции епископов и аббатов, перешедших в лагерь противника. Вскоре его назвали тираном, ряды его сторонников поредели, и ему пришлось перейти к обороне. После поражения при Линкольне в мае 1217 г. положение Людовика стало сложным, а в августе, после разгрома флота, который шел ему на помощь, — катастрофическим. Так что он был вынужден покинуть Англию, подписав в сентябре 1217 г. Ламбетский договор. Это фиаско заставило супружескую чету на время отойти в тень. Став после этого поражения осторожными, Людовик и Бланка отклонили предложенную им в 1217 г. корону Кастилии. В течение шести следующих лет наследный принц не проявлял ни малейшей личной инициативы. Его как будто отстранили от власти, хоть и воздавали положенные почести. По существу, все решали Герен и Варфоломей де Руа, даже в 1219 г., когда Людовик официально возглавил второй поход на Юг, чтобы спасти часть завоеваний Симона де Монфора, погибшего в 1218 г., и покончить с упорным сопротивлением графа Тулузского Раймунда VI. За разграблением Марманда последовали поражение под Тулузой и возвращение в Париж в августе.Эффективное царствование: государь-завоеватель (1223–1226)
Проведшего в бездействии несколько лет принца Людовика, может быть, преобразило восшествие на престол. От него ожидали многого — поэт Вильгельм Бретонец славил его как воина и завоевателя, способного превзойти Филиппа Августа и достичь Пиренеев. В то время как разные кланы полагали, что смогут им манипулировать, новый король поспешил расстроить их замыслы; он расчетливо делал уступки одним и другим и старался завязать прочные связи со своим народом. Народным ликованием будут встречены победы Людовика в Пуату и на юге, где станет ясней его главная стратегическая цель, ясно отмеченная Жераром Сивери, — распространить королевское влияние на атлантическое побережье и на берега Средиземного моря. Завоевание Пуату Завоевание Пуату в 1224 г. было предпринято потому, что Людовик VIII под воздействием окружения стремился, выдворив англичан из своего королевства, изгладить память об оскорбительном поражении за Ла-Маншем в 1217 г. Если он и хотел достичь Пиренеев (что, по Вильгельму Бретонцу, было его конечной целью), то сначала ему надо было установить свою власть на землях между Луарой и Гаронной — в Пуату, вообще-то покоренном в 1203–1204 гг., но с тех по большей части утраченном, в Перигоре и Лимузене, то и дело менявших сюзерена. Пуатевинские бароны извлекали выгоду из этой ситуации, бессовестно обирая «английские» города побережья, как Ла-Рошель и Сен-Жан-д’Анжели, торговавшие зерном, вином и шерстью. Гуго де Лузиньян, сеньор Марша и Ангулема, и Гуго де Туар вели себя как мелкие тираны и хищники. Это доказывает следующая угроза, которую Лузиньян адресовал ларошельцам в 1222 г.: «Если кто-либо нанесет мне какое-то оскорбление, вы не посмеете выйти за ворота своего города»[189]. Людовик VIII нашел предлог, чтобы вторгнуться в Пуату: он сослался на то, что Филипп Август в свое время конфисковал все фьефы Иоанна Безземельного. Прежде чем начать эту кампанию, капетингский король отказался от идеи нового крестового похода на Юг и заручился поддержкой Гуго де Лузиньяна. 24 июня 1224 г. войска собрались в Туре. Согласно Николаю Брейскому, готовому предвосхищать объединение провинций в единую Францию, в городе на Луаре собрались бретонцы, «верившие, что король Артур еще жив», воинственные нормандцы, фламандцы — любители ячменного пива, шампанцы, исполненные отваги, и жители долины Роны, которые «богохульствуют, когда их кусает блоха». Под началом короля было несколько сот вассалов, наемники (не менее шестисот наемных сержантов) и отряды, присланные городами. Он двинулся к Ла-Рошели, и по дороге к нему присоединился сир де Туар, вассалам которого он даровал рентные фьефы. Ньор сдался быстро, 5 июля 1224 г., и его примеру вскоре последовал Сен-Жан-д’Анжели. Далее король осадил Ла-Рошель, город, из которого англичане «контролировали весь регион» (Рожер Вендоверский). Бароны начали роптать: после двадцати дней похода они рассчитывали уже вернуться по домам. К счастью, Ла-Рошель капитулировала быстро — 3 августа 1224 г. Через десять дней тысяча семьсот сорок девять виднейших горожан принесли Капетингу присягу на верность. После этого завоевание Пуату легко завершилось, и продолжением его стало присоединение Перигора и Лимузена; Онис и Сентонж были захвачены, но большая часть Борделе осталась за англичанами. В конечном счете результат этого пуатевинского похода оправдал ожидания не полностью: Пуату и земли по эту сторону Гаронны были в принципе покорены, бароны принесли оммаж за 100–125 ливров годовой ренты, но их верность осталась нестойкой (Лузиньян и Туар в 1226 г. вновь перешли на сторону англичан), дарованные городам хартии просто подтвердили их прежние вольности, а англичане с тех пор предпочитали запасаться вином в Бордо, покинув Ла-Рошель. Отнюдь не сложив оружия, они в 1225–1226 гг. подрывали пуатевинскую торговлю и неприкрыто договаривались со всеми противниками Людовика VIII, от самозваного Балдуина Фландрского до графа Тулузского, включая Пьера Моклерка, графа Бретонского, получившего в 1225 г, графство Ричмондское. Тем не менее капетингская монархия открыла для себя атлантические перспективы, а французский король показал, что способен положить конец анархии в этих нестабильных регионах. «Крестовый поход» 1226 г. Новый всплеск катарской ереси, особенно ощутимый в 1219 г., взволновал папу Гонория III. Он подталкивал Людовика VIII вмешаться, но из-за нехватки финансов Капетинг медлил. Наконец, легат Романо, кардинал замка Святого Ангела, поставил короля во главе экспедиции и подтвердил его права на домены молодого графа Тулузского Раймунда VII, отлученного от церкви. К этой классической версии событий мы, следуя Жерару Сивери, добавим, что тщательная подготовка кампании выдает скорей политический, чем религиозный замысел. Король желал подчинить крупного сеньора Юга и уже поглядывал на средиземноморское побережье. Он хотел быть уверенным, что захватит Нижний Лангедок, имея на руках все козыри. Папа, желая истребить ересь, уступил требованиям Капетинга, которому удалось добиться, чтобы, введя десятину, церковь оплатила поход, направленный на расширение королевского домена. В апреле 1226 г. королевский ордонанс приговорил еретиков к сожжению на костре, а их сторонников — к бесчестью. Земли тех, кто остается под отлучением более года, подлежали конфискации. Тем самым судьба Раймунда VII на более или менее ближний срок была решена. Армия крестоносцев собралась в Бурже в мае 1226 г. Короля сопровождало несколько епископов; правда, некоторые крупные вассалы, как Пьер Моклерк и Тибо Шампанский, не собирались служить более сорока дней. Людовик VIII предпочел пройти долиной Роны, чтобы упрочить свое влияние в Арелатском королевстве и поддержать Раймунда Беренгария V, графа Прованского. Король осадил имперский город Авиньон, который 9 сентября сдался: его крепостные стены были снесены. Сопротивление города Воклюза воспели в знаменитой сирвенте два тарасконских рыцаря, Томьер и Палази: «У нас будет могущественная помощь — я уповаю на Бога — и мы одержим победу над людьми из Франции. Гнев Господень падет на воинство, кое не испытывает перед ним страха. Держитесь стойко, сеньоры, будем рассчитывать на помощь небесную»»[190]. Эти воинственные призывы и поэтический пыл не могли задержать триумфального продвижения короля на катарский Юг, где настоящее сопротивление оказал только городок Лиму. Территорию подготовила церковь: епископы и аббаты признавали себя королевскими вассалами за светские владения. Можно было даже считать, что высшее духовенство дало захватчикам ключи от Юга. Хуже того — и рыцари вяло поддерживали Раймунда VII. Обнаружилась даже французская партия, зарившаяся на имущество файдитов, альбигойцев, объявленных вне закона. По всем этим причинам с июня по сентябрь 1226 г. сеньоры и города один за другим принимали сторону Людовика VIII. Цель, которой добивался Капетинг после победы, была вполне понятна: присоединить к домену Нижний Лангедок и не допустить, чтобы арагонцы расширили свои руссильонские владения за счет Прованса. Людовик VIII умело уладил переход от одной власти к другой: он оставил на постах местных управленцев: бальи, вигье и их помощников; он назначил одного сенешаля в Нимско-Бокерский округ и другого — в Каркассонский. Раскаявшиеся сеньоры могли сохранить свои фьефы, и было приказано даже возвращать владения. Приняв эти меры, король не стал изгонять Раймунда VII из Тулузы и повернул обратно на север. Заболев дизентерией, он 3 ноября 1226 г. остановился в Монпансье близ Рьома, в Оверни. Туда он созвал прелатов и баронов и потребовал «поклясться, как можно скорей провести коронацию его сына Людовика» (Пти-Дютайи), чтобы помешать магнатам, если вдруг они пожелают, избрать своего единокровного брата Филиппа Лохматого, графа Булонского. Бланка Кастильская была назначена baillistre (опекуншей) юного короля, действительно коронованного 29 ноября. Тот факт, что ни Пьера Моклерка, ни Тибо Шампанского в Рьоме не оказалось, предвещал смуты.Дороги власти
Внешне в 1223 г. в королевском окружении не изменилось ничего — в нем по-прежнему доминировали Герен и Варфоломей де Руа. Последний стремился заправлять всеми делами и, возможно, слегка подправил завещание Филиппа Августа. Он воплощал чаяния средней знати, чья победа быланеполной, потому что Герен стал канцлером и оставался приближенным советником нового короля, который сам твердо решил полностью исполнять свои обязанности, при тесном сотрудничестве с церковью. Когда требовалось, король сам умел принимать окончательные решения, и иногда, утверждая акты, довольствовался тем, что ставил свою печать, обходясь без подписи высших сановников. Он не был лишен выдержки — качества, приобретенного годами ожидания. С Бланкой Кастильской он составлял пару столь же единодушную, сколь и плодовитую: пятеро из двенадцати их детей, окруженные любовью, дожили до совершеннолетия. На службе у королевского семейства трудилось ведомство двора (hotel) численностью около двухсот человек, распределенных по шести ведомствам (хлебодара, виночерпия). Если к ним прибавить знать из королевского окружения, клириков, счетоводов и юристов курии, можно считать, что короля в его дворце на острове Сите окружало четыреста-пятьсот человек. Часть из них следовала за королем в его разъездах. Ведь Людовик VIII любил появляться среди своего народа. Шарль Пги-Дютайи насчитал сто девять мест, где останавливался король, и может показаться, что для трех лет царствования — это много. На самом деле семьдесят из этих стоянок связано с коронацией и последовавшим за нею разъездом, с военными походами в Пуату и Лангедок и с одной поездкой в Вокулер. Оставшиеся тридцать девять мест находятся в Парижском бассейне, чаще всего в пятидесяти-ста километрах от Парижа. Король предпочитал жить в сердце своего королевства, его излюбленным пристанищем оставался дворец Сите. Из сорока месяцев царствования двадцать восемь он провел в Париже и окрестностях, остальные двенадцать — в походах и дальних поездках. Сознавая ответственность перед короной, желая расширить домен, Людовик VIII тем не менее заботился и о будущем детей. В завещании за 1225 г, он не поскупился им на апанажи. Его второй сын Роберт получил Артуа, третий, Жан, — Анжу и Мэн, четвертый, Альфонс, — Пуату и Овернь. Надо ли говорить о необдуманном дроблении домена? Надо ли полагать, что главная цель завоеваний состояла в том, чтобы наделить землями младших сыновей? Если обратить внимание, что земли, уступленные в апанаж, были присоединены лишь недавно и располагались на проблемных территориях, можно предположить, что такие передачи представляли собой стадии их ассимиляции, а не безответственные щедроты короля. В первом «круге власти» находилось несколько новых лиц и «старая гвардия», о раздорах между которыми мы уже упоминали. Варфоломея де Руа, королевского камерария с 1208 г., нельзя рассматривать как вице-короля, и в официальных актах его имя встречается редко. Его политическая линия возобладала в двух важнейших случаях — в 1224 и 1226 г., когда произошли походы в Пуату и Лангедок. Однако главой администрации оставался канцлер Герен, епископ Санлисский. Следов его деятельности можно заметить довольно много, особенно в церковной сфере. Герен олицетворял осторожное управление и к дальним походам относился враждебно. Он оказался в относительной тени, что, возможно, объяснялось его восьмидесятилетним возрастом, но это компенсировалось уважением и признательностью короля. Новые люди выдвинулись в 1225–1226 гг. Матье де Монморанси, с 1218 г. коннетабль, до тех пор не очень влиятельное лицо, взял на себя военную администрацию, предоставив командовать походами королю и маршалу Жану Клеману, Кравчий Робер де Куртене составлял протокол пиров и участвовал в утверждении актов. Урс де ла Шапель, камергер и ближайший советник короля, скрывал свои амбиции, ведя себя как обычный высокопоставленный служащий. Ко второму кругу можно отнести представителей знати, интересы которых различались. Крупные вассалы следовали за королем в походы, проявляя больше или меньше энтузиазма. Некоторые оказались в немилости или томились в заключении, как граф Фландрский. Другие участвовали в собраниях королевской курии (curia regis), за исключением технических заседаний в День Всех Святых, Сретение и Вознесение, когда проверяли счета. Знать средней руки, прежде возлагавшая надежды на Людовика VIII, в принципе находилась в выгодном положении. Однако король не открыл ей широко двери советов, выделив лишь несколько родов, чтобы сбить спесь с магнатов. Этот второй круг сам вписывался в более широкую среду, состоявшую из собраний или расширенных курий.Новый способ управления?
Учредил ли Людовик VIII «режим собраний», в большей или меньшей мере следуя английскому образцу? В этой сфере он действительно поступал совсем не так, как отец. Если не брать во внимание судебные и счетные курии, можно заметить, что Филипп Август созвал всего тридцать политических собраний за сорок три года, то есть в среднем по 0,6 собрания в год. Его сын созвал их двадцать пять за три с половиной года, то есть 6,2 в год, и на них принимали официальные акты. Значимость этих собраний была различной, судя по полезному перечню, составленному Шарлем Пти-Дютайи: в сентябре 1223 г. в Сомюре обсуждали права короля на территории аббатства Кормери, через два месяца в Париже разрабатывали постановление о евреях и отвечали на протесты английских послов. На эту курию в расширенном составе собирались клирики, счетоводы, мелкие рыцари и более родовитая знать. Когда речь шла о феодальных проблемах, запрашивали мнение знати средней руки. Держатели крупных фьефов, кроме Филиппа Лохматого, не отличались усердной посещаемостью. Беглый статистический анализ упомянутого ранее списка позволяет сделать некоторые интересные выводы. Девятнадцать собраний из двадцати пяти проводились к северу от Луары, в том числе девять — в Париже и три — в Иль-де-Франсе. Шесть из этих собраний, похоже, имели локальное значение, четыре — региональное и четырнадцать рассматривали общие проблемы государства. Среди повесток дня пальму первенства держали следующие: крестовый поход в Альбижуа обсуждался девять раз, вопросы общей политики и демонстрации суверенитета — три раза, франко-английская распря — четыре раза, отношения с высшей знатью — семь раз и с городами — два раза, проблемы оммажа и сеньориальные права — семь раз и, наконец, загадочное дело Лже-Балдуина Фландрского — один раз. Некоторые силовые линии царствования Людовика IX были уже намечены пунктиром: старания короля добиться, чтобы его признали верховным сюзереном, борьба с евреями и еретиками, тесное сотрудничество с церковью. Согласно Жерару Сивери, эти собрания клириков и администраторов по-настоящему ничего не решали и довольствовались тем, что утверждали решения «первого круга», Придворная знать гораздо активней участвовала в этих встречах, чем провинциальная аристократия. Из ста восьмидесяти трех зафиксированных участников 52 % находились на королевской службе в качестве бальи, сенешалей, высших должностных лиц, финансовых или административных чиновников. Насчитано также двадцать епископов, пятьдесят баронов и шателенов. Людей, всецело преданных государю, предположительно было сто семьдесят. Лишь тринадцать магнатов могли проявить строптивость, но они не составляли оппозицию, достойную этого названия. Таким образом, ссылаться на какой-либо английский образец и полагать, что Франция взяла уроки у общего совета (соmmun conseil), созданного за Ла-Маншем, рискованно. Большие собрания, чью деятельность подрывали изнутри высшие чины короны, на деле были всего лишь регистрационными палатами. Работу главных учреждений в эти три года можно оценить скорей положительно. Канцелярия, более активная, чем при Филиппе Августе, оставила нам шестьсот актов, то есть выпускала в среднем по шестнадцать документов в месяц — намного больше, чем канцелярия времен предыдущего царствования (четыре в месяц). Эти грамоты адресовались прежде всего духовенству и знати, в меньшей степени городам, редко — крестьянам. С финансами все было хорошо, и благодаря этому Людовик VIII приобрел репутацию богатейшего государя Западной Европы. Если верить клирику Конону, прево Лозаннской церкви, учившемуся и жившему в Париже в 1223 г., доход Капетинга составлял 1200 ливров в день, то есть 438 тыс. ливров в год. Сохранился один-единственный счет за период с 1 ноября 1226 г. по 2 февраля 1227 г. Он выявляет некоторые основные тенденции управления финансами на рубеже двух царствований: крупные суммы взимались с горожан; доходы прево и бальи продолжали смешиваться; вклад недавно присоединенных областей еще не был ощутимым. Для этих трех месяцев суммарные доходы (54 тыс. ливров) заметно превышали расходы (37,5 тыс. ливров). В казне образовался солидный излишек в 123 900 ливров. Передача распоряжений с вершины политической структуры к ее основанию оставляла желать лучшего. Бальи по-прежнему оставались членами королевской курии (curia regis) и еще не ведали четко разграниченными районами, кроме как, возможно, в Артуа и в Вермандуа. Случалось, что некоторые бальи сообща управляли одной и той же территорией и вместе вершили там суд. Им надлежало также собирать эд или талью за войско — налог, считавшийся одновременно выкупом за неучастие в военной службе и штрафом за неявку на нее. Важные миссии поручались не только бальи, но также епископам, клирикам и рыцарям. Они образовали взаимозаменяемый персонал, нередко служивший в ведомстве королевского двора — настоящем питомнике администраторов. Эти три года царствования принесли большую или меньшую пользу разным категориям населения. В Парижском бассейне поощрялось освобождение сервов, особенно на монастырских землях. Заимодавцы из числа ломбардцев находились под защитой и пользовались реальными льготами, тогда как попытки взимать чрезмерные проценты пресекались. Собрание от 8 ноября 1223 г. отменило на три года проценты, какие должники должны были платить евреям. Далее надо было проявить больше понимания, чтобы не подорвать экономическую активность. Города власть держала в узде. В коммунах домена судопроизводство часто доверялось местным бальи. Городские финансы попали под более плотный контроль, чем прежде. В общем, король не пренебрегал ни финансовыми обязательствами, ни верностью городов. В отношениях с духовенством Людовик VIII чередовал тепло и холод. Два прелата, Герен и легат Романо, кардинал замка Святого Ангела, вошли в его совет. Он консультировался с Готье Корню, архиепископом Сансским. Зато король требовал от церковных властей строгого выполнения обязанностей по службе в войске, защищал компетенцию и атрибуты королевского суда и добивался, чтобы епископами избирали его кандидатов. У него возникли трения с Парижским университетом, когда вышеупомянутый легат возглавил защитников власти ректора. «Лев» также выказывал твердость в отношении знати, требуя от нее верности, службы в войске и соблюдения права рельефа. В случае мятежа сюзерена его вассалы должны были поддержать государя. Для ведения войн знать средней руки была очень востребована, тогда как придворной знати никогда не оказывались чрезмерно большие милости. Применив ретроспективный подход, историк может сделать вывод, что настоящим завершением царствования Людовика VIII на самом деле было заключение в апреле 1229 г. договора в Мо и Париже, окончательно санкционировавшего присоединение тулузского Юга к короне. Можно также полагать, что во многих сферах путь преемнику был проложен. Направленность поведения Капетингов как будто ясно определилась: следует тесно сотрудничать с высшим духовенством, бороться с катарской ересью, сражаться с евреями. Что касается отношений со знатью, то Пти-Дютайи склонен к чрезмерному оптимизму, когда ставит следующий диагноз: «К моменту восшествия Людовика Святого на престол все феодалы от Брюгге до Пиренеев, от Соны до Бретани — за исключением Плантагенетов — ощущали тяжелую руку французского короля». На самом деле в конце 1226 г. уже чувствовалась некоторая нестабильность. Тибо Шампанский и Пьер Моклерк и нетерпении грызли удила, не стоит забывать и сиров де Лузиньяна и де Туара. Кстати, последний политический акт Людовика VIII, составленный на смертном ложе, выдает некоторые опасения такого развития событий. Через несколько месяцев можно будет отметить, что за десять лет Франция и Англия обменялись позициями: в 1216 г. юный Генрих III унаследовал от Иоанна Безземельного расколотое королевство, где настоящим королем казался Людовик Французский; в начале 1227 г. юный Людовик IX и регентша Бланка Кастильская вели борьбу с коалицией феодалов, которых поддерживал государь из династии Плантагенетов.Глава II Людовик IX (1226–1270): политика на основе Священного Писания? (Эрве Мартен)
Судя по последним работам, это царствование, которое часто описывали унылыми агиографическими красками, было, похоже, ключевой фазой построения государства. Не надо позволять обманывать себя заявлениям о монархе, всегда старавшемся соблюдать «честный старый порядок» и никогда не посягавшем ни на чьи привилегии. Лучше довериться другим источникам, более верно отражающим коллективные представления. В начале царствования, судя, например, по «Scripta de feodis ad regem spectantibus», высшие сановники еще воспринимали королевство как сеньорию с огромной господской запашкой (королевский домен) и гигантскими держаниями (большие фьефы). Не умея ясно осмыслить политические реалии, где все менялось, люди короля еще сводили их к традиционным структурам. Лет через двадцать понятие государства словно бы уже в какой-то мере было осознано, коль скоро Людовик IX в 1248 г. под Дамьеттой мог обратиться к окружению с такими словами: «Не думайте, что спасение церкви и государства зиждется на моей особе. Вы сами — государство и церковь». Следовало видеть дальше смертной особы монарха, видеть за ней Корону — воплощение политической общности, гаранта общего блага. В этом долгом царствовании принято выделять этапные моменты: 1234 г. — год, когда король достиг совершеннолетия и женился на Маргарите Прованской; 1242 г. — конец феодальных смут и фактического правления Бланки Кастильской; 1248 г. — дата отплытия в египетский крестовый поход, откуда монарх вернется глубоко преобразившимся, приняв решение провести большие реформы.Первоначальная ситуация и проблемы регенства (по 1242 г.)
Территории Географически Французское королевство 1226 г. принципиально не отличалось от Francia occidentalis (Западной Франкии), уступленной Карлу Лысому по Верденскому договору 843 г. От империи Францию по-прежнему отделяла граница по четырем рекам (Шельде, Маасу, Соне и Роне), не без смещений в ту или иную сторону, как и не без отрезков, определенных приблизительно, — жители некоторых местностей не знали, которой власти подчиняются. На юге королевство упиралось в Средиземное море и в хребты Пиренеев; Руссильон в его состав уже не входил, «даже если Людовик Святой окончательно признал это только в 1258 г.»[191]. В сердце территории площадью 420 тыс. км2 находился королевский домен площадью которого составляла около 200 тыс. км2. Он включал лучшие земли, главные пути и их основные перекрестки. Из Иль-де-Франса капетингский спрут протягивал щупальца вдоль долин рек (Сены, Уазы, Соммы). Города как военные опорные пункты и этапы передачи административных распоряжений были объектами пристального внимания французских королей. Франция была самой населенной страной Западной Европы. Можно считать, что в ней жило 12–13 млн человек, коль скоро «Опись приходов и очагов» 1328 г. перечисляет 16–17 млн индивидов[192]. Указывать среднюю плотность населения, составлявшую 30–32 жителя на квадратный километр, особого смысла нет, потому что перенаселенные зоны, такие как Бос или Пикардия, соседствовали с «полупустынями». Область Шартра, изученная Андре Шедевилем, занимала среднее место по плотности населения — 15 семей на квадратный километр в долинах рек, от 7 до 10 на плоскогорьях, всего 4 в Перше. Население Франции, народ крепкий, в первой половине века, по полученным данным, росло на 0,4 % в год. С 1250 г. динамика его роста снизилась, но оно сохранило ментальность растущего народа, самыми явными признаками которой были бесконечно длинные наружные стены городов и соборы, столь же просторные, сколь и высокие. Смотря на жизнь оптимистично, современники Людовика Святого верили в будущее. Вследствие этого роста увеличился контраст между двумя Франциями, развивавшимися неравномерно. Если результаты расследования, которое в 1247 г. провели бальи и сенешали, прочесть должным образом, то, по мнению Жерара Сивери, можно заметить, что регионы значительно различались по богатству и по развитию торговли. Разве можно было сравнивать рыцарей из французской глубинки, вынужденных довольствоваться 60 ливрами годового дохода, с аррасскими купцами, способными платить выкупы в несколько тысяч ливров? «Франция новых богатств», по его мнению, включала в себя Фландрию, области западней Шельды, Шампань, Париж, а также Руан, атлантический морской фасад (Ла-Рошель, Бордо), средиземноморское побережье (Нарбонн, Эг-Морт) и внутренние районы Лангедока. В целом это были земли, которые контактировали с другими развитыми экономическими пространствами и где часто предпочитали селиться итальянцы. Кроме как через Иль-де-Франс, через сердце этой территории большие торговые потоки не шли. Регентство и метания крупных феодалов (по 1242 г.) В предыдущей главе мы видели, что Людовик VIII, предчувствуя близкую смерть, созвал прелатов и баронов в Монпансье и потребовал от них клятвы, что они в ближайшее время коронуют его двенадцатилетнего сына Людовика, назначенного его наследником по завещанию. Он опасался, как своеволия феодалов, так и конкуренции со стороны Филиппа Лохматого, графа Булонского, бастарда, которого Агнесса Меранская родила от Филиппа Августа. Правящая команда как фактор стабильности осталась на месте. Ловко играя на соперничестве аристократических кланов, она доверила опеку юного Людовика не графу Булонскому, а матери, Бланке Кастильской, иностранное происхождение которой в некотором роде ставило ее над партиями. Выполняя заветы покойного монарха, откладывать коронацию не стали — она состоялась 29 ноября. Это значит, что события осени 1226 г. обнаружили определенную хрупкость династии, которую, по счастью, компенсировало постоянство администрации. Высшие сановники оказали помощь регентше, ее поддержал и папский легат — Романо, кардинал замка Святого Ангела. Несмотря на эту поддержку, королевская власть в период несовершеннолетия Людовика IX действовала с позиции слабости. Как недавно было отмечено, «крупные вассалы считали, что женщина на самой вершине феодальной лестницы — это унизительно и неприлично»[193]. Монархия долго держала феодалов в узде, и теперь они решили, что им представилось возможность сбросить ее иго, как это сделали английские бароны, восставшие в 1215 г. против Иоанна Безземельного. Филипп Лохматый, Тибо Шампанский, Пьер Моклерк и иже с ними начали разрозненные мятежи. Первая феодальная коалиция была только недолгой вспышкой — весной 1227 г. Пьер Моклерк и граф Маршский быстро договорились о своем подчинении. Первому из них поручили охрану королевских крепостей Сен-Жам-де-Беврон, Беллем и Ла-Перьер. Вторая коалиция баронов, собравшаяся в Корбее под предводительством Филиппа Лохматого, создала угрозу для самой особы юного короля, на помощь которому пришел народ Парижа. В 1228 г. знать съезжалась на собрания, но зимой 1229 г. волнения удалось прекратить, взяв замок Беллем в Перше. Пьер де Дре, он же Моклерк, герцог Бретонский, тогда потерял все, что приобрел в 1227 г. С другой стороны, на Великий четверг 1229 г. Раймунд VII Тулузский в городе Мо изъявил покорность папскому легату. По условиям Парижского договора, заключенного в апреле, сенешальства Бокер и Каркассон переходили к королю, брат которого Альфонс де Пуатье должен был жениться на наследнице Тулузского графства. Бароны, уязвленные, что из окружения регентши их вытесняют испанцы и священники, с конца 1229 г. вновь начали сговариваться меж собой. На сей раз дело приняло гораздо более серьезный оборот. Об этих событиях в Западной Франции можно судить по рассказу, вышедшему из-под живого пера Жана-Пьера Легюэ. «Расстроенный тем, что его надежды оказались обманутыми, Пьер (де Дре) направился в Англию, которая до тех пор ему почти не помогала, встретился в октябре 1229 г. в Портсмуте с Генрихом III и совершил решительный жест- принес ему оммаж за герцогство. К этому обязательству исключительной важности добавился настоящий вызов, посланный письмом французскому королю […]. О дальнейшем нетрудно догадаться: обе стороны сразу начали мобилизацию сил, и в Бретани высадились английские войска, чтобы оказать вооруженную поддержку новому союзнику. Начались военные операции, и, к счастью для гражданского населения, они были, похоже, не такими смертоносными, не такими опустошительными, как в последующие века. Бойцы нередко строго придерживались вассальных обязанностей […]. Правильным сражениям предпочитали осады, мелкие стычки, нападения на обозы. Ничего решающего не случилось до 1234 г., кроме того, что Людовик Святой в районе Ансени созвал собрание, на котором Пьер был обвинен в вассальной неверности и лишен должности регента Бретонского герцогства […]. В 1231 и 1232 г. непрерывно шли кампании, в результате которых герцогство потеряло некоторые территории — были оккупированы города и крепости Ансени, Удон, Шатосо […]. Мятежному князю становилось все трудней продолжать борьбу. Атмосферу внутренней неуверенности усугубляли измены […]. Трехлетнее перемирие оказалось очень кстати, чтобы король и Бланка Кастильская укрепили свою власть, а Пьер получил сведения о намерениях английских союзников и вторгся на земли отпавших вассалов. Но в июле 1234 г. вернулась королевская армия и возобновила наступление, исполненная решимости на этот раз добиться окончательной победы. При виде развертывания сил на всех фронтах, от нормандской границы до Луары, князь бретонцев по обыкновению не стал упорствовать и вступил в переговоры, пока было еще не поздно. Его возвращение в ленную зависимость от французского короля фактически было капитуляцией в чистом виде, «сверху и снизу», которая сопровождалась временной передачей в залог нескольких замков, в том числе Сент-Обена. Он сохранил пост регента герцогства лишь на время и с 1237 г., когда его сын Жан стал совершеннолетним, фактически перестал играть какую-либо политическую роль»[194]. По мнению Шарля Виктора Ланглуа, знаменитая «Привилегия для бретонцев», жестоко высмеивавшая этот народ как торговцев метлами и мусорщиков, была написана в Париже в атмосфере обидного поражения Пьера де Дре. В 1234 г. в королевстве наконец воцарился мир. Главные противники монархии или умерли, как граф Фландрский и Филипп Лохматый, или были обузданы. Поучительный финал жизни Пьера Моклерка, принявшего участие в крестовом походе 1239–1240 гг., а потом последовавшего за Людовиком IX в Египет, ясно показал, что высшей аристократии пришлось пройти через «Кавдинское ущелье» христианнейшей монархии. Тем не менее внутренний мир в 1241 г. нарушило новое восстание. Когда Альфонс, именуемый «де Пуатье», достиг совершеннолетия и вступил во владение своим апанажем — Пуату и Овернью, Гуго де Лузиньян отказался приносить ему оммаж, подав тем самым сигнал к восстанию, быстро охватившему весь Юго-Запад, в том числе тулузские земли, и воспользовавшись помощью англичан. Королевская реакция не заставила себя ждать: фьефы Лузиньяна были конфискованы, Генрих III потерпел поражение в июле 1242 г. при Тайбуре и Сенте, Раймунду VII Тулузскому пришлось подчиниться, и королевская армия вступила на его земли, чтобы в 1244 г. захватить Монсегюр. Насколько важным был этот эпизод, о котором Жуанвиль не говорит ни слова? По мнению Этьена Деларюэля, было бы ошибкой называть крестовым походом то, что было простой полицейской операцией. Отныне страна была под контролем — от севера до юга, от основания до верхушки общества.Медленный прогресс институтов власти с 1226 по 1248 г.
В первой половине царствования представление о королевской власти еще оставалось очень традиционным. Конечно, концепция государства у богословов и юристов стала чуть определенней — ведь теперь они проводили четкое различие между властью, сохраняющейся в любых обстоятельствах, и ее обладателем, который мог быть ребенком. Но на практике Капетинг оставался сюзереном и сувереном нераздельно. Для него было жизненно важным использовать феодальные правила к своей выгоде и добиться, чтобы держатели больших фьефов вели себя по отношению к нему как настоящие вассалы. Он шел на все, чтобы заручиться верностью знати, раздавая дары и жалуя должности, и, чтобы навязать свою власть баронам, пресекал частные войны, контролировал браки и разбирал некоторые тяжбы при дворе. Мимоходом отметим, что в безупречно упорядоченной феодальной пирамиде из школьных учебников не было ничего самобытного и стихийного. Совсем наоборот, она появилась в результате упорной и терпеливой деятельности короля, постоянно стремившегося расширить свои прерогативы, постоянно желавшего собирать под свою руку земли и бойцов, как в героические времена Людовика VI Толстого. Территориальные приобретения, хоть и не сравнимые с завоеваниями Филиппа Августа, были тем не менее значительными: Перш (1226 г.), графство Макон (1239 г.), Берри, не считая упомянутых ранее южных сенешальств. Что касается бойцов, то король набирал воинов повсюду, пытаясь поставить под свое непосредственное руководство предводителей отрядов вассалов. Подсчитано, что к северу от Луары, не считая Шампани и Бургундии, он имел в распоряжении минимум 8800 рыцарей, к которым добавлялись контингенты, выделявшиеся коммунами. Центральная администрация не знала существенных перемен до 1250 г. Королевская курия (curia regis) включала в себя всех, кто принимал участие в руководстве королевством, часто выходцев из Иль-де-Франса и Пикардии — ближних областей, где действовало обычное право. Внутри двора небольшая группа людей, с которыми чаще всех консультировались, образовала совет. Но по-настоящему постоянных советников до 1248 г. не существовало, даже если люди вроде Руа и Клемана были словно бы особо на виду. В этом органе, где обсуждения, похоже, были довольно открытыми, знатные бароны играли в основном роль статистов. Службы ведомства двора сохраняли ярко выраженный домашний характер, что не мешало кругу камергеров быть настоящим питомником администраторов. Раньше всего прогресс можно было заметить в финансовой администрации. Бухгалтерские записи велись ясней, каждой категории расходов с 1226 г. посвящалась отдельная строка, записи о доходах и расходах с 1248 г. делались напротив друг друга, в образцовом порядке, а потом счетоводы вернулись к традиционному расположению — в двух последовательных частях. Производили перебеливание, или составление расчетных балансов, счетов прево и бальи, где при упоминании любого излишка следовало ставить debet («он должен»), и деньги передавались в Тампль, которому было поручено ведать финансами королевства. При любом дефиците, наоборот, полагалось писать debetur ei («ему должны»). Как подчеркивает Жерар Сивери, королевская казна, о которой обыкновенно говорили, что она «помещена в Тампль», фактически уподобилась расчетному счету, который пополняли выплаты местных чиновников и деньги с которого списывали по решению курии, выделявшей средства по тому или иному назначению. В бухгалтерских практиках можно отметить и другие примеры прогресса, такие как появление особых счетов (например, счета войн) и классификацию расходов, которые шли на ренты и милостыню, на жалованье и работы. Хотя делопроизводство и велось лучше, возможность составления какого-либо годового финансового баланса оставалась гипотетической. Ведь некоторые экстраординарные доходы не передавались в Тампль, например подати евреев и ломбардцев или феодальная «помощь», взимавшаяся с городов и местечек, выкупы за освобождение от военной службы, наконец, регальные доходы и десятины, которые могли составлять немалые суммы. Ввиду пробелов в документации, историку остается только рассчитывать среднее арифметическое между 438 тыс. ливров централизованных доходов, какие доставались Людовику VIII, и 605 тыс. ливров, собранными Филиппом Красивым в 1286 г. без поступлений из южных сенешальств. Таким образом, возможно, при Людовике Святом государство получало 700 тыс. ливров годового дохода. То есть финансовые возможности короля намного превосходили возможности его крупных вассалов: ведь графы Фландрский и Булонский около 1200 г, получали всего от 10 до 30 тыс. ливров, а Альфонс де Пуатье около 1250 г, был вынужден довольствоваться 40 тыс. ливров. Если центральные службы еще имели много изъянов, то местная, или, если угодно, региональная администрация еще до 1248 г. как будто приобрела некоторую эффективность. Это мнение может показаться парадоксальным, если вспомнить, сколько жалоб на злоупотребления королевских чиновников собрали ревизоры в 1247 г. Но именно эти сетования, может быть, и показывают, что развитие администрации в смысле более строгого управления обществом происходило на самом деле и воспринималось населением болезненно. В основе этой системы главными административными кадрами были прево в количестве ста тридцати девяти человек, поставленные под контроль бальи. Окруженный подчиненными, по преимуществу мэрами, шателенами и лесничими, прево обеспечивал гражданское управление шателенствами — этим термином теперь назывались административно-территориальные единицы домена. Прево как настоящий фактотум следил за порядком, передавал по принадлежности королевские приказы, собирал отряды для королевского войска, выносил приговоры по гражданским делам и мелким проступкам. Как и в прошлом, должность прево сдавалась в откуп на три года; только если претендентов не было, его назначало государство. Превотства имели очень разные размеры: где-то это была одна деревня, где-то огромное пространство, как Амьен-Понтье, позже разделенное на семь округов. Среди этих безвестных и стойких опор монархии, рядовых контролеров и сборщиков налогов, видное место занимал имевший резиденцию в Шатле парижский прево как представитель короля в его столице. Он брал свою должность на откуп до 1269 г., когда на этот пост стали просто назначать и в этом качестве парижскому прево начали платить жалованье. Фактически он обладал полномочиями, равными полномочиям бальи в остальном королевстве. Бальи, как мы видели, первоначально выполняли свои обязанности на территориях с довольно размытыми границами. Только между 1230 и 1240 г. подчиненные им земли, бальяжи, разделили более четко, хоть и не все неясности были уточнены. Новые границы этих округов неизбежно оставались изменчивыми. Внутри них территории, относившиеся к домену, где непосредственным владельцем земли был король, соседствовали с сеньориальными анклавами с правом судебной власти. Между доменом и этими анклавами постоянно происходил обмен. Известна поговорка: «Где бальи, там король». Этот «чиновник по постоянному посягательству» (Бернар Гене), без колебаний вторгавшийся в большие фьефы, чтобы, например, осуществить право рельефа, выполнял множество обязанностей: как посредник между двором и подданными он передавал королевские приказы, созывал бан и арьербан, приводил отряды в королевское войско; как судья он принимал апелляции, продолжал судебные процессы, начатые прево, и даже в сложных случаях, на землях сеньоров и в городах, выносил приговоры сам; как «государево око» он следил за лесами, инспектировал ярмарки и рынки; как сборщик налогов он взимал регальные пошлины и собирал эд («помощь») и чрезвычайные субсидии; как распорядитель королевских финансов он расходовал ресурсы для местных нужд, например, на содержание мостов, тюрем или замков, перечислял излишки в парижскую казну и передавал свои счета на проверку курии. Мы рискуем впасть в анахронизм, но в бальи, с 1238 г. регулярно получавшем жалованье, трудно не увидеть прототип современных префектов. Напрямую заинтересованный в укреплении государства, потому что часть денег от штрафов оставалась ему, он с крайним упорством старался расширить свои прерогативы. Жерар Сивери полагает, что, несмотря на все связанные с этим эксцессы, средний уровень королевской администрации, так же как и ее нижний слой, к 1248 г. были доведены почти до совершенства, тогда как верхушка системы, еще слабо специализированная, имела реальные недостатки. Тот же Жерар Сивери позволяет нам лучше понять, как конкретно функционировала власть и на что была направлена деятельность правительства, когда проводит статистический анализ трехсот семидесяти документов, сохранившихся в Сокровищнице хартий. Ясно видно, что до 1248–1254 г. люди короля прежде всего старались подчинить традиционные силы. Ведь деятельность властей распределялась так: в 45,9 % случаев она имела отношение к фьефам и вассалам, в 24,3 % — к церкви, в 8 % — к папству, в 4,5 % — к экономике, в 10,6 % — к апанажам и разным третейским разбирательствам[195]. Во Фландрии же, напротив, 36 % решений касалось экономических и городских проблем. Если присмотреться внимательней, то к действиям верховной власти, направленным на решение феодальных вопросов внутри королевства, в основном относились: требования оммажа; получение коллективной присяги от вассалов; притязания на получение рельефа, равного годичному доходу с пахотных земель; выдача разрешений на брак; судебное разрешение конфликтов; рассмотрение ходатайств вассалов; запрещение частных войн (в частности, ордонанс от 1245 г.). Мимоходом отметим, что в Бретонском герцогстве его правитель Пьер де Дре, принадлежавший к роду Капетингов, проводил сходную политику, которую знать терпела с большим трудом. Результаты упорной деятельности центральной власти хорошо заметны: фьефы оказались под надзором, за браками власть следила и апанажи контролировала (часто этим занимались администраторы, назначаемые двором). Королевская юстиция утверждалась за счет сокращения судебных полномочий эшевенов и сеньоров. Делами земель, недавно присоединенных к домену, королевская власть занималась столь же успешно, сколь и неотступно. Например, в 1226 г. бальи, назначенный в Бурж, решил поставить крупных сеньоров области под контроль. Архиепископы выбирались из представителей рода Сюлли, к которому монарх питал особое доверие. Подданные Людовика IX по всей социальной лестнице, сверху донизу, к растущему вмешательству государства в их дела отнеслись плохо, судя по нареканиям, высказанным в 1247 г. Добрый король дал им возможность высказаться: собравшись в конце 1244 г. отправиться в крестовый поход и настолько тяжело заболев, что едва не умер, он перед отъездом в Святую землю испытал некоторые сомнения, задавшись вопросом, выполнил ли он в отношении подданных миссию, возложенную на него Богом. И, чтобы в этом удостовериться, он рискнул посягнуть на собственную администрацию, разослав по королевству ревизоров — францисканцев, доминиканцев или белых клириков, поручив им принимать жалобы у подданных. Эмиссары короля собрали десять тысяч ответов, не менее, которые можно анализировать как первые результаты зондажа общественного мнения во Франции. Итоги оказались удручающими для королевских чиновников всех родов и рангов. В Вермандуа местных прево обвинили в том, что они стесняют передвижение, вымогают штрафы и производят произвольные конфискации и аресты. В Анжу их упрекнули, что они отбирают скот за долги и перепродают его по более дорогой цене. В Турени им выдвинули претензии, что они взимали непосильные налоги с владельцев скота, когда тот забредал на королевские земли, изымали предметы первой необходимости, такие как матрасы и подушки, и силой домогались постоя, отказываясь платить за него. Хуже того, у них вошло в обычай подвергать подопечных несоразмерно тяжелым наказаниям: три сожженных дома и семь конфискованных волов за убийство серва — это чересчур! В Лангедоке, области, присоединенной совсем недавно — в 1242 г., болезненно восприняли переход от сеньориальной системы к капетингскому режиму: сиры были лишены права высшего суда, тогда как прево превратился в этакого мелкого деревенского тирана — он отбирал камни и бревна для строительства своего дома, не платил за мясо, устраивал все новые реквизиции. Чиновники Его Величества считали себя неприкосновенными особами; имея общие интересы, солидарные меж собой, они взаимно «покрывали» друг друга. Они были жестоки к беднякам и надменны с сеньорами, и их мало заботила та ненависть, которую они вызывали у населения. За строительство правового государства предстояло заплатить высокую цену[196].Эпоха перемен (1248–1270)
Расследование 1247 г. предвосхитило крутой поворот в практике управления страной, ясно оформившийся только после возвращения короля из Святой земли в 1254 г. Мы плохо осведомлены о том, как королевство управлялось в период долгого отсутствия Людовика IX (август 1248 г. — сентябрь 1254 г.). Счастливые были времена, когда монарх мог покинуть подданных на шесть лет, проведя четыре из них в Сирии для организации обороны франкских владений! Только весть о кончине матери, случившейся в декабре 1252 г., заставила его принять решение вернуться. Преобразившийся король В 1254 г. обнаружился другой Людовик IX, возмужавший после поражения при Мансуре в феврале 1250 г. и плена, избавившийся от бремени материнского присутствия, осознавший срочную необходимость улучшить работу институтов монархии, убедившийся в неспособности крупных феодалов, которые сопровождали его в крестовый поход, и принявший решение отныне окружить себя эффективной командой, для чего он обратился к финансистам и компетентным юристам. В отличие от предшественников, он не стремился во что бы то ни стало расширять домен. Приобретение в 1259 г. графства Клермон-ан-Бовези нельзя считать успехом первой величины. То же чувство меры проявилось и при раздаче апанажей принцам крови: Жану Тристану в 1258 г. досталось графство Валуа, Пьеру — Алансон и Перш, Роберту — Клермон-ан-Бовези. В этих актах дарения не было ничего необдуманного. Чрезвычайно миролюбивый, Людовик IX старался договориться с иностранными монархами, начиная с Хайме I Арагонского. По Корбейскому договору 1258 г. Хайме отказался от Тулузы, сохранил Монпелье и был признан сюзереном Руссильона и Каталонии. Надо было ослабить и напряженность во франко-английских отношениях, заплатив за это должную цену. Генрих III Английский, свояк Людовика IX, хотел вернуть себе провинции, завоеванные Филиппом Августом в начале века. Переговоры, которые вели Эд Риго, архиепископ Руанский, и Симон де Монфор, граф Лестер, начались в 1254 г. и завершились подписанием Парижского договора, заверенного клятвой в мае 1258 г. и ратифицированного в 1259 г. Согласно Жуанвилю, люди из совета «очень противились этому миру», удивляясь, что французский король уступает своему вассалу из-за Ла-Манша «столь великую часть» своей земли. Они напирали на нелогичность договора: если ты не уверен в правоте своего дела, отдавать надо все, если же ты уверен, что прав, не надо отдавать ничего. Решение, принятое Людовиком IX, было компромиссным: он считал завоевания предка легитимными, но уступал их часть, «чтобы установилась любовь» между обеими династиями, и чтобы Плантагенет принес ему оммаж. Напомним основные положения этого знаменитого договора, приведя модернизированную версию документа, сохранившегося в Национальных архивах под шифром J629: «Вот тот мир, который приняли короли Франции и Англии. 1. Король Франции отдаст королю Англии все права, какие король Франции имеет в трех епископствах и городах Лиможе, Кагоре и Периге, во фьефах и в доменах […]. 2. Король Франции будет выплачивать королю Англии стоимость земли Ажене в денежных единицах ежегодно, согласно оценке, которую произведут достойные люди с обеих сторон […]. 4. После смерти графа Пуатье король Франции или его наследники отдадут королю Англии землю, которую граф Пуатье держит в Сентонже, за рекой Шарантой […]. 5. И за то, что король Франции отдаст королю Англии, последний и его наследники принесут ему тесный оммаж, равно как и за Бордо, Байонну и Гасконь и за всю землю, которую он держит по эту сторону Английского моря, и он будет держать ее как пэр Франции и герцог Аквитанский […]. 6. Король Франции будет выплачивать королю Англии два года сумму, равноценную стоимости содержания пятисот рыцарей […]. 7. В силу этого мира король Англии и оба его сына избавят короля Франции, его предков, братьев и наследников от всяких притязаний на землю Нормандии, на графство и на всю землю Анжу, Турени и Мэна, и на графство и всю землю Пуатье и проч. […] Они простят друг друга и избавят друг друга от всяких споров, войн и обид…» С людей и городов возьмут клятву соблюдать договор, и эта клятва будет приноситься заново раз в десять лет по требованию короля Франции[197] (см. карта 17).
Оммаж, предусмотренный договором, действительно был принесен в Париже 4 декабря 1259 г. Примирение обеих династий выразилось в заключении браков между Маргаритой, дочерью Филиппа Смелого, и Эдуардом I в 1299 г., а также между Изабеллой, дочерью Филиппа Красивого, и Эдуардом II в 1308 г. Тем не менее можно ли считать, что благодаря Парижскому договору между Францией и Англией восемьдесят лет царил мир? Это значит слишком оптимистично смотреть на вещи, забывая о многих спорах и конфликтах, в том числе о дорогостоящей Гиенской войне (1294–1296). Зато надо отметить, что соглашение 1259 г. принесло Людовику IX огромный престиж в Англии. Но каким бы миролюбивым он ни был, когда было надо, он умел защищать интересы монархии в целом и Капетингской династии в частности. Доказательством этому служит соглашение 1264 г. с папой Урбаном IV, который даровал Карлу Анжуйскому Неаполь и Сицилию при условии, что тот устранит Манфреда, внебрачного сына Фридриха II, ценившего арабскую науку и культуру. Победа при Беневенто позволила Карлу Анжуйскому «отправить султана Лучеры спать в ад». Обновленная правящая команда Теперь король окружил себя людьми компетентными, верными и сознающими свою миссию. Ги Фулькуа, юрист с Юга, овдовевший и после этого постригшийся в монахи, вышел на первый план и стал столпом королевского совета. Он быстро поднялся вверх вцерковной иерархии, став в 1257 г. епископом Ле-Пюи, став 1265 г. — папой под именем Климента IV. С тех пор он активно поддерживал анжуйскую политику в Италии, находя полное согласие у флорентийских банкиров. Другой юрист, Пьер де Фонтен, с 1252 г. бальи Вермандуа, довольно ярко воплощал тип «рыцаря короля» (chevalier-le-roi), позже широко распространившийся. Он вошел в королевский совет, в 1258–1260 гг. заседал в парламенте и выполнял разные поручения в провинции. В «Письме другу», написанном между 1253 и 1258 г., он попытался проанализировать кутюмы Вермандуа в свете римского права. Что касается Эда де Лорриса, он сформировался как администратор в апанаже Анжу, прежде чем в 1254 г. поступить на королевскую службу. С ним можно сравнить Жюльена де Перонна, пикардийского бальи, поднявшегося в высшие сферы в качестве советника парламента. Наконец, францисканец Эд Риго был не только советником, к которому король особо прислушивался, но также его наперсником и внимательным прелатом, который с 1261 по 1269 г. вел дневник своих пастырских визитов, очень ценный в том отношении, что отражает состояние сельских приходов в Руанской епархии. Так ли далеко было в то время от попечения о душах до гражданской администрации? Разве на вершину государственной власти не вели два главных пути: проявление компетентности в наиболее структурированном аппарате, церкви, и неторопливая карьера в «региональной» администрации? В системе, центром которой еще оставался монарх, очень влиятельными людьми были его приближенные. Службы в ведомстве двора были поделены между разными кланами. Известны настоящие династии камергеров, например Вильбеоны и Шамбли. Играла свою роль и солидарность географическая: так, выходцы из Тура способствовали возвышению Пьера де Ла Бросса, служащего двора, финансовые способности которого ценил Людовик IX и которого при Филиппе III Смелом ждала трагическая гибель. Подъем политического мышления Больше, чем на отдельных людей, попавших в милость при дворе, внимание следует обратить на интенсивные политические размышления, какими на второй стадии царствования занимались богословы и юристы. Умозрительные рассуждения Фомы Аквинского, который преподавал в Италии с 1259 по 1268 г. и на Людовика Святого почти не повлиял, в расчет можно не принимать[198]. Зато нужно отметить активность некоторых братьев-доминиканцев из монастыря на улице Сен-Жак, которые, как считается, были чем-то вроде политической академии Людовика Святого. Когда король обратился к Гумберту Римскому, тот якобы попросил группу монахов составить «Зерцала», предназначенные для государей. К этой категории относятся две работы Винцента из Бове, в том числе «De morali principis Institutione» (О нравственных устоях государя), написанная между 1260 и 1263 г., и другое маленькое сочинение неизвестного брата-проповедника — «De eruditione principum» (О просвещении государя)[199]. При этом не все политические трактаты той эпохи принадлежали доминиканцам. Цистерцианец Иоанн Лиможский между 1255 и 1260 г. составил трактат «De regia disciplina» (О королевском обучении), а францисканец Гвиберт из Турне в 1259 г. написал для короля трактат «Eruditio regum et principum» (Просвещение королей и князей). Цель всякой власти, напоминал он как верный ученик святого Августина, состоит в том, чтобы подавлять дурные побуждения и предписывать или восстанавливать нравственное церковное наставление. Но государь должен также стремиться к общему благу государства, защищать обездоленных и слабых, служить щитом смиренным. Кроме того, он должен уметь добиваться любви подданных, выказывая милосердие и остерегаясь впадать в тиранию. Гвиберт очень болезненно воспринимал злоупотребления власти, жертвами которых становились прежде всего бедняки, особенно в судах, ввиду коррумпированности должностных лиц. Бедняк перед судом, напоминал он, это Иисус перед синедрионом. По отношению к нему сильные мира сего, солидарные меж собой, не стесняются использовать любые средства. Этот ученик поверелло из Ассизи беспощадно называл их пиявками, пьющими кровь бедняков, саранчой и хищниками и не испытывал особого почтения к придворному монашеству, очень многочисленному в это царствование, признавая при этом, что некоторые из них приносят пользу на службе церкви, на службе обездоленным и внушают уважение к законам[200]. Если мы имеем полное право выделять вклад богословов в развитие политического мышления, было бы парадоксальным и несправедливым недооценивать вклад юристов, проникшихся духом римского права в Болонье, Монпелье или Орлеане. В последнем прославился Жак де Ревиньи, учитель Жана де Монши и Симона Парижского, верных сподвижников Карла Анжуйского. По работам М. Буле-Сотель хорошо известны личность и идеи бургундца Жана де Блано, умершего около 1281 г., доктора Болонского университета, юриста, особо отмеченного герцогом Бургундским. В 1256 г. он опубликовал в Болонье комментарий к книге IV «Институций» Юстиниана и написал трактат об оммаже. К тому времени император Фридрих II только что умер, тогда как французский король еще находился в зените славы. Блано видел три лика власти: короля, феодалов и империю. На его взгляд, potestas regia (королевская власть), которую он уподоблял императорскому порядку, противостоит феодальному порядку, в основе которого лежит личное обязательство вассала и сеньора. Точней, potestas regia по природе отличается от власти барона, потому что «король имеет Imperium (верховную власть) над всеми людьми своего королевства». Цель его деятельности — общественный порядок: «Король повелевает из соображений общего блага […], желая общественной пользы […], ради блага всей страны, во имя страны […]». Пусть эти формулировки не вводят в заблуждение: в них отражено обновление государства, подчеркнуто отделенного от особы государя. В текстах, вышедших из-под пера Блано, обнаруживаются и другие семантические перемены, например, появляются слова patria (родина), corona и regnum (королевство), а также совмещение regnum с utiiitaspublica (общественным благом). Бургундский юрист хоть и был пропагандистом королевской власти, но считал, что государь не вправе уничтожать феодальный порядок, поскольку существует принцип: «Вассал моего вассала — не мой вассал». Но и феодалы, со своей стороны, не должны ни восставать, ни препятствовать королевской деятельности, которая идет на пользу общества. Следовательно, вассал обязан помогать прежде всего королю, а уж потом своему сеньору — propter bonum publicum, что переведем так: «когда речь идет об общественном благе». В этих условиях медиатизация баронов больше не должна производить пагубный эффект. Пусть королевская власть отправляется в стране беспрепятственно, как императорская власть — в мире. Блано делал не что иное, как передавал Капетингу атрибуты кесаря[201]. Другие юристы старались согласовать римское право с местными обычаями, как упомянутый выше Пьер де Фонтен. Прогресс римского права к концу царствования заметен по «Книге правосудия и тяжб» (около 1260 г.), а при Филиппе Смелом — по «Установлениям Людовика Святого» (около 1275 г.). Эти произведения содержали максимы типа «Король не должен зависеть ни от кого»; его суд выше любого другого, в этом отношении все ему подчиняются. Переход от этих текстов к централизаторской пропаганде легистов Филиппа Красивого обеспечит, в частности, Филипп де Бомануар (ок. 1250–1296), автор «Кутюм Бовези»[202]. Специализация центральных служб Процесс разветвления аппарата монархии, начавшийся только в 1248 г., во второй стадии царствования продолжился. Совет не был органом, по-настоящему отдельным от королевской курии, кроме как с 1252 по 1254 г. С 1254 г. вернулись к заседаниям совета по конкретным поводам, причем самых доверенных людей, таких как Рига, Фонтен или Фулькуа, отличали от технических специалистов, к которым обращались при возникновении частных проблем, по преимуществу финансовых или монетных. Первой специализацию претерпела судебная система. В самом деле, с 1250 г. суд вершило особое ведомство при дворе. Возник обычай созывать в Париже парламенты и приглашать в них опытных юристов (уже в 1255 г. они составляли две трети участников собрания). С 1253 по 1270 г. были заложены основы парламента XIV века. Его еще не делили на три палаты, но уже не смешивали тех, кто расследовал, и тех, кто судил. Появились подготовительные судебные решения, или consilia, различали суд первой инстанции и апелляционный (последние проводили редко, чтобы не перегружать ведомство). Намеренно провоцировать апелляции ради монархической централизации станут уже в следующих царствованиях. В финансовой сфере изменения выглядят менее явственными, поскольку еще до 1248 г. был достигнут существенный прогресс. К казначею Тампля был приставлен помощник, действовавший в интересах короля. Некоторые подати больше не поступали в Тампль, например печатные пошлины (profits du sceau), отныне попадавшие в кассу ведомства двора, или Денежную палату, вверенную попечению опытных финансистов. Отметим еще одну незаметную перемену: постоянным органом стала Счетная палата. В обязанности ее магистров счетов (magistri compotorum), входил контроль над деятельностью бальи и оценка ресурсов. Ценные сведения о последних дает исследование Жана Фавье[203]: домениальные доходы росли как следствие общего экономического подъема, несмотря на потери, связанные с выделением апанажей. Росли и феодальные пошлины со сделок об отчуждении имущества, канцелярские пошлины и пошлины за рассмотрение дел в особом производстве (juridiction gracieuse), а также доходы от чеканки монеты, ведь с 1263 г. у королевской монеты был принудительный курс, и грош Людовика IX пользовался за пределами королевства большой популярностью. Зато добрый король слишком щадил баронов, чтобы пользоваться «феодальной помощью» (aide feodale), которой потребовал только в 1268 г. на посвящение наследного принца Филиппа в рыцари и на крестовый поход в Тунис. Можно ли считать, что Людовик IX по-настоящему взимал налоги с подданных? Жан Фавье без колебаний использует слово «налог» (irnpot). Налог, полагает он, взимался с домена в редкой форме эда (aide, помощи). По всему королевству собирали также налог за неучастие в военной службе. Ведь со времен Филиппа Августа король мог потребовать военной службы либо выкупа за отказ от нее (aide de lost) от вассалов, городов, а также простолюдинов из своего домена. С царствования Людовика VIII арьер-вассалы и простолюдины, жившие во фьефах, подлежали воинской повинности. Наследовав эти права, Людовик IX мог требовать военной службы либо денег с большей части общин, к которым принадлежали жители королевства. Наконец, он мог прибегнуть к третьей форме налога, еще не называемого этим словом, добиваясь, чтобы города предоставляли ему «дары», менее всего добровольные. В общем, король сумел постепенно добиться от подданных признания за ним права требовать от них выплат — в случае опасности или, когда ему просто не хватало денег. Духовенство никакими льготами не пользовалось; оно должно было платить сеньориальные сборы за свои светские владения и многочисленные десятины, взимавшиеся с бенефициаристов. Возможность собирать эти чрезвычайные налоги, разрешенные папой, конечно же, удовлетворяла и короля, стесненного в средствах, и святого, получавшего «инструмент для необходимого умерщвления плоти духовенства, слишком склонного к компромиссу с миром» (Жан Фавье). Разные службы монархии, от финансовой до судебной, включая канцелярию, претерпели заметные усовершенствования, благодаря которым утверждались новые понятия вроде налога или апелляции в парламент, свидетельствуя о постепенном зарождении государства Нового времени. Отмечено также, что несколько изменились и интересы разных подразделений. Большинство документов, сохраненных в Сокровищнице хартий, относится к привычным действиям центральной власти; решению религиозных споров, сбору десятин либо предъявлению прав на получение оммажа и на рельефы. Но 10–20 % всех документов позже 1260 г. отражает и новые заботы — контроль над счетами городов, регулирование деятельности ремесленных цехов, усиление присутствия короля в городском мире. Время великих ордонансов Ни один Капетинг не принял столько законов, как Людовик IX с 1254 по 1270 г. — период, когда реформаторские ордонансы появлялись в регулярном ритме. Восстанавливая связь с каролингской традицией, король во всеуслышание провозглашал себя верховной властью: «Мы, Людовик, Божьей милостью король Франции, постановляем». Серию масштабных законодательных мер открывает ордонанс 1254–1256 гг. о бальи и сенешалях, направленный на искоренение злоупотреблений, которые выявило расследование 1247 г. Не будет преувеличением говорить в этой связи о реформе местной администрации, которая сопровождалось комплексом мер, направленных на повышение общественной нравственности. Луи Каролюс-Барре основательно разъяснил происхождение и дух этого «постановления» за декабрь 1254 г., благодаря коему, если верить Жуанвилю, «управление королевством Францией стало намного лучше»[204]. Принятия этих мер не понять, если не соотнести их с убеждениями короля, считавшего себя ответственным перед Богом за провинности своих служащих, и с примером, который подал его брат Альфонс де Пуатье. Унаследовав в 1249 г, земли, завещанные ему двадцать лет назад тестем — Раймундом VII Тулузским, тот решил тщательно изучить все свои владения. Дело пошло живо, младших судебных чинов (auditeurs) быстро сменили ревизоры-реформаторы (enqueteurs- reformateurs). Проведя систематическую классификацию жалоб, высказанных подданными, в 1253 г. граф выпустил реформаторские ордонансы по Ажену, Керси и другим провинциям. Известны и авторы этих альфонсовских эдиктов (юрист Ги Фулькуа, рыцарь Жан де Мезон, двое миноритов, горожанин из Шартра), некоторые формулировки которых перешли в текст ордонанса 1254 г. Разработка последнего была особо медленной и сложной — ведь, как считается, известны четыре его последовательных редакции, не считая добавлений. Поначалу задача состояла только в том, чтобы заставить бальи и их подчиненных вести себя достойно: «Пусть все наши бальи, виконты, прево, мэры и все прочие, каким бы делом ни занимались […], присягнут […], что станут воздавать по справедливости каждому, не исключая никого, как бедным, так и богатым и как чужестранцу, так и соотечественнику; и будут хранить нравы и обычаи, которые добры и проверены временем. И если окажется, что бальи или виконты либо прочие, как сержанты или лесничие, в чем-либо преступят свои клятвы и будут в этом уличены, — мы желаем, чтобы они были наказаны, чтобы пострадало как их владение, так и они сами, сообразно преступлению […]. И пусть они поклянутся и обещают, что, если узнают о присутствии среди них какого-либо чиновника, сержанта или прево, которые нечестны, творят грабежи, занимаются ростовщичеством или исполнены иных пороков, из-за которых должны оставить нашу службу, то не поддержат их ни из-за подарка, ни вследствие обещания, ни из любви, ни по другим причинам, но покарают и добросовестно осудят». К тому времени наметилась некая административная география: королевский домен включал четырнадцать бальяжей (девять во «Франции», разделенных на превотства, и пять в Нормандии, разделенных на виконтства) и два южных сенешальства (Бокер и Каркассон), разделенных на вигьерии. Владения Альфонса де Пуатье, которые в 1271 г. будут присоединены к домену, включали десять сенешальств. Еще до 1250 г. бальи покинули королевский двор и стали жить в своих округах. В дальнейшем текст ордонанса обогатился мерами по исправлению общественной нравственности, направленными против ростовщичества, богохульства и проституции: «Желаем и постановляем, чтобы все наши прево и бальи воздерживались от произнесения любого слова, выражающего презрение к Богу, Богоматери и всем святым, и чтобы они остерегались игры в кости и посещения таверн. Желаем, чтобы по всему нашему королевству было запрещено изготовление игральных костей и чтобы падшие женщины были изгнаны из домов, а всякий, кто сдаст дом падшей женщине, выплатил бы прево или бальи сумму, равную годичной плате за съем дома»[205]. Было сделано новое добавление о ростовщичестве, определенном как взимание любой суммы, превосходящей отданный взаймы капитал, согласно решениям собрания в Мелене в 1230 г. Власть попыталась также воспрепятствовать произвольным реквизициям: «Кроме того, повелеваем, чтобы наши прево и бальи не отбирали ни у кого наследия, каковым он владеет, не разобравшись в деле или без нашего особого повеления; и чтобы они не обременяли наших людей новыми поборами, тальями и новыми податями; а также чтобы не призывали их в военный поход затем, чтобы получить с них деньги; ибо мы желаем, чтобы никого, обязанного ходить в походы, не призывали в войско без необходимости, и чтобы тех, кто хочет сам идти служить в войско, не принуждали откупаться от похода за деньги»[206]. Согласно Луи Каролюсу-Барре, который в этом вопросе расходится с Жераром Сивери, первая редакция была написана для земель языка «ойль», вторая — для земель языков «ойль» и «ок», третья — только для северных областей, а четвертая — для сенешальств Бокера и Каркассона. В целом, как сообщается, это был законодательный текст с переменным размещением статей, настоящее «платье Арлекина», включавший ранние документы, например ордонансы 1230 и 1240 г. о евреях. Анализ ключевых терминов позволяет выявить несколько влияний, имевших одну направленность. Прежде всего — влияние римского права, которому учили в Болонье, Тулузе и Орлеане: какой-то пассаж взят из «Дигест», какой-то из Кодекса Юстиниана; для обозначения казны используется термин fiscus; гражданские дела отделены от уголовных; провозглашен принцип презумпции невиновности. На эти римские реминисценции накладываются заимствования из каролингского законодательства — возвеличивание королевской власти, стремление к миру и спокойствию королевства (pax et quies regni) и структура, похожая на структуру капитуляриев Карла Великого, да и ревизоры-реформаторы Людовика IX удивительно похожи на государевых посланцев (missi dominici). Близки они и к инквизиторам. Людовик IX и его советники действительно вдохновлялись церковной моделью, издавая statutum generate (общее постановление), которое трудно не сопоставить с постановлениями соборов. Напрашивается и сравнение языка государства с языком церкви. Наконец, этот разношерстный текст выявляет, что существовало некоторое противоречие между государем, внимательным к правам каждого человека, и не слишком щепетильными чиновниками — упорными и настойчивыми строителями централизованной монархии. Какие конкретные результаты повлекли за собой меры, которые в 1254–1256 гг. было предписано принять? Обычно считают, что Людовик IX и его советники назначили компетентных бальи, выбрав их из числа хороших мэров и хороших прево домена, таких как Жюльен де Перонн, или из юристов, уже работавших в апанажах. С этим выбором согласился Филипп III, оставивший на местах десять из двадцати бальи, служивших при отце. Но говорить о переменах в персональном составе, которые в принципе должны были происходить раз в четыре-пять лет, надо осторожней. В 1254–1256 гг. сменилось четырнадцать чиновников, но некоторые оставались на своей должности очень долго, как Этьен Буало в Париже — с 1261 по 1271 г. или Этьен Тастесавер в Сансе — с 1253 по 1272 г. Лишь в следующем царствовании можно найти карьеру, сравнимую с карьерой современного префекта. Мы, конечно, имеем в виду Филиппа де Бомануара, поочередно бальи или сенешаля в Санлисе с 1273 г., в Клермон-ан-Бовези с 1280 г., в Сентонже с 1288 г., в Вермандуа с 1289 г., в Сен-Кантене с 1290 г., в Туре с 1292 г. и, наконец, снова в Санлисе с 1295 г.[207] Остается навязчивый вопрос о злоупотреблениях, которых, как полагают, стало меньше с тех пор, как действия чиновников по окончании службы стали расследовать: «Мы желаем, — гласил ордонанс, — чтобы они оставались сорок дней на территории, где прежде служили, дабы могли ответить за ущерб, нанесенный кому-либо». Матье де Бон, бальи Вермандуа с 1256 по 1260 г., вышел из этого испытания с честью. Он описан в столь лестных тонах, что это наводит на подозрение о негласных соглашениях с целью замять сомнительные дела. Когда опрашиваемые могли говорить свободно, они наперебой доносили о взятках, сговорах, отложенных судах и необоснованных штрафах. Вероятно, реальные бальи не соответствовали заповедям образцового чиновника, которые сформулировал Бомануар: «Любить Бога. Быть кротким и снисходительным по отношению к тем, кто желает блага, и к простому народу». И, конечно же, выказывать верность, великодушие, учтивость и нравственную чистоту! Находясь на службе в домене, бальи и сенешали вмешивались также в дела многочисленных сеньорий, расположенных в нем в виде анклавов, и в дела крупных феодальных владений. Поводами для них служили судебные тяжбы, призыв рыцарей и сержантов в королевское войско и сбор налога на крестовый поход. Королевские чиновники контролировали также апанажи, которым предстояло вернуться в состав домена. Владениями Альфонса де Пуатье управляли специалисты «из северян», прибывшие от парижского двора и преисполненные решимости навязать этим южным землям язык «ойль» и обычаи центральной администрации. Ордонанс о муниципальной администрации, обнародованный в 1256 г., а потом дополненный в 1260 и 1262 г., служил продолжением постановления о бальи и сенешалях. На сей раз власть желала взять под контроль финансовое управление коммунами и вольными городами домена, статус которых, до тех пор явно различный, как раз унифицировался, отчего они получали общее название «добрые города» как loca Insignia (особые места), служащие точками опоры для королевской власти. По мнению Пти-Дютайи, это вмешательство стало следствием почти полного прекращения коммунального движения во «Франции», Пикардии и Нормандии с начала царствования Людовика IX и, более того, следствием внутренних проблем, с какими сталкивались города, в частности раздоров в результате выборов и плохого управления финансами, в котором была повинна олигархия, умевшая только выкачивать деньги из бедняков, как в Аррасе, так и в Дуэ или Дижоне. В результате лучшие администраторы покидали коммуны и поступали на королевскую службу. Королевская власть, по мнению этого автора, вовсе не собиралась ослаблять городские республики, которые рухнули сами из-за внутренних неурядиц и нуждались в том, чтобы их взяли под опеку. С этим не согласен Жерар Сивери. Следуя за Ашилем Люшером, говорившим о «стадии подчинения и эксплуатации коммун», он считает, что меры 1256 г. следует анализировать в свете финансовых потребностей короля. В самом деле, с 1248 г. города под любым предлогом облагали податями и требовали от них займов, иногда превращавшихся в дары, когда возвращение займа оказывалось невозможным. Поскольку от муниципалитетов требовалось много, их надо было поставить под более плотный контроль. Эту цель и преследовали авторы текста 1256 г.: мэров всех городов домена следовало сменять ежегодно, выборным путем, 29 октября; каждый город должен был 18 ноября посылать делегацию в Париж, чтобы передавать людям короля свои счета на проверку; городам следовало воздерживаться от ссуд и от чрезмерно больших даров — источников постоянной задолженности; делегации, отправляемые ко двору, должны были не превышать четырех-пяти человек и обходиться без дорогостоящих экипажей; наконец, во избежание растрат, деньги города следовало отныне помещать в общий сундук, за исключением некоторых мелких сумм на текущие расходы. Что произошло в реальности? Через три года многие города уже не соблюдали дату выборов мэра. Ордонансы 1260 и 1262 г. напомнили, что города обязаны в ноябре предъявлять счета. Благодаря этому можно было лучше оценить финансовые возможности городов, бухгалтерские книги которых с тех пор, похоже, и вправду велись лучше, во всяком случае, в Пикардии и во Фландрии. Если делопроизводство оказывалось не на высоте, люди короля требовали уточнений, например, у магистратов Манта в 1260 г. Какой бы прогресс в распоряжении деньгами ни был достигнут, это не помешало банкротству нескольких коммун в конце XIII и начале XIV в. Санс, Нуайон, Компьень и некоторые другие города были вынуждены пожертвовать коммунальными вольностями. В нудный перечень славных свершений Людовика Святого входит и ордонанс о мире от 1258 г. (который Жан Ришар относит скорей к 1265 или 1269 г.), запретивший ношение оружия, а также «любые войны и поджоги, и помехи труду землепашцев»; по-настоящему не уничтожив частных войн, он ограничил их, подобно установлениям о «Божьем мире» XI века. В том же 1258 г. либо в 1260 г., согласно Ришару, король осудил судебные поединки: он запретил «сражения в своих доменах и потребовал, чтобы вину доказывали с помощью показаний свидетелей. Тот, кто обвинит другого в убийстве, подлежит закону возмездия (peine du talion). Его предупредят, что сражения больше не будет, что ему придется доказывать свою правоту через посредство свидетелей и что его противник может дать этим свидетелям отвод»[208]. И как не упомянуть в числе примечательных законодательных мер монетные ордонансы 1263–1265 гг.? Они сформулировали простые и ясные принципы: в домене имеет хождение только королевская монета; ходит она и во всем королевстве, не сталкиваясь ни с каким соперничеством на землях сеньоров, которые не могут чеканить монету, и соперничая с монетами баронов, имеющих право чеканки; хождение иностранных монет не допускается; подделывать королевскую монету и обрезать ее края запрещено. «Никто не вправе делать монеты, похожие на монету Короля, не имеющие явственного отличия от нее». Соблюдать эти принципы иногда становилось трудно; чтобы помешать подделке монет, король требовал собирать фальшивые деньги. В это царствование, в котором часто видят стремление к архаике, был пройден важный этап восстановления государственной монополии в монетной сфере. Если обратить внимание на денежную эмиссию, надо отметить, что парижский денье стал тяжелей, чем при Филиппе Августе, а в 1266 г. появился турский грош как подражание монетам торговых итальянских городов. Его чеканили из расчета 58 из труаской марки, он весил 4,2198 г и приравнивался к турскому су. По праву нося изображение креста и надпись Ludovicus rex, он обеспечил большой престиж монетам Капетингов, позволив им вытеснить баронские монеты, и пользовался большой популярностью в международной торговле. Этого нельзя сказать о золотом экю, созданном между 1266 и 1270 г. Теоретически он должен был весить 4,1957 г, чеканиться из расчета 58 1/3 из марки и стоить 10 турских су, но нашел лишь ограниченное распространение. Тем самым Французское королевство перешло к системе биметаллизма на основе фиксированного соотношения цен на золото и серебро (9,65), и в этом числе с 1266 по 1270 г. не было ничего произвольного, потому что это соотношение соответствовало коммерческому курсу обоих металлов. Курс этой монеты Людовика Святого оставался стабильным до 1290 г. Далее мы проанализируем ордонанс 1269 г., пресекавший богохульство, причем требования этого ордонанса касались не только религиозной сферы, но и государственных структур, претерпевших глубокую трансформацию с 1226 по 1270 г. Главным направлением политики было не расширение домена, как при Филиппе Августе, а качественное улучшение управления им, сопряженное с ощутимой эволюцией политических представлений. Если для первых двух десятилетий были характерны немалые трудности, то 1254–1270 гг. прошли под знаком почти непрерывных реформ. Лучше организованная администрация, лучше контролируемые чиновники, более строгий надзор над городами, хорошая монета — все способствовало укреплению монархии и стабилизации французского общества. Анархия вышла из моды, как показывает решение парламента, в феврале 1270 г. приговорившего сеньора Вьерзона компенсировать ущерб купцу, который был среди бела дня ограблен, пересекая земли этого сеньора. Отныне всякая территориальная власть должна была содействовать королевскому миру.
Христианнейший король
Связанных с этой избитой темой как шаблонов, так и наивных представлений хватает в избытке. Надо ли еще раз цитировать Жуанвиля? «Этот благочестивый человек любил Бога всем сердцем и следовал ему во всех делах. […] Был он сдержан в своих выражениях; и никогда в жизни я не слышал, чтобы он сказал о ком-нибудь что-то худое, как никогда не слыхивал, чтобы он помянул дьявола, каковое слово очень распространено в королевстве, что, как я полагаю, вовсе не угодно Богу. Вино он разбавлял, поскольку сознавал, что неразбавленное может причинить вред». Надо ли снова пересказывать некоторые назидательные анекдоты? Благочестивый вопреки всему, он, возвращаясь из Святой земли, велел установить на своем корабле алтарь со святым причастием. Нетерпимый святоша, он не выносил игры в кости, даже если ей предавался его брат Карл Анжуйский. Доблестный рыцарь, в презрении к опасности он доходил до неразумия, например, отказываясь покидать корабль, севший на мель. Эти несколько обрывков exempla хорошо показывают, какие опасности подстерегают нас: либо впасть в самую пошлую апологетику, либо неверно оценить некоторые психологические установки короля, рассматривая их в отрыве от окружающего. Есть ли лучший способ избежать подобных искажений действительности, чем критическое переосмысление источников? В отсутствии документов о процессе канонизации, от которых сохранились лишь фрагменты, остаются «жития» исповедника Жоффруа из Болье и Вильгельма Шартрского, а также Гильома из Сен-Патю[209] (исповедника королевы Маргариты с 1277 по 1295 г.) и Жуанвиля. К ним добавляются «Речи Людовика Святого»[210], включающие послание короля подданным от 1250 г., и его «Наставления» Филиппу Смелому и Изабелле Наваррской, написанные, вероятно, между июнем 1267 г. и февралем 1268 г. Все это не считая информации, которую мы можем почерпнуть в королевских ордонансах. Образец христианского рыцаря В тот период, когда феодальная система достигла определенного равновесия, Людовик IX представлял собой некое чистейшее ее порождение- образцового рыцаря со светлыми волосами и тонкой талией. Хоть он и обладал горячим темпераментом, но вел себя как послушный сын своей матери, навязавшей ему длительную опеку. Он хотел сделать это правилом поведения и для Филиппа Смелого: «Люби и почитай мать, помни и соблюдай ее добрые наставления». Добрый супруг, он нежно любил Маргариту Прованскую, хоть и не сам выбрал ее в жены, и умел улучать моменты для близости с ней, рискуя растравить материнскую ревность. Добрый отец, он старался хорошо воспитывать своих одиннадцать детей, рассказывая им назидательные истории и не скупясь на семейные наставления. Он не ставил ничего выше чувства семейного единства, в котором можно видеть один из столпов его идеологии. Старшему сыну он поручил заботиться о младших детях: «Люби братьев и всегда пекись об их благе и продвижении и займи для них место отца, чтобы поучать всему благому». Во имя рода, считал он, живые должны приходить на помощь усопшим. Духовного утешения того же рода он ожидал и для себя самого: «Вели, чтобы мне помогли мессами и прочими молебнами, и попроси, чтобы за мою душу молились монашеские ордены Французского королевства». Добрый сеньор, Людовик IX умел выказывать властность, зная, как заставить себя слушать и себе подчиняться. Человек абсолютно безупречный, в полном смысле слова мудрый и мужественный, в своем поведении он никогда не отклонялся от рыцарского кодекса, был честен с врагами, смел, стоически держался в несчастье, очень заботился о судьбе своих людей: в Египте он велел разгрузить корабли, наполненные провиантом, чтобы передать его больным[211]. И современники тоже описывали его как человека, всегда соответствовавшего моральным канонам, учтивого, сдержанного, искреннего и безупречно владевшего речью. Доминиканец Симон дю Валь, приор Провенского монастыря, подолгу навещавший его, утверждал, что «никогда в жизни не слышал, чтобы он молвил развратное, праздное или клеветническое слово, и никогда не видел мужа, исполненного столь великого благоговения в речах и во взгляде». Эти самообладание и гармоничность, завоеванные долгим духовным трудом, внушали брату Симону «некое подобие страха, словно перед ним был святой»[212]. Твердая и неустрашимая вера государя производила сильное впечатление на его окружение, как на клириков, так и на мирян. Предоставляя заботу подкреплять христианскую догму рациональными аргументами, во имя ансельмовского принципа fides quaerens Intellectum (вера, ищущая разумения), магистрам из университета, Людовик IX опирался на незыблемую скалу Священного писания, воздерживаясь от любых интеллектуальных дискуссий. Христианская благая весть сводилась для него к нескольким элементарным утверждениям: «Во-первых, я наставляю тебя, — говорил он сыну, — чтобы ты любил Бога всем сердцем и изо всей силы, ибо без этого никто никуда не годится». Богу надо служить, как вассал служит сеньору. Миряне, считал он, должны защищать веру мечом, «вонзая его в живот противника»; пусть они стараются убивать неверных, но спорить с последними о вере не следует[213]. Применение этих решительных методов не исключало обращение других народов в религию Христа, единственно верную в его глазах. Этот мотив, видимо, и сыграл свою роль, когда было принято решение отправиться в крестовый поход в 1270 г. Неустрашимая вера не обязательно означает слепую набожность. Благочестию Людовика Святого, при всей его привязанности к литургическим упражнениям духа, была присуща некая личная тональность. Он не довольствовался тем, что часто слушал мессу, — в ее ходе он был очень активен: «Когда будешь в церкви, воздержись от того, чтобы терять время и говорить пустые слова. Читай молитвы сосредоточенно, либо устами, либо про себя, и особо благоговеен и внимателен будь в молитве, когда во время мессы будет явлено тело Господа Нашего Иисуса Христа, а также незадолго перед этим»[214]. Стараясь лучше познать это откровение, с которым был абсолютно согласен, он любил читать Библию и говорить о ней за столом с сотрапезниками; он внимательно слушал чтение Священного писания у доминиканцев в Компьене. Он высоко ценил проповеди, которые ему доводилось слушать, так сказать, сидя на земле. Пламенный адепт «нового слова», какое проповедовали нищенствующие ордены, возможно, именно наставлениям францисканцев он и был обязан желанием подражать Христу во всем, а также театральным и трогательным почитанием распятия: «И склонился к земле, раскинув руки крестом и целуя крест, и так веровал, что испускал слезы, делая это»[215]. Это сентиментальное благочестие, опиравшееся на некую внутреннюю «зону осмотра», не было лишено ни тревожности, ни сомнений, ни ханжества. Страдавший настоящей навязчивой идеей греха, характерной для эпохи, когда богословы находили удовольствие в классифицировании греховных поступков, Людовик IX хотел внушить эту боязнь дурного поведения старшему сыну: «Ты должен остерегаться всего, что, как ты полагаешь, должно быть неугодно Богу и совершение чего в твоей власти, и особо стремиться ни за что не совершать смертного греха, и лучше тебе допустить, чтобы тебе отрубили ноги и руки и лишили жизни самым мучительным способом, нежели сознательно совершить смертный грех» («Наставления»), Далее следует совет часто исповедаться у благочестивых и сведущих священников, какими в основном были францисканцы и доминиканцы, чтобы знать, что нужно делать и, главное, чего нужно избегать. В этом выразилась религия страха, столь любимого Жаном Делюмо[216], пусть даже певцы «прекрасного тринадцатого века» и наивные панегиристы готической улыбки, тронувшей уста реймсского ангела, с этим не согласятся. Этот вездесущий страх проистекал из первичной тревоги, порожденной убеждением, что человек постоянно находится в руке Создателя: «Если Наш Господь ниспошлет тебе гонение, болезнь или иное страдание, ты должен смиренно переносить его […]. Более того, ты должен считать, что заслужил его […], потому что мало Его любил и плохо Ему служил, и потому что совершил многое против Его воли». Такая тревога становится по-настоящему патологической, когда самое благополучие воспринимается как опасность, способная навлечь «беду, вызванную гордыней или другим грехом». В «Наставлениях» можно разглядеть религию болезненных сомнений, зарождение которой часто относят в самый конец Средневековья, с ее свитой недальновидных обычаев — покупки индульгенций, собирания реликвий и посещения как можно большего числа святилищ, где есть реликвии, особенно перед отъездом в крестовый поход. Желая приумножить символический капитал королевства, Людовик IX в 1241 г. купил у императора константинопольской Латинской империи терновый венец. Поместив его сначала у себя во дворце, он заказал для него Пьеру де Монтрею роскошную раку — Сент-Шапель (1243–1248), стоимость которой оценивается в 40 тыс. ливров. Отдельные шипы были обменяны на другие реликвии, в частности на мощи одиннадцати тысяч праведных кельнских дев. С годами монарх усваивал все более монашеский образ жизни. Не довольствуясь тем, что исповедался каждую неделю, он велел духовнику бичевать себя. Он даже хотел приобщить к этим практикам свою дочь Изабеллу, королеву Наваррскую, навязывая ей власяницу и повиновение. Удаляясь в Руайомон к цистерцианцам, он принуждал себя к физическому труду, пел в хоре, ухаживал за прокаженными, заслужив стойкую репутацию монаха по призванию. А ведь в начале царствования он не впадал в презрение к миру, занимался псовой и соколиной охотой, окружил себя зверинцем и не пренебрегал ни дорогими тканями, ни красивой посудой. Пусть он довольствовался простым этикетом, но его окружало пятьдесят-шестьдесят слуг. В общем, он не доводил самоотречение до отказа от требований своего сана. Некоторые вопросы, касающиеся благочестия Людовика Святого Чем перечислять назидательные анекдоты, проиллюстрированные огромным количеством виньеток в иллюминированных рукописях (король велит исповеднику сечь себя; король принимает останки жертв из Сидона; король моет ноги беднякам), важней «расспросить» благочестие Людовика Святого о некоторых принципиально важных вещах: сколько стоили основанные им религиозные учреждения? Заходил ли он в одаривании бедняков дальше символической стадии? Как он обращался с еретиками? Каким было его отношение к евреям? Самым показательным и самым дорогостоящим из религиозных учреждений этого царствования стало цистерцианское аббатство Руайомон, построенное в 1235 или 1236 г. Людовик IX лично участвовал в его строительстве, нося на носилках стройматериалы, и якобы потратил на него до 100 тыс. ливров. С другой стороны, Гильом из Сен-Патю приводит длинный перечень сооружений, которые с учетом стоимости земли, строительства и рент якобы обошлись более чем в 200 тыс. турских ливров. Упомянем богадельни в Понтуазе, Верноне (30 тыс. ливров, согласно Жану Ришару) и Компьене; расширение больницы Отель-Дье и доминиканского монастыря в Париже; церковь Кордельеров и монастырь кармелитов — тоже в столице; монастыри доминиканцев в Компьене и Кане, картезианский монастырь Вовер близ Жантийи, наконец, больницу Трехсот слепых, Дом бегинок и дом школяров в Париже. В этом скучном списке достославных и дорогостоящих строений не хватает как минимум монастыря Дочерей Господних и дома доминиканцев в Пуасси. Понятно, что некоторые советники короля, считая эти затраты чрезмерными, без колебаний порицали его за них, рискуя услышать такую отповедь: «Замолчите — все, что у меня есть, дал мне Бог. То, что я таким образом делаю, — лучшее, что я мог сделать». Помощь беднякам была еще одним результативным в духовном плане приложением сил и средств. Забота об обездоленных объяснялась не только стихийным альтруизмом короля, под нее подводилась и теоретическая основа: ближний, оказавшийся в нужде, воспринимался как живой образ Бога. Добрый король отнюдь не ждал, чтобы неимущие обращались к нему, а сам шел навстречу: «Посетим бедняков такой-то земли и накормим их» (Гильом из Сен-Патю). Отсюда и рекомендация его сыну Филиппу: «Советую тебе иметь в сердце сочувствие к беднякам и ко всем, кого ты сочтешь страждущими либо душой, либо телом; и, насколько это будет в твоей власти, охотно помогай им либо моральной поддержкой, либо подаянием» («Наставления»), Не следует ли под моральной поддержкой понимать знаменитые символические жесты короля (омывание ног тринадцати беднякам в Великий четверг, прислуживание им за столом), воспевание которых в агиографической традиции уже слегка приелось? Эти действия соответствуют общей традиции духовного превознесения Христовых бедняков, столь заметного в XIII в. Правда, термин pauperes Christi (бедняки Христовы) оставался двусмысленным, так как применялся одновременно и к неимущим, и к монахам, давшим обет бедности. Среди них не самую ничтожную долю королевских щедрот получали, похоже, нищенствующие братья: «И эти малые подаяния, которые добрый король особо велел давать и братьям-миноритам, и братьям-проповедникам, и прочим монахам, мужчинам и женщинам, и другим беднякам, достигали каждый год суммы семь тысяч парижских серебряных ливров, не считая ткани «бюро», и башмаков, и сельдей, каковые он велел давать и раздавать каждый год» (Гильом из Сен-Патю). В этой фразе монахи, живущие милостыней, искусно смешаны с неимущими. Как и многие его современники, король, похоже, поверил речам нищенствующих монахов и цистерцианцев, ловко уподобивших себя pauperes Christi. Видимо, вследствие этого он и оказывал чрезмерные почести монахам Руайомона, прислуживая им: «Когда монахи сидели за столом, добрый король прислуживал им вместе с монахами, выделенными для прислуживания; и он подходил к окну кухни, и брал там миски, полные мяса, и нес их, и ставил перед монахами, сидящими за столом» (Гильом из Сен-Патю). В результате подаяние «настоящим» бедным, пухнувшим от голода, не заходило дальше символической стадии. В 1256–1257 гг. на это выделялось около 10 % расходов ведомствадвора, в последующие десять месяцев — возможно, больше. Когда Нормандию поразил голод, налоговые поступления из герцогства были пущены на помощь голодающим. Каждую неделю при дворе происходили две больших раздачи хлеба и денег. Там ежедневно присутствовало по шестьдесят бедняков, накануне праздников — до двухсот-трехсот. Проезжая по своему королевству, через Берри, Нормандию или другие местности, король рассыпал свою «манну» изголодавшимся людям: «Он велел вызывать по триста бедняков, кормить их и лично им прислуживал», вкладывая каждому в руку по двенадцать парижских денье. Такие действия, обходясь сравнительно недорого, оказывались очень выгодными для формирования образа короля как «Отца Народа». Когда он ездил по королевству, «бедные шли к нему», прося милостыню в зависимости от своей нужды — от денье до двадцати су. Классовая солидарность обязывает, и знатные люди, впавшие в бедность, получали более существенную помощь — от десяти до шестидесяти ливров, а порой и сто ливров, когда у них были дочери на выданье (Гильом из Сен-Патю). Надо уточнить, что эта эпизодическая помощь, оказывавшаяся конкретным людям и пропорциональная их статусу, оставалась ничтожной по сравнению с потребностями в ней, но перемену в состоянии умов отрицать не приходится. Сочувствуя бедным, Людовик IX был неумолим к еретикам. Он испытывал утробную ненависть к катаризму, отрицавшему и Воплощение, и евхаристию, и церковь. Не созданный для богословских дискуссий, он любил называть себя сержантом Иисуса Христа, обязанным обнажать меч против хулителей веры. Он не скрывал восхищения Симоном де Монфором и высоко ценил его решительные методы. Как добрый сын Людовика VIII, он не осуждал ни одного из подвигов отца на катарском Юге. «В Альбижуа, — сообщает Гильом из Нанжи, — он приложил немало сил для истребления порока ереси»[217]. На Филиппа Смелого он возложил задачу завершить его дело: «Изгоняй бугров (еретиков) разумно и как подобает твоей власти над своей землей и прочими дурными людьми». А Монсегюр, скажут нам? Ни Жуанвиль, ни Гильом из Сен-Пагю, ни Гильом из Нанжи о нем ничего не говорят. Или это был второстепенный эпизод? Послушаем сначала рассказ Гильома де Пюилорана, капеллана Раймунда VII Тулузского, из главы XLIV его «Historia albigensium» (Истории альбигойцев): «Граф Тулузский отправился в Курию к императору Фридриху, а тем временем замок Монсегюр был взят и двести еретиков, или около двухсот, сожжены. Потом, весной, в год Господень 1243-й, он поехал к апостольскому престолу и провел, как при императоре, так и при Курии, год или около года, и добился, чтобы ему был возвращен Венессен. В тот же период в Курию приехал епископ Тулузский, вызванный туда. Тем временем преподобный отец монсеньор Пьер-Амьель, архиепископ Нарбоннский, монсеньор Дюран, епископ Альби, и сенешаль Каркассона осадили замок Монсегюр в Тулузской епархии, который держали два знатных сеньора, давно захвативших его, — Пьер Роже де Мирпуа и Роже (Раймунд) де Перейль. Там было общеизвестное убежище для всевозможных злодеев и еретиков, как бы «синагога Сатаны», по причине могущества замка, который, стоя на очень высокой скале, казался неприступным. Они (осаждающие) провели там много времени и достигли весьма небольших успехов; но случилось так, что легковооруженные слуги были посланы (на вылазку) с людьми, знавшими это место, которые организовали ночью подъем по ужасным отвесным склонам. Ведомые Господом, они достигли сооружения, находившегося на уступе горы; внезапно напав на часовых, они заняли это укрепление и перебили мечами тех, кто там находился. Настал день, и, оказавшись почти наравне с другими (врагами), занимавшими главную позицию, они смело пошли в атаку. И, с удивлением увидев страшный путь, каким они поднялись ночью, они поняли, что никогда бы не посмели решиться на это среди бела дня. Но, когда они заперли других на вершине, доступ для остального войска сделался проще. Поскольку те, кто находился внутри, подвергаясь атакам, не знали отдыха ни днем, ни ночью и поскольку эти безбожники не могли выдержать натиска правоверных войск, они согласились спасти себе жизнь и сдали атакующим замок и переодетых еретиков, каковых, как мужчин, так и женщин, находилось там около двухсот. Среди них (еретиков) был Бертран Марти, которого они сделали своим епископом. Отказавшись от обращения в истинную веру, предложенного им, они были сожжены в месте, огороженном кольями, где был разведен костер, и отправились в пламя Тартара. Замок же был возвращен маршалу де Мирпуа, которому принадлежал прежде»[218]. Жан Дювернуа, признанный специалист по катаризму, сделал некоторые уточнения. Присутствие двух прелатов «подтверждает, — полагал он, — что экспедиция, которой командовал Гуго дез Арси, сенешаль Каркассона, поставленный во главе регулярных королевских войск, имела характер крестового похода». Замок Монсегюр был отстроен в начале века и превратился в убежище для «совершенных», которое Гиллаберт, епископ Кастра, в 1232 г. решил сделать главной резиденцией (caput et domicilium) катарской церкви. Там действительно проживали епископы еретиков. В 1232 г. граф Раймунд VII Тулузский устроил первый поход на Монсегюр, но мало чего добился. Этот «оплот» катаров, где укрывались рыцари-файдиты, был не единственным в своем роде: известно еще не менее трех, в том числе Мирамон в Сабартесе, который сохранился при попустительстве французов, не слишком горевших желанием возобновлять войну. Гарнизон Монсегюра, отнюдь не остававшийся в бездействии, принял участие в катарском восстании 1240–1242 гг. и в походе в Авиньонне 28–29 мая 1242 г., организованных ради «освобождения страны от инквизиторов». Осада крепости началась в апреле или мае 1243 г., когда Раймунд VII был в отъезде. Гарнизон, насчитывавший сотню рыцарей и сержантов, был хорошо вооружен и располагал большими запасами. Через полгода, осенью 1243 г., осаждавшим удалось закрепиться на нижней части гребня и «понемногу оттеснить осажденных к вершине». В результате они смогли бить из своих осадных орудий по замку и его пристройкам, настоящему «деревянному городку с улицами и палисадами». Защитники героически оборонялись до самого начала Великого поста, не теряя надежды получить помощь от графа. В середине Великого поста было заключено перемирие, позволившее некоторым осажденным спастись. Остальные «были вытащены из замка и все вместе сожжены» 16 марта 1244 г. у подножия горы. Число жертв колеблется в зависимости от источников — от двухсот до двухсот двадцати четырех. По именам известны шестьдесят пять из них[219]. Новый владелец крепости, Ги де Леви, принес королю за нее оммаж в июле 1245 г. С тех пор в земле Фуа воцарился католический и королевский порядок. Задаваясь вопросом, почему молчат «большие» северные свидетели царствования Людовика IX, Этьен Деларюэль выдвинул гипотезу, скорей соблазнительную, чем на самом деле убедительную, согласно которой взятие Монсегюра рассматривалось не как крестовый поход, а как полицейская операция против двухсот «совершенных», укрывшихся в замке[220]. В доказательство этого автор утверждал: со времен альбигойского крестового похода Юг сильно изменился. Катарские сеньоры уступили место баронам с Севера, несомненным католикам. Файдиты на время эмигрировали в Италию; вернувшись, они вдохнули новую жизнь в «катаризм сопротивления, политического и религиозного, но уже не катаризм завоевания». Катаризм налетов, таких как упомянутая резня инквизиторов в Авиньонне. Чиновники Людовика IX относились к этим событиям как к «посягательствам на власть короля» и как к нарушениям договора в Мо и Париже, но не как к угрозам католической вере. Что осталось от катарской церкви после Монсегюра? Лораге, где еще находило приют больше всего верующих и священнослужителей. Церковь Каркассона пришла в почти полный упадок. В Альбижуа пышным цветом расцвели доносы. В Аженё продолжалась охота на еретиков: в 1249 г. под Аженом погибло на костре восемьдесят катарских верующих. Теперь продолжать облаву и терпеливо искоренять катаризм надлежало инквизиторам. Это были времена выкупов или, точнее, поручительств. «Близкие брали на себя обязательство за значительные суммы гарантировать явку в суд обвиняемых, которых оставили на свободе» (Жан Дювернуа). Это были и времена ренегатов, которых подстерегала месть бывших единоверцев. Новообращенным катарам оставалось только уходить в изгнание и добираться до Ломбардии, подобно Пьеру де Банвилю, купцу из Авиньонне, который бежал сначала в Ланьи, оттуда с товарами переправился в Геную и наконец достиг Пьяченцы и Кремоны. Иногда уезжали группами, как известно из реестров инквизиции в Тулузе, из записей позже 1273 г. То есть Людовик IX как будто достиг цели, которую поставил перед собой: очистить свою землю от еретиков. В третьей четверти XIII в. «лорагеский катаризм агонизировал», — отмечает Жан Дювернуа. Но «совершенные» не замедлили вернуться из Ломбардии, чтобы «пробудить веру своих еще многочисленных верующих и прежде всего вдохнуть в них смелость». Это возрождение особенно ярко проявилось в Монтайю около 1300 г. Отношение Людовика Святого к евреям — особо болезненная тема, вызывающая жаркие споры[221]. Если верить одному современнику, Вильгельму Шартрскому, «он питал такое отвращение к евреям, ненавистным как людям, так и Богу, что не мог их видеть и отказывался пользоваться их услугами, каким бы ни было их имущество. Он не хотел, по его словам, сохранять ничего из их яда и позволять им заниматься ростовщичеством, желая, чтобы они зарабатывали на жизнь только при помощи любых дозволенных ремесел и торговли, как принято в других землях». Надо ли делать из Людовика IX предтечу современного антисемитизма? Несведущий человек, ограничившись беглым прочтением сборника королевских ордонансов, мог бы счесть, что да. Красноречив уже простой перечень мер, принятых монархом. Ордонанс 1230 г. запрещал евреям давать ссуды и урезал долги перед ними на треть. Перед отъездом короля в Святую землю имущества евреев были конфискованы. Великий ордонанс 1254 г. предписывал: «Пусть евреи откажутся от ростовщичества, от богохульств, от колдовства и пусть их Талмуды и прочие книги, сочтенные богохульными, будут сожжены, евреи же, которые не пожелают подчиняться этим ордонансам, да будут изгнаны из королевства, а нарушители наказаны по закону. И пусть все евреи живут трудом своих рук или иными делами, не связанными с ростовщичеством». В 1258 г. долги перед ростовщиками было приказано отдавать в королевскую казну. На Рождество 1260 г. ордонанс велел мэрам добрых городов выяснить, какие преступления совершили на подведомственных им территориях крещеные евреи. В июне 1269 г. почитателям Ветхого завета было под угрозой штрафа предписано носить на одежде знак, отличающий их от христиан. На этой стадии подготовки крестового похода во множестве принимались дискриминационные меры против внутренних врагов. Отметим, что в этом король был не оригинален, ведь еще Латеранский собор в 1215 г. приказывал евреям носить особую одежду, а Арльский собор в 1234 г. потребовал только, чтобы они крепили к одежде отличительные значки. Тем не менее эти законодательные решения Капетинга дали повод обвинить его в антииудаизме. Первое возражение, выдвинутое его защитниками, может показаться смехотворным: он соглашался быть крестным отцом евреям, которые крестились. Короче говоря, он ничего не имел против евреев, но — обращенных! Другой, более весомый аргумент: в королевстве иудеи жили в таких же условиях, как и в Папском государстве, где их положение особо плохим не было. Они пользовались свободой совести и вероисповедания, и их нельзя было обращать насильно; но они не имели права нанимать слуг — Христиан, поскольку власти опасались обращения этих слуг в иудаизм. Третий довод, который приводят, ловко подменяет проблему: Людовик IX панически боялся богохульства, а ведь папа и видные парижские магистры, такие как Вильгельм Овернский и Альберт Великий, уверили его, что евреи «под видом Талмуда распространяют книги, наполненные богохульствами и оскорблениями Христа, Богоматери, христиан и самого Бога»[222]. Для защиты Талмуда перед королем и парижскими богословами были приглашены самые знаменитые раввины. После дискуссии, произошедшей 24 июня 1240 г., король назначил комиссию для изучения Талмудов, последствиями доклада которой стали гигантские аутодафе в июне 1242 г.: было сожжено двадцать телег книг, но ни один раввин не подвергся преследованиям. Прославленный рабби Иехиэль продолжал учить своих трехсот парижских учеников до 1257 г. Защитники Людовика Святого утверждают также, что его настоящим врагом были не евреи, а ростовщичество. В самом деле, ордонанс 1269 г. обвинил ломбардцев и кагорцев, ссудодателей — Христиан, в жестоком разорении королевства и совершении многочисленных грехов в их конторах, после чего приговорил их к изгнанию на три месяца. Этот жестокий удар имел лишь ограниченные последствия: ведь с 1270 г. ломбардским купцам разрешили пользоваться некоторыми привилегиями, какие имели парижские горожане. Евреи же, хотя их ссудные операции имели небольшой масштаб, обвинялись не только в ростовщичестве, но также в богохульствах и колдовстве, а такой набор мог повлечь за собой сколь угодно опасные последствия. Действительно, в Анжу и Пуату, в апанажах королевских братьев, произошло несколько инцидентов. В конечном счете антииудаизм Людовика Святого не вызывает сомнений, даже если он не дошел до степени истерии и даже если самые тяжкие обвинения — в ритуальных убийствах — распространялись за пределами королевства, в Вальреа и Вьеннской епархии, с 1247 по 1253 г. Отметим также в оправдание короля, что он позволял «врагам веры» пользоваться действующими обычаями, иметь в Лангедоке ткацкие мастерские и продолжать коммерцию. Поверим в этом рабби Иехиэлю: «У нас с ними (христианами) общие дела». В общем, Людовик IX был полностью согласен с Фомой Аквинским, который советовал герцогине Барской не лишать «ее» евреев «необходимых средств к существованию» в надежде на их обращение. Крестоносец затмевает миссионера Здесь мы затронем, вероятно, самый архаичный аспект личности короля — miles Christi (воина Христа), неустрашимого слуги Запада в борьбе с неверными. На самом деле оба его крестовых похода были предприятиями продуманными, тщательно подготовленными, в них неизменно присутствовали миссионерские намерения — в отношении монголов и тунисских Хафсидов. Крестовый поход 1248–1254 гг., так называемый египетский, по счету седьмой, стал жестоким испытанием для короля и лег очень тяжелым бременем на королевство. Принять крест Людовика IX побуждал пример предшественников — Людовика VII и Филиппа Августа. Нужно было также вдохнуть новую жизнь в идеал, оказавшийся под угрозой из-за того, что походы направлялись куда угодно — против еретиков, язычников и даже восточных христиан; нельзя забывать и о непредвиденных последствиях того факта, что обет отправиться в Святую землю стал обычным делом. К этим побуждениям общего характера добавлялось влияние Жана де Бриенна, предводителя Пятого крестового похода (1217–1221), с 1231 по 1237 г. управлявшего константинопольской Латинской империей. Надо также учесть относительный успех крестового похода в Святую землю, который в 1239 г. предприняли Тибо Шампанский и Пьер Моклерк. Эта экспедиция баронов дала возможность вернуть значительную часть бывшего латинского королевства и даже сам город Иерусалим — на три года, в 1241 г. Наконец, окончательно заставила Людовика IX отправиться в поход тяжелая болезнь, поразившая его в декабре 1244 г. «Болезнь, не прекращала его терзать, — повествуют «Большие французские хроники», — так что уже наверняка думали, что король умер, и в стране, и во дворце все пришли в смятение (когда Господь вернул сознание государю). Когда он очнулся и смог говорить, он тотчас потребовал крест для отъезда за море и сделал это с благоговением»[223]. Произошло полное исцеление, которое сопровождалось глубокой духовной трансформацией: «После этой болезни он стал весьма щедрым на подаяние и благочестивым». Усилия епископа Парижского и Бланки Кастильской разубедить его идти на помощь Святой земле остались тщетными. Положение там было слишком тяжелым, чтобы Капетинг мог не вмешиваться. В 1244 г. тюрки — xорезмийцы окончательно отобрали Иерусалим у христиан, побежденных также египтянами при Газе, а через три года лишившихся Тивериады и Аскалона. В довершение несчастий они видели, что надвигается монгольская угроза. С момента принятия обета в декабре 1244 г. до отплытия из Эг-Морта 25 августа 1248 г. прошло более трех лет. Переправить на Восток несколько десятков тысяч людей и коней оказалось очень трудно. Надо было также просить о возможном содействии других монархов и обезопасить себя как от возможного нападения Генриха III Английского, так и от арагонских притязаний. Мобилизацию сил христианства не упростило и осуждение императора Фридриха II Лионским собором в 1245 г. Следовало выделить время и на духовную подготовку: во Францию приехал легат Эд де Шатору, чтобы «проповедовать путь за море»; король встретился в аббатстве Клюни с папой, занялся исправлением несправедливостей, допущенных его чиновниками, и попытался снискать одобрение монастырских общин. Знатные бароны испрашивали у ленников разрешения на отъезд. Жуанвиль[224] и его вассалы позволили себе целую неделю празднеств и балов. В конечном счете армия Седьмого крестового похода очень напоминала королевское войско, получившее некоторые подкрепления из Шотландии и Норвегии. Жан Ришар[225], у которого мы в основном и берем данные для этого исследования, оценивает суммарную численность в 25 тыс. человек, при которых было 7–8 тыс. коней и которые распределялись так: от 2,5 до 2,8 тыс. рыцарей, около 5 тыс. вооруженных слуг и оруженосцев, 10 тыс. пехотинцев и арбалетчиков. Это повлекло за собой серьезные логистические проблемы. Чтобы перевезти бойцов, надо было нанять корабли у генуэзцев и марсельцев; чтобы их кормить, надо было складировать зерно и вино на Кипре: «Люди (короля) сложили на ровном месте на берегу моря огромные горы бочек с вином, купленных ими за два года до приезда короля […]. Что до пшеницы и ячменя, то их насыпали в поле грудами; и при виде их казалось, что это холмы» (Жуанвиль). Это предприятие обошлось в полтора миллиона ливров королевству, средний годовой доход которого исчислялся несколькими сотнями тысяч ливров. Пришлось требовать соучастия в расходах от городов — приблизительно на 250 тыс. ливров. Пришлось взимать с церковников десятую часть доходов с их бенефициев. Эта непопулярная десятина (decime Terre sancte) якобы принесла за пять лет почти миллион ливров. То есть финансирование этого благочестивого предприятия обеспечило по преимуществу духовенство. Руководство крестовым походом не было на высоте его подготовки, очень тщательной. Прибыв в сентябре 1248 г. на Кипр, крестоносцы покинули его только в мае 1249 г. В ходе этих месяцев ожидания зародилась мечта о сотрудничестве с монголами против мусульман и был разработан план сражения, заключавшийся, как и в Пятом крестовом походе, в нападении на султана Египта, владыку Иерусалима. «Решение проблемы Святой земли по-прежнему надо было искать в Каире»[226]. Людовик IX якобы даже задумал сделать из Египта вассальное королевство и доверить его своему брату Роберту д’Артуа. Первой целью крестоносцы назначили Дамьетту, расположенную на главном рукаве Нила, ведущем к Каиру, и очень легко захватили ее (6 июня 1249 г.). При разделе добычи вспыхнули ссоры, потому что Людовик IX не посчитался с обычаями Святой земли, Пребывание в Дамьетте продлилось пять месяцев, за это время прибыли подкрепления, приведенные Альфонсом де Пуатье, а под конец этого срока разлился Нил. Султан предложил обменять Дамьетту на Иерусалим, но Людовик IX, как в свое время легат Пелагий, отклонил это предложение. 20 ноября армия крестоносцев медленно двинулась к Каиру; в декабре она встала перед крепостью Мансурой. Хорошо начавшаяся операция в феврале 1250 г. сорвалась из-за торопливости Роберта д’Артуа, отряд которого был перебит внутри города. После этого мамлюки перешли в контрнаступление. В войске начала свирепствовать эпидемия — вероятно, цинги: «У людей на распухших деснах отмирала плоть, — рассказывает Жуанвиль, — и брадобреям (хирургам) приходилось ее удалять, дабы дать им возможность жевать и глотать пищу». В начале апреля 1250 г. пришлось принять решение отступать к Дамьетте. Заключить перемирие не удалось. Наконец, Людовик IX, больной дизентерией, 6 апреля попал в плен, тогда как почти вся армия была уничтожена. Жуанвиль рассказывает, что после того, как писцы султана записали его в качестве пленного, он попал в шатер, «где находились бароны, а с ними более десяти тысяч человек». И далее уточняет: «Многих рыцарей и прочих пленных сарацины держали во дворе, обнесенном земляным валом […]. Тех, кто не хотел отступиться от веры, отводили в одну сторону и отрубали голову, а тех, кто отрекался, в другую». Утопическая идея египетского похода привела к унизительному разгрому. Начались переговоры. Речь шла о том, что король будет освобожден в обмен на сдачу Дамьетты, а бароны — за выкуп в 400 тыс. ливров. Но ситуация была сложной, ведь 2 мая 1250 г. мамлюки свергли султана. В конечном счете Дамьетта была возвращена мусульманам, что позволило Людовику IX и баронам вновь обрести свободу (8 мая), благодаря этому они отплыли в Сирию. Но двенадцать тысяч их товарищей по оружию осталось в плену. В ожидании их освобождения король в июле решил оставаться в Святой земле и реорганизовать ее оборону. Поколебавшись, он уступил доводу Жуанвиля: «И оставшись, он сумеет освободить бедных узников, взятых в плен на службе у Господа и его собственной, которые никогда не выйдут оттуда, если король уедет». Он поставил защиту Святой земли («Если я уеду, Иерусалимское королевство погибнет; ведь после моего отъезда никто не рискнет там оставаться») выше защиты своего королевства, хоть и находившегося в большой опасности: «У меня нет ни мира, ни перемирия с английским королем». Согласно «Большим французским хроникам», он приказал брату, графу Пуатье, «ехать охранять Французское королевство вместе с королевой Бланкой, его матерью, которая хранила его весьма мудро». В конечном счете Людовик IX провел в Сирии четыре года, до 24 апреля 1254 г., сделав там «превосходное дело», на взгляд Рене Груссе. Еще располагая большим престижем и относительно сильной армией, он сумел воспользоваться разногласиями между мусульманскими монархами из династии Айюбидов и мамлюками. После долгих переговоров он в 1252 г. добился освобождения пленников и территориальных уступок. Он заботился и о том, чтобы приспособить для обороны франкские города побережья — Акру (1250–1251), Цезарею, Яффу (1252 г.) и Сидон, где сарацины внезапно напали на каменщиков и перебили их. Король счел своим долгом принять участие в погребении «зловонных и разложившихся тел жертв. Он клал их в полу и носил к ямам, где их закапывали» («Большие французские хроники»). В общем на восстановление сети франкских оборонительных укреплений было потрачено более 100 тыс. ливров. Нужно было также гасить ссоры между христианами, вершить суд, принимать посольства и отправлять эмиссаров к монголам в надежде обратить их в христианство. Наконец, следовало посетить памятные места земной жизни Христа, за исключением Иерусалима, находившегося в руках мусульман. Король побывал в Кане, «где Наш Господин сделал вино из воды», и в одежде кающегося — в Назарете, «в месте, где был вскормлен Наш Господь» («Большие французские хроники»). Вернуться наконец на французскую землю Людовика IX побудило сообщение о кончине Бланки Кастильской, случившейся в декабре 1252 г. Следовало спешить. Движение «пастушков», стихийный крестовый поход молодежи, вышедшей из Пикардии в безумной надежде «освободить короля», с июня 1251 г. превратилось в опасное восстание против духовенства и богачей — сначала в Париже, а потом в Бурже и Орлеане, побудив королеву Бланку прибегнуть к суровым репрессиям. После того как последняя, уважаемая простым народом за то, что, если верить «Большим французским хроникам», «очень хорошо хранила справедливость», умерла, Совет раскололся на прелатов и баронов. Обострилась угроза, которую представлял Генрих III Английский, а щекотливый вопрос фламандского наследства мог вызвать конфликт с Германией. Возвращение весной-летом 1254 г. было отмечено двумя неприятными событиями, случившимися поблизости от Кипра, — посадкой корабля на песчаную мель и очень сильным штормом. В обоих случаях королевская чета доверилась символическим средствам воздействия: не согласившись с перевозчиками, король отказался покинуть поврежденный корабль и препоручил себя Богу на дальнейшее путешествие; во время урагана королева дала обет преподнести святому Николаю Варанжевильскому серебряный кораблик (Жуанвиль). Высадившись в Йере, монарх не торопясь поспешил в Париж, куда вступил 7 сентября 1254 г., после более чем шести лет отсутствия. Святую землю он оставил на верного человека, Жоффруа де Сержина, и не собирался вновь выступать в крестовый поход в ближайшее время. Извлекая урок из поражения, которое он был склонен объяснить совершенными грехами, он решил исправить нравы в своем королевстве и даже подумывал постричься в монахи, но Карл Анжуйский и королева Маргарита сумели отговорить его от этого. Восьмой крестовый поход: утопия или рассчитанный политический выбор? Суждение Жуанвиля о тунисском крестовом походе было безапелляционным: «Думаю, что те, кто ему (королю) посоветовал пойти в поход, совершили смертный грех, потому что, пока он находился во Франции, в самом королевстве и со всеми соседями сохранялся мир, а с тех пор, как он уехал, положение дел в королевстве стало все хуже и хуже». Кстати, сенешаль Шампани отправляться в поход отказался, предпочтя остаться и защищать своих людей от посягательств королевских сержантов! На самом деле принятое монархом в 1267 г. решение пойти в крестовый поход следует оценивать с учетом сложной международной конъюнктуры, в которую входили и недавнее завоевание Сицилии Карлом Анжуйским, и крах константинопольской Латинской империи, и монгольская угроза, и испытания, какие терпели франки, жившие в Святой земле. Этот набор факторов и вызвал к жизни парадоксальное предприятие — так называемый тунисский крестовый поход, цель которого была провозглашена уже после отплытия, когда флот находился в Кальяри. Со времен Анри Валлона расхожим стало утверждение, что это Карл Анжуйский надоумил Людовика IX ехать в Тунис, чтобы заставить местного правителя аль-Мустансира платить дань королю Сицилии, которым с недавнего времени стал Карл. Рассмотрим сначала анжуйскую составляющую событий. Карл Анжуйский, брат Людовика IX, обосновался на троне сицилийских норманнов по просьбе французских пап Урбана IV и Климента IV, желавших убрать с политической арены Манфреда, незаконного сына императора Фридриха II, ненавистного вождя партии гибеллинов. Сицилийская корона была возложена на Карла 28 июня 1265 г. в Риме. Оставалось завоевать Южную Италию; победа при Беневенто в феврале 1266 г. позволила избавиться от Манфреда, а победа при Тальякоццо в 1268 г. — устранить Конрадина, последнего из Штауфенов. После этого началось заселение Неаполитанского королевства провансальцами и французами, получавшими там лены. Амбиции Карла Анжуйского этим не ограничились: он также мечтал восстановить константинопольскую Латинскую империю, которая в 1261 г. рухнула, и столица которой перешла в руки греков. В 1267 г. император Балдуин II уступил часть своих прав Карлу, с тех пор усвоившему «глобальные притязания», для удовлетворения которых ему нужно было ехать в Восточное Средиземноморье, а не в Тунис. Он отнюдь не указывал Людовику IX последнюю дорогу, а как раз предпочел бы избежать войны в Северной Африке. Как выяснил Огюст Лоньон, Карл не направлял экспедицию 1270 г., он лишь следовал за ней. В июне и июле он собирал провиант для крестоносцев и прибыл в Тунис только 25 августа, когда его брат уже скончался. Кстати, Пьер де Конде, капеллан Людовика Святого, не ошибался, утверждая, что анжуйский государь «пытался избежать любого военного столкновения с аль-Мустансиром»[227]. Монгольская составляющая тоже не повлияла непосредственно ни на решение Людовика IX, ни на выбор цели, но была очень заметна на заднем плане похода. Брат Андре из Лонжюмо, отправленный в 1249 г. с посольством ко двору Великого Хана, вернулся с обнадеживающими известиями: в окружении императора степей есть христиане, даже некоторые принцессы выбирают «истинную веру». Большего не требовалось, чтобы вызвать безумную надежду на то, что монголы обратятся в христианство. Известие об обращении Сартака, потомка Чингисхана, несколько укрепило эти надежды, вскоре рухнувшие из-за провала посольства Гильома де Рубрука (1253 г. и далее). Великий Хан вновь стал опасен для европейцев. В 1259 г. монголы снова вторглись в Польшу, а поход Хулагу в мусульманскую Сирию в том же году создал угрозу для Святой земли. Через два года монгольский вождь прибег к политике кнута и пряника: угрожая возможностью войны, он в то же время просил у Людовика IX поддержки его флота, чтобы напасть на Египет. Взамен он обещал вернуть Святую землю. Французский король не дал хода этому замыслу и отправил монгольских послов к папскому двору. Начались переговоры, но не похоже, чтобы перспективы, какие они открывали, сказались на подготовке Восьмого крестового похода. Бедствия Святой земли, напротив, оказали прямое влияние на решение короля. Победив монголов в Галилее в сентябре 1260 г., мамлюки стали хозяевами мусульманской Сирии, включившей в себя Алеппо, Дамаск и Иерусалим. Опасаясь франко-монгольского союза, они под водительством султана Бейбарса усилили натиск. Антиохийское княжество исчезло, Иерусалимское королевство уподобилось шагреневой коже. Падение Цезареи и Арсуфа, соответственно, 27 февраля и 26 апреля 1265 г., а потом развал всей оборонительной системы за два последующих года вызвали опасения, что франков могут сбросить в море. Людовик IX не мог бездействовать в то время, когда Запад мобилизовал силы, а короли Арагона и Англии стали крестоносцами. Согласно Жану Ришару, общественное мнение желало, чтобы король принял крест. Об этом свидетельствует знаменитый спор крестоносца и «снявшего крест», сочиненный Рютбефом. Трувер откликнулся на многочисленные замыслы походов, возникавшие в период с 1260 по 1270 г.: против Манфреда в Южной Италии, против Михаила Палеолога в Константинополе и против сарацин. Он устроил воображаемый словесный турнир между крестоносцем и «снявшим крест», считавшим переправу за море ненужной и губительной. Однако в конечном счете последний уступил доводам оппонента: «Я беру крест без всякого промедления; я отдаю Богу свое тело и свое имущество, ибо всякому, кто изменит Богу в этом деле, придется плохо»[228]. Король принял крестоносный обет 25 марта 1267 г., и его примеру последовали многие бароны. Что это было — желание отомстить за поражение 1248–1250 гг.? Забота о том, чтобы исправить ошибки, прежде чем покидать дольний мир? Надежда обрести милость Всевышнего, совершив благочестивое деяние? Все эти объяснения скорей дополняют, чем исключают друг друга. «Большие французские хроники» подчеркивают: речь шла о том, чтобы помочь Святой земле, «отомстить за позор и урон, которые сарацины принесли заморской земле к досаде Нашего Господа». Чтобы оплатить намеченный поход, надо было использовать все средства, взимать десятину три года, нравилось это духовенству или нет. Король заключал разорительные договоры с рыцарями-баннеретами, которых должны были сопровождать их люди. Надо было также собрать флот, не прибегая к посредничеству генуэзцев. Корабли фрахтовали, а также строили за счет короля; покупали совсем новые нефы по 14 тыс. ливров каждый. Считается, что тогда флот впервые возглавил адмирал — им стал Флоран де Варенн[229]. Теперь осталось рассмотреть вопрос, почему крестоносцы повернули в Тунис. Надо ли говорить о стратегическом заблуждении? О химере? Надо ли ссылаться на недостаток энтузиазма у десяти-пятнадцати тысяч бойцов? Мнения Огюста Лоньона по этой проблеме кажутся нам достаточно убедительными. Для начала он напоминает факты. Отплыв 1 июля 1270 г. из Эг-Морта, 8 июля Людовик IX достиг Кальяри. 12–13 июля он провел заседание совета, чтобы назначить цель похода. Сам он был склонен выбрать Тунис, и легат тоже был с ним согласен. Поддержали его и бароны, не без оговорок. Этот выбор объяснялся прежде всего религиозными соображениями, которые воспроизводит исповедник Жоффруа из Болье: Капетинг надеялся обратить аль-Мустансира, короля Туниса, в христианство и стать его крестным отцом. Он хотел вернуть к Христовой вере землю Африки, где уже трудилось несколько доминиканских миссионеров. Впрочем, это решение не было безрассудным и в стратегическом плане: говорили, что занять Тунис легко; он мог стать этапом дороги в Египет и в Святую землю; это давало также возможность лишить египетского султана важной базы снабжения. В общем, план, разработанный в 1270 г., можно сравнить с планом 1204 г., на сей раз с очень выраженной миссионерской составляющей. Но не была ли химерической надежда, что при виде знамен с королевскими лилиями эмир обратится в христианство? Двенадцатого июля 1270 г. крестоносцы высадились под стенами Туниса и разбили лагерь на Карфагенской равнине, в сложных условиях. Вскоре за свое дело взялись тиф и дизентерия. Заболев, король скоро ослаб, 24 августа он в знак покаяния лег на ложе из пепла, а 25 августа умер, и смерть его стала очень поучительной для очевидцев. Завершать переговоры с эмиром пришлось Карлу Анжуйскому, сумевшему добиться некоторого облегчения в отправлении христианского культа, а также получить кругленькую сумму в 500 тыс. ливров. 14 ноября 1270 г. флот вернулся в Трапани, но на следующий день сильный шторм уничтожил его большую часть. Крестовый поход был решительно отложен до лучших времен. Один Эдуард Английский с ограниченными боевыми силами достиг Святой земли, реализовав планы покойного короля очень в небольшой степени.Привнесение морали в политику
Людовик IX отличался обостренным сознанием своей миссии, выдающегося характера своих обязанностей и ответственности, какие возложило на него миропомазание, полученное в день коронации. Он был очень привержен идее династической преемственности. Он проявлял совершенно особый интерес к «Историческому зерцалу» Винцента из Бове, прославлявшему род французских королей. Создавая в Сен-Дени династический некрополь, он выразил свое ощущение королевского величия. Не ставил ли он как человек благочестивый интересы церкви выше интересов монархии? Тем, кого это могло бы беспокоить, недавние исследования дают неожиданный ответ: по мнению Ива Конгара, Людовик Святой, далекий от того, чтобы выполнять все желания клириков, «способствовал большей самостоятельности мирского, то есть светского, сословия»[230]. По внешней видимости это было совсем не так: король якобы заказал Винценту из Бове христианскую политическую «сумму», от которой до нас дошли только обрывки; он прилежно слушал богословов, которые формулировали обязанности короля, взяв за образец царствие Христово, и проводили строгие параллели между девятью классами гражданских служащих и девятью ангельскими хорами. Как монарх, настолько пропитанный проповедями и Священным писанием, которого Vox populi считал святошей, мог не погрязнуть в пучине теократии? И все-таки надо признать очевидное: хотя об обязанностях короля он имел представление религиозное, чтобы не сказать — мистическое, тем не менее он «расширил автономию мирских структур». В его царствование сеньоры и горожане выражали протесты против чрезмерных притязаний церковников в судебной и фискальной сферах. В 1246 г. магнаты королевства запретили мирянам обращаться в церковные суды, кроме как в случаях ереси и ростовщичества. Король отправил подряд два посольства к Иннокентию IV с жалобами на злоупотребления клира. Он отнюдь не спешил выполнять приговоры об отлучении, когда считал их несправедливыми, несмотря на давление со стороны епископов. Жуанвиль передает нам суровое предостережение, высказанное прелатом Ги Оксерским: «Сир, присутствующие здесь архиепископы и епископы поручили мне вам сказать, что христианская вера пришла в упадок и ускользает из ваших рук и что она ослабеет еще больше, если вы не придете на помощь, потому что никто ныне не боится отлучения». Ничто не поколебало твердости короля, ответившего, что «ни за что не отдаст приказа своим сержантам понуждать отлученных к принесению покаяния, будь то право или неправо». Не призывая к отделению церкви от государства, немыслимому в ту эпоху, Капетинг сумел добиться некоторой автономии для светской сферы, что согласовалось с недавно отмеченной эмансипацией сферы политической. Он очень ревностно, в положительном смысле, относился к своей власти. «Установления» Людовика Святого, свод, составленный незадолго до смерти, напоминал, что в мирском отношении над королем нет государя. Он обладает властью издавать законы, как император. В его окружении считалось, что «король Франции не признает никого стоящим выше себя». Согласно Иву Конгару, «была признана самодостаточность светского сословия». В этом отношении Филипп Красивый был верным наследником знаменитого деда. Эти ученые соображения современных специалистов ничуть не умаляют того факта, что в коллективном воображаемом образ Людовика IX — это святой и христианнейший король, неуклонно проводивший политику на основе Священного писания. Его действия можно было бы классифицировать по воображаемым десяти заповедям[231], какие следует соблюдать идеальному христианскому монарху. — Борись с ересью: королевские суды оказывали поддержку инквизиторам, подчас даже проявляя больше суровости по отношению к вероотступникам. Ересь приравнивали к мятежу против короля; катарская община в Лиму, например, была признана не только файдитской, но также враждебной и мятежной. — Обращай евреев: предпочтительно убеждением и при надобности силой, как мы видели выше. — Пресекай ростовщичество: независимо от того, занимаются им евреи или христиане. Благое пожелание ввиду нехватки монет, от которой страдала тогдашняя экономика. — Суди всех по справедливости: это один из лейтмотивов ордонанса 1254–1256 гг. и «Наставлений» 1267–1268 гг.: «Дорогой сын, […] будь столь справедлив, чтобы ты ни в коем случае не отступал от справедливости. И если случится тяжба между бедным и богатым, лучше отдай предпочтение бедному против богатого, пока не узнаешь правду, когда же узнаешь ее, то суди, по справедливости. И если случится у тебя тяжба с кем-либо, поддержи перед своим советом дело противника и не создавай впечатление, что слишком рьяно отстаиваешь свое дело, пока не узнаешь правду, ибо члены твоего совета могут опасаться выступать против тебя, чего ты не должен желать». Такими были слова. А дела? Король вершил суд при входе во дворец, убеждая тяжущиеся стороны примириться. Летом он священнодействовал в Венсеннском лесу, не пренебрегая помощью советников. Он без колебаний сурово карал, в том числе и провинившихся крестоносцев: один рыцарь, которого застали в публичном доме, был вынужден покинуть лагерь в Цезарее без коня и доспехов (Жуанвиль). Известна знаменитая история о сире де Куси, наказанном за то, что повесил трех знатных юношей, охотившихся на его землях. Король хотел приговорить шателена к смерти; уступив давлению со стороны баронов, он согласился заменить это наказание штрафом в 10 тыс. ливров, а также обязательным пребыванием в Святой земле в течение трех лет. — Выбирай добрых чиновников: выше мы отметили прогресс, достигнутый в этой сфере после 1254 г. Поэтому так важна была рекомендация сыну: «Старайся, чтобы на твоей земле были добрые бальи и добрые прево, и часто проверяй, судят ли они по справедливости и не творят ли другим ущерба и того, чего делать не должны». — Воздерживайся от «пустых трат и несправедливых поборов»: на самом деле, в конце царствования был введен жесткий режим экономии, и бремя оплаты крестового похода в значительной мере было переложено на плечи церкви. Но с городов взимали большие подати, и уже зарождалось понятие постоянного налога — и на практике, и в теории. — Защищай церковь: это еще один лейтмотив «Наставлений», плохо сочетающийся с принципом автономии светского. «Усердно оказывай покровительство […] служителям святой Церкви; не допускай, чтобы как они сами, так и их имущество терпели ущерб и подвергались насилию […]. Особо люби монахов и охотно помогай им в их нуждах; тех же, кто, как ты считаешь, более всех почитает Господа Нашего и служит Ему, люби больше, чем других». Некоторые жаловались, что на двор обрушилась целая туча францисканцев и доминиканцев. «Будь всегда предан римской Церкви и нашему святому отцу папе и оказывай ему уважение и почтение, какими ты обязан своему духовному отцу». Людовику IX это было нетрудно, с тех пор как в 1265 г. тиару получил его бывший советник Ги Фулькуа. Отметим, что за двадцать лет до того Капетинг не поддержал осуждения императора Фридриха II, отлученного Лионским собором. — Обуздывай распущенность: ордонанс 1254–1256 гг. намечал, как мы видели, целую программу для этого, обрушившись, в частности, на таверны и на игру в кости. Бывать в «таверне греха», земном филиале ада, чиновникам и местным жителям запрещалось в принципе. Посещать ее могли только паломники и путники. Считалось, что игры и кости, где царит случай, посягают на Провидение и противоречат христианской трудовой этике, согласно которой всякое приобретение должно быть заработано в поте лица. — Карай богохульство: ордонанс 1269 г. представлял собой настоящую «сумму» по этому вопросу, ведь до отъезда в крестовый поход надо было срочно очистить речь жителей королевства, чтобы заручиться Божьей помощью. В кампании по оздоровлению общественной нравственности были использованы все средства, какими располагалогосударство. «Да будет объявляться в городах, на ярмарках и на рынках не менее раза в месяц, чтобы никто не дерзал клясться никакими частями тела ни Бога, ни Богоматери, ни святых, не произносил никакой хулы и дурного слова […], оскорбляющего Бога […], если же он это сделает, будет за это наказан […]. Тот же, кто это услышит или узнает, обязан донести об этом суду». То есть донос сделался в то время обязанностью. Богохульники облагались огромными штрафами — от 20 до 40 ливров, в зависимости от положения. Неплатежеспособные бедняки имели право на позорный столб и шесть дней заключения. Суммы штрафов подлежали разделу между доносчиками, судьями и местными сеньорами. Преследование богохульства стало государственным делом: нужно было во что бы то ни стало отучить народ от языковых вольностей, заставить грех отступить, приблизить земной град к небесному. Ради этого мобилизовали весь руководящий состав — бальи, прево, мэров, сеньориальных судей. Нерадивые чиновники подлежали такому же наказанию, как и богохульники. Над ними тоже следовало установить надзор в рамках системы, тоталитарной по духу, но не на практике — ввиду ограниченности средств. Этот ордонанс, который вышел далеко за рамки узаконенного ханжества, представляется мне совместным порождением инквизиции (поскольку предусматривались следствие и доносы), обязательной исповеди (поскольку была разработана иерархия проступков и предполагалось создать настоящую полицию нравов) и зарождавшегося государства Нового времени, признаками которого были тесная взаимосвязь феодальных и государственных структур и ненасытные финансовые аппетиты. Тем не менее попытки установить полный контроль над поведением людей и пресекать самые укоренившиеся привычки повсюду «проседали». Поскольку социальная «сеть» оставалась редкой, создание общества «чистых», которые бы говорили на языке ангелов, оказалось недостижимой мечтой. — Установи повсюду мир: Людовика IX ужасало, что христиане терзают друг друга. На его взгляд, допустимой была только война с неверными. Внутри его королевства война могла быть лишь последним средством, после того как исчерпаны все возможности примирения: «И если перед тобой неправы, испробуй несколько путей отстоять свою правоту, прежде чем начинать войну». Добрый король опасался, что первыми жертвами любого конфликта могут стать клирики и бедняки. Здесь напрашивается рассказ о знаменитых третейских судах Людовика Святого, которым Жуанвиль посвятил сто тридцать седьмую главу своего сочинения. «Это был человек, который больше всех на свете заботился о мире между своими подданными и особенно между соседними знатными и влиятельными особами королевства». Когда феодальное общество достигло определенного равновесия, третейский суд стал обычным делом. При разрешении конфликтов юридические средства иногда могли выглядеть предпочтительней, чем использование оружия. Кроме Амьенской мизы 1264 г., «все эти арбитражи относились к конфликтам между владетельными сеньорами восточной и северной частей королевства, одни из которых были вассалами французской короны, другие находились за пределами того, что называли «территориями ленной зависимости» (от французского короля) (mоuvance), и зависели от империи»[232]. Пероннский приговор в сентябре 1256 г. положил конец ссоре Авенов и Дампьеров из-за наследования Фландрии и Эно. Было принято ловкое решение — разделить обе провинции между собой. Жан д’Авен должен был принести оммаж «за Эно, от которого отделили некоторые земли, присоединив их к Фландрии […]. Все представители рода поклялись вечно соблюдать мир». Через девять лет началась тяжба за землю и замок Линьи между Тибо II, графом Барским, и Тибо V, графом Шампанским и королем Наваррским. Людовик IX поручил Пьеру Камергеру разобраться в этом деле, после чего добился от обеих сторон прекращения ссоры и поместил крепость, за которую они спорили, под секвестр. Капетинг выступал в качестве третейского судьи на территории империи после возвращения из Святой земли еще несколько раз — он разбирал конфликты между жителями Безансона и их архиепископом, между горожанами Лиона и канониками собора, между Жаном и Гуго Шалонскими (тянувшийся пять лет), между «дофином» Гигом VII и графом Филиппом Савойским. У бургундцев и лотарингцев авторитет французского короля затмил императорский. Сеньоры с периферии усвоили привычку обращаться со своими делами к иностранному королю, настолько чуждому всякого макиавеллизма, что он мог казаться немного наивным, даже когда использовал самый ловкий прием, чтобы обеспечить безопасность своих земель. Тем не менее Соломон христианского Запада потерпел одно сокрушительное поражение. Втянувшись в упорную борьбу, Генрих III и английские бароны во главе с Симоном де Монфором в 1263 г. решили положиться на арбитраж Капетинга относительно «всех Оксфордских провизий, указов, постановлений и обязательств и того, что произошло до первого ноября» этого года. В данном случае Генрих III поступил как вассал, тогда как Симоном де Монфором двигало восхищение мудрым государем и реформатором. Он только забыл, что оба короля приходились друг другу родственниками и что Капетинг не терпел ни малейшего посягательства на божественное право монархов. Поэтому последний в форме Амьенского решения, или Амьенской мизы, от 23 января 1264 г. вынес категорический приговор, лишенный какого бы то ни было компромиссного духа и провозгласивший, что Оксфордские провизии «посягнули на честь и право короля» и посеяли смуту в королевстве. То есть он аннулировал этот знаменитый текст, позволивший олигархии баронов поставить королевскую власть под опеку. Исключительный факт — баронская партия не признала этого приговора, и разгорелась гражданская война. В качестве «морального арбитра» Людовик Святой, который в данном случае руководствовался логикой династических интересов, потерпел неудачу. Из предыдущих страниц, как нам кажется, следует вывод: нужно очистить образ Людовика Святого от излишней и глуповатой сусальности, из-за которой он оказался вне времени и которая окрасила его чересчур традиционными красками. Ведь во многих сферах он выступил как новатор. Христианский рыцарь, он во многих важных отношениях порвал со старинным феодальным «порядком», когда отменил судебный поединок, покончил с частными войнами и открыл, что крестовый поход имеет смысл только в случае, когда вслед за воинами приходят миссионеры. Он был одним из немногих монархов, считавших, что феодальная система может достичь стадии равновесия, когда власти взаимно уравновешивают друг друга и когда «нормальное» использование оружия можно заменить диалогом и третейским судом. Его щепетильность, его почтительное отношение к «честному старому порядку» не помешали ему достигнуть решительного прогресса в развитии монархической администрации. Друг бедняков не довольствовался символическими жестами, а выделил на нужды благотворительности бюджет, достойный так называться. Богомолец не всегда избегал рутинного ханжества и святошества, но старался сделать свою веру более просвещенной. Один exemplum даже ставит ему в заслугу, что он не поддался общему суеверию. Публикация Жаком Ле Гоффом столь же монументального, сколь и фундаментального труда «Людовик Святой»[233] побуждает нас поставить еще два вопроса, чтобы дополнить наш портрет капетингского государя. Был ли это совершенно традиционный святой король, или он обладал оригинальными чертами? Допустимо ли называть его меценатом? Вероятную оригинальность Людовика Святого можно оценить, только отметив для начала его традиционные черты. Прежде всего, он был «запрограммирован» уже потому, что был Капетингом. Миропомазание при коронации передало ему сверхъестественную силу и сделало его, так же как и его предков, «связующим звеном между Богом и народом»; оно придало королю сильно выраженные качества священника и епископа; оно наделило его способностью исцелять золотушных. «Запрограммирован» он был и как ученик нищенствующих братьев, старавшихся сделать из него некое смешение разных форм святости. Ради этого с 1270 по 1297 г. монахи написали ряд текстов, смахивающих на «хронику объявленной святости». «Житие», которое сочинил Жоффруа из Болье, можно сравнить с удачным монтажом, где состыковано несколько образцовых фигур. Ведь и в самом деле Людовик IX был святым мирянином, образцом «супружеской сексуальности», сочетая умеренность и плодовитость, святым рыцарем, когда надо — миротворцем, при необходимости — приверженцем священной и справедливой войны, а также идеальным иудео — Христианским государем, сопоставимым с Иосией — врагом идолопоклонников и организатором религиозной реформы на основе Второзакония. Кроме того, Людовик Святой был настоящим Капетингом — достойным наследником Роберта Благочестивого и Филиппа Августа, благочестивым и милосердным нищенствующим братом, оказавшимся в миру, п безупречным человеком, которого можно было сравнить с Полиевктом. Этого многообразного человека поднимали на щит разные группы давления — нищенствующие братья, сторонники крестовых походов, приспешники капетингской династии, стараясь добиться признания его святости как «суммы» разных достоинств. Они не упускали случая прославлять чудеса, совершавшиеся покойным королем. Эти чудеса гоже источают аромат традиции. Процентов восемьдесят из них совершалось на могиле государя в Сен-Дени. В основном они затронули страдавших от недугов и осчастливили подданных, живших в сердце королевства, в Иль-де-Франсе. Покровитель смиренных и бедных, святой Людовик исцелял страдавших парезом, парализованных, недужных, нельзя забыть также о «гниющих и смердящих»[234]. Святость Людовика IX, прочно укорененная в прошлом, имела п новые коннотации. Капетинга по-настоящему нельзя поставить в один ряд с англосаксонскими и славянскими государями-«страстотерпцами», типичный пример которых — Вацлав Чешский, убитый в 929 г. Несмотря на Мансуру, несмотря на Тунис, французский король не испытал мученичества и не имел трагической судьбы; он довольствовался тем, что терпел и сублимировал страдание. Он сумел стать «королем боли», «постоянно страждущим». Он страдал и как паломник, и как крестоносец, и как отец подданных. Все эти испытания он сумел возвысить и сублимировать, извлекая из своих унижений некоторые второстепенные преимущества. Страдание во всех формах, включая провал египетского крестового похода, стало в его глазах средством искупления грехов, совершенных в этом дольнем мире, и он очень страстно сопоставлял себя с распятым Христом. Умирая под Тунисом, он, согласно Жоффруа из Болье, стал «гостией Христа». Король, «пожертвовавший собой», он повел себя как достойный современник Франциска Ассизского, обретшего стигматы[235]. Теперь нам в заключение остается задаться вопросом, можно ли присудить Людовику Святому титул мецената, обычно присваиваемый его современнику Альфонсу Кастильскому. В поддержку этого утверждения как будто можно привести ряд доводов[236]. Король проявлял щедрость, финансируя строительство многих зданий, как мы видели выше. Он целиком отдался строительству Сент-Шапель, этой просвечивающей раки, возведенной с 1242 по 1248 г. Пьером де Монтреем или амьенцем Пьером де Кормоном для тернового венца и частицы истинного креста, купленных за 135 тыс. у императора Балдуина II Константинопольского. В верхней часовне, предназначенной для хранения этих священных реликвий, проемы в стенах были увеличены до максимума: так строители воплотили мечту о «здании со световыми стенами», аналогичном храму Грааля. Но Людовику IX было мало оставаться основателем и благодетелем в старинном духе — он оказывал помощь магистрам Парижского университета. Во время кризиса 1254–1256 гг. он поддержал папу и нищенствующие ордены, представлявшие всеобщие интересы. В 1257–1259 гг. он подарил несколько домов Роберу де Сорбону, чтобы тот мог создать коллегию, которой предстояло стать знаменитой. Он поддерживал дружеские связи с магистром Робером, перед которым исповедовался. В интеллектуальном отношении больше влияния на него оказал доминиканец Винцент из Бове, ставший его штатным энциклопедистом. Неизвестно, на самом ли деле король заказал ему «Сумму», или «Великое зерцало» (Speculum majus), составленное этим монахом при помощи цистерцианцев Руайомона и доминиканцев с улицы Сен-Жак, или только проявил интерес к этому сочинению. Утверждают, что Людовик IX помогал магистру Винценту приобретать книги и попросил его переработать свой труд. Именно в этом его можно сравнить с Альфонсом X. К тому же как частый посетитель Руайомона он, вероятно, слушал наставления автора знаменитого «Зерцала», книги, в которой Эмиль Маль усмотрел точное выражение мышления XIII в. В общем, Людовик IX поддерживал постоянные связи с самыми доступными из парижских интеллектуалов, с теми, кто мог передать ему полезное знание. Король не был по-настоящему образованным человеком, но любил книги. Псалтырь, по которой он якобы научился читать, была создана в Британии в начале века. В Святой земле на него произвела впечатление культура мусульманских владык. Вернувшись в Париж, он с 1254 г. собирал для себя библиотеку христианских книг, которые охотно одалживал приближенным. Он любил читать во время путешествий в седле или по морю. Между 1253 и 1270 г. он заказал еще одну псалтырь, украшенную семьюдесятью восемью иллюстрациями, изображающими сцены из Ветхого Завета, на форму рамок для которых, похоже, повлияла архитектура Сент-Шапель. Размышляя над этими благочестивыми книгами, слушая проповеди, сын Бланки Кастильской обрел обширную религиозную культуру, основанную на хорошем знании Библии — источника постоянных параллелей между еврейским прошлым и современными временами. Эти параллели можно обнаружить в витражах Сент-Шапель, в которых Эмиль Маль не пожелал увидеть ничего, кроме развертывания нарративной программы. Более убедительной представляется аргументация Франсуазы Перро, по мнению которой большое место в святилище занимает «царская» тематика — коронации царей Израиля, царская родословная Христа в виде древа Иессеева, вероятное сопоставление Есфири и Бланки Кастильской. Если присмотреться к сценам изгнания неверных и поклонников идолов, по меньшей мере одиножды сделанных похожими на Мухаммеда, а также боев за Землю обетованную, напоминающих крестовые походы, можно предположить, что этот знаменитый памятник много говорит о Людовике Святом и что его создание было частью идеологической подготовки к египетской экспедиции[237]. Любитель священной истории, Капетинг приложил усилия и к тому, чтобы были письменно зафиксированы деяния его предков. Именно по его просьбе монах Примат, бенедиктинец из Сен-Дени, в 1260-е гг. начал составлять «Большие французские хроники». Закончив труд только в 1275 г., он преподнес его Филиппу III Смелому. Если к этому ряду доводов добавить, что Людовик Святой поощрял политические размышления в виде «Зерцал», адресованных государям, и настолько любил музыку и религиозное пение, что во время переездов возил за собой певческую капеллу, придется признать, что его культурная роль имела реальную значимость. Но вполне допустимо утверждать и обратное, приведя много других аргументов, исключающих возможность признания Людовика IX меценатом. Непохоже, чтобы в его мотивах можно было разделить благочестие и меценатские чувства. Ведь последние предполагают роскошество, кичливость, бескорыстие, любовь к красоте самой по себе — все, что было немыслимо для существа, если и совершавшего сумасбродства, то лишь во имя религии. Покупка реликвий Страстей больше напоминает жертвоприношение, болезненную операцию над ресурсами королевства, чем сознательную попытку повысить свой престиж, хоть бы и за счет демонстрации сакрального характера династии[238]. Следует также отметить, что трудно говорить о «стиле Людовика Святого», несмотря на все усилия Роберта Бреннера. Вкусы короля известны очень плохо, и едва ли возможно принять на веру одно позднее свидетельство, приписывающее ему роль первого плана в разработке архитектурных проектов. Дать определение, каким мог быть придворный стиль, характерный для этого царствования, нелегко, пусть даже искусство той эпохи отличается изяществом, легкостью и стройностью, которые соблазнительно соотнести с изысканным силуэтом самого монарха. Но такое соотнесение — не более чем яркая метафора, и мы должны удовлетвориться тем, что вслед за Жаком Ле Гоффом укажем на «эстетическую и нравственную взаимосвязь»[239] личности Людовика Святого и художественных произведений его времени. Друг Робера де Сорбона и Винцента из Бове не общался с великими умами своего времени. Утверждение, будто он принимал у себя за столом Фому Аквинского, — всего лишь легенда. Он довольствовался тем, что слушал проповеди святого Бонавентуры. В общем, он воспринял некоторые отголоски богословского образования, какое давали в первом университете христианского мира, но непохоже, чтобы он дебатировал с великими учителями теологии. Как представляется, его способности к полемике были крайне ограниченными. Это подтверждают и его отказ вступать в диалог с исламом и иудаизмом, и его явное пристрастие к скорым решениям. Эта «рыцарская» резкость контрастирует с демонстративным пониманием, какое проявлял Альфонс X Кастильский, вскормленный мусульманской и иудейской ученостью, окруженный переводчиками, способными переходить с арабского на латынь, а с нее — на кастильский. Людовику IX крайне недоставало духовной открытости. Он не унаследовал вкуса предков к куртуазной лирике и никогда не желал петь ничего иного, кроме антифонов в честь Богоматери, обращая внимание лишь на самый бестелесный аспект любовной лирики. По всем этим причинам Людовику Святому нет места в галерее меценатов. Он скорей относится к традиционной категории основателей-дарителей. Тем не менее принесенные им жертвы позволили исключительным архитекторам, витражистам и миниатюристам полностью раскрыть свои таланты и придать его царствованию яркий блеск. Всем областям искусства этого времени, в частности архитектуре, скульптуре и миниатюре, присущи общие черты. Их стройность, радость и хрупкость выражают слегка нематериальное понимание прекрасного. Такая идеальная красота — это красота человека и мира до грехопадения или же после Искупления. Этому лучистому и гармоничному миру неведомы следы наслаждения или клеймо греха.Глава III Филипп III Смелый (1270–1285): бесцветный наследник Людовика Святого (Эрве Мартен)
В качестве вступления к рассказу об этом сравнительно коротком царствовании, итог которого был во многих отношениях положительным, сравним два портрета этого короля, разделенные шестью веками и показательные для двух подходов к историографии. «Большие французские хроники» представляют Филиппа III достойным сыном Людовика IX, старающимся буквально выполнять «Наставления» знаменитого отца: «Пусть он не был образован, но был кроток и добр к прелатам святой Церкви и ко всем, кто пламенно желал служить Нашему Господу […]. После того как король возвратился во Францию и вступил на престол отца, он начал усваивать добрые нравы и учиться творить добрые дела». Следуя «совету мудрецов и достойных людей», он не раз прибегал к умерщвлению плоти, «отчего можно было бы сказать, что вел он скорей жизнь монаха, нежели рыцаря». Через шесть веков в «Истории Франции» под общей редакцией Эрнеста Лавиccа[240] медиевист Шарль Виктор Ланглуа, один из мэтров так называемой позитивистской школы, высказал о старшем сыне Людовика IX, ставшем королем в двадцать пять лет, безапелляционное суждение: «Повелителя Запада на троне Франции сменил человек незначительный […]. Послушный отцу, послушный матери, до крайности покорный». Возможно, и сильный физически, но «имевший вид благодушный и заурядный». Он был благочестив, милосерден и честен, но «ему недоставало проницательности и энергии» — до такой степени, что он позволял приближенным руководить собой. В подтверждение последнего заявления можно вспомнить, насколько влиятельным при дворе стал Пьер де Ла Бросс, уроженец Тура. Сделавшись в 1266 г. камергером Людовика IX, он сумел приобрести большое влияние на наследника и пользовался его щедротами. Делая с королем «все, что хотел», по выражению одного хрониста, он так же внушал страх баронам и прелатам, как и уважение — папе и английскому королю. Однако эту безраздельную власть подорвал второй брак Филиппа III. Овдовев после смерти Изабеллы Арагонской, король в августе 1274 г. женился на Марии Брабантской. После этого вспыхнула беспощадная война между кликой брабантцев, группировавшихся вокруг королевы, и кликой королевского фаворита Пьера де Ла Бросса. Обе стороны не брезговали самой бессовестной клеветой. Говорили, что Людовик, старший сын короля, умерший в 1276 г., был отравлен брабантцами. Ходили слухи о гомосексуализме монарха, наказанием за который якобы и стала кончина принца Людовика. Это темное дело плохо обернулось для Пьера де Ла Бросса. Ловкая интрига позволила его врагам добиться, чтобы его арестовали и повесили в июне 1278 г., не оставив ему времени привести доводы в свою защиту. Современники усмотрели в этом только превратность судьбы, переменчивой в своих милостях. На деле он пал жертвой заговора крупных феодалов (герцога Бургундского, герцога Брабантского и графа д’Артуа), желавших контролировать королевский совет. После этого влияние королевы Марии на слабовольного Филиппа III упрочилось. Любившая роскошь королева окружила себя блестящим двором, где были не только французские вельможи (Дре, Сен-Поль), но и имперские (герцог Брабантский, графы Бургундский и Люксембург) и где выделялись Роберт д’Артуа и Карл Анжуйский, король Сицилии. Следовало считаться и с постоянным влиянием королевы-матери Маргариты Прованской, заклятой противницы анжуйцев, открыто поддерживавшей англичан. Король колебался между этими враждебными друг другу силами, и не следует забывать также о весе, какой еще сохраняли советники и чиновники его отца. Хронисты настаивают, что выдающуюся роль играл Матвей Вандомский, аббат Сен-Дени, которому якобы доверяли «все дела королевства».Территориальные приобретения
В территориальном плане, очень важном, когда речь идет о ком-либо из Капетингов, по определению собирателей земель, в актив Филиппа III можно внести два больших успеха — присоединение к домену аквитанского Юга, а также графства Шампанского вместе с Наваррой. Смерть Альфонса де Пуатье и его супруги в 1271 г. не свелась к банальному пресечению династии, а стала очень значительным событием ввиду важности наследства — в него входили не только Пуату, но также Овернь, Онис, северная часть Сентонжа, Тулузская область, Альбижуа и Венессен. Стало возможным включить в состав домена основные земли аквитанского Юга. Короткая военная кампания, устроенная для того, чтобы приструнить графа Фуа, дала весной 1272 г. повод «представить правосудие и величие короля на землях Тулузы»[241]. Сенешаль Каркассона, взявший на себя задачу добиться присяги от консулов и баронов, умело осуществил переход графства Тулузского во власть короля (Saisimentum comitatus Tolose). Другие чиновники короля провели аналогичные церемонии в Аженё, Керси, Руэрге, Альбижуа и Венессене. Королевская администрация подтверждала местные привилегии более гибко и деликатно, чем это делал Альфонс де Пуатье, однако продолжала его политику в самом главном — строила бастиды, чтобы держать эту территорию в руках. В этот период появилось тринадцать укрепленных поселений (bourgades), в том числе Монрежо, Флеранс и Домм. Филипп Смелый переуступил часть наследия Альфонса де Пуатье: графство Венессен в 1274 г. отошло Святому престолу, который требовал его с конца альбигойского крестового похода; Аженё и южная часть Сентонжа были переданы королю Англии, герцогу Аквитанскому, по условиям Амьенского соглашения 1279 г. Этому договору предшествовал оммаж, принесенный в 1273 г. Эдуардом I «за все земли, которые он должен был держать от французской короны». Несмотря на это изъявление верности, у него очень не заладились отношения с виконтом Беарнским и виконтессой Лиможской, которые не преминули пожаловаться на него во французский парламент. Однако эти ссоры не вылились в вооруженные конфликты, и в 1279 г. наконец было достигнуто примирение. Алиеноре Кастильской, королеве Англии, было даже «разрешено принять во владение Абвиль и Понтье, которые она только что унаследовала»[242]. Через шестьдесят лет эти опорные точки окажутся очень ценными. Примирившись с английским королем, Филипп III проявил немалую твердость в отношении Карла Анжуйского, когда тот в 1284 г. выдвинул притязания на Пуату и Овернь как на отцовское наследство. В том же 1284 г. наследник престола, будущий Филипп Красивый, смог принять титул rex Navarre, Campanie et Вгуе (короля Наварры, Шампани и Бри). Для этого ему было достаточно жениться на наследнице этих владений, связанных общей судьбой, — Жанне Наваррской. Действительно, с 1234 г. маленькое пиренейское королевство перешло во владение Блуа-Шампанского рода и Памплона несколько затмила Труа и Мо. Поскольку Тибо V вел себя как послушный вассал, Капетинг хозяйничал на его землях. Поэтому в 1284 г. они были включены в королевский домен. Сохранились четыре шампанских бальяжа — Труа, Мо, Витри и Шомон, а также должности сенешаля, маршала, виночерпия и коннетабля. Что касается управления королевством Наваррой и его обороны, эти обязанности были возложены на сенешаля Тулузы. Филипп III производил также покупки земель и прав, которые становились возможными в результате разорения некоторых сеньоров. Таким образом он приобрел графство Гин — в 1281 г., за три тысячи парижских ливров и пенсию в тысячу турских ливров, порт Арфлер и права на баронство Небур и виконтство Пьерфон. Столь же алчный до земель, как и его предки, король поручал своим бальи заключать договоры на совладение (pariage) с феодалами, особенно на Юге. Кроме того, он проторил путь для будущего присоединения Лиона (осуществившегося при Филиппе Красивом), Монпелье (при Филиппе V Длинном) и Виваре. Как дальновидный государь он старался не расточать приобретенное, предпочитая давать пожизненные пенсии, чем земли. Тем не менее своим сыновьям Карлу и Людовику он даровал апанажи Валуа и Эвре-Этамп. Сбалансированные отношения с феодалами Как и Людовик IX, Филипп III стремился сохранять мир у себя в государстве, пресекая восстания, частные войны и прочие феодальные беспорядки. Он смирил бунтарские поползновения «графов Божьей милостью» Фуа и Арманьяка и подавил мятеж виконта Эмери Нарбоннского в 1282 г. Он стал разрешать турниры только с 1279 г., когда крестовый поход был отложен. Он старался положить конец войнам между сеньорами, прибегая к процедуре королевского поручительства (asseurement), позволявшей ставить общественное благо выше частного насилия. Не приходится отрицать, что сын Людовика Святого проявлял в отношениях с феодалами определенную гибкость. Желая, чтобы соблюдались законы вассалитета, ордонансом 1274 г. он потребовал предоставлять ему auxilium (помощь) и concilium (совет). Сознавая свои полномочия dominus superior (верховного повелителя), он держал крупных вассалов в узде, приглядывал за действиями администрации графа Фландрского, добивался повиновения от жителей Бретани, посылал своих агентов вмешиваться в аквитанские дела, несмотря на сопротивление и протесты чиновников Эдуарда I. Здесь множились как территориальные споры, так и споры о компетенции. Конфликт распространился даже на сферу титулования. В самом деле, аквитанские нотарии не останавливались перед тем, чтобы составлять грамоты, дерзко датируя их царствованием Эдуарда, короля Англии (Regnante Edwardo, rege Anglie). В 1282 г. за это их начали привлекать к ответственности, и в конечном счете им пришлось изменить формулировку и документах: «Это случилось в царствование Филиппа, короля Франции, когда королем Англии был Эдуард и держал герцогство Аквитанию» (Ланглуа). Прогресс королевского правосудия Судя по общему принципу, сформулированному Бомануаром: «Любую светскую юрисдикцию, держат во фьеф или в арьер-фьеф от короля», — феодалы не были лишены прав. Но на деле королевские чиновники не прекращали посягательств на сеньориальную юрисдикцию и оспаривали правомерность принятия вассальными судами того или иного дела на рассмотрение, возбуждая многочисленные процессы. Церковное правосудие все больше граничило с духовной властью. Ratione materiae (ввиду обстоятельств, связанных с предметом рассмотрения) церковь знала все, что касалось веры, таинств, обетов и бенефициев. Кроме того, клирики — категория очень многочисленная, включавшая простых «постриженцев», — во всех доменах подлежали церковному суду. Часто возникала очень высокая степень неопределенности, порождая многочисленные споры. Местные чиновники, которых шокировала снисходительность, с какой церковные суды относились к клирикам, хотели упразднить эти суды и покончить с незаконными поблажками. Посягая на привилегии церковного суда, они не брезговали никакими средствами — ни насилием, ни подлогом. В ходе дебатов был разработан теоретический подход как к преступлениям, подлежащим королевскому суду, так и к апелляциям на приговоры. Список преступлений ad regiam dignitatem pertinentes (касающихся королевского достоинства) был удлинен и уточнен, включив посягательства на общественный мир, нарушение договора, заключенного с королевским поручительством, и фальшивомонетничество. Что касается теоретической возможности апеллировать к королевскому суду, то ее появление способствовало укреплению государственной власти, «воссоздав то, что разрушили иммунитеты» (Ланглуа). Такие апелляции, подаваемые на приговор королевского или сеньориального судьи, вошли в обычай только в царствование Людовика Святого. При его сыне стало привычным делом апеллировать к королю, обращаясь в королевские апелляционные суды, которые были обязаны передать дело на рассмотрение бальи или парламента. Жители крупных фьефов могли обращаться непосредственно в верховный суд королевства. Достаточно было просто произнести слово «обжалую», чтобы процесс, начатый в местном суде, был приостановлен. Из Гиени апелляции поступали сотнями, как бы ни старались чиновники английского короля этому помешать. Если принять во внимание новые судебные права, приобретаемые то тут, то там благодаря договорам о совладении, например, в Гайяке, приходится признать, что Филипп III расширил судебные прерогативы короны. Королевское законотворчество: под знаком непрерывности В законодательном плане впечатление непрерывных перемен было по меньшей мере столь же сильным, как и в судебной сфере. Если любой сеньор считался «государем в своем баронстве», то король был «государем над всеми» и мог вводить «такие установления, какие ему угодно», применяя принцип, высказанный Фомой Аквинским (ум. 1274): «Право творить законы принадлежит тому, кто представляет многих». Фактически, если учесть наследие феодальных обычаев, монарх мог законодательствовать как барон в своем домене и как король во всей Франции. Чтобы иметь силу закона, общие установления не должны были посягать «на дела, совершенные в прошлое время», их должен был обсудить «очень большой совет», им следовало идти на пользу всему королевству и быть обоснованными[243]. Ссылка на общую пользу отражает осознание требований гражданского порядка. В качестве обоснования власть могла сослаться, например, на опасность войны или угрозу голода. Что касается обсуждения «очень большим советом», то это был старинный феодальный обычай. Большие советы, действительно собиравшиеся в XIII в., обеспечили переход от феодальных собраний (conventus) в чистом виде к Генеральным штатам XIV в. Бароны и прелаты собирались по призыву короля, чтобы обсудить войну, крестовый поход или публичное право королевства. С 1270 по 1285 г. такие советы рассматривали важные вопросы, чреватые военными и финансовыми последствиями: в 1274 г. — проблему Наварры, в 1275 г. — «заморскую переправу», в 1280 г. — мир между Кастилией и Францией, и, наконец, возможность для одного из сыновей Капетинга наследовать арагонский трон. Эти собрания часто санкционировали распоряжения, подготовленные членами парламента. Памятники законодательства этого царствования можно разделить на две основных категории. Прежде всего, существовали распоряжения, относящиеся к частному праву: по кодификации обычаев, исправлению обычаев дурных (таких, как очистительная клятва в Гаскони) и фиксации других практик, например доказательства существования обычая путем опроса («enquete par turbe», то есть массового опроса). Далее, были главные тексты — ордонансы, относящиеся к публичному праву, полный набор которых, к сожалению, до нас не дошел, поскольку многие свитки, информировавшие бальи, сенешалей и крупных вассалов о результатах совещаний в парламенте, пропали. Некоторые постановления просто подтверждали распоряжения времен Людовика Святого: евреи не имели права давать ссуды под проценты и должны были носить «кружок» (rouelle), им запрещалось отстраивать синагоги и хранить Талмуд (1280 и 1283 г.). Репрессивные меры предпринимались против разных категорий ростовщиков (1274 г.) и против тех, кто богохульствовал или играл в кости. Выходили постановления о монетах. Встречались и оригинальные законодательные меры: совершеннолетие старшего королевского сына было назначено на четырнадцать лет; принимались распоряжения о погашении долгов, о правосудии и по вопросам создания общей полиции, но ни один ордонанс не был посвящен реформированию королевства, в отличие от времен Людовика IX. Очевидно, что можно задаться вопросом об эффективности этих законодательных мер. Касательно погашения долгов они, похоже, были выполнены в точности. Зато можно усомниться в том, что были исполнены все семь постановлений о монетах.Медленное усовершенствование королевского двора
Шарль Виктор Ланглуа, писавший во времена, когда образцом для историков были естественные науки, в своем исследовании «Царствования Филиппа Смелого»[244] любил сравнивать прогресс королевской курии (curia regis) с эволюцией живого организма: «Если живые существа стоят на лестнице животных или растений тем выше, чем более дифференцирована их масса и чем лучше каждая из их частей приспособлена к выполнению некой особой функции, то тому же закону подчинено и совершенствование государства: его достоинство и сила растут по мере того, как оно лучше определяет обязанности, возложенные на каждого из его членов. Но рациональное разделение двора происходило медленно, как любые органические трансформации»[245]. Внутри curia, которая отныне венчала всю административную иерархию королевства, старинные дворцовые чины утратили значение. Их обладатели уже по-настоящему не влияли на работу правительства, составленного из советников (consiliarii). Один осведомленный наблюдатель действий правительства, доминиканец Гумберт Римский, с безупречной ясностью описал тройную миссию двора: «Завершать дела после обстоятельного обсуждения, принимать счета у королевских чиновников и направлять деятельность правительства». На самом деле разделение труда между разными службами оставалось еще в зачаточном состоянии. Курию надо представлять полиморфной, способной принимать три разных облика: curia in parlamento (суд в парламенте), curia In compotis (счетная палата) и curia in consilio (королевский совет). Как исполнитель судебной функции двор окончательно отделился от особы короля. Можно считать, что в качестве суда он с 1270 г. состоял из профессионалов и в виде исключения его состав усиливали магнатами. Этот «суд в парламенте» (cour еn parlement) собирался с регулярными интервалами, чаще всего в отсутствие короля, который по-прежнему выносил судебные решения во время переездов. Ордонанс 1278 г. показывает, что внутри верховного суда были сформированы разные комиссии — Большая палата (Grand-Chambre), Следственная палата (Chambre des enquetes) и Палата прошений (Chambre des requites). Кроме того, южане, участвовавшие в тяжбах, представали перед Палатой слушаний писаного права (Auditoire du droit ecrit). He довольствуясь приемом апелляций, поступавших в него из всех областей королевства, парламент отправлял комиссии в присоединенные недавно большие фьефы, чтобы проводить заседания там (Великие дни в Труа, Суд шахматной доски в Нормандии). Не следует забывать и судей-делегатов in partibus tolosanis (в тулузских землях). Счетная палата, или «палата королевских счетов» (chambre des contes le roi), заседала в Тампле, там же, где хранилась казна. Там служил Готье де Фонтен. Наконец, Королевский совет (соur еn conseil), обладавший судебными и политическими функциями, оставался собранием переменного состава, которое заседало во дворце на острове Сите. В качестве суда он мог выступать как суд двенадцати пэров королевства (шести светских и шести духовных), собиравшийся очень редко, чтобы судить крупных вассалов. В политическом отношении совет предоставлял государю сведения и толковал законы. Там совместно заседали духовные лица, в том числе Матвей Вандомский, аббат Сен-Дени, и рыцари на королевской службе, упомянутые в счетах ведомства двора. Ссылаясь больше на кутюмы, чем на римское право, эти советники доказали, что умеют мыслить по-настоящему независимо. Очень прагматичные, они умели выказывать уважение к приобретенным правам.Срочные финансовые запросы: использование крайних средств
Новаторские взгляды Жана Фавье на финансы Людовика IX, которые этот автор представил, как очень передовую систему, трудно примирить с представлениями Шарля Виктора Ланглуа о финансах преемника этого короля. Автор «Введения к изучению истории» (Ланглуа) считал, что налоговая система Филиппа Смелого по существу оставалась феодальной — как ее дух, так и функционирование. Домениальные доходы, еще жизненно необходимые, включали выплаты (фермаж), которые делали прево, выкупая свои должности, и поступления, которые получали бальи и их служащие: чинш, кутюмы, разные ренты, судебные штрафы (expleta), бесхозное имущество, печатные пошлины (sigilla). Расходы — как правило, меньшие, чем доходы, — шли на выплату жалованья служащим, на строительство и на милостыню. Это подтверждают отдельные счета на День Всех Святых 1286 г., то есть за начало царствования Филиппа Красивого, где доходы с бальяжей Франции и с Шахматной доски Нормандии достигают более 209 тыс. ливров, а расходы составляют всего 160 тыс. ливров. Избыток передавался в казну в Тампль на содержание центрального правительства и ведомства двора, расходы на которые не прекращали расти. В качестве крупного феодального собственника, сеньора в своем домене, король мог также взимать произвольную талью, как, например, 60 тыс. турских ливров, собранных в 1281–1282 гг. с евреев, и требовать от вассалов феодальной помощи. Но мог ли он идти дальше, мог ли он ввести общее налогообложение и требовать выплаты экс-традомениальных податей? В этой связи можно утверждать, что экспортные пошлины были не более чем домениальными пошлинами в более широком смысле, а «помощь на войско» (aides de lost) трудно отнести к постоянному налогу (impdt). Действительно, подати, представлявшие собой выкуп за неучастие в военной службе, или auxilia exercitus, существовали издавна. Их невыплата влекла за собой штраф, не имевший никакого отношения к налогу как таковому. Какую бы общую сумму ни составляла «помощь на войско», достигшая в Нарбонне в 1276 г. тысячи ливров, она оставалась, опять-таки согласно Шарлю Виктору Ланглуа, феодальной. Непосредственно центральная власть, по утверждению этого историка, взимала эту подать редко. Ее сбор с горожан и арьер-вассалов брали на себя крупные вассалы короля. Этой традиционной системы оказалось недостаточно, чтобы оплатить управление Наваррой, а позже — арагонский крестовый поход. Эта экспедиция, организованная в 1285 г., чтобы отстоять права Карла Валуа, обошлась более чем в 1200 тыс. ливров. Поэтому понадобилось прибегнуть к крайним средствам. От Святого престола было получено разрешение собрать в 1284 г. десятину. Обложение податью цистерцианцев стало отнюдь не символическим — оно принесло 84 тыс. ливров. Деньги на хранение принимали папские сборщики и итальянские банкиры. Другим крайним средством, также очень распространенным, были кредиты — их брали умеренно и, как правило, в виде отдельных мелких операций. Однако в 1284 г, провели первую «национальную подписку», собрав займы в бальяжах и городах Фландрии. Филипп III сумел удержаться от еще одного простого решения — порчи монеты. Он довольствовался тем, что получал от своей монеты обычные доходы в форме пошлин за право ее чеканки и реальную политическую выгоду, поскольку она ходила в других феодальных владениях. В общем, согласно тому же Ланглуа, новой налоговой системе еще предстояло родиться, а управление финансами едва ли отличалось от общего управления государством. «В провинциях подати взимали прево-откупщики и бальи; в центре их счета проверял отдел курии».Местная администрация: сохранение темпа, взятого при Людовике Святом
Пятнадцать бальяжей Лангедойля (Париж, Жизор, Санлис, Вермандуа, Амьен, Санс, Орлеан, Бурж, Тур, Руан, Ко, Верней, Котантен, Овернь и Макон) были очень обширными, как и семь сенешальств Лангедока (Бокер, Каркассон, Перигор, Тулуза, Ажене, Руэрг, Керси). В их состав входили большие фьефы: герцогство Бургундия относилось к бальяжу Макон, а герцогство Аквитания — к сенешальству Перигор. Поскольку границы разных административно-территориальных единиц отнюдь не были проведены окончательно, то их «исправление» было достаточно обычным делом. На подведомственных территориях в ходе «полного и безраздельного осуществления публичной власти» (Шарль Виктор Ланглуа) чиновники должны были проявлять универсальную компетентность. Не перечисляя еще раз подробно полномочий бальи, напомним, что Филипп де Бомануар ожидал от них незаурядных качеств: им следовало быть мудрыми, учтивыми и верными, разбираться в людях,чтобы иметь возможность руководить сержантами и прево, отличать «правоту от неправоты» в судебной сфере, «хорошо уметь считать», чтобы умело управлять доменом. Документы показывают, что с 1270 по 1285 г. бальи созывали вассалов в королевское войско, обеспечивали замки и усадьбы короля гарнизонами, служили посредниками между населением и парламентом, сообщая о заседаниях последнего и исполняя его решения, сами вершили суд в окружении «прюдомов» («честных людей», prud'hommes), председательствовали на рыцарских судах (assises) во фьефах. Ведь им также полагалось рассматривать дела, выделенные в особое производство (чем в добрых городах занимались королевские нотарии), выдавая грамоты с печатью бальи, например, в обеспечение договоров. Что касается финансовых задач, они тоже становились все трудней, и бальи решали их при помощи сборщиков налогов и прево-откупщиков. Отныне престиж бальи прежде всего определяла их роль, которую признавали все больше: роль защитников общественного мира, или королевского мира, если угодно, и поборников интересов угнетенных. Характерный симптом: в местах, которым грозил разгул насилия, ставили чучело, изображавшее королевского сержанта. Этот низший служащий, к которому население долго относилось как к хищнику, благодаря прогрессу бальяжной администрации постепенно превращался в защитника народа. Тот же продолжавшийся «эффект Людовика Святого» побуждал центральные инстанции ужесточать контроль над региональными и местными служащими. Бальи должны были подчиняться приказам, поступавшим из королевской курии (curia regis). Их регулярно вызывали в парламент, чтобы они «разъясняли сомнительные факты, подтверждали существование обычая, отчитывались о своем управлении или докладывали о ресурсах или настроениях в своих провинциях» (Ланглуа). Если они допускали служебные нарушения или впадали в злоупотребления, им грозило иметь дело с ревизорами двора, настоящими «генеральными инспекторами» местной администрации. Можно последовать за двумя из них в 1277 г. в Тулузскую область и в Ажене, где они пытались реформировать суд и ограничить рост численности сержантов. Этим missi dominici (государевым посланцам), конечно, не удавалось искоренить все преступления бальи, а тем более их подчиненных. Где-то очень кстати требовали выплаты натурального оброка, когда крайне дорожали продукты, в другом месте лесники, лесничие и сержанты плохо «охраняли» домены. Виконт Жан де Нюэви цинично вел себя как «Веррес Верхней Нормандии». В результате из французской глубинки вновь доносился хор жалоб и упреков, обличавших дурное поведение бальи, этих «авангардных бойцов монархической централизации», не всегда соответствующих образу хорошего чиновника, «которого земля считает своим сеньором, справедливым ко всем» (Ланглуа). Парламент, конечно, осуждал отдельных виновных чиновников, при этом защищая их в целом. Узнав, что монастырь Сен-Валери приговорили к выплате 800 ливров штрафа за то, что один монах положил руку на плечо амьенскому бальи, инспектировавшему эго заведение; что от одного горожанина из Вильнев-пре-Санс потребовали 1000 ливров за оскорбление сержанта, легко убедиться, что чиновника отныне считали pars corporis regis (частью тела короля) и в этом качестве защищали. За исключением прево, бравших свою должность на откуп, служащие короны должны были оплачиваться из королевской казны. Самый скромный из бальи получал ежегодное жалованье 300–400 ливров, не считая премий и компенсации расходов. Сержанты и лесничие зарабатывали от 4 су до 10 денье в день. На это шла существенная часть бюджета монархии — таковы были издержки укрепления государства, процесса, который историки конца XIX в. оценивали чрезвычайно положительно: «Франция в ту эпоху нуждалась скорей в централизации, чем в местной автономии» (Ланглуа). Среди местных властей, унаследованных от прошлого, в полном упадке были власти городские. В некоторых городах вспыхивали восстания, делая необходимым вмешательство королевской власти. В Шалоне-на-Марне, Руане, Аррасе, Ипре, Брюгге, Дуэ они были вызваны убыточной продажей сукна — главным проявлением экономического кризиса. Еще в трех местах: в Агде (1272 г.), Провене (1279 г.) и Каоре — их причиной стало чрезмерное рвение королевского фиска и его служащих. Во втором из названных городов за яростным бунтом последовали страшные репрессии. В других местах, например в Ле-Пюи, гнев народа обрушивался на сеньоров или на епископов, как в добрые старые времена зарождения коммун. Во многих видных городах, например в Нуайоне, Шалоне и Дижоне, королевский арбитраж оказывался необходим, чтобы ослабить трения между простым народом и магистратами, начинавшиеся из-за тальи. Эшевены усвоили неприятное обыкновение возлагать ее бремя на простых людей. Возникавшие из-за этого конфликты способствовали вмешательству центральной власти в дела городов, начавшемуся еще в прошлом царствовании. Некоторые города были просто-напросто взяты под опеку (попечительство, curatelle) королевской властью, как Нуайон, который обанкротился, как Бове, где люди короля назначали сумму тальи, как Реймс, где эшевены в 1279 г. просили разрешения «облагать население податью именем короля». Так на «добрые города» (выражение, у которого было большое будущее) тоже легла тень власти монарха, от имени которого утихомиривали гражданские конфликты, выбирали магистратов и реорганизовали финансы. Этот все более мелочный контроль над местными автономиями дошел даже до реформирования писаных кутюм Руана и Тулузы, где двенадцать консулов из списка в тридцать шесть кандидатов отныне выбирал королевский вигье. Смысл этих перемен кажется вполне ясным: муниципальные чиновники и цеховые старшины постепенно превращались в служащих центральной власти и исполнителей ее воли. Это царствование, как и предыдущее, закончилось неудачным крестовым походом, большую ответственность за который несет папа Мартин IV, он же Симон де Брион, бывший чиновник Людовика Святого, всецело преданный анжуйским интересам. В 1283 г. понтифик и его давний союзник Карл Анжуйский вознамерились с помощью Филиппа Смелого задушить движение гибеллинов, тлеющие угли которого в Италии раздувал арагонский король Педро III. Войска последнего высадились на Сицилии вскоре после знаменитой «Вечерни», случившейся 30 марта 1282 г., во время которой палермцы перерезали огромное количество французов и вынудили выживших убраться на материк. Эти трагические события привели к коронации Педро III королевским венцом Тринакрии (островной Сицилии). Двадцать первого марта 1283 г. папа объявил арагонского короля низложенным, а его корона должна была перейти к сыну короля Франции. То есть с Арагоном проделали то, что двадцать лет назад — с Неаполем. Предложение папы было поддержано собранием прелатов и баронов в Бурже в ноябре 1283 г. Нерешительность, какую проявлял Филипп III, чрезвычайно раздражала Мартина IV. В феврале 1284 г. в 11ариже созвали еще одно собрание. Оно одобрило замысел похода на Пиренейский полуостров. Арагонская корона должна была достаться Карлу Валуа, третьему сыну короля. Крестовый поход 1285 г. был тщательно подготовлен: для этой «первой завоевательной войны, какую Капетинги предприняли за естественными границами Франции» (Ланглуа), собрали значительную армию. После нескольких успехов в Руссильоне «крестоносцы» с конца июня по начало сентября 1285 г. осаждали Жерону. Поддерживавший их флот был 4 сентября уничтожен у островов Формигес адмиралом Руджеро ди Лауриа. Пришлось в сложной обстановке отступать к Перпиньяну, Войска поразила эпидемия, от которой Филипп III скончался 5 октября 1285 г. Капитуляция Жероны стала заключительным аккордом этого военного и дипломатического поражения, погубившего репутацию арбитра Запада, какую некогда заслужил Людовик Святой.Глава IV Царствование Филиппа IV Красивого (1285–1314): ловко обделанные «дела» (Эрве Мартен)
Это царствование обычно считают одним из важнейших переломных моментов в политической и институциональной истории Франции, даром что государь часто пытался, например в ордонансе о реформе королевства от 23 мая 1303 г., представить себя продолжателем дела Людовика Святого, тем самым извлекая выгоду из канонизации последнего, которая произошла в 1297 г. Не станем попадаться в словесную ловушку. Под многими заявлениями о верности на самом деле скрывается резкий разрыв, который историк должен замечать, если не хочет погрязнуть в бесконечном и монотонном повторении одного и того же. В течение этого двадцатидевятилетнего царствования, как нам кажется, последовательно проводились два главных принципа. Их можно сформулировать так: только государство обладает по-настоящему публичной властью; эта власть заставляет себя признать за счет значительного превосходства над своим объектом, не нуждаясь с его стороны ни в согласии, ни в подтверждении. Ее легитимирует тот простой факт, что она воплощает общую волю и заботится об общем благе народа. К этому «гегельянскому» взгляду на царствование Филиппа IV, взгляду «с точки зрения обитателей Сириуса», нужно добавить два уточнения — во-первых, напомнив, что эти основные принципы были сформулированы в предыдущие десятилетия, во-вторых, подчеркнув, что государь в ментальном отношении оставался бароном, что его характер сформировало чтение трактата «De regimine principum» (О правлении государей), сочиненного в 1285 г. его воспитателем — братом-августинцем Эгидием Римским. Этот текст вдалбливал ему традиционные наставления: быть осторожным и смелым, выбирать хороших советников и честных судей. Так что не следует удивляться, если ученик брата Эгидия имел «вассалитетное» представление о государстве, считая верность главной его основой. Финансовую помощь, по его мнению, можно было требовать, только выдвигая феодальные обоснования. Участие в совете оставалось для королевского клирика или королевского рыцаря вассальной обязанностью. Но некоторые приближенные Филиппа IV придерживались более радикальных и новаторских взглядов.Служители общественного блага
Корона отныне располагала целой иерархией служителей, сознававших свою ответственность, — от короля до легистов и до чиновников на местах. Хоть этот феномен и не был по-настоящему новым, но еще никогда он не проявлялся так остро. Филипп IV, как подчеркивали один за другим авторы его портретов, был глубоко убежден в своем величии, и это ясно почувствовал епископ Бернар Сессе: «Это не человек и не зверь. Это статуя». Скрытный и молчаливый, он не считал нужным объясняться по очень многим делам, от войн до осуждения тамплиеров. Он умел делегировать свои полномочия компетентным помощникам, «воздавать должное в больших делах и поручать другим судить других», как писал Пьер Дюбуа. Он часто предоставлял советникам свободу действий, довольствуясь председательством на собраниях и всегда давая себе время подумать. «Он вмешивался, чтобы завершить, когда все уже определилось», — констатирует Жан Фавье. Это наблюдение наводит нас на мысль, которую довел до предела Робер Фавтье, изобразивший Филиппа Красивого «фанатиком догмы, наделявшей французских королей верховной властью». Впрочем, народ, на который сильное впечатление производили его красота и «сила», не воспринимал его как самодержца. Напротив, он порицал короля за то, что тот позволяет руководить собой приближенным низкого происхождения. Отголосок этих настроений слышится у клирика Жоффруа Парижского:Вас предали, так думает каждый […]
Ваши рыцари с кухни […].
Но у вас такой совет,
Что вы теряете Аллилуйю […]
Вам выдают пузырь за фонарь
Те, кто справа и слева
Окружает вас; и щипать траву,
Государь, заставляют вас, и из «орла» делают «решку»[246].
Внешние амбиции
Можно ли усматривать в этой сфере проведение систематической политики или дело обстояло скромней, и мы имеем право говорить только о текущем регулировании дипломатических проблем, унаследованных от предыдущих царствований? Прошли те времена, когда историки могли довольствоваться объяснениями, основанными на «природе вещей», для которых само собой разумелось, что Франция должна расширяться за счет соседей и тем более — естественных врагов. Нужно ли в таком случае ссылаться на идеологические обоснования, подчеркивая, что тот или иной легист имел откровенно экспансионистские и галлоцентричные взгляды? Их можно найти у Пьера Дюбуа, в упомянутом трактате «Об отвоевании», а также в «Кратком изложении учения»[259] «о способах ограничить войны и тяжбы». Весь мир, считал он, должен быть подчинен французам, «самым разумным из людей». Надо заставить папу отказаться от светской власти, надо захватить Ломбардию, чтобы покончить с вымогательствами ее населения. Надо присоединить к Франции Восточную Римскую империю при помощи брака, Кастилию — за счет восстановления в правах инфанта де ла Серда, внука Людовика IX, и Венгрию — при посредстве Карла II Анжуйского, сын которого Карл Мартелл в 1290 г. был коронован короной святого Стефана. В патриотическом порыве Дюбуа не отказывал себе в удовольствии перекраивать карту Европы, полагая, что левобережье Рейна и Паданская долина должны вернуться в состав Франции, а Сицилию можно выменять на Сардинию. Нет никаких доказательств, что эти тезисы оказывали реальное влияние в высших кругах государства, даже если и другие мыслители той эпохи могли высказывать сходные идеи. Разве Иоанн Яндунский в «Трактате о прославлении Парижа»[260] не утверждал, что «преславным и полновластным королям Франции подобает монархическая власть над всем миром»? Было по меньшей мере соблазнительно представлять себе regnum Francie, где Капетинги распоряжаются всей Европой. Внимание надо обращать не столько на систематические взгляды, сколько на случайные и кратковременные стечения обстоятельств, где смешивались неразрешенные споры, старые планы, к которым возвращались по нескольку раз, неудовлетворенные территориальные притязания, неосуществленная месть и неутоленная ненависть. На устранение последствий арагонского крестового похода понадобилось десять лет, и Филипп IV не гнушался тем временем собирать десятину на войну, которую, собственно, вести не предполагал. Карл II Анжуйский, король Неаполя, признав Альфонса III королем Арагона и островной Сицилии, оказался вынужден дать компенсацию Карлу Валуа, королю Арагона In partibus (за границей), выдав за него в 1290 г. старшую дочь Маргариту, принесшую в приданое Анжу и Мэн. После падения Акры в 1291 г. также обсуждали планы крестового похода в Святую землю. Любой призыв созвать собор непременно упоминал «заморскую переправу», на которую высокопоставленные завещатели передавали деньги, прежде чем скончаться. Иоанн II, герцог Бретонский, своим завещанием за сентябрь 1302 г. оставил на это дело 30 тыс. ливров. Карлу Валуа, неудачливому в Испании, едва ли больше повезло и в Италии, куда он прибыл поддержать неаполитанских Анжуйцев против сицилийских Арагонцев. После упомянутого ранее вмешательства в дела Флоренции, на День Всех Святых 1301 г., весной следующего года он принял участие в походе против Арагонцев. Поражение вынудило Анжуйцев отказаться от притязаний на Сицилию, подписав мир в Кальтабеллотте. Отсюда — хлесткое замечание флорентийского хрониста Виллани: «Мессер Карл (Валуа) пришел в Тоскану миротворцем и покинул ее в состоянии жестокой войны; в Сицилию он поехал воевать и там заключил позорный мир»[261]. Франко-английское примирение в 1259 г. было очень хрупким, доброе расположение Эдуарда I (1272–1307) в начале царствования отчасти объяснялось трудностями, какие для него создавали валлийцы и шотландцы. Не была ли неизбежной война между Францией и Англией постольку, поскольку Плантагенет владел землями на материке? Так считал автор «Слова о восстании Англии и Фландрии»[262], предлагавший радикальное решение, чтобы покончить с конфликтами:Да будет море границей и рубежом
Между Англией и Францией.
Совершенствование центральных и местных служб
Процесс разветвления государственного аппарата, начатый в предыдущие царствования, с 1285 по 1314 г. продолжился. Разрыв между странствующим государем и службами, осевшими в столице, стал очевидным. Обычно король проводил в Париже не более трех месяцев н год, полностью отдаваясь своей страсти к охоте и своим благочестивым побуждениям, дважды приводившим его в Мон-Сен-Мишель. Службы ведомства королевского двора включали двести-триста персон, распределенных между королевской часовней, Палатой печати, Денежной палатой, Государевой палатой (Chambre du souverain) и другими необходимыми органами, такими как кухня, хлебохранилище, помещение для розлива вина и охотничий двор, на котором активно трудилось сорок человек. К ним надо добавить еще сто шестьдесят лиц, служивших королю Наварры, и сто пятьдесят, состоявших при графе Пуатье. В общем, о династии заботилось от четырехсот до шестисот человек. Основная ответственность ложилась на камергеров, которые отвечали за безопасность и соблюдение протокола. Ангерран де Мариньи сумел добиться, чтобы его признали первым среди них. Особое место надо также выделить исповеднику, обязанности которого состояли в том, чтобы очищать совесть короля от грехов и служить посредником между ним и Всевышним, а также давать советы в разных областях жизни. Это подтверждает влияние, каким обладал Вильгельм Парижский, доминиканец с улицы Сен-Жак, заклятый враг тамплиеров, решительный противник любых послаблений ереси, который сплел настоящую интригу против пикардийской мистички Маргариты Порет, хотя последнюю и защищали другие клирики[266]. Внутри ведомства двора приобрели значение два органа: Денежная палата (Chambre aux deniers), личная казна короля, и Палата печати (Chambre du seel), занявшая место особой канцелярии и ведавшая рассылкой секретной корреспонденции. Монарх располагал также сокращенным правительством, которое можно сравнить с «Гардеробом» короля Англии. Он мог рассчитывать на преданность верных рыцарей и клириков короля, иногда вызываемых в Совет. Парламент продолжал приобретать статус института, представляющего монархию и совесть королевства, при этом сохраняя традиционный облик «собрания, где говорят» (Жан Фавье). Заседая в одном и том же месте, во Дворце на острове Сите, чтобы иметь возможность хранить архивы и вызывать участников судебных разбирательств на конкретные даты, парламент пока не имел определенного состава, и список его членов обнародовался на каждой сессии. Ни Большая палата, ни Следственная палата по-настоящему еще не сформировались. Зато Палата прошений, «ведавшая доступом к апелляционному суду короля», добилась для себя автономии. Еще только через несколько лет возникнет Верховный суд (соur supreme), который будет сформирован из специалистов-магистратов и разделен на разные палаты, — первый из высших органов управления и судебной системы, которому столько внимания уделила Франсуаза Отран[267]. Назначение Счетной палаты тоже ясно определилось между 1300 и 1310 г. До тех пор, пользуясь аморфной неопределенностью своих функций, управлять, судить и считать могли одни и те же люди. Но «специалисты по финансам», клирики или парижские горожане, как Жоффруа Кокатрикс, мало-помалу показывали финансовую компетентность. К 1300 г. вошло в обычай давать им работать, не беспокоя их. Эти «люди счетов» дважды в год заслушивали местных чиновников и анализировали их управление финансами, отстаивая права короны. С 1303 г. они разместились в особом здании, Camera compotorum, недалеко от Дворца, напротив западного портала Сент-Шапель. Что касается Казны (Tresor), она была менее стабильна. В начале царствования денежные средства короля хранились в Тампле, где казначей вел журнал доходов и расходов. В 1295 г. их решили перевести в Лувр. В 1303 г. состоялись новая смена курса и возвращение в Тампль. С 1307 г. казна перешла под контроль Ангеррана де Мариньи, главного распорядителя доходов (grand maitre de depenses). Ордонанс 1314 г. разделил две кассы: в Тампле — дляфинансирования дворцов и центральной администрации, и в Лувре — для оплаты больших работ и войны. Это разделение отменили в 1315 г. Канцелярия (chancellerie) была не чем иным, как конторой делопроизводства, где клирики облекали в письменную форму волю короля, и ведомством, где ставили печать, причем хранитель печати до 1299 г. относился к второстепенным чинам. С 1299 г. эта должность доверялась видным людям, таким как Пьер Флот (ум. 1302) и Гильом де Ногаре (1307–1313). Из канцелярии выходили ордонансы, жалованные грамоты, предписания и другие официальные документы, которыми фиксировались дары и даровались привилегии, тогда как более конфиденциальные акты выпускала Палата печати. Дипломатический анализ этих документов с конца XII в. но начало XIV в. выявляет, что с течением лет канцеляристы старались все точней излагать принятые решения и аккуратней ставить пометки, от которых зависела действительность документа (место, дату). Отныне монархия обладала памятью, коль скоро в ее обычаи вошла регистрация актов. Серия реестров Сокровищницы хартий началась именно в 1302 г., а в 1309 г. за работу принялся первый архивист короны, обязанный при необходимости заводить отдельные досье. Становление центра для принятия политических решений нашло материальное выражение в росте численности людей короля, живущих в Париже. Клирики, нотарии, привратники, сержанты, адвокаты, прокуроры, члены парламента и другие советники наполняли залы и галереи Дворца на острове Сите (см. рис. 3) — резиденции власти, «места работы, жительства, приема». Тесное жилище Людовика Святого и Филиппа III было с 1296 по 1313 г. полностью перестроено, включив в себя просторные помещения для главных государственных служб, план расположения которых воссоздал Жан Геру. Залы на речном берегу, между башней Бонбек и Часовой башней, отдали парламенту. Канцелярия и Счетная палата разместились к северу и западу от Сент-Шапель. На западе находилась и резиденция короля, выходившая в сады.
Рис. 3. Дворец короля Капетинга на острове Сите в начале XIV в. (по Жану Геру)
Дворец находился в столице, население которой претерпело глубокие изменения: к клирикам, ремесленникам и лавочникам добавились законники, счетоводы, купцы и финансисты. Сколько жителей было в Париже к 1300 г.? Историки в зависимости от источника, на который опираются, разделились на два враждебных лагеря. Одни, исходя из «Описи приходов и очагов» 1328 г., перечисляющей около 62 тыс. очагов в Париже и окрестных приходах, считают, что в столице жило почти 200 тыс. жителей, то есть по меркам тогдашнего Запада она была чудовищно огромной. Другие, ссылаясь на книги сбора тальи 1292 г., указавшие в caput Regni (голове королевства) всего 15 200 податных, насчитывают едва 80 тыс. жителей, использовав обычные коэффициенты и приняв в расчет слуг, клириков, студентов и бродяг. То есть они низводят бесподобный мегаполис до уровня некоторых других ведущих городов Европы, таких как Флоренция, Милан или Венеция. Не вникая в детали спора, заметим, что в настоящее время чаша весов склоняется в пользу первой гипотезы. Париж, напоминает Жак Ле Гофф, современники воспринимали как исключительный город. При Людовике Святом, утверждает Раймон Казель, город насчитывал 150 тыс. жителей, к которым каждый год добавлялось по 750 человек, и к 1328 г. их численность превысила 230 тыс.[268] Если никто и не думает отрицать укрепление сердца королевства, материально выразившееся в этом демографическом росте, то выявить перемены в местной администрации, где главное уже совершилось с 1230 по 1270 г., представляется делом более трудным. Тем не менее некоторые изменения можно отследить. Выделили несколько новых административно-территориальных единиц: бальяжи Труа, Шомон и Витри-ан-Шампань, бальяж Лилль во французской Фландрии (после победы в 1304 г.), сенешальство Ангулем в 1308 г. В том же году решили присоединить город Лион к бальяжу Макон. Карьеры местных чиновников складывались заметно по-разному на Юге, где сенешалем можно было служить некоторое время, но не пожизненно, и на Севере, где бальи все больше походили на функционеров современного образца, вся карьера которых осуществляется на государственной службе. Они переходили из одной административно-территориальной единицы в другую, как Гильом де Анже-младший, который успел побывать бальи в семи местах последовательно, прежде чем оказался в королевском совете. Некоторые бальяжи, как Руан, Амьен, Санс и Санлис, похоже, давали доступ в Совет, в парламент или в Казну, как в наши дни через пост финансового инспектора проходит «царский путь» к высшим должностям. В мирке бальи могли происходить «перемещения кадров», как в современной префектуре Ландерно. Таким образом в 1303 г. своих руководителей сменили семнадцать бальяжей. С тех пор началась эпоха государственной службы. Бальи и сенешали уже могли считаться «анонимными» агентами королевской власти: их окружала туча судей, сборщиков налогов, ногариев, прево, виконтов и других клерков, равно как адвокатов и прокуроров короны. Цепкая и упорная деятельность всех этих слуг короля вызывала, как и в прошлые царствования, хор упреков. В 1303 г. осуждали способ, каким собирали пошлины за рельеф и за свободный фьеф, — последняя подать взималась с незнатных людей, приобретавших земли знати. Власть, конечно, обещала посылать на периферию «добрых и деятельных людей», чтобы возродить добрые обычаи былых времен. Пустые слова! Злоупотребления продолжались, и гнет, который население испытывало со стороны чиновников, при случае выливался в самый обыкновенный шантаж. Как раз сержантов и сборщиков налогов, чьим делом было принуждать и изымать, добрые люди и порицали. Зато надо подчеркнуть, что подданные скорей искали королевского правосудия, чем избегали его. Апеллировать к королю было очень просто — надо было обратиться либо к бальи, либо в парламент. Домогались также королевского суда в особом производстве, через посредство нотариев, которые превращали частные договоры в публичные акты. Был усвоен обычай ссылаться при этом на верховную власть, которую символизировали королевская печать и геральдические лилии. Служа этой тихой и упорной централизации, которая касалась одновременно территории и сознания людей, по королевству рыскали ревизоры-реформаторы. По Югу с 1301 по 1303 г. разъезжали Ришар Ле Неве и Жан де Пикиньи, собирая жалобы, контролируя управление местных чиновников, искореняя ту или иную предосудительную практику. Выше мы видели, что виконт Авранша произвел в 1296 г. в Бретани настоящее полицейское расследование. Действуя, как дальновидный инквизитор, он собирал сведения в монастырях — в Ле-Реле-ке, в Сен-Матье-де-Фин-Терр, в Ландевеннеке. Он выявил зарождение «бретонской» торговли, которую вели прежде всего итальянцы, байоннцы и нормандцы, и раскрыл некоторые подозрительные сделки. Отчет этого королевского уполномоченного наглядно показывает, как Капетинги пытались проникнуть в Бретань. Королевское око отныне видело все до самых пределов земель, находившихся в ленной зависимости от французской короны, in finibus terrae (в конце земли).
Новая финансовая политика: времена крайних средств
Финансовая и монетная политика Филиппа Красивого, столь спорная, объясняется прежде всего постоянным ростом расходов государства, лишавшим силы положение, согласно которому король должен был «жить за счет своего», то есть за счет дохода со своего домена, повинностей и услуг своих вилланов и помощи своих вассалов. Если учесть, что с 1290 по 1295 г. ординарный ресурс (домен) приносил в год от 400 тыс. до 600 тыс. турских ливров, то как бы он позволил удовлетворить все нужды, если каждый из приближенных короля обходился в 100–200 тыс. ливров в год, барон мог претендовать на 1000 ливров ренты, а содержание гарнизона из двадцати человек стоило не менее 500 ливров в год? Так что было настоятельно необходимо прибегать к экстраординарным ресурсам, явно дававшим больший доход, — десятина с церковного имущества или талья с евреев позволяли собрать от 200 тыс. до 250 тыс. ливров, принуждение горожан или клириков к дарам и займам могло принести 700 тыс. ливров. Поэтому сбор экстраординарных податей был выходом для власти, пребывавшей в отчаянном положении, даже если при этом ей приходилось ссылаться на угрозу войны в Гиени и во Фландрии или обсуждать планы крестового похода. Превратив тем самым экстраординарные сборы в обычное дело, король вступил на путь, который вел к постоянному налогу, введенному только при Карле V. В период, когда исследователи наслаждались первым лепетом государства Нового времени — нового золотого тельца историографии, — никто достаточно четко не указал на жизненно важную связь государства с постоянным налогом. Что такое государство, как не аппарат для изъятия денег, работающий в первую очередь благодаря принуждению (для чего и нужна разбивка его территории на части) и во вторую благодаря согласию, которое испрашивали у подданных на эпизодических собраниях Штатов? Можно ли назвать хоть одно собрание с 1302 г. до конца XV в., на котором король воздержался бы от того, чтобы выклянчить какую-нибудь талью или субсидию? Государство Нового времени устроено, в принципе, довольно просто — оно похоже на казнавоз Папаши Убю[269]. Взобравшись на вершину общества, поддерживаемый тремя сословиями, монарх старается переместить к себе в казну все большую часть достояния жителей своего королевства, причем к тому эпизодическому его взиманию у населения со ссылкой на благородные и великие задачи, которое производит король, добавляются более скромные сезонные притязания феодалов. Ги Буа совершил большое дело, показав, как оба типа налогообложения, сеньориальное и королевское, в течение обоих последних веков Средневековья наложились друг на друга, породив того нового Левиафана, которого одни называют централизованным феодализмом, а другие — централизованной монархией[270]. Рождение этого вампира, которому через шесть веков предстояло превратиться в мирную дойную корову («государство-провидение»), как нам кажется, следует датировать царствованием Филиппа IV. В оправдание последнего напомним о колоссальных суммах военных расходов: Гиень с 1293 по 1297 г. поглотила от двух до трех миллионов турских ливров, во Фландрии с октября 1298 г. по октябрь 1299 г. было потрачено еще 447 тыс. Не менее разорительной была дипломатия: 250 тыс. ливров надо было авансировать в 1293 г. Карлу II Анжуйскому, приходилось давать денежные вознаграждения князьям Брабанта, Лотарингии и других земель и покупать верность подданных на разных уровнях феодальной пирамиды. Способы решения срочных финансовых проблем были не бесконечными: монетные мутации, помощь вассалов, выкуп за неучастие в военной службе и некоторые другие крайние средства. Чеканка монеты была королевским делом, король обеспечивал подлинность монеты и имел право ее менять при условии соблюдения общих интересов. С 1293 г. монетой ведал начальник монетного двора, иногда заседавший в королевском совете, а через три года — magistri monetarum. За фальшивомонетничество наказывали без послаблений, погружая виновных в котел с кипящей водой. Судя по счетам бальяжа Рьом, это наказание действительно было применено в 1305 г. Через шесть лет котел, использовавшийся для этого в Париже, пришлось чинить! По капризу истории Филипп Красивый сам снискал репутацию фальшивомонетчика, проводя совершенно легальные монетные мутации. Не вдаваясь в излишние подробности, важно попытаться разобраться в этом аспекте политики Филиппа IV, который часто толкуют превратно, и воспользоваться для этого помощью Марка Блока, Раймона Казеля, Этьена Фурниаля и Жана Фавье[271]. Тогдашняя монетная система оказалась очень подходящей для мутаций, потому что существовала счетная монета (абстрактная денежная единица; к счетным монетам относились ливр, су и денье) и реальная монета, звонкая и полновесная, как, например, серебряный турский грош (стоивший 1 су или 12 денье), золотой экю Людовика Святого (12 су, 6 денье), или рояльдор (royal dor) (с 1290 г. — 10 су). Соотношение стоимости счетных и реальных монет не фиксировалось; с другой стороны, номинальная стоимость монеты не высекалась на металле, ее определяло «публичное объявление». Поэтому властям было очень просто принять решение, как произошло в 1303 г., что золотые монеты, стоившие до тех пор 21 су, 6 денье, отныне будут иметь курс 62 су, 6 денье. Но можно было еще играть на весе или на пробе, то есть на содержании чистого золота или серебра в монетах. Монета, вес или проба которой уменьшались в результате переплавки, тем не менее сохраняла прежнюю платежную стоимость. Переплавка была тем выгодней для власти, что пошлины за чеканку, или сеньораж, достигали 2,5 % от стоимости металла. Если вспомнить, что в девальвации, собственно, не было ничего нового, что уже в течение трех веков содержание чистого серебра в деньгах постоянно уменьшалось, то возникает вопрос: откуда же взялась досадная репутация Филиппа Красивого, который тут ничего не делал тайно? Несомненно, она возникла из-за размаха проводимых мутаций (двойной турский денье в 1303 г. девальвировался на 250 % по отношению к предыдущей чеканке) и их частоты, порождавшей сильное ощущение нестабильности. Символом этого царствования могло бы стать колесо Фортуны, возносящее одних, чтобы низвергнуть других. Должники и кредиторы поочередно то выигрывали, то проигрывали от королевской политики. В 1295–1305 гг. королевская монета неоднократно слабела. Первая такая операция, которой предшествовал запрет на вывоз серебра за пределы королевства и на чеканку сеньориальных монет, произошла в апреле 1295 г.: были выпущены новые монеты с «платежной стоимостью, превосходившей ту, какую им придавали проба и вес». С 1303 г. перемены в монетной системе приобрели очень большой размах, как отмечено выше. Они затронули монеты из золота и серебра. Обесценившись по сравнению с золотом, серебро стало редкостью; торговые сделки были дезорганизованы, и стоимость жизни выросла. Это ослабление было выгодно должникам, потому что квартирная плата, рента и долги фиксировались в счетной монете. Зато пострадали кредиторы — 20 ливров, выплаченных в 1303 г., содержали не столько же драгоценного металла, сколько в 1295 г. Так что можно задаться вопросом, не была ли девальвация зародышем социальной политики. Такую гипотезу выдвинул Раймон Казель, говоря о первых годах царствования Иоанна Доброго. Ничто не мешает распространить ее и на более ранние времена — Филиппа Красивого. Получал ли монарх выгоду от этих операций? Даже если верный Пьер Дюбуа ставил под сомнение барыши, полученные короной, ответить на этот вопрос надо утвердительно. Исследования Жюля Виара[272], который продолжил анализ Раймона Казеля, показывают, что мутации принесли королю огромные доходы. Это наглядно иллюстрирует следующая таблица: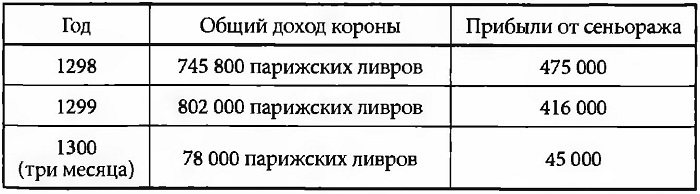
С удивлением замечаешь, что с 1298 по 1300 г. монеты обеспечили более половины дохода, причем согласия подданных, от которых власть потребовала совсем другой субсидии, не спросили. Однако в принципе мутации могли происходить только по причине войны (ratione belli). Их доходность очень повысилась во второй половине царствования. Под нажимом прелатов и нотаблей, то есть собственников, рантье и кредиторов, с 1305 г. пришлось начать политику усиления монеты, а в 1306 г. сделать попытку вернуться к «хорошей» монете Людовика Святого. Было принято решение, что все деньги, находящиеся в обращении, обесцениваются приблизительно на две трети от номинала. В результате сумма неоплаченных долгов в звонкой монете утроилась. Какие бы власть ни предпринимала меры в отношении арендной платы, квартирной платы и долгов, переход от слабой монеты к сильной происходил болезненно. В Париже зимой 1307 г. из-за роста квартирной платы вспыхнули волнения. Их подавили, повесив двадцать четыре мятежника. В Шалоне-на-Марне гнев народа обратился против сборщиков тонлье, которые хотели собирать свои подати в «хорошей монете». В 1306 г. мутации не прекратились. Они происходили и позже сообразно потребностям момента. Только в 1313 г. случились одно ослабление и одно восстановление монеты, убыточные для торговли, если верить Жоффруа Парижскому. Непостоянный характер обмена вредно сказывался на сделках. В то же время серебро продолжало дешеветь по отношению к золоту: если в начале царствования официальное соотношение цен на эти металлы составляло 1:12, то в 1309 г. оно дошло до 16, а в 1311 г. — до 19,6. Поскольку из-за этого происходила утечка белого металла, распространилась «черная» монета[273] с дурной репутацией. К концу царствования подданные понимали королевскую политику все хуже, хотя некоторые уполномоченные старались ее объяснять. Штаты 1314 г. потребовали возвращения к постоянной монете и приближения официального курса драгоценных металлов к коммерческому. Подданные видели лишь произвол и алчность там, где действовали чисто монетные факторы: королевство страдало от нехватки серебра, которую усугубляли происки спекулянтов, наживавшихся на вывозе металла. В результате этой нехватки белого металла действительная стоимость монет падала, затрудняя любое их усиление. Несмотря на похвальные старания затормозить вывоз серебра, в том числе и в виде посуды, власть не могла вырваться из порочного круга. Ее «пилообразная» политика казалась непоследовательной подданным, которые не могли уяснить себе механизм обращения монет. Эти недостатки усугубились в результате изгнания (в 1309 г.) или смерти итальянских советников, что с 1311 г. дало Ангеррану де Мариньи все возможности действовать эмпирически. Вместо изменений монеты король мог попросить у вассалов финансовой помощи, будь это сеньоры или городские коммуны. Филипп IV трижды воспользовался этим правом: на свое посвящение в рыцари в 1285 г., на свадьбу своей дочери Изабеллы с Эдуардом II Английским и на посвящение в рыцари старшего сына в 1313 г. Всякий раз распространение этого обложения на арьер-вассалов вызывало протесты. Лучшим решением для монарха, оставшегося без денег, было потребовать от всех подданных помощь, положенную защитнику королевства. Поэтому выкуп за неучастие в военной службе, предназначенный для содержания регулярных наемных войск, стал одним из важнейших компонентов чрезвычайного налогового обложения, но он взимался эмпирически, а в качестве постоянного введен так и не был. Когда позволяли обстоятельства, королевское правительство «переходило от военной обязанности непосредственно к финансовой» (Жан Фавье). В связи с войной в Гиени в 1294 г. лангедокцев обложили подымной податью из расчета 6 су с очага. В последующие годы бароны Севера и Юга давали согласие, всякий раз на одном и том же основании, на сбор сотой доли от состояния зависимых от них людей. Потом, с 1296 г., возникло сопротивление: графы и епископы присваивали третью часть от пятидесятины, причитавшейся королю; тут и там соглашались производить лишь частичные выплаты. Когда началась война во Фландрии, агенты короля должны были вести переговоры на местах, чтобы собрать пятидесятину. Извлекая выгоду из несчастья, поражение при Куртре в 1302 г. использовали как аргумент, чтобы потребовать от арьербана откупиться. В марте 1303 г. было объявлено о нескольких реформаторских решениях, чтобы получить полномочия на сбор налога. В 1304 г. у подданных удалось выманить кругленькую сумму в 735 тыс. турских ливров. Однако, как только призрак войны отдалился, больше никто не чувствовал себя обязанным оказывать королю финансовую помощь. Через несколько лет сбор фламандской субсидии, хоть и связанный с военными планами, в 1313 г. был прерван и в 1314 г. остался незавершенным. Тут видна вся неоднозначность ситуации: с одной стороны, народ не сознавал явной необходимости платить налог, с другой — власть старалась приучить его участвовать в ее расходах, договариваясь с Генеральными штатами, к которым обращались в 1303, 1308 и 1314 г., и с местными собраниями. Чтобы верней добиться своего, она прибегала к сомнительному аргументу, ссылаясь на военную угрозу. Согласно Раймону Казелю, такая политика станет систематической при некоторых преемниках Филиппа IV, сколь бы рискованной ни была. Чтобы справиться со срочными финансовыми проблемами, король и его советники не забывали ничего из всего набора крайних средств. С церковных бенефициев двадцать четыре года из тридцати взималась десятина, несмотря на возражения папы. Податью обложили внешнюю торговлю, продавая экспортные лицензии, в частности, итальянским купцам. Прибегали к принудительным займам у зажиточных горожан и у чиновников. Время от времени собирали по несколько сот тысяч ливров, то конфискуя имущество ломбардцев (в 1292 г., в 1309 г. и 1311 г.), то обложив сбором евреев, а потом изгнав их в 1306 г., а несколько позже — захватив имущество ордена тамплиеров. Косвенным налогом, или побором (maltote), из расчета денье с ливра (0,4 %) обложили сделки и договоры, но при этом позволяли городам откупаться, платя всю сумму сразу. Можно ли с учетом этих многочисленных денежных изъятий, которые своим появлением были обязаны богатому воображению усердных сотрудников финансового ведомства, оценить, насколько тяжким был финансовый гнет? С 1296 по 1302 г. общая сумма прямых налогов в принципе составляла 2 % (пятидесятую долю), что отнюдь не было непосильным бременем. Но в 1303 г. средний собственник якобы платил 30 % от дохода, а знатный человек — 70 %, кроме как если он находился на военной службе. Эти сногсшибательные цифры ставят в тупик. Легче допустить, что с купца в том же году взимали 4 % от стоимости товаров. Прочитав все вышесказанное, можно убедиться, что переходная финансовая система была до крайности сложной, что доля экстраординарных доходов в ней оставалась значительной, что никто не мог быть уверен ни в чем приобретенном и что на всем надо было экономить. Тем не менее сквозь все эти колебания и противодействия проступают два главных принципа — «право короля оплачивать управление настоящим государством» и его право принуждать подданных платить ради защиты общих интересов.
Рождение светского государства
«Битва титанов» между Филиппом Красивым и Бонифацием VIII была парадоксом сама по себе, потому что в ней столкнулись благочестивый король и папа, первоначально исполненный лучших намерений в его отношении. Но в то же время к этому столкновению привела двойная эволюция: с одной стороны — укрепление папской теократии, с другой — утверждение божественного права монарха. К тому же за несколько десятков лет образовалось три главных источника конфликтов между государством и церковью — проблема пожалования бенефициев, расширение полномочий церковного суда и, наконец, регулярный сбор десятины светской властью. Отныне все эти вопросы приобрели особую остроту. В 1289 г. Капетинг отправил посольство в Рим, сообщая в резких выражениях, что «французская церковь принадлежит королю, а не пaпe»[274]. Договор, подписанный в следующем году, позволил королю взимать десятину до 1293 г. Пятого июля 1294 г. папой под именем Целестина V был избран отшельник Пьетро дель Морроне. Этот понтифик, близкий к францисканцам-спиритуалам, фактически был не более чем игрушкой в руках неаполитанских Анжуйцев и клана Колонна. Через шесть месяцев, 24 декабря 1294 г., он отказался от папской тиары, уступив место юристу Бенедетто Гаэтани, принявшему имя Бонифация VIII. Новоизбранного папу обвиняли в том, что он вынудил предшественника уйти, а потом поспособствовал его смерти. Эти слухи нашли определенный отголосок в анжуйском и французском лагере, который помог усилиться ордену целестинцев, созданному для того, чтобы увековечить память покойного папы и поддерживать галликанские убеждения в противовес притязаниям римского понтифика. Бонифаций VIII не замедлил показать силу характера, очистив римскую администрацию от своих противников, заменив представителей рода Колонна на Гаэтани и поддержав нищенствующие ордены, всецело ему преданные. Отношения между этим теократом-централизатором и Филиппом IV быстро ухудшились. Десятина, взимаемая последним с 1294 г. для финансирования войны в Гаскони, стала первым источником трений, вскоре усилившихся из-за намерений короля собрать в 1296 г. пятидесятину с имущества клира. Декреталией «Clerici lai'cos» папа дал понять, что «любое обложение клириков податями, осуществляемое светскими властями», возможно только с его согласия. Он пригрозил применить санкции к клирикам, которые станут платить, и не остановился перед драматизацией конфликта: миряне «силятся разными способами обратить клириков в рабство и подчинить своему владычеству»[275]. Если сводить историю к войне абстрактных принципов, можно было бы сказать, что это теократический августинизм выступил против аристотелизма в томистской версии, признававшего за государством миссию управлять общественной жизнью в целом и право налагать на духовенство такие же обязанности, как и на другие сословия. Король на эту декреталию отреагировал в практической плоскости — запретил всякий вывоз золота и серебра, тем самым помешав обложению бенефициев в пользу Рима, и изгнал папских сборщиков податей. Легисты, со своей стороны, взяли на себя теоретический ответ. Авторы «Диалога клирика и рыцаря» (1296) стараются поймать папу в ловушку Евангелия: «Христос не осуществлял никакой власти. Он отвергал даже мысль о ней. Он назначил Петра своим викарием ради того, что имеет касательство к нашему спасению, и только ради этого. Он не посвящал его в рыцари и не венчал королевской короной. Он рукоположил его в священники и епископы» (Жан Фавье). Призывая к отказу церкви от функций государства, легисты вели речи, довольно близкие к речам францисканцев-спиритуалов. Впрочем, они заходили даже дальше, уже формулируя понятие «национальной» церкви, находящейся на службе власти. Есть законное право, говорили они, «добиваться, чтобы они (церкви) служили укреплению и усилению королевской власти»; нужно также «закрепить за ними оборону земли». Мало того: эти принципы делали церковь идеологическим орудием и машиной для выдачи субсидий на службе у монархии. В таком духе выдержана записка «Antequam essent clerici» (Пока не станут клириками), утверждавшая, что если клирики не сражаются, то они должны содержать воинов. Наконец произошло примирение. В феврале 1297 г. папа признал за королем право взимать без его разрешения, но в случае крайней необходимости подати со всего духовенства, которое тут же и обложили налогом на фламандский поход 1297 г. Канонизация святого Людовика 10 августа того же года случилась очень кстати, чтобы восстановить атмосферу доброго согласия между Парижем и Римом. Конфликт между папой и королем вспыхнул снова в связи с делом Бернара Сессе. Последний, став в 1301 г. епископом Памье, показал себя заклятым противником Филиппа Красивого и поддержал графа Фуа. Прелата обвиняли в том, что он называл государя бастардом и фальшивомонетчиком, предрекал скорую гибель династии и королевству, утверждал, что Памье — не Франция, и вел себя как лангедокский патриот. «Жители этой земли, — говорил он, — не любят ни короля, ни французов, которые принесли им только зло […]. Двор развращен, это блудница. Пьер Флот не делает ничего, если не дать ему на лапу». После следствия, проведенного двумя королевскими служащими, Бернар Сессе в июле 1301 г. был арестован. Во время процесса над ним в Санлисе ему предъявили странные обвинения: якобы он называл папу «дьяволом во плоти» и утверждал, что Людовик Святой пребывает в аду. В свете позднейших событий это все наводит на мысль, что процесс был сфабрикован агентами короля. Разумеется, он завершился тюремным заключением епископа Памье, и папа потребовал его освобождения. Бонифаций VIII также созвал в Риме на День Всех Святых 1302 г. собор французской церкви, заботясь об «исправлении злоупотреблений и о добром управлении королевством». Он также лишил короля права взимать десятину. Буллой «Ausculta» от 5 декабря 1301 г. он выдвинул против Филиппа Красивого целый ряд обвинений: «Мы любили тебя отеческой любовью […], мы должны […] ясно дать тебе понять, что в тебе […] нас огорчает: угнетение твоих подданных, в котором ты повинен, ущерб, который ты творишь церквам, клирикам и мирянам, недовольство, какое твое деспотическое поведение вызывает у пэров, графов, баронов и прочих знатных мужей, коммун и народа королевства […]. Ты, вопреки справедливости, тянешь свои алчные руки к владениям и правам Церкви […]. Ты берешь несоразмерно много доходов с вакантных кафедральных церквей, присваивая их в силу регального права […]. Мы не говорим уж о подделке монет и прочих бесчинствах, в которых ты виновен перед подданными. До нас доходит на это множество жалоб, это известно всему миру». Можно ли представить более всеобъемлющее осуждение политики, исходящее от папы, видимо, очень хорошо осведомленного о многочисленных проявлениях произвола, которые он приписывает пагубному влиянию окружения: «Но именно этим дурным советникам нет прощения. Делать ложные и необдуманные шаги тебя подбивают лжепророки. Это они терзают подданных королевства […], это они под твоим покровительством расхищают твое достояние и достояние прочих и под видом правосудия угнетают твоих подданных и церкви». Бонифаций VIII умело пытался использовать общую враждебность к легистам, чтобы обеспечить полный успех решениям римского собора, который по всей теократической логике должен был предписать «то, что важно для исправления изъянов, для спасения королевства и хорошего управления им»[276]. Папа лишь забыл, что он не Иннокентий III и обращается не к Иоанну Безземельному. Королевскую реакцию организовал Пьер Флот, начав агитационную кампанию, чтобы настроить университетские и церковные круги против папы, и созвав на весну 1302 г. в Париже чрезвычайное собрание. Булла «Ausculta fili» была сведена к шести главным тезисам такого рода: «Мы желаем, чтобы ты знал — ты подчинен нам в духовном и светском отношениях». Образчик этой антиримской кампании — памфлет Пьера Дюбуа, написанный в виде прошения к королю: «Вас, благороднейший государь […], молит и просит народ вашего королевства […], чтобы вы не признавали (над собой) на земле никакого светского владыки, кроме Бога […], и чтобы вы велели объявить […], что папа Бонифаций открыто впал в заблуждение и совершил заведомый смертный грех, оповестив вас письменной буллой, что является вашим сувереном за светские владения […]. Чтобы вы также велели объявить, что оного папу должно считать еретиком, а не вас и не народ вашего королевства, которые все полагали и полагают обратное»[277]. Отметим не столько обвинение в ереси, обычное для той эпохи, сколько то, что Пьер Дюбуа настаивает на нерушимой солидарности короля и его народа, единых в общей убежденности. На самом деле добрые люди, должно быть, имели смутное представление об этом деле, воодушевлявшем промежуточные органы управления. 10 апреля 1302 г. в Париже собрались Штаты — прелаты, доктора, бароны, представители капитулов и городов, в целом около тысячи человек. Король поручил Пьеру Флоту передать им, что не признает над собой никакого светского государя и предлагает предпринять «реформу королевства и галликанской церкви», Клирики поддержали эту идею, но нерешительно. В последующие месяцы трения между Парижем и Римом еще усилились, ведь поражение Филиппа IV при Куртре повысило боевой дух папы, заявившего, что готов сместить Филиппа IV, «как увольняют слугу». Наконец, в Риме на День Всех Святых 1302 г. собрался собор, куда приехала половина французских прелатов. В связи с этим 18 ноября Бонифаций VIII обнародовал знаменитую буллу «Unam Sanctam», завершенный монумент теократического мышления. Напомним здесь некоторые ее тезисы, четкие и категоричные, хоть и не новые. «Мы должны признавать единственную Церковь, святую, католическую и апостолическую. Вне этой Церкви нет ни спасения, ни прощения грехов», как говорил еще святой Павел. «Церковь учит нас, что есть два меча — духовный и светский. Оба меча подвластны Церкви; первый использует сама Церковь, второй используют ради Церкви, первый — священники, второй — короли, но лишь до тех пор, пока этого желает и это допускает священник». Этот образ, как и образ двух светил, был широко распространен еще в XII в. «Духовная власть должна вводить в должность земную власть и судить ее, если та нехороша»; тут можно узнать старый аргумент ratione peccati (по причине греха). «Таким образом, всякое человеческое существо подчинено римскому понтифику […]; это совершенно необходимо для спасения»[278]. Столь резкое утверждение могло только задеть людей, привыкших разделять соответствующие сферы деятельности обеих властей. Не довольствуясь неприятием притязаний Рима, легисты перешли в яростные атаки на «клириков, раскормленных, разжиревших и распухших от благочестия государей»; они предлагали папе вновь обеднеть, требовали упразднения Папского государства и призывали к секуляризации церковных владений. Этот кризис мог иметь только драматическую развязку. Сменив Флота, Ногаре предпринял наступление на Бонифация VIII, рассчитывая созвать собор, чтобы его сместить. 13 июня 1303 г. в Лувре состоялось собрание, на котором прозвучали худшие обвинения лично по адресу папы: «Он не верит в бессмертие души […]. Он не стесняется открыто заявлять, что предпочел бы быть собакой или ослом, чем французом […]. Чтобы увековечить свою проклятую особу, он велел установить в церквях серебряные изображения себя самого, побуждая тем самым людей к идолопоклонству. У него есть личный бес, советам которого он слепо повинуется. Он обращается к колдунам и ведьмам.»[279] Королевская пропаганда, не останавливавшаяся ни перед какими преувеличениями, явно старалась подстегнуть гордость французов. Заговорили о созыве собора ради спасения церкви и защиты веры. Ногаре поехал в Италию, чтобы сообщить папе о королевских планах. Бонифаций VIII, со своей стороны, был уже готов отлучить врага от церкви и изгнать его из рядов христиан. Посланник Капетинга направился в городок Ананьи в Лации, чтобы вызвать понтифика на собор, но агрессивных намерений лично против его особы не имел. Может быть, его побудил «сорваться» его приспешник Шарра Колонна, представитель римского рода, яростно враждовавшего с родом Гаэтани? В конечном счете ночью с 6 на 7 сентября 1303 г. в папскую резиденцию в Ананьи ворвалась настоящая «свора». Нанесла ли она преемнику Петра самые тяжкие оскорбления? Похоже, знаменитая пощечина, полученная понтификом, — это все-таки легенда. Ногаре удалось добиться, чтобы отлучение его повелителя не было провозглашено. В остальном Бонифаций VIII остался несговорчив и отстаивал положения, выдвинутые в «Unam Sanctam». Освобожденный жителями Ананьи, он вернулся в Рим, где вскоре, 11 октября 1303 г., умер. Его преемники, Бенедикт XI и Климент V, простили Филиппа Красивого, и Бенедикт XI отменил приговор об отлучении, грозившем королю. Церковь подчинилась капетингской монархии. Поселение папы в Авиньоне могло даже создать впечатление, будто он согласился на опеку со стороны французского короля. На самом деле обосноваться на берегах Роны главу церкви вынудило стечение обстоятельств, и ни о каком «пленении» — мифе, который выдумали задним числом итальянцы и немцы, — речи не было. Непохоже, чтобы Авиньон был выбран заранее, и до самого 1334 г. этот выбор оставался под сомнением. Бертран де Го, архиепископ Бордоский, избранный папой под именем Климента V, собирался уехать в Италию. Тем не менее, уступив просьбе Филиппа Красивого, он согласился короноваться в Лионе 14 ноября 1305 г. Позже пересечь Альпы ему помешала болезнь, а потом процесс тамплиеров (с осени 1307 г.), потребовавший созыва собора во Вьенне. Чтобы подготовить это собрание, он поселился в Авиньоне, владении Анжу-Сицилийского дома, недалеко от Конта-Венессен, с 1274 г. принадлежавшего Святому престолу. Службы римской курии присоединились к нему в 1307 г. и обосновались в Карпантрасе. При его преемнике Иоанне XXII (1316–1334), бывшем епископе Авиньонском, папство прочней укоренилось на берегах Роны, хотя папа и обещал итальянским кардиналам вернуться в Рим. Обнаружились преимущества новой резиденции, неподвластной французскому королю, находящейся в «гармоническом центре христианского мира»[280], на соединявшей Северную Италию с Фландрией главной магистрали европейской торговли, и расположенной на сравнимых расстояниях — от 1200 до 1400 км — от Отранто, Лиссабона, Кракова и Эдинбурга. К тому же это способствовало расширению города — к подножию Домской скалы, которую венчали замок, собор и епископский дворец. Окрестности были приветливыми; на левом берегу Роны хлебные поля соседствовали с виноградниками. Эта плодородная и мирная земля была одним из самых приятных «мест изгнания».Дело тамплиеров
Авторам некоторых недавних исследований, таких как, например, «Жизнь и смерть ордена Храма» Алена Демюрже[281], можно поставить в заслугу то, что они отделили дело тамплиеров от псевдоисторических заблуждений и вернули в рамки «потребностей» — более идеологических, чем материальных — вызревавшего государства Нового времени. Чтобы понять, почему 13 октября 1307 г. по всему королевству монахов ордена тамплиеров молниеносно арестовали, надо провести ретроспективное исследование того, как монахи-воины приобрели богатство, как они, возможно, ослабели в течение XIII в. и как мог назреть скрытый кризис в их отношениях с капетингской монархией. Для описания богатств тамплиеров пролито немало чернил. Тамплиеры располагали значительными земельными владениями, в основном состоящими из даров, полученных ими со времен основания ордена в XII в. Замки, земли, мельницы. были впоследствии объединены в целые имения, «округленные» при помощи обменов и покупок и образовавшие обширные командорства. В такой области, как Бретань, хоть она и не была главным оплотом ордена, присутствие тамплиеров отразилось в топонимике (Ле-Тампль, Ле-Мустуар, Виль-Дье, Вильде) и в пейзаже — в виде скромных часовен (Лимерзель) и лапчатых крестов, установленных близ командорств. Что тогда говорить о тамплиерском могуществе на Юго-Западе, где над плато Ларзак возвышалось гордое поселение-крепость Ла-Кувертуарад, резиденция властей командорства? В принципе, треть доходов от тамплиерских владений отсылали на Святую землю. Как ни странно, похоже, поступления были не очень большими — со всех бургундских хозяйств в конце XIII в. они не превосходили 4 тыс. ливров, хотя тамплиеры были очень чуткими к аграрным новшествам, почти как цистерцианцы. Тем не менее Vox populi, мало знакомый с бухгалтерскими сводками, обвинял красных монахов в том, что они проявляют чрезмерную алчность, надзирая за своими имениями. Это обвинение подкрепляли спешное освоение ими банковской деятельности, связанное с необходимостью переправлять упомянутые доходы, или responsiones, на Святую землю, а также суммы, которые доверяли им крестоносцы, короли и папы. Так крепости ордена Храма постепенно превратились в депозитные и ссудные банки, где у королей, высших чиновников и купцов было нечто вроде текущих счетов. Правда ли, что тамплиеры, посвятив себя в XIII в. коммерческой деятельности ради помощи Святой земле (ad subsidium Terre sancte), стали пренебрегать своей миссией? В их уставе не было ничего аскетического: две трапезы в день, мясо трижды в неделю, некоторое время следовало отводить на воинские упражнения, богослужению и благотворительности уделялось довольно мало внимания, — ничто не способствовало тому, чтобы они стали воплощением «монашеского идеала». У их внутреннего суда и капитулов были и тайные заседания, дававшие повод для сплетен. Тем не менее в XIII в. они были «истинными хозяевами латинского Востока» (Ален Демюрже). В этом качестве им доводилось вступать в конфликты с европейскими монархами и с итальянскими городами, имевшими на побережье фактории, или втягиваться в их ссоры. Их выбор не всегда совпадал с выбором ордена госпитальеров. В случае поражений общественное мнение упрекало их за эти раздоры, которые несведущим людям казались возмутительными. Когда латинские государства рухнули, а падение Акры в 1292 г. завершило их крах, монахи-воины утратили смысл существования. Не устояли и их «неприступные» крепости: в 1271 г. пал Крак-де-Шевалье, в 1291 г. — Шато-Пелерен. Их беспорядочное бегство с Востока контрастировало с активным присутствием во французских коридорах власти: духовники королей, послы и комиссары (при Людовике IX), штатные ответственные за финансы, тамплиеры казались преуспевающими — нагло и благодаря хорошим деньгам. Монахи-воины страдали и от того, что общественное мнение в Европе вообще пересмотрело отношение к крестоносной системе — этот термин одновременно означал идеологию и институт, тесно связанные меж собой. Когда крестовые походы повернули в Тунис или в Арагон, они стали вызывать немало нареканий. Сеньоры больше не желали покидать свою mesnie (свое домашнее окружение), чтобы ехать воевать на Восток. Новые монашеские ордены, францисканцы и доминиканцы, призывали к миссионерству, к обращению мусульман, а тем более монголов в христианство, В этой психологической атмосфере военные ордены выглядели пережитками прошлого. Их критиковали одновременно за надменность, трусливую осторожность, мелочные склоки и за алчность. После взятия Акры поместные соборы заговорили о слиянии орденов тамплиеров и госпитальеров. Подвергались ли тамплиеры тогда, в конце XIII в., нападкам и со стороны других монахов-воинов? Никаких подтверждений этого нет. У них были свои панегиристы, как Рютбеф, и свои хулители, обличавшие их за трусость, измену и расхищение средств, предназначенных на крестовые походы. Они с трудом оправились после нападок Фридриха II, который считал их безусловными приспешниками папы. Но их главная ошибка, видимо, имела политический характер: тамплиеры не сумели «переквалифицироваться», создав себе теократическое государство, как это в 1226 г. сделали тевтонские рыцари в Восточной Европе, на Кульмской земле, и госпитальеры на Родосе в 1306 г. В результате их позиция стала уязвимой. До 1303 г. ничто не позволяло предчувствовать наступление кризиса в отношениях с капетингской монархией. Значит,дело, видимо, началось позже этого года. Может быть, свою роль сыграл и отказ в 1305 г. Жака де Моле, великого магистра ордена тамплиеров, от объединения с орденом госпитальеров. С июня 1307 г. по королевству поползли дурные слухи о тамплиерах. Помимо прочих преступлений, их обвиняли в ереси, идолопоклонстве и содомии. Похоже, очагом этой клеветы с конца 1305 г. и в начале 1306 г. была Аженская область, и тут могли приложить руку Ногаре и Плезиан. В ответ на эти лживые обвинения тамплиеры и папа потребовали расследования, «чтобы пролить свет» на это дело, которое агенты короля поспешили взять в свои руки. Четырнадцатого сентября 1307 г. в Париже был отдан приказ арестовать тамплиеров: «Мы повелели, чтобы все члены ордена Храма в нашем королевстве были арестованы, отправлены в заключение и отданы под суд Церкви, а все их имущество изъято». Королевские комиссары, отвечавшие за выполнение этого приказа, получили следующие указания: «Они поместят этих лиц по отдельности под хорошую и надежную охрану; сначала произведут расследование их дел, потом призовут уполномоченных инквизитора и усердно выведают правду, если понадобится — с применением пытки»[282]. Секрет тщательно хранился до 13 октября 1307 г., когда молниеносный «удар» позволил арестовать пятьсот сорок шесть тамплиеров. Ускользнуть от облавы удалось лишь немногим. Расследование вели по-макиавеллиевски: власть афишировала благородное намерение отделить чистых от нечистых и в феврале 1308 г. поручила инквизиции разобраться в деле. Против тамплиеров было выдвинуто семь главных обвинений: «— Они отрицают Христа, которого считают лжепророком […]. Во время церемоний они топчут крест, плюют и мочатся на него. — Они поклоняются идолам, коту и голове с тремя лицами, которыми подменяют Спасителя. — Они не верят в таинства, а священники ордена во время мессы «забывают» произносить слова освящения. — Магистры и сановники ордена, хоть они и миряне, отпускают братьям грехи. — Они практикуют непристойные обычаи и мужеложство. — Они обязуются способствовать обогащению ордена любыми средствами. — Они тайно собираются по ночам; всякая огласка того, что происходит на капитулах, строго наказывается, вплоть до смерти»[283]. Эти обвинения были сформулированы заранее, поскольку фигурируют уже в ордере на арест от 14 сентября 1307 г. Оставалось добиться признаний, прибегая при надобности к пытке. Сохранились протоколы двухсот тридцати двух допросов, проведенных в Париже и в провинциях. Вот несколько отрывков из показаний Гуго де Перо, досмотрщика Франции, записанных 9 ноября 1307 г.: «На вопрос, принимал ли он каких-либо братьев, показал под присягой, что да и несколько раз. На вопрос, каким образом он их принимал, показал под присягой, что после того, как они обещали блюсти уставы и секреты ордена, и после того, как на них надевали плащи, он отводил их в тайные места и велел целовать себя в нижнюю часть позвоночника, в пупок и в уста, что потом он велел вносить крест, при чем кто-нибудь должен был присутствовать, и говорил, что им следует, в силу уставов оного ордена, трижды отречься от распятия и креста и плюнуть на крест и на образ Иисуса Христа, сказал же он при этом, что, хоть и приказывал им это делать, но поступал так не от всего сердца […]. Также показал под присягой, что говорил тем, кого принимал, что, если они не смогут сдерживать естественный пыл, он дает им дозволение утолять его с другими братьями»[284]. В этих признаниях слишком заметны умелое руководство и хорошее планирование, чтобы они не вызывали тягостного чувства. Кстати, некоторых современников эта инсценировка не одурачила. Но великий магистр Жак де Моле, проявив слабость, подтвердил эти показания. Из-за дурного обращения и психологического давления монахи-воины признали набор обвинений, достаточно обычных в конечном счете, — некоторые уже прежде предъявлялись еретикам. Процесс затянулся. В декабре 1307 г. Моле и другие отказались от своих показаний. В феврале 1308 г. папа приостановил работу инквизиции. Король оказал на него давление, созвав в мае следующего года в Туре Штаты и добившись, чтобы провинциальные соборы судили тамплиеров индивидуально, пока вселенский собор, назначенный на 1310 г. во Вьенне, не вынесет решение о судьбе всего ордена в целом. В конце 1309 г. и в 1310 г. происходили епископские расследования; монахи тамплиеры решили защищать свой орден, рискуя, что их объявят впавшими в ересь повторно и отправят на костер, что и случилось в Сансе с пятьюдесятью четырьмя из них. Вселенский собор открылся во Вьенне 16 октября 1311 г. Чтобы верней повлиять на него, Филипп Красивый в марте 1312 г. созвал в Лионе Штаты. Отцы собора желали, чтобы тамплиеры могли представить доводы в свою защиту; даже большинство членов комиссий высказалось в их пользу. Помедлив, Климент V не сумел отказать Капетингу в настойчивом требовании: «Вашему Святейшеству известно, что следствие выявило у тамплиеров такое количество ересей и преступлений, что орден должен быть упразднен». И понтифик смирился с этим решением, издав 22 марта 1312 г. буллу «Vox in excelso». Потом буллой «Ad providam» от 2 мая 1312 г. он передал имущество распущенного ордена госпитальерам. Эта операция шла медленно, то здесь, то гам встречая сопротивление. Филипп Красивый, считая себя кредитором госпитальеров, потребовал от них выплаты 200 тыс. ливров. Доход от этой операции был скудным, ее стоимость в людях — высокой (сам Жак де Моле погиб на костре в марте 1314 г. как повторно впавший в ересь), но настоящие ее последствия надо искать в другом месте, в области политики и идеологии. Истинную природу процесса тамплиеров не понять, не сравнив его с другими делами, какими было отмечено это царствование, в частности с кампаниями против Бернара Сессе, Бонифация VIII и других противников абсолютизма[285]. Как показал Ален Демюрже, это был политический процесс, который проводила инквизиция. Цель судей состояла не столько в выявлении истины, сколько в том, чтобы «сделать подозреваемого виновным», как заметил в 1308 г. один английский тамплиер. Если бы задача состояла в том, чтобы добиться торжества какой-то церковной ортодоксии над заведомой ересью, было бы сложно понять, почему так легко прощают тех, кто в этой ереси сознался. Манипуляции во всем этом темном деле совершенно очевидны. Если еще раз перечесть статьи обвинения, заметишь, что любую из них, вероятно, можно было применить к отдельному тамплиеру, но не к ордену в целом. В каком-то исходном утверждении мог содержаться элемент истины, но это утверждение чрезмерно преувеличивали и с годами раздували все больше. Инициационные поцелуи по мере продолжения процесса становились все непристойней. Возможные случаи гомосексуальных отношений возводились в общее правило ордена: «Давая обет, — утверждал король в 1307 г., - они клянутся, не боясь оскорбить человеческий закон, безотказно отдаваться друг другу»[286]. Знаменитая голова, которую монахи якобы почитали как идола, на самом деле была реликварием. Тут все дышит фантасмагорией, создаваемой в корыстных целях, злонамеренной сплетней, сознательным искажением смысла: мнимое отрицание Христа, видимо, было всего лишь испытанием, разновидностью «дедовщины» (bizutage), за которым следовало грубое «иди исповедуйся, болван». Верх лицемерия: король сделал вид, будто ему крайне трудно поверить в обвинения, которыми он сам же велел осыпать тамплиеров! Это риторическое недоверие выглядит очень подозрительным и дополнительно загрязняет атмосферу, и так уже очень ядовитую. Какими же были настоящие мотивы короля и его агентов? Возможность наложить руку на владения тамплиеров была лишь одним из способов добывания денег в числе прочих, имевшим ограниченный эффект. Желание гарантировать добрый христианский порядок, который распутство монахов-рыцарей ставило под угрозу, было более благовидным предлогом для действий, на который Филипп IV и легисты ловко ссылались, по-настоящему не веря в это. Попытка дать новый импульс крестовому походу, в котором христианские силы возглавит король-воин, оставалась туманной утопией. Укрепление государства — вот какую цель преследовали в конечном счете, уничтожая орден, имевший филиалы за границей. Этим и объясняется этот «сталинский процесс» до Сталина, как справедливо пишет Ален Демюрже, где главную роль играли пытка и психологическое давление, где обвиняемых приводило в ужас и растерянность то, что происходило с ними. Возводимые на них поклепы казались им немыслимыми: их, преданных Святой земле, называли «объективными союзниками» сарацин и еретиков. Достаточно заменить «Святую землю» на «социализм», а «сарацин» и «еретиков» на «империалистов» и «капиталистов», чтобы получить процессы в Москве, Праге и Будапеште. В этом смысле тамплиеры стали жертвами не только вызревавшего государства Нового времени, но и зарождавшегося тоталитарного государства. Это предчувствовали некоторые современники: ни Данте, ни Виллани, ни Боккаччо, ни цистерцианец Иаков Теринский не верили в виновность монахов-воинов.Поиски поддержки со стороны общественного мнения
До царствования Филиппа IV королевская пропаганда осуществлялась в основном в символической форме, используя в качестве довода ореол короля как священника, судьи и целителя; отныне она проявляла себя открыто, в виде памфлетов и пасквилей, выступлений перед промежуточными органами управления и даже проведения настоящих митингов. 24 июня 1303 г. епископы, монахи, представители нищенствующих орденов и университета собрались в садах Дворца на острове Сите, чтобы наперебой заклеймить «преступления» Бонифация VIII. Нотарии записывали тех, кто поддерживал обращение, обличавшее папу. Чего не хватало для формирования современной системы манифестаций, петиций и делегаций? Придется сознаться, что немногого. Тот же сценарий был использован 15 июня 1308 г. на новом митинге в поддержку короля, вставшего на борьбу с тамплиерами. Верные соратники государя при помощи нескольких доминиканцев взяли на себя комментирование официального циркуляра. При виде этих собраний нового типа, какие могли быть вызваны и борьбой Парижского университета за свои права, мы считаем возможным предположить, что с царствования Филиппа IV началась новая эпоха в истории политического поведения, отмеченная весомостью общественного мнения, влиятельностью религиозного и светского слова и развертыванием многоликой пропаганды. Обрушившись на тамплиеров, последняя приняла форму систематического оболванивания населения! Столкнувшись с сопротивлением папы Климента V, желавшего умерить рвение инквизиторов, она не остановилась перед шантажом: «Пусть папа побережется […], он повинен в симонии; по родственной привязанности он отдает бенефиции Святой Церкви Божьей близким родственникам». Желая оправдать изгнание евреев в 1306 г., пропаганда придумывала объяснительные мифы, которые впоследствии получат большую популярность. Широко распространилась история о ребенке в печи: христиане-однокашники юного еврея уговорили его «креститься». Когда он вернулся домой, отец закрыл его в раскаленной печи, от жара которой его спасла Дева Мария. Ходил рассказ о чуде с кровоточащей гостией: еврей-заимодавец потребовал от бедной женщины, чтобы она принесла ему гостию, которую он принялся протыкать булавкой. При виде крови, потекшей из нее, ростовщик и его семья обратились в христианство. Об этом триумфе истинной веры свидетельствует чудесная гостия, сохраненная в церкви Бийет. Эти легенды, следы которых можно найти в университетских диспутах того времени, послужили предлогом для ограбления процветавших еврейских общин в Шампани, в долине Луары и на Юге. В июле 1306 г. бальи и сенешали арестовали всех евреев, а потом конфисковали их имущество и торговые книги по всей Франции. В результате конфискаций и передачи долговых обязательств в пользу короля был, похоже, получен неплохой доход (более 75 тыс. турских ливров только в Тулузском сенешальстве), но меньший, чем рассчитывали. Лживость пропаганды — еще не повод забывать, что при Филиппе Красивом впервые стали советоваться с представительными собраниями, куда был открыт доступ делегатам городов, и эти собрания иногда называли Генеральными штатами. Мы уже упоминали собрания, состоявшиеся в апреле 1302 г. и в июне 1303 г. В мае 1308 г. Штаты были созваны в Туре, чтобы одобрить меры, принятые против тамплиеров. Двести семьдесят городов делегировали туда представителей, которые предварительно изъявили верность. Оба делегата от Жьена, например, получили от сограждан наказ «отправляться в Тур или туда, куда будет угодно нашему господину королю, чтобы выслушать и усвоить волю, приказание и распоряжение короля, нашего государя, и его благородного совета»[287]. Обычай выдвигать упреки еще не был усвоен, не то что в английском парламенте или в испанских кортесах, уже имевших несколько десятков лет опыта работы. Следует также упомянуть собрания представителей всего нескольких городов, собиравшиеся в 1308, 1309 и 1314 г. для обсуждения феодальной помощи, монет и дефицита белого металла. У современных историков есть тенденция недооценивать такие собрания Штатов — они настаивают, что города, епископов или баронов могли представлять доверенные лица или даже люди короля. Представительное сознание народа пробуждалось, похоже, очень медленно. Генеральным штатам было сложно стать популярными, потому что их чаще всего созывали в периоды, когда страна нуждалась в принятии срочных решений и когда денежные ящики были пусты, что влекло за собой неприятные фискальные последствия. Очень большое собрание состоялось в Париже в августе 1314 г., чтобы поддержать усилия властей в войне с фламандцами. Конфликты, ставшие следствием Атисско-Монсского договора, так и не были улажены. Кто будет платить репарации — патрициат или простой народ? Конференции в Турне в сентябре 1311 г. закончились безрезультатно. Агенты Филиппа IV попытались поднять фламандцев на восстание против их герцога, обвиняя его в том, что он присвоил часть собранных денег. В Понтуазе, вероятно, было заключено соглашение, по условиям которого шателенства Лилль, Дуэ и Бетюн присоединялись к королевскому домену. Но ни фламандцы не прекратили своих проволочек, ни французы — своих хитрых уловок. В июне 1314 г. по инициативе графа Фландрского, выведенного из себя вмешательствами французов в его дела, произошел разрыв. Поэтому Филиппу Красивому пришлось просить помощи у подданных. Перед Штатами, собравшимися в августе, красноречие показал Ангерран де Мариньи. С высоты помоста, сообщают «Большие французские хроники», он «показывал и демонстрировал, будто проповедуя народу». В форме проповеди он «произнес речь о природе и пище (de nature et de norriture)», добившись от представителей городов положительного ответа. Но собранная талья оказалась слишком тяжелым бременем, и Мариньи быстро стал «ненавистен простому народу». Недовольные, которых была тьма, не замедлили проявиться. Добрые люди и горожане были измучены тем, что столько платят «и постоянно слышат, что казна пуста». Мелкая знать болезненно воспринимала необходимость платы за неучастие в военной службе, монетные мутации и конкуренцию со стороны зажиточных горожан — покупателей фьефов. Владельцы крупных фьефов жаловались на вмешательство бальи в их дела и на притязания легистов. Князья из королевского окружения ненавидели вытеснявших их советников. В этой напряженной атмосфере в конце лета 1314 г. началось движение баронских лиг (Ligues Baronniales), направленное против короля, которого обвинили в том, что он пожирает собственный gent (народ), против новых займов (которые пришлось отменить) и против неоднократных нарушений местных обычаев. Протесты начались во французской глубинке — в Пикардии, Нормандии, Пуату, Бретани и Оверни, в то время как королевская армия безуспешно осаждала Лилль. Филипп IV попытался подавить восстание, приказав арестовать мятежников и отдать их под суд парламента. Но ничто не помогло. Движение приобрело размах, получив поддержку народа и духовенства. Собравшись в Дижоне, сто десять знатных бургундцев разработали для себя организацию и программу и сформировали постоянную комиссию. Их примеру последовали в Шампани и Форе. Вскоре возникли конфедерации — между Вермандуа, Бовези и Артуа, а также между Шампанью, Бургундией и Форе. 24 ноября 1314 г. все эти провинции образовали общую коалицию. И лишь тогда в бой вступили нормандцы, бретонцы, лангедокцы и овернцы. Повсюду жаждали реформы, которая выглядела бы возвратом ко временам Людовика Святого, эталонному золотому веку. Это простое пожелание звучало приговором всей политике, какая велась почти тридцать лет. К тому времени, когда Филипп Красивый скончался, к 29 ноября 1314 г., он уже утратил любовь и поддержку подданных. Налоговый гнет довел страну до крайности. Чрезмерный произвол в конце концов надоел. Это царствование, которое часто рассматривают с точки зрения прогресса институтов, можно воспринимать и как вереницу сомнительных и коварных поступков, способствовавших возникновению отравленной атмосферы. Взять хотя бы Бернара Делисье, пылкого францисканца из Каркассона, заклятого врага инквизиции, — король сначала к нему прислушивался, а потом от него отвернулся и в конечном счете осудил. Было и дело Гишара, епископа Труа, жертвы совершенно истерической кампании. Получивший кафедру в Труа в 1298 г., ставший членом королевского совета, Гишар играл при дворе определенную роль. Потеряв поддержку своих покровительниц, графини Бланки Шампанской и королевы Жанны, он с 1301 г. стал предметом самых клеветнических наветов. После передышки в 1307 г. нападки на него возобновились — они исходили из окружения Людовика Наваррского, будущего Людовика X. Прелата обвиняли в колдовстве, в попытках отравления и в других отвратительных преступлениях. Масла в огонь подливали также Мариньи и Ногаре. Ходили слухи, что у него был «личный бес, с которым он советовался, когда хотел», и хранил его в стеклянном флаконе или в остром кончике капюшона. Когда он беседовал с этим чертом, у него «волосы вставали дыбом», а из головы шло «нечто вроде дыма от сырых дров»! Гишар избавился от этих домыслов только в 1314 г. благодаря поддержке папы. Хронисты того времени на удочку не попались[288]. Одно дело тянуло за собой другое, и на начало 1314 г. пришелся арест трех невесток короля по его просьбе; Маргарита, жена Людовика Сварливого, и Бланка, супруга Карла Маршского, были заключены в замок Шато-Гайяр; Жанну, жену Филиппа Длинного, заперли в замке Дурдан. Двух первых обвинили в супружеской измене с двумя рыцарями королевского двора, Филиппом и Готье д’Онэ, которых казнили в Понтуазе, заживо содрав кожу. Третью обвинили в том, что она ничего не сказала. Всех трех принцесс погубила их золовка Изабелла, королева Англии, которая их ненавидела. Обвиняемых ждала разная судьба. Маргарита признала вину и якобы скоропостижно умерла; Бланка прожила семь лет в заключении, в 1322 г. Карл IV с ней развелся, и она закончила свои дни в аббатстве Мобюиссон. Жанна при поддержке своей матери Маго д’Артуа примирилась с Филиппом Длинным. В 1319 г. она получила Нельский дворец, который по завещанию отдала, чтобы в нем основали Бургундскую коллегию. Ее милости к школярам породили в конце Средних веков легенду о Нельской башне, куда, как говорили, королева Франции и Наварры заманивала студентов, а там их убивали, бросая в Сену. Так в коллективном сознании к мифу о короле-фальшивомонетчике добавился миф о королеве-людоедке.Глава V Последние Капетинги (1314–1328): время неопределённостей (Эрве Мартен)
После фазы долгих царствований и сравнительной стабильности началась другая — быстрых перемен, отмеченная множеством неопределенностей. За четырнадцать лет на французском троне друг друга сменили три сына Филиппа Красивого, «такие же высокие и красивые, как их отец»[289], — Людовик X Сварливый (конец 1314–1316), Филипп V Длинный (1316–1322) и Карл IV Красивый (1322–1328). Кроме стереотипных портретов работы хронистов, о личностях трех этих монархов сведений мало. Было бы неосмотрительно доверяться изображениям на их гробницах, выполненным в 1327–1329 гг. в той же мастерской, где изваяли статую их отца. «Они абсолютно похожи: та же поза, те же черты», — замечает Шарль Виктор Ланглуа. Поскольку скульптор, может быть, никогда не видел Филиппа Красивого, эти лежащие статуи в Сен-Дени надо рассматривать не с точки зрения биологической идентичности, а с точки зрения династической преемственности. Последняя с 1316 г. часто вызывала споры, поскольку ни один из трех сыновей Филиппа IV не оставил наследника мужского пола, который мог бы его сменить. В результате возникла опасная проблема: «Поскольку наследственное право к тому времени выработано не было, — замечает Робер Фавтье, — ни один текст не препятствовал наследованию по женской линии», допускавшемуся в некоторых крупных фьефах, в некоторых королевствах и в самом роду Капетингов. Это право женщин, в котором век спустя им будут отказывать, придумав миф о салическом законе, впервые проигнорировал в 1316 г. Филипп V, оттеснивший Жанну Наваррскую, дочь Людовика X и супругу Филиппа д’Эвре, с одобрения ассамблеи прелатов, баронов и горожан. «Большие французские хроники» кратко упомянули, что по этому поводу состоялся спор: герцог Бургундский и его мать поддержали право Жанны Наваррской, тогда как «другие говорили, что женщина не может наследовать Французское королевство»[290]. Тот же аргумент привел в 1322 г. Карл IV Красивый, что-бы преградить путь обеим дочерям Филиппа V — Жанне и Маргарите. В 1328 г., когда скончался Карл IV, не оставив ни наследника мужского пола, ни брата, который мог бы ему наследовать, проблема стала формулироваться иначе. На французскую корону мог выдвинуть притязания юный английский король Эдуард III, внук Филиппа Красивого по матери, — к этой теме мы вернемся.Реакция на произвол и абсолютизм
Козлы отпущения Скончавшись, Филипп Красивый оставил наследникам королевство, где вовсю полыхал баронский мятеж и везде проявлялась реакция на абсолютизм, выражавшаяся в иллюзии, что можно вернуться ко временам Людовика Святого. Как в подобной обстановке было обойтись без назначения козлов отпущения, которые бы понесли ответственность за все беды только что закончившегося царствования? Пьера де Латийи, епископа Шалонского, близкого к покойному королю, заподозрили, что он отравил последнего, и отдали под суд прелатов, собравшихся в Санлисе. Рауля де Преля тоже обвинили, что он-де «способствовал смерти короля Филиппа» (Ланглуа). Он яростно все отрицал, выдержал пытку и в конечном счете был освобожден. Главным козлом отпущения стал Ангерран де Мариньи, бывший «всесильный министр», прямо-таки созданный, чтобы его «принесли в жертву ненависти двора» (Ланглуа) и прежде всего злобе Карла Валуа, его заклятого врага. На неделе перед Вербным воскресеньем 1315 г., в среду, его спросили, «что он сделал с казной и богатствами короля […], хранение которых было ему доверено», а потом заключили в Тампль. Через три дня Мариньи предстал в Венсенне перед собранием, на котором председательствовал Людовик Сварливый. Юрист Жан д’Аньер взялся в форме проповеди произнести обвинительную речь, содержавшую сорок один пункт обвинения, в том числе такие: 1. «Король Филипп при жизни сказал, что Ангерран обманул его и все его королевство». 2. Пока государь находился в агонии, «он (Ангерран) украл из Лувра казну […], и шесть человек переносили ее всю ночь». 3. Подкупленный графом Неверским, он «провалил последнюю кампанию во Фландрии» (Ланглуа). 35. «Он изъял все лучшее из королевских лесов». 40. Он населил свои пруды в Нормандии рыбой, взятой из королевских прудов. 41. Он приказал казначеям и магистрам счетов не слушаться повелений короля, дав им свою собственную печать. Последнее обвинение, особо тяжкое, поскольку речь шла о злоупотреблении властью, прозвучало после претензии, которая кажется мелкой. Однако, хоть Мариньи и обвинили во всех грехах, Людовик X не колебался насчет того, как его наказать. Он бы удовлетворился конфискацией имущества и ссылкой на Кипр. Но тут вовремя пустили слух, что госпожа де Мариньи и ее сестра в свое время пытались навести на короля порчу и погубить его, а также Карла Валуа и других баронов. Ужаснувшись, Людовик X поступил, как Понтий Пилат, и возложил решение на своего дядю Карла: «Делайте, что хотите». Приговор не заставил себя ждать: 30 апреля 1315 г. Ангеррана де Мариньи повесили на виселице Монфокон — к великой радости народа и крупных сеньоров[291]. Баронская смута Другим элементом «наследия», который пришлось принять, было движение баронских лиг. Отнюдь не прекратившись после смерти Филиппа IV, оно продолжалось при двух первых его преемниках. Весной 1315 г. Людовик X вынужден был даровать привилегии бургундцам, шампанцам, нормандцам и пикардийцам, а потом, к середине мая, распространил эти милости на все королевство. Эти ордонансы, оригинальные по форме, включали требования знати и ответы, какие на них давал король. В них содержались безапелляционные обвинения только что закончившегося царствования: «И поскольку знать наших бальяжей Амьена и Вермандуа вновь поведала нам, сетуя, что после времен монсеньора Святого Людовика чиновники наших предшественников весьма притесняли ее и обращались недолжным образом и по-прежнему, говорит она, изо дня в день наши (чиновники) поступают противно старинным кутюмам или обычаям, каковые, говорит она, были в ходу в прежние времена […], смиренно прося и моля нас, дабы мы соблаговолили дать против этого надлежащее средство»[292]. Это было движение реакционное в буквальном смысле слова, лелеявшее утопическую идею, по видимости поддержанную новым королем, вернуться в некое подобие политического земного рая — в феодальную монархию в чистом виде, где не действует закон исторического становления: «Посему мы, вняв доброму увещеванию нашего большого совета, пожелали и приказали, дабы наши подданные были бы возвращены в место и состояние, в каковом обычно управлялись в прежние времена, сиречь при монсеньоре святом Людовике, до времен, когда взошел на трон наш дорогой государь и отец, да возлюбит Господь его душу, и если в чем-либо кутюмы и обычаи тех времен были нарушены, да будут в оном прекращены все нарушения и новшества»[293]. Самые распространенные положения этих провинциальных хартий, принятых весной 1315 г., рассмотрел Андре Артонн. Следовало вернуться к хорошей монете Людовика Святого и разрешить в приграничных областях хождение иностранных монет. Чрезмерных налогов надлежало избегать, если нет настоятельной необходимости. В случае войны король должен был довольствоваться призывом в свое войско вассалов, не заставляя всех подданных откупаться от военной службы. Знать Шампани соглашалась покидать графство только за жалованье. Что касается народа, то призывать его можно было лишь при крайней опасности. Штрафы не могли превышать определенной суммы: 60 турских ливров — для знатного человека, 60 су — для человека, зависимого от сеньора. Были сделаны попытки создания гарантий от произвола королевских чиновников — опасного отродья. Бальи полагалось быть компетентными, а если их сместят, то восстановление их в должности требовало особой милости короля. Поскольку, как считалось, сержантов и нотариев стало слишком много, от дальнейшего умножения их численности следовало воздержаться. Все королевские служащие, разумеется, должны были уважать местные кутюмы и вольности. Любого обвиняемого должны были судить местные судьи, а королевские магистраты — лишь в особо оговоренных случаях. Следовало уважать феодальные суды, допуская апелляцию к королю только в отсутствие соответствующего закона. Монарх обязывался ничего не приобретать без согласия знати, которая явно желала защитить себя от такой опасности, как договоры о совладении. Иногда феодалы заходили в своих притязаниях очень далеко — пикардийцы и бургундцы требовали даже права вернуться к судебному поединку и частным войнам. Было также решено, что знатных людей будут судить равные им, а не королевские чиновники. Наконец — последняя ссылка на Людовика Святого — потребовали проводить раз в три года генеральные инспекции, дабы сделать контроль со стороны ревизоров-реформаторов постоянным и не допускать, чтобы, как дурная трава, в прекрасном саду Франции разрастались злоупотребления. Людовик X бесславно уступил почти по всем пунктам, отказавшись лишь больше не отдавать на откуп должность прево. Он согласился сделать знать и баронов посредниками между королевской властью и населением; он признал их единственными хозяевами на территориях, на которые распространялась их юрисдикция (их districtus). Разве такой возврат ко временам независимых шателенств не был анахронизмом? Ободренное успехами, которые были достигнуты весной 1315 г., движение баронских лиг продолжилось и в начале царствования Филиппа V (1316–1322), не пользуясь поддержкой парижских горожан. «Слово о союзниках» упрекало знать в том, что она посягнула на священную корону, и требовало от короля покончить с этим мятежом. Последний все более терял популярность. Горожане, клирики и даже некоторые представители знати отходили от него. В Артуа «мятежники» были укрощены между 1316 и 1320 г.; в 1318 г. было заключено соглашение с бургундцами. Проводя ловкую политику, Филипп V смог заручиться в стране поддержкой, чтобы склонить чашу весов на свою сторону.Институциональные нововведения при Филиппе V и Карле IV
Особо желая опереться на промежуточные органы управления, Филипп V трижды за пять лет собирал Штаты королевства и много раз созывал частичные собрания[294]. В 1316 г., как мы видели, он добился от парижского собрания, чтобы оно признало его законным наследником Людовика X, и разослал комиссаров по городам. Он действительно искал опоры в низах, чтобы дать отпор феодалам, обвинявшим его в узурпации. В марте 1317 г. в Париже состоялось собрание земель Лангедойля с участием представителей сорока семи городов, а в Бурже заседало собрание земель Лангедока, куда отправили делегатов сто городов. Обсуждались «некоторые нужды, имевшие касательство к состоянию королевства, общему благу и хорошему состоянию добрых городов». В каждый из этих городов назначили капитана (capitaine). Король выказал похвальные намерения, подтвердил привилегии и пообещал провести расследования. В следующем месяце, в апреле 1317 г., собрались Генеральные штаты, куда города делегировали представителей, и те одобрили выделение субсидий, необходимых для борьбы с мятежниками в Артуа и Бургундии. В марте 1318 г. с добрыми городами советовались о своевременности введения сильной монеты. В ноябре того же года состоялась ассамблея бальяжных городов, а в январе 1319 г. за ней последовало собрание сенешальских городов. Повестку дня той и другого составляли фламандские дела и предоставление субсидий, необходимых, чтобы уладить эти дела. В 1320 и 1321 г. в Понтуазе и Пуатье собирались «настоящие» Генеральные штаты, чтобы сократить разнообразие монет и внести единство в систему мер и весов. Никакого ощутимого результата достичь не удалось, хотя представители городов в принципе были настроены в пользу монетного единообразия. Итак, в Филиппе Длинном не было ничего от самодержца. Он принял решение советоваться и любил повторять: «Мы желаем услышать от вас мнение и совет». Смысл этого перечисления собраний Штатов, разумеется, слегка затянутого, состоит в том, что оно показывает: в эти годы Франция стала похожа на Кастилию, жившую в ритме одной-двух сессий кортесов в год. Это была лишь недолгая вспышка — при Карле IV можно найти разве что следы бальяжных собраний. Тем не менее можно считать, что возникла тенденция: для нормального функционирования институтов становилось необходимым обращаться к трем сословиям королевства в региональных или национальных рамках. Решение о реорганизации королевского совета было принято осенью 1314 г. Уступив князьям, Людовик X был вынужден удалить из этой инстанции легистов, королевских рыцарей и королевских клириков и согласиться, чтобы совет был преобразован в соответствии с желаниями его дяди Карла Валуа, которого, возможно, вдохновлял пример английского Continual Council (Постоянного совета). Новый Совет состоял из двадцати четырех человек, к которым добавлялись канцлер Этьен де Морне — креатура Карла Валуа, коннетабль, маршалы, председатель (souverain) Счетной палаты и два епископа. Узкий, или Большой, совет после смерти Людовика X управлял королевством. В период регентства будущего Филиппа V, в июле 1316 г., двадцать четыре магната, заседавших в Совете, раскололись на две группы в зависимости от того, сочувствовали ли они регенту или были ему враждебны. Филипп пошел на уступки, предоставив Совету право помилования, контроль над расходами и право назначения на должности. Проявив немалую ловкость, он втихомолку обновил эту инстанцию, проведя в нее своих приверженцев. В июле 1318 г. было принято решение о важной реформе, состоявшей в учреждении Совета месяца (Conseil du mois): «Каждый месяц с нами будет (собираться) наш большой совет, там, где будем мы, и до этого дня все пожалования даров и прочие дела будут откладываться, кроме производства суда, каковое будет происходить каждый день. И через посредство нашего вышеупомянутого Совета мы будем повелевать то, что нам будет угодно»[295]. Записывать обсуждения и решения и вести делопроизводство должен был нотарий. Ежемесячная периодичность собраний Совета вроде бы соблюдалась до августа 1319 г., согласно Лоту и Фавтье, или до 1320 г., согласно Леюжеру[296]. Утверждается, что в ходе этих заседаний улаживалась приблизительно третья часть государственных дел, в том числе происходили обсуждения ордонансов, назначения чиновников и капитанов городов и, наконец, принимались срочные меры, касавшиеся, например, Фландрии и Артуа. Однако где-то через год выяснилось, что некоторые дела надо решать и в промежутках между ежемесячными заседаниями. Эти вопросы передавались в Большой и Тайный совет, куда король назначил клириков и рыцарей, то есть управленцев, выбранных за компетентность и приверженность монархической традиции. Состав Совета был изучен Полем Леюжером[297]. Раз в месяц монарх окружал себя великими советниками в количестве от пяти до одиннадцати и таким же числом простых советников, выбранных среди магистров счетов, королевских клириков, придворных рыцарей и камергеров. За все царствование, с 1316 по 1322 г., источники упоминают восемьдесят пять советников, в том числе двадцать восемь великих, то есть довольно широкий круг. Этих людей можно классифицировать по количеству месяцев, в течение которых они участвовали в руководстве делами. На вершине находится канцлер Пьер де Шапп, с которым советовались сорок шесть месяцев; далее — исповедник, к которому обращались девятнадцать месяцев, епископы Мандский и Сен-Мало — по одиннадцать месяцев, Миль де Нуайе — десять месяцев. Это один из первых примеров «статистического анализа» функционирования государственной верхушки, который удалось провести. Эти советники в то же время могли использоваться в качестве комиссаров короля, уполномоченных вести следствие, или в качестве реформаторов государства, уполномоченных покончить со злоупотреблениями в одной или нескольких провинциях. В деле они были особо заметны в 1317 г., когда по окончании движения лиг следовало восстановить порядок. На вершине административной пирамиды находились генеральные реформаторы государства, reformatores patrie generates, inquisitores generates regni, которые должны были руководить другими комиссарами и инспектировать все службы, отзывая провинившихся чиновников или перемещая их на другие должности. За ними можно последовать на тулузский Юг в 1319 г., чтобы увидеть, как они собирают субсидии на войну во Фландрии. Серия ордонансов, выходивших с 1316 по 1320 г., почти окончательно придала форму парламенту. В Следственной палате «судьи» (jugeurs) рассматривали дела с помощью докладчиков (rapporteurs). Выслушав коллег, председатель принимал решение. Результатом становились juges, то есть проекты судебных постановлений, подаваемые в Большую палату. Последняя выслушивала прения и превращала juges Следственной палаты в arrets (приговоры). В июле 1316 г. Большая палата насчитывала четырех председателей, тринадцать церковных и семнадцать светских советников. Большой вес в ней имели епископы и знатные бароны. Она «оставляла за собой уголовные расследования и дела, в которых были замешаны важные лица»[298]. Наконец, Палата прошений занималась делами, относящимися к обычному праву, оставляя дела, поступавшие с Юга, Палате слушаний писаного права. В 1336 г. Парижский парламент насчитывал немногим более ста членов, пятьдесят семь из которых соответственно работали в первой из упомянутых палат, сорок один — во второй и пять — в третьей. Все парламентарии с 1316–1320 гг. должны были подчиняться очень строгим правилам: приходить в суд утром на рассвете и оставаться там до двенадцати часов под страхом лишиться жалованья, рассматривать дела из бальяжей и сенешальств в правильном порядке, не допуская путаницы. Советникам парламента официально запрещалось пить или есть вместе с участниками процесса, «ибо слишком большая близость порождает великое зло»[299]. Деятельность Счетной палаты, еще одного высшего органа государственного управления, имевшей меньше персонала, регламентировал ордонанс, принятый в январе 1320 г. в Вивье-ан-Бри. Ее сфера деятельности была очень обширна: на Иванов день и на Рождество она проверяла отчеты местных сборщиков налогов, комиссаров-ревизоров и ведомства двора, а также контролировала дары, фонды и разные милости. Она разрешала споры, возникавшие в результате оплаты счетов, а также занималась экстраординарными финансами (десятинами, габелью), пока в 1390 г. не была создана Налоговая палата (Соur des aides). Функционирование Палаты регламентировалось ордонансом за октябрь 1320 г., который, помимо прочего, предписывал хорошо охранять двери, чтобы не допускать вторжения тех, кто будет мешать работе: «Поскольку некоторые прелаты, бароны и прочие члены нашего совета не раз приходят в означенную Палату, чтобы говорить с вами о посторонних вещах, то вам часто мешают, что может повредить вашей добросовестной работе»[300]. Тихо, идет счет! В начале царствования Филиппа Длинного персонал этой знаменитой Палаты состоял всего из восьми магистров счетов, три из которых считались председателями (souverains). Клирики и миряне (три рыцаря и один горожанин) имели равную численность. Потом численный состав немного вырос, поскольку дел становилось все больше. Магистрам и председателям стало помогать одиннадцать счетоводов (clercs des comptes), или мелких клерков, и десятка два нотариев. Ведущей фигурой в Camera compotorum несколько лет был овернский купец Жеро Гейт, «Жерар де ла Гетт», достаточно богатый, чтобы между 1316 и 1320 г. ссудить королю огромную сумму в 439 тыс. ливров! Получив в 1319 г. дворянство, позже он тоже попал под колесо Фортуны — в начале царствования Карла IV его арестовали и замучили до смерти. С функционированием ведомства королевского двора (Hotel du roi) теперь можно познакомиться ближе, благодаря тому, что были изданы три ордонанса (за июль и декабрь 1316 г. и за ноябрь 1317 г.) и сохранились счета Сокровищницы. Службы ведомства двора отвечали за содержание королевского жилища, за соблюдение престижного монархического декора, за питание и развлечение двора. Различные служащие, назначаемые королем, распределялись по различным «ремеслам» (metiers), или «службам» (ministeria), и причислялись к хлебохранилищу, службе виночерпия, фруктохранилищу, кухне, королевским покоям, конюшне. В целом ведомство двора Филиппа V включало в себя около пятисот человек, к которым надо добавить еще двести, служивших королеве и «детям Франции». Эти служащие принадлежали к слугам постольку, поскольку часть жалованья получали натурой, им полагались подарки к праздникам и они носили «ливреи». Их содержание обходилось так дорого, что в одном только 1329 г. на них было потрачено 300 тыс. ливров! Эти расходы возлагались на кассу ведомства двора, то есть Денежную палату (Chambre aux deniers), пополнявшуюся только за счет ресурсов домена. Таким образом, это было нечто вроде хозяйственного отдела. Создание Сокровищницы (Argenterie) в 1315 г. избавило Денежную палату от контроля над королевским имуществом и драгоценностями. Хранитель сокровищницы (argentier) — этой должности было уготовано большое будущее — должен был также отвечать за мебель и одежду и заниматься подготовкой праздников. Во времена, когда монархия бюрократизировалась, каждый день о ее «семейном и сельском происхождении напоминало» красочное зрелище двора, где вокруг монарха теснились домочадцы и где делались жесты, имевшие важное символическое значение. Король вкушал еду — и с ним его народ; король развлекался — и вместе с ним это дружно делало все королевство. Тут служили литургию королевского тела. К королевскому дому (la maison du roi) относились также службы, не считавшиеся домашними: совет, канцелярия и придворное ведомство прошений (les requites de I'Hotel). К последнему принадлежало пять докладчиков, чей круг обязанностей ограничивался рассмотрением споров из-за должностей, на которые назначал король, жалоб на чиновников и прошений, авторы которых оспаривали решения парламента. Эти же люди служили посредниками между толпой просителей, домогающихся пенсий, аноблирования или прощения, и государем, от которого зависели все милости. В общем, институциональный итог этого переходного периода, он же период неопределенностей[301], оказывается значительным. Добавим, что сократились полномочия бальи и прево: ордонанс 1320 г. лишил их права взимать налоги и расходовать государственные средства на местном уровне. За ними сохранились только судебные функции и обязанность передавать королевские указы. Воды и леса, дороги имонеты тоже перешли в ведение специальных служб. Процесс разветвления государственного аппарата вступил в решающую фазу[302]. Нельзя забывать и о беспорядках, вызванных крестовым походом «пастушков», вторым с таким названием, который Филипп V некстати спровоцировал в 1320 г., устроив публичное обсуждение планов похода в Святую землю. Немедленно, почти воспроизводя ход событий 1251 г., монах-вероотступник и священник-расстрига принялись проповедовать крестовый поход обездоленным массам Северной Франции, сильно пострадавшим от голода 1315 г. На призывы лжепророков откликнулись пастухи и свинопасы, а вскоре их примеру последовали босяки и люди, находившиеся вне закона. Ватаги «пастушков» сначала двинулись на Париж, где проникли в Шатле, а потом добрались до английского Юго-Запада, где укрывались евреи после изгнания из королевства в 1306 г. Повстанцы заявили, что иудеи — союзники мусульманских королей Туниса и Гранады, не слишком желающих появления новых крестоносцев, и подстрекают прокаженных отравлять колодцы и источники. Все эти наветы служили поводами для нападений на евреев, их массовых убийств и захвата их имущества, в чем поспешила принять участие и городская чернь. В Альби, Тулузе и Бордо произошли настоящие погромы. Не довольствуясь агрессией против почитателей Ветхого Завета, «пастушки» нападали и на священников, называя их ложными пастырями. Папа Иоанн XXII как твердый защитник института церкви отлучил повстанцев, и города стали закрывать перед ними ворота. На «пастушков» обрушились неумолимые репрессии, которыми руководили королевские чиновники. Отдельным выжившим удалось перейти Пиренеи, где они намеревались продолжить свою зловещую деятельность, уже против испанских евреев. Инфант Арагона окончательно пресек их бесчинства.Фландрия — мастерская революций XIV в.
Около 1300 г. фламандское сукноделие еще процветало, несмотря на итальянскую и английскую конкуренцию. Шерсть, импортируемая из-за Ла-Манша, была необходима, чтобы ткацкое ремесло могло существовать в ожидании испанской шерсти. Брюгге, космополитический перекресток торговых путей, где встречались фламандцы, итальянцы, ганзейцы, англичане и иберийцы, был одним из главных центров европейской торговли, «миром-экономикой» по меркам той эпохи. Обладавшее тремя крупными городами, где жило от 20 тыс. до 60 тыс. жителей, — Ипром, Брюгге и Гентом, имевшее сравнительно высокую степень урбанизации (25–30 % населения), графство Фландрия с начала XIII в. достигло намного более высокого уровня экономического развития, чем остальное королевство. Согласно недавнему исследованию Жерара Сивери, экономическая активность там уже подчинялась циклам капиталистического типа, в которых времена экспансии чередовались с периодами спада[303]. То есть уже существовали фазы А и фазы В по Симиану. В этой продвинутой экономической зоне, как во всех передовых средах, существовало множество источников социального напряжения — как между патрициатом и простым народом, так и между городом и деревней. Какие бы разногласия ни разделяли горожан, они были едины, защищая свои вольности и сохраняя свое влияние на сельскую местность с согласия графской власти. Роберт Бетюнский опирался на три главных города; Людовик Неверский в 1322 г. сделал им новые уступки, позволившие им безраздельно властвовать над настоящими округами, такими как «Вольный округ Брюгге» (фр. le Franc de Bruges, нид. Brugse Vrije). Городские власти диктовали законы селу в судебном, военном и экономическом отношениях и даже насильственным путем сдерживали развитие сельского сукноделия. Из Ипра карательные экспедиции ходили в Поперинге, из Гента — в Дендермонде. Когда гроза миновала, сельские жители старались восстанавливать свои мастерские. Даже небольшие города, как Дамме и Слейс, страдали от диктата метрополий, хотя некоторым их жителям удавалось получить права полноправных горожан. Наконец, крупные города ревниво блюли собственные интересы: так, Ипр и Гент возложили заботу о выплатах по Атисско-Монсскому договору на Брюгге. Через десять лет это бремя оказалось слишком тяжким. В 1320 г. напряжение усилилось на всех уровнях, создав взрывоопасную ситуацию. Брюггцы испугались, как бы Слейс не перехватил прибыли от морской торговли; чтобы исключить эту угрозу, они не нашли ничего лучшего, чем разорить этот город. А сельские общины побережья в Западной Фландрии, в районах Касселя и Бурбура, болезненно переносили посягательства знати на их права; Атисско-Монсский договор они восприняли как измену, а статьи мира, заключенного в 1320 г. с французским королем, — как невыносимое бремя. Разве не надо было выплатить Капетингу более миллиона ливров? Брюгге рискнул поощрять волнения в сельской местности, надеясь избежать выплаты постыдной контрибуции. Первые возмущения были вызваны в 1323 г. злоупотреблениями, которые в шателенствах творили судьи и сборщики налогов — пресловутые keuriers и pointeurs. Так началось страшное восстание в Приморской Фландрии, воспламенившее всю область и залившее ее кровью на пять лет, с 1323 по 1328 г. Восстание очень быстро обрело лидера — зажиточного крестьянина из Вольного Округа, Николаса Заннекина, окружением которого стали свободные держатели, приверженные эгалитарным идеям и мечтавшие создать аграрную демократию и раздать земли тем, кто их обрабатывает. Вождь, войска, программа — большего было не надо, чтобы возникло организованное движение, которое Пиренн без колебаний назвал «попыткой революции». Амнистия, объявленная после волнений 1323 г., не смогла восстановить спокойствие. Летом 1324 г. крестьяне отказались платить десятину и потребовали, чтобы монастырское зерно было роздано беднякам. Через несколько месяцев началась настоящая «война на уничтожение» между крестьянами и рыцарями, где первые в атмосфере возбуждения, которую поддерживали проповеди священников и монахов, вдохновляемых евангельским эгалитаризмом, штурмовали замки и изгоняли бальи. Граф, со своей стороны, потребовал подавить мятеж любыми средствами, «хоть сжигая их дома, хоть убивая и истребляя их, хоть топя их самих, их добро и земли в воде»[304], хоть иным способом! В «Песнь против черни» (Kerelslied, от kerel — крестьянин) вошел настоящий призыв к резне, текст жестоко высмеивал притязания мужланов, которых зато поддержали брюггские ткачи и сукновалы, а вслед за ними, с 1325 г., - Ипр. Повстанцы взяли в плен графа Людовика Неверского и заменили его Робертом Кассельским, тогда как знать и патриции Гента, Брюгге и Ипра выбрали своим вождем Иоанна Намюрского. Пропасть между обоими лагерями углублялась. В ноябре 1325 г. французский король Карл IV Красивый добился наложения интердикта на мятежников, которые тайком торговали с королем Англии, и провозгласил нечто вроде торгового бойкота Фландрии. Результатом этого стало относительное успокоение в 1326 г., когда Роберт Кассельский порвал с народной партией, а Людовик Неверский был освобожден. Но под пеплом тлел огонь. Для народных капитанов было неприемлемо возвращение графских бальи, а тем более возобновление их придирок. Восстание, которым на сей раз руководил Якоб Пейт из Берга, отличалось крайней жестокостью, вылившись даже в первые попытки проведения систематического террора. Нескольких священников повесили, со знатью и богачами быстро расправлялись, «умеренных» арестовывали. Граф Людовик Неверский, оказавшись в отчаянном положении, попросил помощи у французского короля. Поскольку Карл IV 1 февраля 1328 г. умер, французская интервенция против «безмозглых скотов» запаздывала. Брюггцы во главе с Виллемом де Декеном выразили готовность признать французским королем Эдуарда III. Наконец, Филипп VI Валуа перебил фламандских бунтовщиков на склонах горы Кассель 23 сентября 1328 г. Брюгге и Ипр открыли ворота в ожидании особо жестокой кары, соразмерной тяжести угрозы, которая нависла было над феодальным строем. Лидеры были обезглавлены, имущество конфисковано, привилегии отменены, городские стены снесены, и Фландрия попала под французское ярмо. Так закончилась одна из самых радикальных попыток установить демократическое правление, какую только знали Средние века. Тем не менее идеи равенства вместе с ненавистью к французскому королю продолжали тлеть в мастерских и подвалах, где трудились сукновалы и ткачи, ожидая новой искры. Похоже, Фландрия была матерью всех восстаний — деревенских и городских — страшного XIV века[305]. Когда умер Карл IV Красивый, к 1 февраля 1328 г., фламандская проблема отнюдь не была решена. Она служила дополнительным источником напряжения в отношениях между Францией и Англией, отягощенных множеством разногласий. И первым из этих яблок раздора явно была Гиень. С времени подписания Парижского договора 1259 г. английские короли хотели сделать свой большой аквитанский фьеф аллодом. Их бастиды стояли напротив бастид Капетингов, словно в непрерывной шахматной партии. В 1323 г. это напряжение на границе вылилось в захват и сожжение французской бастиды Сен-Сардо. В ответ Карл IV решил конфисковать Гиень и Понтье. Когда кризис миновал, французский король сохранил за собой Ажене и Базаде, оставив английскому противнику только узкую полоску земли вдоль океана, от Сентонжа до Байонны. Лишь в 1329 г. молодой английский король Эдуард III принес Филиппу VI оммаж за Гиень, а в 1331 г. признал этот оммаж «тесным» (см. карта 18).
К этой феодальной распре добавился опасный династический спор. Умерев, Карл IV оставил Жанну д’Эвре беременной. В случае, если бы у нее родилась дочь, на корону могли бы претендовать два кандидата — Эдуард III как внук Филиппа Красивого по матери Изабелле и Филипп Валуа, сын очень влиятельного Карла Валуа (умершего в 1325 г.) и племянник Филиппа Красивого. По мнению Раймона Казеля[306], Эдуард III был ближайшим родственником покойного короля, но проблема была не чисто династической. Собрание прелатов и баронов 5 февраля 1328 г. доверило регентство Филиппу Валуа, пока Жанна д’Эвре не родит. Бароны поддержали Филиппа, но университетские доктора без колебаний высказались за Эдуарда III. Если бы Жанна д’Эвре разрешилась дочерью, принц Валуа должен был вступить на трон, что и произошло 1 апреля 1328 г., а коронация состоялась 29 мая. Подлинные причины поражения Эдуарда III теперь хорошо известны[307]. В юридическом плане его мать, непристойное поведение которой уже шокировало французских баронов, не могла передать ему права, которые не могла осуществлять сама. С точки зрения зарождающегося национального самолюбия, «никогда не видели и не слышали, чтобы королевством Францией правил король Англии» («Большие Французские хроники»), тем более что магнаты имели все основания опасаться чрезмерно сильной власти повелителя двойной монархии. С точки зрения будущего было опасно признавать права Эдуарда III, потому что после этого право на царствование могли бы передавать детям все дочери из рода Капетингов, что создало бы совершенно запутанную ситуацию. Но пусть решение собрания 1328 г. и было проникнуто мудростью, тем не менее Эдуард III был убежден в своих правах и в мае 1328 г. дал об этом знать. Потому он и медлил с принесением оммажа за Гиень в 1329 г. К тому времени феодальная распря превратилась в династический конфликт, за которым крылся антагонизм двух монархий, выяснявших, какие территории «от природы» должны принадлежать им. Столкновение обостряла и экономическая конкуренция двух рождавшихся народов за обладание некоторыми ключевыми ресурсами: вином, солью и шерстью. Для разрешения этого спора понадобится столетие войн.
Глава VI Города и городское общество во Франции с конца Х в. по 1328 г. (Эрве Мартен)
Все специалисты по городской жизни в средневековой Франции дружно подчеркивают глубокий упадок городов с VI по X в. и их бесспорное возрождение с XI по XIII в. Если античное общество было очень урбанизированным, то сменившее его каролингское — намного меньше, и среди подданных Карла Великого и Гуго Капета не было, возможно, и 10 % горожан. Разногласия среди специалистов начинаются, когда речь заходит о причинах подъема городов в XI–XIII вв. Долгое время царившие безраздельно взгляды великого бельгийского историка Анри Пиренна стали с 1950-x гг. подвергаться резким нападкам. Рискуя представить в карикатурном виде, их часто сводили к двум главным утверждениям: а) с начала XI в. появились населенные пункты, основанные с нуля бродячими купцами; эти поселения, лепившиеся к стенам городов (civitates) и укрепленных бургов (castra), породили предместья (suburbia), которые быстро разрослись; б) отношения между купцами и феодалами и, шире, между городским и сельским мирами были откровенно враждебными. «Никогда прежде не существовало класса людей, столь специфически, столь строго городского, как средневековое бюргерство»[308]. Сначала Пиренна критиковали с идеологических позиций. Так, Франк Веркаутерен особо отметил, что миф о воскрешении городов и сопутствующем расцвете коммун в XI и XII в. был создан при Июльской монархии такими либеральными мыслителями, как Гизо и Тьерри, готовыми славить завоевания буржуазии в ущерб дворянству. Пиренн подвергся критике и с точки зрения здравого смысла, опирающегося на географические соображения, что ему предъявлял Пьер Лаведан, который полагал, что взгляды бельгийского историка были слишком упрощенными[309]. Если они позволяли осмыслить некоторые «истории городов», то не учитывали, что с III по X в. сохранялись епископские города, что развивались сельскохозяйственные поселения и что политическая власть могла сама закладывать новые города. К тому же, напоминал Лаведан, зарождение поселения обусловлено целым рядом факторов, уже давно изучаемых географами: к ним относятся поиск пищи, забота о защите, встречи и обмен, которые могли происходить на выходе с моста, на рынке или в паломническом святилище. Для большей четкости анализа, полагал он, следовало бы проводить различение между исходным элементом города («первокупеческим» ядром) и фактором его роста (политической ролью или, чаще, торговой и ремесленной функцией). Утверждалось также, что пиренновская модель не соответствует истории городов Южной Франции, сильный отпечаток на которую наложили римское наследие и присутствие аристократии, и что эта схема не всегда подходит даже для фламандских городов, в отношении которых подчеркивалось, что они были интегрированы в сельский округ, причем историки напоминали, что первыми купцами там были отнюдь не иноземцы, а зачастую служители аббатств. Дуалистическое представление о двух конфликтующих мирах, уже ставшее крайне сомнительным, было окончательно развенчано язвительными замечаниями Жака Эрса в его «Городе в Средние века»[310], который мы вспомним на последующих страницах.Рост городов
В феодальную эпоху подъем городов мог иметь три основных формы: расцвет монастырских или торговых бургов на периферии или внутри епископских городов; постепенный рост предместных городов (ville d’accession) за счет нового строительства вокруг первоначального ядра (монастыря, замка или рынка); наконец, намеренное создание новых городов по инициативе политических или религиозных властей. Сама по себе история старинных городов может делиться на три этапа: а) фаза спада (III — Х вв.), во время которой город «втягивался» внутрь городской стены, окружавшей территорию в несколько гектаров, при этом в меровингскую эпоху возникали зачатки монастырского или торгового пригорода; б) фаза экспансии (XI–XIII вв.), для которой характерен быстрый рост предместий; в) фаза перегруппировки, или объединения старого города с предместьями в пределах новой стены, чаще всего в XIII или в XIV в. В конце X в. «город (la Ville) — это старый город, «сите» (la cite)», как замечает Андре Шедевиль[311], указывая при этом, что предместья уже начинали расти. Нападения норманнов, венгров и сарацин не вызывали серьезных перебоев в жизни города, а скорей побуждали горожан ремонтировать старые стены. Последние окружали площадь переменного размера — от территории менее 10 га в Ренне и Оксере до 30 га (в Орлеане) и даже 60 га (в Реймсе). Короли, герцоги и графы часто строили в этих городах замки, которые, судя по ковру из Байе, могли символизировать город. Пригородные святилища тоже обносили укреплениями, образуя castra, или castella, в Аррасе, Реймсе, Лиможе, в Туре, где Шатонеф занял пять гектаров, и в других местах. «Сите» и пристройки к ним выполняли важнейшую религиозную функцию: там хранились реликвии, там были кладбища, куда принимали покойников, и туда даже стремились общины клюнийских монахов. Эти «спящие красавицы» желали только, чтобы их разбудили; и из оцепенения, если верить Андре Шедевилю, их вывел подъем торговли. Не принижая роли связей с дальними странами, откуда привозили рабов, восточные товары и прочие дорогие продукты, надо подчеркнуть, что преобладали торговые операции между городом и ближайшей сельской местностью. Эта коммерческая активность и втянувшиеся в нее ремесленники создавали поселения, которые во Фландрии и долине Мааса стали называться portus, а на Соне и Луаре — burgus. Бург, в единственном или множественном числе, был с 950 по 1150 г. первичной формой урбанизации. Происхождение и распространение этого термина очень показательны[312]. С конца IV в. слово burgus означало место, предназначенное для обмена; в текстах VIII и IX вв. большинство бургов связаны со святилищами, как, например, Сен-Бенинь в Дижоне и Сен-Мартен в Туре. До 950 г. слово burgus встречалось только на Соне и Луаре. С 950 по 1000 г. оно распространилось на Нормандию, Дофине и Лангедок, а в течение XI в. — по всей Франции, хоть и наткнулось на сопротивление со стороны слова suburbium в сердце Парижского бассейна. В этой сфере, как и в других, от слова к вещи перейти трудно. Многие бурги не достигли городской стадии — сельские бурги, свободные поселения (sauvetes), монастырские бурги, образованные близ отдельного аббатства (Конк, Мон-Сен-Мишель), замковые бурги, где осуществлялись все три дюмезилевских функции (защиты, молитвы и производства), нельзя забывать и о бургах неудавшихся (bourgs manques) по причинам, в которых нет ничего фрейдовского[313]. Особенно нас интересуют пригородные бурги (les bourgs suburbans) — церковные, как Сен-Реми в Реймсе или Сен-Пер в Шартре, иногда специализировавшиеся на виноделии; новые бурги, возникавшие близ дороги, пристани или рынка. Жак Эре справедливо подчеркивает, что не все бурги были торговыми и что у некоторых городов было по нескольку бургов (шесть в Нарбонне в XI в., семь в Шартре в следующем веке). Возможно, поселения из многих ячеек встречались не реже, чем классические «двойные» города. Обратим внимание на судьбы двух городов, для которых была характерна динамичная связь между старым городом и бургом. Аррас, столица атребатов, был разрушен захватчиками-варварами и восстановлен епископом Ведастом около 500 г. Над могилой последнего в VII в. возвели аббатство, которое привлекало паломников, купцов и ремесленников, что привело к появлению бурга. Классический пример двухъядерного города: civitas, обнесенная к 885 г. стеной для защиты от норманнов, и suburbium, активно росший в феодальную эпоху. Жители этого предместья оставались сервами аббатства Святого Ведаста (Сен-Вааст) и пользовались его покровительством. Служители аббатства постепенно занялись коммерцией. В XII в. были заложены основы богатства Арраса — появились торговля шерстью, сукноделие и обмен. Этот динамично развивавшийся город, включенный в королевский домен и получивший в 1180 г. коммунальную хартию, к концу XIII в. уже, возможно, насчитывал двадцать тысяч жителей, оставаясь двойным городом, где огороженный бург соседствовал с «сите», не сливаясь с ним (см. рис. 4).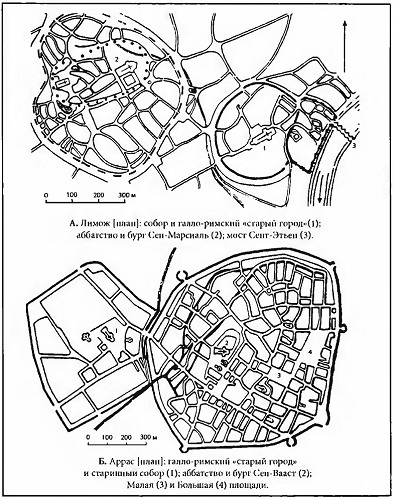
Рис. 4. Два города, известных соседством бурга, очень разросшегося, со «старым городом». (Lavedan Р., Hugueney J. L'Urbunisme an Moyen Age. Paris: Arls et metiers graphiques, 1974.)
Что касается Реймса, он с трудом сумел преодолеть раздвоенность. В IX в. в старом городе жила церковная и военная элита. В следующем веке на расстоянии более километра от civitas вырос бург Сен-Реми, обнесенный в 925 г. стеной. Так как религиозная функция преобладала здесь над остальными, в Реймсе происходило миропомазание королей и располагались прославленные школы. С XI по XIII в. импульс для роста города давали архиепископы. Поскольку не все шестьдесят гектаров города были поделены между кем-либо, на его севере образовался новый бург. Но бург Сен-Реми тоже рос — и в конце XI, и в начале XII в. К 1150 г. оба городских ядра слились по Новой улице, ставшей чем-то вроде спинного хребта города, в то время как у различных ворот зарождались новые бурги. В 1176 г. архиепископ Вильгельм Белорукий, близкий к капетингским монархам, превратился в подрядчика, взявшего на себя строительство своего города, и руководил его расширением. Он решил построить новые кварталы в западной части, на своих землях, чтобы придать городскому ансамблю большее единство. С 1183 г. начали дробить на наделы район Ла-Кутюр («Шов»), раньше служивший чем-то вроде ярмарочного поля, а потом район Жардо-Драпье. Контуры большого Реймса был проведены, но не укреплены ранее 1230 г. в горячке заключения подрядов на строительство, которому церковники почти не противились. Сообщается, что в 1270 г. было застроено 160 из 200 га всей площади. В 1328 г. город насчитывал около 3 700 домов, небольших размеров и невысокой стоимости, где, вероятно, обитало 20 тыс. жителей; разделенный на владения архиепископа, аббатств Сен-Реми и Сен-Никез, он совсем не отличался единством — ни в юридическом, ни в архитектурном отношениях. Даже городская стена не была достроена к 1300 г., готовы были только рвы и ворота. Но процветание шампанскому городу было вполне обеспечено — и как региональному рынку сельскохозяйственных продуктов, и как центру производства черепицы и сукна[314]. Обычно рост предместий и внутригородской застройки обеспечивало строительство общей городской стены. Нужно было восстанавливать единство «старого города», в который могли войти дополнения, занимавшие в три-четыре раза большую площадь, чем первоначальное ядро. Впрочем, случалось, что слияния не происходило. Так было в Аррасе, так случилось и в Вердене, где старый город и купеческое поселение, обнесенное стеной, находились друг против друга по обоим берегам Мааса, а также в Лиможе, где бург Сен-Марсиаль затмевал civitas. В других местах, как, например, Руан, Дижон, Пуатье или Шартр, объединение назрело в XII в. В Париже стена Филиппа Августа, возводившаяся с 1190 по 1210 г., включила в себя площадь 273 га и, по оценкам, за ней жило пятьдесят тысяч человек. Расширения XIII и XIV в. позже оказались внутри стены Карла V. Предместные города (villes daccession) — распространенное, хоть и несколько устаревшее название населенных пунктов, «стихийно» формировавшихся вокруг «негородского» элемента (монастыря, замка, рынка), — были, похоже, особо характерны для феодального периода и лучше всех иллюстрируют представление об органическом росте города, происходившем преимущественно в радиально-концентрическом плане и в ограниченных масштабах (от нескольких сотен до нескольких тысяч жителей). Урбанизацию стимулировали обе доминирующих силы феодального общества церковь и сеньориальная власть, — либо совместно, либо порознь, либо соперничая. Поскольку города и поселки «монастырского происхождения» возникали рядом с отдельными аббатствами, монахи вмешивались в их дела, учреждая ярмарки и рынки, даруя юридические привилегии, а иногда даже распределяя земельные участки. Такая модель воспроизведена в сотнях экземпляров — это бург Сен-Дени при самом знаменитом аббатстве королевства, в жизнь которого ежегодно вносила оживление ярмарка в Ланди; это бург Клюни, обнесенный стеной в 1180 г., центр обширного иммунитетного округа, сильной сельской сеньории и огромной монастырской империи; это бург Сен-Дье. По планам бургов видны формы связи между поселением и монастырем: расположение рядом — в Муассаке, Клюни или Сен-Дье, притяжение (attraction) — в Шарлье, где к аббатству сходилось несколько улиц, или окружение концентрическими кольцами, которые напоминали паутину в Бриве и имели почти правильную форму в Берге, вокруг аббатства Сен-Винок (см. рис. 5).

Города и поселки «феодального происхождения», как, например, Шатоден, Шатору, Кастельжалу, Кастельсарразен или Ла-Ферте-Бернар, формировались вокруг замка, служившего убежищем для населения, административным центром и центром организации рынка, который, в свою очередь, стимулировали потребности сеньориального двора. Города, родившиеся таким образом, настолько многочисленны (к этой категории, в частности, относятся Амбуаз, Шинон, Сомюр и Ньор), что вся статистика в целом может дать лишь оценочное суждение об их количестве. Рене Крозе отметил сорок городов такого типа между Луарой и Гаронной, а Бурд де ла Ружери насчитал их в Бретани почти шестьдесят. В зависимости от удобства или ограничений местности могло возникнуть несколько типов населенных пунктов. Замок мог возвышаться над городом, расположенным внизу, как в Шато-Тьерри, или спускающимся уступами по склону, воспроизводя перепады высоты, как в Гурдоне и Монлюсоне. Но крепость и поселение могли располагаться и на одном уровне, что было наглядным признаком общности их судеб. Примеры этого встречаются и на равнине, как Шательро на берегу Вьенны, и на возвышенностях, как Шатоден, возведенный на отроге 700х300 м, который доминирует над двумя долинами. Развитие Кана шло более сложным путем. Внутри замка, стоявшего на холме, мог находиться «настоящий город», но у подножия возникло четыре бурга, образовавшие нижний город. Такая модель роста города, похоже, преобладала во Фландрии, где импульс явно давал граф и где именно с замков начались почти все выдающиеся города, в том числе Гент, Ипр и Кассель, все три — с коллегиальной церковью и рынком. Города же, которые создавались намеренно, были одним из самых наглядных признаков динамичности феодальной экспансии. «Совте» (sanvetes) XII и XIII вв. мы оставим сельской истории, потому что они, как правило, не пошли дальше стадии деревни. Обратим внимание на блистательную цепь бастид Юго-Запада, первым звеном которой стал заложенный в 1144 г. Монтобан. Этот сюжет заслуживает отдельного историографического обзора, и в нем видное место могли бы занять Пьер Лаведан, который враждебно относился к идее бастиды, возникшей в мозгах профессиональных геометров, и Шарль Игуне, который настаивал, что эти новые центры колонизации органично вписались в сеть сельских поселений. Недавно четыре бельгийских исследователя произвели оригинальный и взвешенный анализ этого спорного вопроса[315].
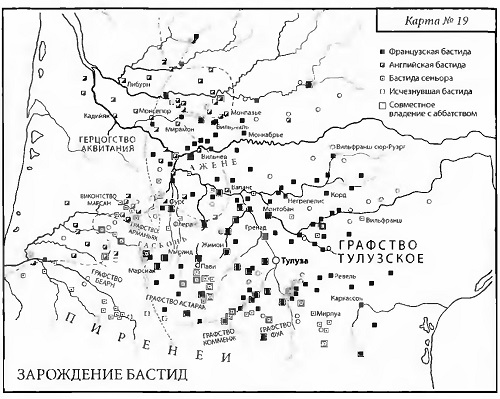
На юго-западе Франции (см. карта 19) отмечено более двухсот случаев закладки бастид, «армировавших» площадь в 50 тыс. км2. Эти новые центры колонизации удалось идентифицировать на основе архивных текстов по правильным планам (около ста пятидесяти случаев) или по топонимике — тридцать раз встречается слово La Bastide. Их создание было обусловлено несколькими факторами, в отношении которых разные историки почти не расходятся во мнениях. Они подчеркивают, что тут сказалось соперничество французских Севера и Юга — Монтобан (1144 г.) и Корд (1222 г.), например, были заложены, чтобы попытаться дать отпор нападениям северных соседей. Немало населенных пунктов возникло в результате альбигойского крестового похода, и своим появлением они были обязаны Людовику IX (Эг-Морт и Каркассон), его брату Альфонсу де Пуатье, предполагаемому родителю сорока пяти бастид, и их преемникам Филиппу Смелому и Филиппу Красивому, желавшим закрепить территориальное господство в Аквитании. Надо также принять в расчет франко-английский антагонизм, проявлявшийся на земле Перигора, Ажене и в долине Адура. И не следует забывать ни об амбициях аквитанских сеньоров, в частности графов Фуа и Беарна, ни об интересах аббатств и монашеских орденов. Похоже, в данном конкретном случае мало смысла задаваться вопросом, было ли стратегическим императивом стремление к прибыли — поскольку чем больше держателей, тем больше податей можно собрать, — или элементарная забота об удержании земель. Легче составить список «самых активных» основателей бастид, где будут соседствовать имена Раймунда VII Тулузского (1222–1249), упомянутого Альфонса де Пуатье — графа Тулузского с 1249 по 1271 г., Эсташа де Бомарше, королевского сенешаля с 1270 по 1294 г., давшего свое имя одному из основанных им двадцати населенных пунктов, и, наконец, Эдуарда I Английского, «далекого отца» двадцати пяти поселений, включая Монпазье (1285 г.). Каждая бастида действительно была звеном «линии», создание которой отражало первоочередную заботу об обороне, заселении и обмене, форму которой определяли стратегии, какие разные власти той эпохи использовали для внедрения. В Ажене и Перигоре французы, видимо, пытались выдвинуться поближе к Бордо, что провоцировало англичан на оборонительные меры. В Гаскони бастиды «отмечали рубежи продвижения королевской власти», сталкивавшейся на сей раз с сопротивлением крупных феодалов. Вполне логично, что любая власть старается заселить подвластную территорию и разбить ее на административные единицы, чтобы удерживать без содержания дорогостоящих гарнизонов: ведь жители новых центров колонизации должны сами обеспечивать себе защиту. От Перигора до земли Фуа шла исполинская шахматная партия, этапы которой для нас воссоздает современная картография.

Рис. 6. Монтобан. План (реконструкция Деваля). Первая и самая известная из бастид Юго-Запада, возводившаяся с 1144 г. и имевшая в плане трапецеидальную форму. (Lavedan R., Hugueney J. L'Urbanisme an Mayen Age. Paris: Arls et metiers graphiques, 1974.)
Как обстояло дело с усвоением ортогонального плана, знаменитой прямоугольной сети улиц в римском духе? Пьер Лаведан очень кстати отметил, что, судя по документам XIII в., здесь царил эмпиризм. Планы чертили наспех, и занимались этим бальи, судьи или нотарии. Впрочем, планы бывали всякими — неправильными, круговыми, разбитыми на прямоугольники вдоль одной или двух осей (см. рис. 6). Поселенцы получали наделы разного размера. Коллегиальные органы, в частности для улиц и площадей, упоминались редко. Главные магистрали часто не были прямолинейными, а их ширина ощутимо колебалась. И тем не менее половина бастид имела ортогональный план — признак «быстрого и упорядоченного овладения территорией», проявление «общинного и эгалитарного аспекта колонии», которую строили по простым правилам и с применением недорогих материалов. Площадь чаще всего была не чем иным, как «пустой клеткой сетки», пространством, оставленным для рынка. В то же время на площадь ориентировались, когда «разбивали план на равные части» и распределяли идентичные наделы, сообразуясь с местностью и безо всякого единообразия. Это соблазнительное сочетание регулярности и импровизации не допускает, конечно, мысли о модели идеального города, какую античность передала Средним векам, но позволяет ощутить очень своеобразную атмосферу Монфланкена, Вильреаля, Монпазье и других мест. Площади, окруженные «убежищами», над которыми поднимаются невысокие дома, закрытые пространства, в которые можно пройти только из углов по узким «водосточным желобам», в точности соответствуют определенному представлению о средневековом городе, так что даже рискуешь забыть о вкладе последующих поколений. А ведь разве Монтобан, по фасадам которого видно, что они были исключительно регулярными, не «выгадал» в XVII в. от реконструкции, которая стала необходимой из-за пожара?
Французские города в конце XIII в.
Рассмотрев процессы роста городов, попытаемся разглядеть с помощью Жака Ле Гоффа[316] облик городской Франции конца XIII в. — периода, который часто рассматривают как некий апогей, несмотря на усиление социального напряжения. После тысячного года население городов более чем утроилось, тогда как население королевства всего лишь более чем удвоилось — с 6 млн до 13,5 млн жителей, что равноценно 16–17 млн в границах современной Франции. Этот большой прирост доли городского населения стал тихой революцией для социальной структуры. Париж, символ этой экспансии, населяло не менее 80 тыс. жителей, а возможно, и все 200 тыс., что ставило его в один ряд с итальянскими мегаполисами (Венецией, Флоренцией). За ним по мере убывания населения шли Руан и Монпелье (40 тыс. жителей), Тулуза (35 тыс.), Тур (30 тыс.), Орлеан, Страсбург и Нарбонн (по 25 тыс.), Бордо, Лилль и Мец (по 20 тыс.), Аррас, Лион и Реймс (от 20 тыс. до 10 тыс.). Во Фландрии, самой урбанизированной области, население Гента, Брюгге и Ипра достигало соответственно 60 тыс., 30 тыс. и 20 тыс. жителей. Некоторые города пережили настоящий бум, судя по росту населения (в Монпелье — с 10 тыс. до 40 тыс. за век), или расширению огороженной площади (159 га в Меце против 70 га в прежней civitas), или по количеству участков под строительство (которое в Эксе удвоилось перед 1200 г. и еще раз — с 1200 по 1348 г.). Насчет самого адекватного термина, каким можно назвать подобные феномены, уверенности нет: ускоренный рост? быстрая экспансия? или «городской взрыв», некоторые признаки которого, похоже, можно было заметить в Эльзасе — в Агно или в Рибовиле? Этот подъем был бы невозможен без притока сельского населения из окрестностей. Изучение патронимов показывает, что решающий вклад в развитие городов сделала глубинка. Монбризон-ан-Форе набирал себе население в радиусе от 10 до 30 км; притяжение Арраса, Меца и Реймса действовало на расстоянии до 40 км. В самых крайних случаях порт, как Ла-Рошель, мог привлекать к себе и удерживать фламандцев, англичан и итальянцев (см. карта 20).
Населенные в немалой мере выходцами из деревни, города не испытывали более насущной потребности, чем отгородиться стеной от сельской местности. Стены строились и по вполне очевидным военным соображениям, и чтобы держать под контролем деревню, а также, может быть, с целью взимать пошлины у ворот. Психологические последствия такого «замыкания», далеко не всеобщего до 1350–1360 гг., несомненно, были значительными. «В кредит» городской стене можно было зачислить чувство принадлежности к сообществу, ощущение безопасности, отравляемое страхом измены, боязнь нехватки съестных припасов в случае осады и, может быть, некоторую дозу агрессивности по отношению к ближайшим соседям. Эту дорогостоящую стену поддерживали в порядке и защищали при взаимопомощи цехов и содействии селян. Укрепления, усиленные ворота с пороховыми башнями и машикулями и каменные мосты стали непременными атрибутами любого упрощенного изображения города. Много толковали о хаотическом характере застройки французских городов в Средние века, об их извилистых улицах, тупиках и опасных местах. Несомненно, более точным будет говорить о полицентричности этих населенных пунктов, где несколько светских или религиозных «точек» служили центрами притяжения и структурировали ближайшую уличную сеть. Эту роль могли играть церкви, монастыри, замок сеньора, площади, рынки, а позже — и ратуша. Появлялись и кварталы с ярко выраженным характером, каждый из которых был организован по-своему, имел свои запахи и типичные звуки. Больше, чем какая-либо другая сила, свой отпечаток на город накладывала церковь. Кстати, одним из самых надежных показателей роста города было увеличение численности приходов, очень заметное, например, в Париже XII в. Духовенство дробило на них любой крупный город, как Руан, разбитый на тридцать пять приходов. К белому духовенству в XIII в. добавились нищенствующие монахи, прежде всего францисканцы и доминиканцы. Желая проповедовать Евангелие, бороться с грехом и поражать ересь, они селились в городе ради большей эффективности проповеди, и чтобы им было проще пользоваться милосердием общества. Предпочтение ими городов было настолько выраженным, что одно их присутствие стало верным признаком урбанизации. Одно исследование, посвященное укоренению доминиканцев в Провансе, показывает, что сначала они внедрялись в «нервные узлы» региона, самые населенные и богатые города, потом наступала очередь населенных пунктов среднего размера и, наконец, самых незначительных поселений. В общем, расселение учеников святого Доминика к востоку от Роны отражало в упрощенном виде иерархию тамошних городов. Для других регионов «критерий нищенствующих орденов» способствовал восполнению пробелов в документации, выпускавшейся светскими властями, — при всех оговорках, каких требует использование таких дополнительных источников. Французский город XIII в., отнюдь не уподобляясь Вавилону, цитадели греха, часто был оплотом правоверия.
Экономические и социальные аспекты
Горожане феодальных времен имели ярко выраженную склонность к земледелию и садоводству. У некоторых были пахотные земли, пастбища, виноградники и чаще всего сады. Они жили в ритме аграрного календаря, производя сезонные работы, скульптурные изображения которых представлены на порталах соборов. Если присмотреться внимательней, можно заметить, что развитие городов связано со стадиями освоения окружающей территории. В истории Шартра влияние распашки нови в 1100–1150 гг. на подъем города очень ощутимо. Потребление городского населения во многом определяло его экономическую активность и доход. Согласно бельгийскому историку Ван Хаутте, Брюгге стал крупным рынком потому, что ему надо было прокормить многочисленное население, и это было более важным фактором, чем его торговля с дальними странами. Во фламандских городах заниматься снабжением было не менее важно, чем контролировать экспорт сукна. В Генте в 1350 г. приблизительно одна семья из четырех посвящала себя производству продуктов питания. Добрая часть заработков тратилась на пропитание, прежде всего на покупку мяса и вина. Каждому городу требовалась сеть обмена, дорог и мостов. Он был местом проведения ярмарок и рынков, привлекавших население более или менее дальних мест и отмеченных в большом количестве еще до 1150 г. Годовой цикл из шести шампанских ярмарок, распределенных между Труа, Провеном, Ланьи и Бар-сюр-Об, не имел себе равных на Западе до 1250–1275 гг., когда их финансовая функция стала брать верх над чисто торговой ролью. Не задерживаясь на стереотипных описаниях торговых улиц, где снует народ, важно задаться вопросом, как городская экономика вписывалась в феодальную систему. Была ли она инородным телом, как думал Пиренн, или надо полагать, что феодальный способ производства и город нуждались друг в друге постольку, поскольку крестьяне и сеньоры не могли не посещать рынков, где приобретали продукты питания и ремесленные изделия, нужные для повседневной жизни, и монеты, необходимые для выплаты повинностей. Жак Ле Гофф считает, что город не был ни сообществом, антифеодальным по сути, ни коллективной сеньорией, а представлял собой основной элемент феодально-буржуазной системы. Не выстраивая теоретическую модель, можно отметить многочисленные признаки симбиоза городов и феодалов: сеньоры по-прежнему осуществляли свои права, включая юридические, и в городах тоже; горожанами становились прежде всего по милости графа, епископа или аббата и только потом благодаря ремеслу или коммерческой деятельности; и наоборот, зажиточные горожане проникали в сеньориальные структуры власти, покупали держания и фьефы, тогда как город утверждал свое господство над окружающей сельской местностью. Городская мастерская, которую славили богословы XII и XIII вв., была более живописной и многообразной, чем можно представить по списку официально признанных цехов. Взгляды Эмиля Корнарта на зарождение «корпораций» могли уточняться, но никогда не оспаривались по существу[317]. Суть состояла именно в свободном объединении ремесленников, начавшемся в XII в., даже если где-то надо отвести должное место вмешательству сеньоров, где-то — инициативе церкви. Первыми организовались цеха суконщиков и кожевенников, но сапожники, кабатчики и мясники тоже проявили расторопность, особенно в Лане и Ле-Мане. Эпоха цехов, живущих по уставам и контролируемых сеньором или государем, наступила в XIII в. Эта организация ремесленников преследовала несколько целей: связать профессиональную солидарность с внутренним надзором внутри цеха; пресекать мошенничество, не допускать конкуренции и обеспечивать разделение труда; заботиться о качестве изделий, выпускаемых в городе, а значит, о его добром имени; позволять трудящимся несколько улучшать свое положение и поощрять их «работать хорошо и как следует», будь они мастерами, подмастерьями или учениками. В XIII в. почти весь труд был уже организованным, хотя оставались и независимые ремесленники. Мы довольно хорошо знаем ситуацию в столице благодаря парижской «Книге ремесел», в которой в 1268 г. по заказу прево Этьена Буало были записаны уставы ста одного из ста пятидесяти парижских цехов, обязанных обеспечивать охрану укрепленной городской стены. В классическом исследовании Бронислав Геремек описал тяжелое положение парижских учеников и подмастерьев, работавших в изнурительном режиме, получавших маленькое жалованье и вынужденных мириться с большим количеством неоплачиваемых выходных дней[318].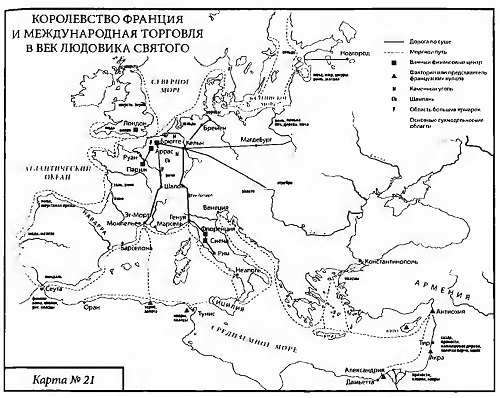
Купцы с XIX в. привлекали к себе все внимание историков (см. карта 21). По 1150 г. тексты упоминают разносчиков (cursores), лавочников (mercatores) и publici negotiators, которых можно рискнуть назвать негоциантами. Все началось с обмена между жителями ближних и не самых отдаленных местностей, пока дело не дошло до торговых операций в дальних краях. О первых фламандских торговцах сукном и шерстью упоминается в XI в. Через несколько десятков лет они уже бывали в Шампани, где с 1175 г. встречались с итальянцами. Сфера их деятельности неуклонно расширялась. Запределами Фландрии процветающие купцы попадались в Руане, Меце и Париже (где с 1121 г. объединились в «ганзу речных купцов»). В XIII в., напомним, товарами были прежде всего основные продукты потребления — зерно, кожа, вина и сукно. Сначала надо удовлетворить потребности населения, а уж потом экспортировать — таким было правило. Торговлю вином в XII в. вела Ла-Рошель, в следующем веке — Оксер, Бон и Бордо. Оптовая торговля сукном не была монополией фламандцев — Руан продавал его в Испанию в XII в. и в Италию в XIII в. Уделять особое внимание знаменитым восточным товарам, пряностям, источнику столь же головокружительных, сколь и быстрых доходов, было бы ошибочно. Ведь торговая активность была очень обширной и очень разветвленной, в том числе и за пределами классических центров. Марсельская торговля, какой она предстает из договоров, составленных нотарием Амальриком в середине XIII в., распространялась на Левант, Северную Африку и Южную Италию. В городках Форе уже можно было отличить скромных ремесленников-лавочников от купцов, при случае бывавших ростовщиками, а последних — от банкиров и заодно негоциантов. Ярмарки не были исключительной привилегией ни Шампани, ни Фландрии. В Шалоне-на-Соне с 1180 г. благодаря покровительству герцогов Бургундских процветали крупные суконные ярмарки, где производители с Севера и Северо-Запада встречались с покупателями с Востоко-Юго-Востока. Календарь ярмарок и рынков в Лиможе удалось воспроизвести. В самых скромных селениях «афиши», указывающие размер рыночных пошлин, позволяют создать наглядное представление об обмене сельскохозяйственных продуктов на ремесленные изделия — источнике всей торговли (см. карта 22).

Любой, кто задается вопросом о происхождении французской буржуазии, не может довольствоваться ни взглядами Гизо, ни взглядами Пиренна, ни вяло ссылаться на «роль купцов». Все внимание следует уделить роли, какую играли агенты сеньориальной власти. Андре Шедевиль вполне обоснованно напоминает, что всегда были нужны посредники, которые бы занимали удачное место между властями и зарождавшимся городским миром, в частности сборщики повинностей и дорожных пошлин. Из этой посреднической среды вышло немало бюргерских родов, как в Шартре и Маконе, так и в Меце. Обладание должностью с постоянным доходом в качестве исходной позиции могло упростить переход к коммерческой деятельности. Первые бюргерские состояния удалось накопить не столько за счет торговли, сколько за счет феодальных податей, земельной спекуляции и ростовщических займов. Многие купцы были далеко не селф-мейд-менами, а сыновьями людей, разбогатевших другими способами. И тем не менее они выглядели новыми людьми — по менталитету и образу действий. После 1150 г. выделился и утвердился высший слой бюргерства — городской патрициат, особенно во Фландрии и Лотарингии. Считается, что такие патриции происходили, с одной стороны, из второразрядной знати и сеньориальных служащих, с другой — из купцов. Эти potentes (сильные) и meliores urbis (лучшие в городе) сумели добиться, чтобы первоначальный капитал приносил плоды, для чего воспользовались новыми возможностями обогащения. Сколотив состояния, они проложили себе путь в «старый город». В Аррасе собрание домениальных эшевенов Сен-Вааста с 1150-x гг. превратилось в муниципалитет, быстро захваченный кучкой олигархов. В Меце епископские чиновники стали муниципальными магистратами, их число увеличивалось за счет крупных негоциантов. В галерее фламандских патрициев XIII в. выделяется зловещий Жан Буанброк, купец из Дуэ, который с 1243 по 1280 г. восемь раз был эшевеном. Торговец шерстью и сукном, он был также работодателем (для прядильщиков, ткачей и красильщиков) и владельцем земель и доходных домов. Он пользовался всеми возможностями, чтобы обкрадывать своих работников: поставлял некачественную шерсть для прядения, урезал зарплаты, повышал цены на продукты и сумму квартирной платы. Этот хищник высокого полета задолго до Маркса открыл механизм получения прибавочной стоимости. Антагонизм между «крупными» и «мелкими», между патрициатом и «простонародьем» (народом, ремесленниками) во фламандских городах намного усилился после 1275 г. из-за экономического кризиса, возникшего в результате появления конкурирующих текстильных центров в Брабанте, Шампани и Нормандии. Волнения, заговоры и мятежи случались то здесь, то там — в Дуэ, Ипре, Турне, Аррасе, Брюгге и Генте с 1280 по 1302 г. Причины этих столкновений, за которые некоторые патриции заплатили жизнью, понятны. Замораживание зарплат влекло за собой забастовки, или taquehans, как верно отметил Филипп де Бомануар. Чрезмерная продолжительность рабочего дня, отмеряемого неумолимым колоколом на башне (la ban cheque), вызывала нарекания. Лихоимство патрициев, поставленных во главе коммуны и всегда готовых уклониться от налоговых тягот, возмущало народ: «Все затраты ложатся на сообщество бедняков». Недовольство достигло критической массы. Чтобы вспыхнуло восстание, не хватало лишь появления на сцене пламенных и красноречивых плебейских трибунов, каким с 1282 по 1289 г. был Жан Кабо из Арраса, заклятый враг эшевенов. Но хотя патрицианскую систему и расшатывали таранные удары народных волнений, она кое-как устояла до 1340-x гг.
Рождение муниципалитетов[319]
Путь к городским вольностям и коммунальной автономии был долгим. В начале XI в. городами управляли феодальные власти, где светские, где церковные. Довольно часто это были епископы, особенно в имперских городах, таких как Верден или Камбре. Из-за феодальной раздробленности миряне и духовенство вели ожесточенную борьбу за сеньориальную власть внутри городов. В результате в городском пространстве возникали настоящие юридические «перегородки» между отдельными территориями, особенно в южных городах. Феодальные обычаи регламентировали, в разных местах по-разному, отношения между сеньором и жителями (cives, urbani), подсудными сеньориальным судам, где заседали scabini — предшественники эшевенов. Такие обычаи, зависевшие от местного соотношения сил, приходили на смену старинным каролингским публичным законам. Именно в новых поселениях, в бургах, возникали с XI в., на стадии экономического и демографического роста, новые юридические отношения между сеньорами и жителями. Бургам предоставляли кутюмы, вольности или привилегии, которые должны были усилить их привлекательность: очень облегченный чинш, личную свободу жителей, некоторые уступки в военном и судебном планах. В общем, это было ослабление, но не отмена сеньориального режима, потому что еще сохранялись некоторые баналитетные поборы (за пользование печью, мельницей, банвен[320]). Уступки, какие делал сеньор, конечно, были разными в зависимости от конкретного места. Андре Шедевиль считает, что бург представлял собой только «адаптацию сеньориальной системы: чем более неопределенным было ее будущее, тем шире привилегии». Последние, на его взгляд, были не более чем «пособиями в связи с переселением», для того чтобы облегчить подъем населенного пункта, от которого местный властитель мог ожидать роста доходов. Первые коммуны появились в 1070–1150 гг. в двух десятках городов между Луарой и Рейном. Известен пример Лана: признанная в 1106 г. епископом коммуна была здесь упразднена в 1112 г. и восстановлена королем в 1128 г. Насилия, какое имело место в этой ситуации, часто удавалось избежать в других местах, где коммуны формировались мирно, благодаря солидарности соседей и собратьев по ремеслу или в рамках ассоциаций «Божьего мира», как в Бурже (с 1108 г.), Ле-Мане и Валансьене. Такую солидарность укрепляло принесение клятвы, или conjuratio, которому либеральные историки придавали особое значение. Коммунальные привилегии, даруемые в XII в., в основном включали обладание печатью — признаком правосубъектности, определенную юридическую компетентность, признаваемую за присяжными, и некоторые средства, позволявшие обороняться и обеспечивать внутренний порядок. Первые консульства появились позже — на Юге Франции, в Авиньоне до 1130 г., в Нарбонне в 1132 г., часто по инициативе знати (milites), которой в тамошних городах было немало. В ходе процесса, довольно похожего на возникновение итальянских коммун, совет boni homines («прюдомов»), помогавший графу или епископу творить суд, создавал коллегию консулов, принимавшую коллегиальные решения. С 1150 г. началась эпоха муниципалитетов — городских органов с отчетливо выраженным своеобразием, назывались ли они «коммунами» или «вольными городами». Их эмансипация не была абсолютной, потому что суверенитет они по-прежнему делили с сеньором, которому надо было присягать и которому полагались право высшего суда и сбора некоторых податей. Горожанам приходилось «вырывать» вольности и привилегии, которые тексты называют великодушно пожалованными: личную свободу, право создавать сообщество (universitas), заключать клятвенные союзы, вершить низший суд и взимать штрафы, наконец, возможность установить «городскую демократию», которой бы руководили «мэр и самая здоровая часть» жителей, то есть самые видные и богатые из горожан. Universitas принадлежали сундук, где хранились архивы, печать и, реже, ратуша. Как в коммуне, так и в вольном городе сообщество пользовалось определенным набором гарантий от произвола, к которым относились освобождение от сборов и барщины, право контроля над рынками и ярмарками и существование совета. В состав последнего в Северной Франции входили мэр и эшевены, в Южной — советники и консулы. При необходимости городское правление обращалось ко всем горожанам, созывая общие собрания в соответствии с принципом: «То, что касается всех, должно быть одобрено всеми». Финансам уделялось особое внимание. Ведь все городское сообщество должно было нести расходы, от которых зависело все остальное. Надо было строить стены, мосты, крытые рынки и мельницы; надо было следить за подводом и отводом воды, платить некоторым муниципальным чиновникам, обеспечивать затраты на прием важных гостей и оплачивать отправку делегатов. Чтобы покрыть все эти расходы, пошлин и штрафов было недостаточно. Поэтому приходилось облагать прямой тальей состояния, а косвенными налогами (aides) — экономическую деятельность, в частности продажу напитков. Эти поступления, как и затраты, записывались в толстые книги городских счетов, сохранившиеся в Ипре с 1267 г., а в Брюгге с 1281 г., - неисчерпаемые источники сведений для историка. Городские бюджеты, как правило, были несбалансированными из-за некомпетентности городских элит в управлении коллективными фондами и их склонности уклоняться от налогов. В конце XIII в. Брюгге задолжал Креспену из Арраса 110 тыс. ливров, тогда как Санс, Нуайон и Бове полностью обанкротились и попали под опеку монархии. Несколько позже коммуны, обремененные долгами, стали по их просьбе упразднять, как случилось в Компьене в 1319 г. Начиналась эпоха городов, покоренных королевской властью и ставших составной частью королевства. Наступало время «добрых городов», встроенных в монархические структуры, посылавших делегатов в Штаты, поставлявших воинские отряды и субсидии, опорных точек монархической централизации. Свою политическую роль в национальных рамках они только начинали играть — в течение XIV в. она усилится. В XIII в. Франция была не самой урбанизированной страной Западной Европы, и нельзя сказать, чтобы ее города играли решающую роль в торговле и политике. Но она, вместе с Италией, принадлежала к странам, где город как реалия был осмыслен наиболее тонко — благодаря парижским богословам, которые внимательно прислушивались к трудовому шуму мастерских, сознавали необходимость торговли и были готовы славить солидарность и «гражданскую добродетель», царившие в старом городе.Глава VII Религиозная жизнь во Франции в XIII в. (Бернар Мердриньяк)
Тринадцатый век обычно считается очень набожным, и выразить сомнение в этой общепринятой истине значило бы высказать парадоксальное суждение, не имея на то оснований, — крепость тогдашней веры заметна, в частности, и в успехах нищенствующих орденов, и в утверждении университета, и в строительстве соборов. Однако в тот же период церковь столкнулась с самыми опасными вызовами, какие только встречала к тому времени, и тогда же окончательно потерпели провал блистательные теократические теории пап-канонистов. Иннокентий III и его преемники считали христианским миром не просто всех христиан. Теперь христианский мир получил и социально-политическое определение как совокупность королевств и народов и рассматривался отдельно от церкви, которой надлежало его возглавлять. Вопреки этим притязаниям папской теократии на dominium mundi («владычество над миром») капетингская королевская власть намеревалась следовать идеалам справедливости и мира, которые привели бы христиан к спасению, независимо от папства. Как сказано в сделанном Анри де Гоши переводе трактата «О правлении государей», написанного (между 1277 и 1279 г.) Эгидием Римским для будущего Филиппа Красивого, «король, превосходящий всех остальных силой и достоинством, должен быть очень добр и весьма подобен Богу и превосходить остальных добротой и добродетельной жизнью».Папские притязания на теократию и утверждение Капетингской монархии
Как ни парадоксально, попытки оспорить полномочия верховного понтифика привели к большей централизации церковного правления во главе с римской курией. В то же время церковная элита могла предоставить в распоряжение светской власти интеллектуальную, юридическую и административную компетентность, без которой та не могла обойтись, чтобы утвердиться. Папа считал, что наделен «полнотой власти». Решениям папства должны были подчиняться все христиане. Прием обращений в римский суд ограничивали только соображения эффективности. Эти представления, в которых не было ничего новаторского, так как они соответствовали духу «григорианской» реформы, в XIII в. распространились на новые сферы. Согласно Фоме Аквинскому, папа был «священником и королем» и короли должны были повиноваться ему, как Христу, место которого он занимает. А ведь король в силу миропомазания в какой-то мере получал священнический сан. Таким образом капетингская монархия постепенно осуществляла сакрализацию государства в свою пользу. Однако французские короли не доходили до того, чтобы претендовать на святость своего сана, и претендовали разве что на святость личную. В этом отношении канонизация Бонифацием VIII Людовика IX (короля-рыцаря, короля-судьи…) в 1297 г. освящала образцовое поведение христианина, имеющего королевский сан. «Христианнейший» король Людовик Святой не ограничился функцией арбитража, традиционно возлагаемой на королевскую власть, а пришел к представлению об «общественном благе», заново открытому богословами в то время. Людовик Святой пытался при помощи части духовенства установить новый религиозный порядок, выгодный монархии. Добиваясь централизации, папство XIII в. не довольствовалось выпуском новых законов, как делали прежние папы со времен григорианской реформы. Оно взяло на себя инициативу кодификации папских решений («декреталий»), которых становилось все больше. Все великие папы XIII в. — от Иннокентия III до Бонифация VIII — изучили каноническое право. Под влиянием болонских школ римское право снова оказалось в чести, прежде всего в южных областях (Монпелье после 1140 г.; Тулуза с 1250 г.). Церковь поощряла синтез «того и другого права», в частности, во Франции (где работали Ги Фулькуа — будущий Климент IV — и Жак де Ревиньи). До конца XII в. канонисты довольствовались тем, что классифицировали и комментировали декреталии для личного пользования. Самым знаменитым из таких частных собраний был «Декрет» («Согласование несогласных канонов») болонского монаха Грациана (около 1140 г.). Теперь папство собиралось систематизировать составление кодексов канонического права и тем самым снабдить юристов инструментом, сравнимым с «Кодексом Феодосия» или «Дигестами» (VI в.) для римского права. Так, по указанию Григория IX каталонский доминиканец Раймунд Пеньяфортский опубликовал в 1236 г. четыре книги «Декреталий». В этом официальном сборнике соседствовали толкования законов, собранные Грацианом, и позднейшие решения предшественников папы Григория (Иннокентия III) и последних соборов (IV Латеранского). У преемников Григория IX законотворческая активность не иссякала (законы Иннокентия IV, еще одного папы-канониста и бывшего студента Болоньи; каноны обоих вселенских соборов, состоявшихся в Лионе, в 1245 и 1274 г.). «Декреталии» тоже надо было дополнять. В 1274 г. Григорий X присоединил к ним пятую книгу; Бонифаций VIII добавил шестую («Сексту»). Римское право соотносилось с идеей империи, а ведь Филипп Август только что, в 1214 г., разбил императора при Бувине, и поэтому римское право в Париже не преподавали. Тем не менее растущее влияние этого права (как минимум формальное) обнаруживалось в обычном праве, которое Капетинги намеревались уточнить. В «Книге правосудия и тяжб» (сборнике, составленном около 1255–1260 гг. в кругу орлеанских юристов) изобилуют заимствования из «Дигест» и «Кодекса Юстиниана» (в ста девяноста пяти статьях из трехсот сорока двух). Когда Филипп де Бомануар писал в 1283 г. «Книгу кутюмов и обычаев Бовези», он тоже явно вдохновлялся римским правом. С другой стороны, развитие канонического права предоставляло в распоряжение королевской власти систему воззрений, универсальные императивы которой способствовали (воз)рождению концепции государства. Действительно, утверждение, что существует личность (идея, для XIII в. новая), рассматривалось одновременно в каноническом праве и в богословии. Диалектика отношений между отдельным лицом и universitas (сообществом, к которому человек принадлежит) подразумевала, что надо определить отношения между церковью и каждым из верующих, а также между государством и индивидом. Иннокентий IV ввел в каноническое право понятие «юридического» лица (или «фиктивного» — например, отдельной церкви, пребенды, наделенных той же правоспособностью, что и физическое лицо). Во Франции поняли, какие перспективы открывает такое различение для зарождающегося государства. Юристы и богословы стали отделять физическую особу государя от власти, какую он олицетворял. В XIII в. была окончательно разработана теория «двух тел короля», изученная Эрнстом Канторовичем[321]. Вопреки уклончивости королевской администрации канонический суд все больше вторгался в сферу светского. Систематическое расследование злоупотреблений бальи, проведенное в 1247 г. по повелению Людовика IX, стало необходимым из-за принципа, утвердившегося в церковных судах. Тот же король отменил в 1258 г. ордалии, потому что IV Латеранский собор запретил духовным лицам принимать в них участие. Но тогда же было введено право апелляции к королевскому суду на сеньориальный. «Книга правосудия и тяжб» отражала укрепление королевской власти в таких выражениях: «То, что угодно государю, имеет силу закона, как если бы весь народ наделил всей своей силой и властью закон, какой издает король». Дипломатические и военные действия Святого престола в интересах папской монархии, претендовавшей на всемирный охват, требовали и крупных финансовых средств. А ведь если церковь обладала значительным состоянием, папство как таковое располагало только доходами Римского епископства и патримония Святого Петра, который был маленьким феодальным государством. К ним добавлялись пожертвования паломников, приходивших ad limina («к порогам (апостольским)») — «обол святого Петра», — и феодальные чинши, с недавних пор взимавшиеся в нескольких королевствах. Римская курия никогда не облагала податью мирян. Зато она пыталась вычесть из доходов духовенства долю, которая пошла бы на оплату потребностей центральной церковной администрации. Так, чтобы вознаграждать свой все более многочисленный персонал, курия присвоила себе право предоставлять все больше бенефициев. Другим крайним средством, к которому часто прибегали папы, было более или менее регулярное взимание налогов, пропорциональных доходам каждой церкви и каждого бенефиция. Дарения (oblationes), какие делали клирики, возведенные в новый сан, стали обязательной «услугой», сумма которой была точно оговорена при французских папах Урбане IV (1261–1264) и Клименте IV (1265–1268). «Десятину», первоначально собиравшуюся для финансирования крестовых походов, Климент IV превратил в постоянный налог. После альбигойского крестового похода, использованного в качестве прецедента, все крупные политические кампании папства в XIII в. стали называть «крестовыми походами», тем самым обеспечивая их финансирование, то есть священная война уже не велась исключительно против неверных, а могла быть объявлена кому угодно, кто в данный момент оказался врагом папства. Применение любого из этих крайних средств вызывало резкое неприятие французского епископата. Платить десятину соглашались только в случае, если она пойдет на оплату крестового похода. В 1263 г. национальный собор отказал Урбану IV в выделении субсидий, которые тот просил, чтобы оказать помощь бывшему латинскому императору Константинополя. В 1267 г. епископы Реймсской провинции резко отреагировали на финансовые требования Климента IV. В самом деле, римская теократия, которой крах амбиций императора как будто открывал новые перспективы, уже ощущала угрозу в стремлении капетингских королей освободиться от ее власти, притом что в XIII в. распространилась максима: «Король не должен зависеть ни от кого, кроме Бога и самого себя». Как Филипп Август, так и Людовик IX сознавали важность сотрудничества трона и алтаря, которое символизировал церемониал миропомазания, но не всегда отождествляли церковь с папством. Получив помазание, Капетинг возглавлял церковь своего королевства, предоставлявшую ему важные ресурсы — непосредственно под рукой у него находилось двадцать пять королевских епископств и более шестидесяти монастырей. Отныне функция короля как будто состояла в том, чтобы проводить морализацию и все более «светскую» рационализацию (в двойном значении слова ratio — «разум» и «расчет») экономики и общества. Еврейского меньшинства не должно было даже существовать, потому что отныне это подрывало единство, какого король ожидал от своего народа. Людовик IX оказывал королевское покровительство и предоставлял налоговые льготы евреям, которые обратятся в христианство. Может быть, остракизм, жертвами которого стали евреи, представлял собой «побочный продукт» процесса рождения государства. В ту же логику вписываются изданные Людовиком IX между 1254 и 1269 г. ордонансы, направленные против ростовщичества и проституции, а также ордонансы 1263–1266 гг., предписывавшие чеканить хорошую монету. Говоря о временах царствования Людовика IX и более поздних, можно, не используя анахроничного выражения «лаицизация» королевской власти, утверждать вслед за Ле Гоффом, что «увеличивалась доля (королевских) функций, относившихся к светскому началу, которое эволюция структур и ментальностей все более отделяла от духовного»[322]. Называть политику капетингских государей XIII в. антиклерикальной было бы анахронизмом. Но оказалось, что папская налоговая служба конкурирует с королевской. Благодаря привилегиям церковных судов последние присваивали полномочия королевской и сеньориальной юстиции и сокращали ее финансовые доходы. Без конца возникали конфликты. Григорий IX осудил вмешательство королевских чиновников в дела, подлежавшие церковному правосудию, в Бове в 1234 г. и в Нарбоннской провинции, а также в Альбижуа. Еще в 1236 г. папа жаловался королю на отношение баронов к церкви. Он упрекал их в том, что они игнорируют приговоры церковных судов и посягают на судебные привилегии епископов и клириков. В 1246 г. бароны обнародовали манифест, направленный против превышения полномочий судами официалов. В 1258 г. Эду Риго, архиепископу Руанскому, Рим поручил созвать собрание «некоторых французских прелатов и баронов, поднявшихся друг против друга, чтобы восстановить между ними мир и согласие». В 1274 г. ордонанс Филиппа III, сохранив привилегию церковного суда (for), отказал в ней тем клирикам, кто был женат, занимался торговлей или носил оружие. Все ясно — папство забирает часть доходов, которые интересуют короля! Так возрождение монархии подрывало «полноту власти», на которую претендовали понтифики в XIII в.«Золотой век епископата»[323]
Понятно, что Капетинги продолжали оказывать косвенный нажим на соборные капитулы во время избрания епископов (особенно в двух десятках «королевских епископств», с которых король взимал регальные пошлины). И папство все более открыто вмешивалось в процесс назначения обладателей «высших» бенефициев (в том числе епископств). Но фактическое равновесие, установившееся между обеими этими силами в течение двух первых третей XIII в., гарантировало французским епископам реальную свободу действий. Епископы в XIII в., по преимуществу выходцы из мелкой знати и обычно выбиравшиеся из членов соборных капитулов, как правило, люди знающие и компетентные, продемонстрировали эффективность своих методов пастырской службы. Действительно, в XIII в. церковные полномочия епископов, дававшие им власть над верующими, характерным образом расширились. К прежнему перечню общественных провинностей, какие могли прощать лишь эти прелаты, добавилось еще много «грехов, разрешаемых только епископом». Поскольку церковное судопроизводство неуклонно усложнялось, каждый епископ нуждался в том, чтобы при нем был судья — «лиценциат того и другого права» (кодекса Юстиниана и канонического права). Во всех епархиях за два первых десятилетия XIII в. были учреждены суды официалов (officialites) (впервые упомянутые собором, состоявшимся в 1163 г. в Туре), чтобы вершить церковный for. Официал был епископским судьей, а IV Латеранский собор распространил его юрисдикцию на мирян. Вскоре свои суды официалов появились также у капитулов и архидиаконов. Иннокентий IV в декреталии за 1246 г., изданной по итогам Лионского собора, должен был разграничить компетенции судов, уточнив, что при апелляции суд епископского официала имеет преимущество над всеми остальными епархиальными судами. Кроме рассмотрения вопросов церковной дисциплины и матримониальных дел, суды официалов отныне выносили решения о завещаниях, а IV Латеранский собор разрешил им вести особое производство — регистрировать скрепленные клятвой договоры. Их деятельность способствовала распространению инквизиционного процесса, то есть расследования путем опроса свидетелей, давших клятву, — прежде всего в матримониальных делах. Работу судам официалов давали и пастырские визиты, которые епископ должен был регулярно проводить у себя в епархии: миряне, на которых поступали доносы в ходе таких визитов, вызывались к официалу, чтобы ответить за свои провинности и выплатить штраф, если будут признаны виновными. В самой по себе процедуре епископских визитов не было ничего нового, но после IV Латеранского собора каждый епископ был обязан совершать такой пастырский объезд не реже раза в год. Впоследствии архиепископы постарались распространить это право инспекции и на епархии своих викарных епископов; хоть последних это совсем не радовало, Лионский собор 1245 г. в конечном счете велел им подчиниться. Перед таким объездом рассылались епископские мандаты, сообщавшие приходским кюре и заведениям, не освобожденным от обязанности приема, о дате прибытия епископа или его подчиненных и требовавшие от местного духовенства и прихожан присутствия на проверке. В назначенный день в сельских приходах производился осмотр приходской церкви и часовен — проверялись состояние построек, количество и качество облачений и богослужебных книг, сохранность святых даров (показатель растущего почитания причастия!), состояние крестильной купели, финансовое положение священника и церковного совета. Потом проверяющие выясняли моральный облик клириков, опрашивая их одного за другим, взяв клятву говорить правду и поощряя прихожан при необходимости подавать жалобы. Кюре тоже был обязан доносить как на тех верующих, которые вызывали подозрения в причастности к ереси или колдовству, так и на тех, чьи нравы оставляли желать лучшего (прелюбодеев или живущих в незаконном сожительстве). Впоследствии на основе протоколов визита епископская администрация принимала необходимые меры: например, священники, имевшие сожительниц, должны были подписать прошение об отставке; если в следующем году они не исправлялись, их вынуждали оставить свою должность. Кроме того, все епархиальное духовенство должно было собираться в епископском городе на соборы, ежегодные или полугодичные, ставшие в XIII в. обязательными. В отличие от провинциальных соборов (synodes), регулярно проводить которые митрополитам рекомендовал IV Латеранский собор, чтобы согласовывать действия иерархии, епархиальный собор не имел права принимать решения. Он давал епископу возможность взыскивать синодальные налоги (synodalia). Их суммы епископская администрация вносила в книги церковных доходов (pouilles), где перечислялись приходы и размеры налога, какой каждый должен был платить собору. Епископам-реформаторам такое собрание позволяло прежде всего проводить и улучшать подготовку своих кюре, имевших попечение о душах. Слово curatus («кюре»), каким называют приходских священников, появилось в конце XII в. Регулярно использовать его в некоторых синодальных проповедях вместо presbyter или sacerdos стали с первой половины XIII в. Таким образом, пополнение рядов «кюре» в середине XIII в. происходило очень по-разному. После того как епископ назначал священника, тот становился владельцем своего бенефиция, и временно либо насовсем лишить его прихода можно было лишь за тяжелую провинность и по решению суда. По социальному уровню приходское духовенство, похоже, стояло несколько выше своих прихожан. Ведь в основном кадры белого духовенства поставляли зажиточные слои сельского общества. По каноническим правилам рукополагать в сан нельзя было только потомков сервов или незаконнорожденных, и то папы нередко разрешали отступать от этого правила. Кюре, живущие в своих приходах, пользующиеся всеми приходскими доходами и лично выполняющие свои обязанности, несомненно, составляли меньшинство. Чаще всего из-за накопления нескольких бенефициев в одних руках (хоть это и было запрещено) кюре у себя в приходе не жил и был вынужден прибегать к услугам викарного священника, которому платил или сдавал приход в аренду. Такой пастырской «рабочей силы» хватало. Так, Эд Риго рукоположил восемнадцать священников в Руанской епархии в 1261 г. и еще двадцать одного через два года. Непредвиденным последствием заботы об образовании, какую проявил IV Латеранский собор, стало нередкое отношение к доходам кюре как к подобию стипендии, позволявшей получателю совершенствовать знания. Эту ситуацию официально закрепил Бонифаций VIII, потребовав, чтобы приходских священников рукополагали до получения прихода, но предоставив им семь лет для завершения учебы, что на практике стало терпимостью к абсентеизму. Проблема подготовки приходского духовенства была в течение XIII в. предметом постоянного беспокойства церковной иерархии. Когда доступ к бенефициям зависел от светских раздатчиков (но в основном им ведали монахи), «приходы не давали, во имя Бога, лучшим священникам, а давали священникам недостойным, в обмен на материальные или словесные услуги, или на зависимость», — негодовал доминиканец Гумберт Римский. Епископ мог контролировать эту ситуацию, при надобности, только задним числом. Что можно сказать об образе жизни и нравах этого приходского духовенства? Слишком сгущать краски не следует. Постановления соборов свидетельствуют о стремлении приучить клир к дисциплине и ответственности. Клирикам рекомендовалось не надевать слишком яркие одежды, воздержаться от ношения оружия (особенно во время мессы!) и время от времени подбривать тонзуру. Они не должны были ни заниматься торговлей, ни предаваться азартным играм или пьянству. Пикантным анекдотам о священниках, «грешивших с духовными дочерьми», следует придавать значения не больше, чем они заслуживали. Браки священников, в XII в. еще частые, в понтификат Иннокентия III практически исчезли. Однако еще существовали concubinarii («священники-сожители»), жившие супружеской жизнью с focariae («содержательницами очага») и растившие своих незаконных детей на доходы от приходской службы. Наряду со священником действовала очень активная приходская община. Она принимала участие в содержании культурных строений. Даже если иерархия старалась ограничить использование церкви или кладбища в мирских целях (например, для рыночной торговли), эти места «мощно» сохраняли свое качество «общего пространства» (как пишет Моник Бурен-Деррюо[324]). В основном именно кюре должен был ведать храмом — как ризницей, так и облачениями, и богослужебными книгами; верующие брали на себя содержание нефа — единственной части церкви, куда имели доступ. Несомненно, именно поэтому многие сельские церкви имеют менее просторный и более старый неф, чем хоры! В XIII в. миряне делегировали свою ответственность церковным старостам, образовавшим «церковный совет» (fabrique). Таинства, служившие в некотором роде ритуалами перехода, например крещение или венчание, публичным совершением которых отныне должен был руководить кюре, выполняли функции социальной интеграции. Кюре полагалось также объявлять приговоры об отлучении, которые выносили и которыми злоупотребляли епископы. Из-за того, что такими санкциями злоупотребляли (часто применяя их за долги), наказуемых они уже не страшили сверх меры. Обязанности прихожан присутствовать на службах не ограничивались воскресной мессой. Они включали и соблюдение праздничных дней (от пятидесяти до шестидесяти в год, в зависимости от епархии). Контроль духовенства отныне распространялся на исповеди и причастия, каких требовал канон utriusque sexus IV Латеранского собора: «Всякий верующий, достигший возраста благоразумия, должен исповедоваться в грехах своему кюре не менее раза в год, соблюдать епитимью, какую на него накладывают, получать, по меньшей мере на Пасху, святое причастие…»[325] Обычай исповеди, спасая кающегося от ада, обеспечивал кюре власть над прихожанами. Последние с восьми лет должны были признаваться в своих провинностях не менее раза в год. Об исповедальне речи еще не было, но священникам полагалось иметь место, «где люди могут их видеть с епитрахилью на шее». Широкое распространение причащения на Пасху, тоже ставшее следствием IV Латеранского собора, вылилось в почти суеверное почитание святого причастия. Кроме как в пасхальный период верующие не смели приближаться к алтарю. Боясь уронить каплю или крошку освященных даров, гостию во время раздачи мирянам больше не макали в вино. Причащаться под обоими видами уже мог только король во время церемонии миропомазания! Вместо частого причащения распространилась евхаристическая набожность. Папа Урбан IV, уроженец Труа, в 1264 г. сделал праздник Тела Господня, введенный в Льежской епархии по инициативе отшельницы Юлианы из Мон-Корнийона (ум. в 1258 г.), обязательным для всей церкви.Новые формы монашеской жизни
Упорное требование, чтобы никто из верующих не уклонялся от исповеди и пасхального причащения, открывало для самых убежденных из них перспективу обрести спасение здесь и сейчас, не обязательно облачаясь в монашескую рясу. Главное, оно делало для всех очевидным, что необходимо посредничество священника, получившего свою власть совершать таинства от епископа. К тому же многовековое соперничество епископов и монахов за роль образца ослабло, так как монастыри мало участвовали в духовном окормлении верующих. Тем не менее традиционное монашество не пришло в упадок. Григорий IX в 1233 г. предложил Клюни приблизиться к цистерцианской модели. К 1300 г. в материнской обители Клюнийского ордена еще жило три сотни монахов! Однако «Клюни после Клюни» (как называется важнейшая статья Герта Мельвиля[326]) и Сито оставались в стороне от быстро росших городов, тем самым утрачивая ведущую роль в христианском мире. Они были неприспособленны для сurа animarum (попечения о душах) городского населения. Зато главной целью, какую поставили перед собой нищенствующие ордены, стала евангелизация — «рехристианизация», как писал Робер Фоссье[327], — горожан. Эта новая форма пропаганды веры требовала активного присутствия в миру. Доминиканцы и францисканцы создавали свои «монастыри» (монашеские общины) сначала в предместьях, а потом и в самих городах. С 1225 по 1275 г. во Франции появилось четыреста двадцать три монастыря братьев-проповедников и миноритов. В конце века их было около шести сотен. В формировании структуры этой монастырской сети видна продуманная стратегия, сочетавшая апостольские заботы с экономическими интересами. По мнению Жака Ле Гоффа, по-настоящему говорить о городах тогда можно было только применительно к поселениям, где имелись монастыри. Росло население старых городов (Париж насчитывал семьдесят тысяч жителей), появлялись новые города. Их влияние превосходило их демографический вес. Следствием активности их жителей, как отмечал около 1230 г. Вильгельм Овернский, епископ Парижа, стали повседневное использование монеты и обязательная открытость миру, по крайней мере для купцов. Деньги (основа городского богатства) были «жизненным флюидом»[328] города. Сравнительно высокая концентрация капиталов в городах вызывала высокое социальное напряжение, чаще всего выражавшееся в глухом, «распыленном» насилии. Бедность нарушала спокойствие городов, делала нечистой совесть церковников и волновала власти. К 1230–1250 гг. образовался «средний слой» — мастера-ремесленники, нотарии, а также разорившиеся рыцари. Он тревожился из-за пауперизации и заботился о сохранении установленного порядка, гарантировавшего социальное равновесие. Папство поначалу отнеслось к нищенствующим орденам с недоверием. Побуждения их основателей нередко совпадали с нравственными и духовными требованиями противников существующей церкви. Как и некоторые элементы городского бюргерства, они точно так же превозносили бедных и евангельскую бедность, что побудило некоторых из них отречься от сана. Но поскольку эти монахи нового типа питали уважение к церковной иерархии, они подчинились ей. Разумеется, вскоре наметились две тенденции: идеал бедности мог стать либо «чем-то вроде лозунга, постепенно утрачивавшего всякое реальное содержание» (Андре Воше), либо поводом для споров внутри самих нищенствующих орденов. С тех пор эти движения, выходившие за рамки епархий и зависевшие только от вселенской церкви, стали самыми эффективными проводниками теократической политики папства. Во второй половине XIII в., подражая «якобинцам» (доминиканцам) и «кордельерам» (францисканцам), тот же образ жизни усвоили и другие объединения, такие как кармелиты или августинцы. Благодаря поддержке папства минориты обосновались на юге страны, где развитию их движения способствовала проповедь Антония Падуанского (португальца Фердинанда из Лиссабона) в 1224, 1225 и 1227(?) гг. Прозванный «Молотом еретиков», этот блестящий проповедник жил, в частности, в Тулузе, где в 1222 г. был основан монастырь. Периоды строительства этого заведения отражают этапы укрепления позиций францисканцев в этих краях. В первый его период работы еще сильно зависели от разных дарений. На втором, в середине XIII в„строительство поддержали городские нотабли. Третий период, после 1275 г., финансировала церковная иерархия. Описывая это успешное внедрение миноритов сначала в города Юга (с 1220 г.), а потом и Севера (после 1224 г.), нельзя упускать из виду, что их укоренению способствовали высшая аристократия и особенно королевская фамилия: так, монастырю миноритов в Париже покровительствовал Людовик IX, а в 1263 г. он основал в Лоншане монастырь клариссинок для своей сестры Изабеллы. В отличие от францисканцев, основание ордена доминиканцев было связано прежде всего со специфической ситуацией во Франции, поскольку Доминго (Доминик) де Гусман главным образом стремился пресечь альбигойскую ересь на ее собственной территории. После смерти Симона де Монфора в 1218 г., когда политико-религиозный контекст в Лангедоке снова стал переменчивым, Доминик рискнул расселить своих братьев, еще малочисленных, в больших городах, переживавших бурный подъем (в частности, в Париже и Орлеане). В этих интеллектуальных центрах братья-проповедники могли совершенствовать богословские знания и даже вовлекать в свои ряды признанных магистров (таких, как Режинальд, декан церкви Сент-Аньян в Орлеане). Орден братьев-проповедников, отличавшийся высокой степенью централизации и зависевший непосредственно от папства, пользовался помощью Рима и поддержкой Людовика IX и его брата Карла Анжуйского. После смерти основателя в 1221 г. монастыри (два десятка, а также четыре женских) были разделены на пять «провинций». Через поколение в провинциях Прованс и Франция было уже шесть десятков монастырей, в основном расположенных в значительных городах. Среди них были studia (учебные центры, школы), способствовавшие подготовке знающих и активных теологов. В 1259 г. генеральный капитул организовал нечто вроде современной «школьной карты»[329]. В университетских центрах (Париже, Монпелье, Тулузе, Кагоре) существовали studia generalia, дававшие высшее образование. В городах, важных для ордена, но не имеющих университетов, приличное, как считалось, образование давали studia solemnia (обычные учебные центры). На провинциальном уровне обучение искусствам и философии находилось в ведении studia particularia, разъезжавших из одного монастыря в другой. Нищенствующие ордены обзавелись интеллектуальными ресурсами, необходимыми для развития теологии с учетом чаяний светских элит. Но в то же время всемирные притязания этих агентов папства ставили перед ними задачу упрочения позиций ордена в христианском мире.Средства воздействия церкви наверующих
В том, что касается «дела веры», папство положилось на нищенствующие ордены, прежде всего на доминиканцев. В 1231 г. Григорий IX учредил инквизицию, которая для начала обосновалась в Тулузе. В 1232 г. булла «Illе humanigeneris» известила епископат о присылке братьев-проповедников с поручением истреблять ересь. Епископский суд оставался правомочным, но инквизитор отправлял исполнительное правосудие в рамках специальных полномочий, полученных от папы. По представлениям XIII в., когда методы убеждения и предупреждения оказывались безрезультатными, вопроса о допустимости инквизиционных процессов не возникало. Конечно, богословы XIII в. вновь провозгласили свободу веры и осудили насилие над евреями, но преследования еретиков и казни «релапсов» (тех, кто повторно впал в свое заблуждение) казались им необходимыми для сохранения единства веры. Непопулярность инквизиции обнаружилась почти сразу же. Однако при поддержке папства, а именно Иннокентия IV (1243–1254), постепенно были разработаны суровые методы систематического выявления еретиков (заключение подозрительных в одиночную камеру, анонимность свидетелей обвинения). Доносы поощрялись, а любого, кто отказывался дать судьям сведения, можно было подвергнуть пытке (1252 г.). Какими бы отвратительными эти процедуры ни были, они не допускали никакого произвола. Кстати, слово Inquisitio, прежде чем в ходе процессов еретиков приобрело современный смысл, поначалу означало — в частности, в сфере канонизации — расследование, при помощи которого суд собирал показания свидетелей, данные под присягой, о достоверности фактов, упомянутых в опросном листе. Осужденных еретиков приговаривали к разным наказаниям: ношению желтых крестов, паломничеству, конфискации имущества, к более или менее строгому заключению в «стене» (mur, собственной тюрьме инквизиции). А тех, кто упорствовал в своих верованиях или возвращался к ним (релапсов), поскольку клирики не имели права проливать кровь, передавали светской власти, которая отправляла их на костер. Суровость инквизиционных наказаний, конечно, способствовала восстановлению ортодоксии, особенно в южных областях. Однако одна инквизиция не могла бы добиться исчезновения катаризма. Восстановлению ортодоксии все-таки содействовали переход городских элит, ранее соблазненных ересью, на сторону королевской власти и старания нищенствующих орденов выработать такую духовность, какая учитывала бы перемены в обществе. В этом отношении появление университета тоже можно считать ответом церкви на вызов еретиков. Рим рассчитывал на помощь университариев в насаждении богословских истин; вот почему в 1229 г. он основал Тулузский университет. Термин universitas первоначально применялся к сообществу преподавателей и студентов одного и того же города и не обязательно означал высшее учебное заведение. Он приобрел современный смысл только около 1260 г. Но в Париже магистры и студенты, собравшиеся на острове Сите — а потом на горе святой Женевьевы (чтобы избежать епископского контроля), — организовались задолго до этого, чтобы защищать свои общие интересы. В 1215 г. папа велел канцлеру собора Парижской Богоматери присваивать ученые степени тем, кого сочтут достойными их магистры; в 1231 г. Григорий IX пожаловал университету, вскоре получившему собственную печать, полную автономию. Тогда же, все так же благодаря поддержке папства, зарождавшийся Парижский университет вышел из подчинения светской власти. Прибывало все больше буйных студентов, которые устраивали драки с парижскими бюргерами и с силами порядка, возглавлявшимися королевским прево. В 1230 г. после долгой забастовки преподавателей университета и их исхода в Орлеан королевская власть отказалась от юрисдикции над ними. «Именно в Париже род человеческий, изуродованный слепотой прирожденного невежества, вновь обретает зрение и красоту благодаря познанию истинного света, какой излучает божественное познание», — провозгласил в 1255 г. папа Александр IV. А ведь обнаружение неизданных произведений Аристотеля и особенно (с 1240–1250 г.) работ его арабского комментатора Аверроэса (ум. в 1198 г.) осложнило отношения между новой философией и традиционной теологией, проникнутой августинизмом. Как показал Этьен Жильсон в своей великой книге «Философия в Средние века», это противоречие уже содержало в зародыше конфликт двух концепций университета, приятие, одной из которых якобы могло бы «превратить его в центр чисто научных и беспристрастных исследований, другой — подчинить исследования религиозным целям и поставить их на службу настоящей интеллектуальной теократии»[330]. Пытаясь разрешить это противоречие в свою пользу, папство оказывало поддержку нищенствующим орденам, преданным ему. Как ему и следовало, орден братьев-проповедников очень скоро включил в свой состав таких учителей и студентов, как Альберт Великий (ум. в 1280 г.) или его самый блестящий ученик Фома Аквинский (ум. в 1274 г.). Александр Гэльский (ум. в 1245 г.) был не первым парижским магистром, примкнувшим к францисканцам, но его вступление в этот орден в 1231 г. принесло им кафедру теологии, которую он передал своему ученику Иоанну из Ла-Рошели. Светские магистры реагировали на нечестную конкуренцию нищенствующих братьев, желавших монополизировать теологические кафедры и ничего не отдать взамен. В 1254 г. Гильом из Сент-Амура (ум. в 1272 г.) организовал сопротивление в форме забастовок и полемических трактатов. После того как Александр IV осудил его, Людовик IX в 1257 г. окончательно отстранил его от преподавания. Францисканец Бонавентура (ум. в 1274 г.) и доминиканец Фома Аквинский были названы папой поименно и назначены им на теологические кафедры. В последующие десятилетия им еще приходилось отражать натиск светских магистров — противников идеала добровольной бедности. Но отголоски этого ученого спора не вышли за пределы университетской среды. Важней в тот момент были дебаты, которые Фома Аквинский одновременно вел и с богословами (Бонавентурой и вообще с францисканскими магистрами), которые придерживались августинизма, и с аверроистами с факультета искусств (учениками Сигера Брабантского), которые проповедовали радикальный аристотелизм. В конечном счете Этьен Тампье, епископ Парижский, в 1277 г. осудил не только аверроистов, но и некоторые философские тезисы Фомы Аквинского. Париж был центром богословского обучения, и в 1292 г. Николай IV предоставил парижским магистрам привилегию преподавать повсюду, не сдавая ради этого нового экзамена. Несмотря на противодействие знати и богатых купцов, дипломанты университета постепенно находили себе места, соответствовавшие их образованию. Мы видели, что юристы становились необходимыми политической власти. Духовенство быстро поглощало богословов — подготовка методистов была одной из целей университетских поучений. Столкновения между светскими и нищенствующими магистрами, в частности, способствовали выявлению неизбежных вторжений тех и других в сферу чужой компетенции. Согласно «Сумме теологии» (около 1270 г.) Фомы Аквинского, епископы и кюре, обязанные печься о душах, проповедуют «по должности», тогда как нищенствующие братья делают это «по доверенности», постольку, поскольку папа и епископы «дозволили» им проповедь как часть своих пастырских обязанностей. В течение всего века вопрос о проповеди нищенствующих братьев, запрещенной в приходских церквях, вызвал к жизни ряд более или менее ограничительных мер в соответствии с распоряжениями пап насчет этих монахов. В конце концов Бонифаций VIII в 1300 г., а потом Вьеннский собор 1311–1312 гг. разрешили им проповедовать в их собственных церквях и на городских площадях в часы, еще не зарезервированные за епископом. Что касается приходских церквей, то их должен был приглашать туда кюре. Интерьер церквей приспосабливали к потребностям проповеди. Амвон, с которого обращались к верующим, выдвинулся дальше внутрь нефа, чаще всего сместившись влево (в северной части церкви). В течение XIII в. амвон (ambon, jube) понемногу заменила кафедра. Таким образом, со второго десятилетия XIII в. верующие получили доступ к «массовому образованию», которое распространяли сотни, а потом тысячи «методистов» (formateurs)[331]. Обычно подчеркивают, и справедливо, что большинство из этих проповедников в массах было нищенствующими братьями. Однако не следует забывать, что проповедью крестового похода в XIII в. занимались цистерцианцы. Надо также упомянуть госпитальеров, тринитариев (орден которых был основан в 1198 г.) и некоторое количество мирян, действовавших по побуждению епископов. То есть оригинальность нищенствующих орденов заключалась не столько в их приверженности к жанру проповеди, сколько в интенсивности их проповедей и в том, что читать их были обязаны все монахи. За несколько десятков лет они разработали свои педагогические методы, добившись примечательной эффективности. Чтобы сделать свои речи доходчивыми для простых верующих, клир теперь старался учитывать социальное разнообразие мирской аудитории, которого не отражала старая трехчастная модель. Обращаясь к церковникам, проповедники не отступали от традиционной классификации. Зато Жак де Витри в «Serrmones ad Status» (Проповедях людям разного положения), доминиканец Гумберт Римский или францисканец Гвиберт из Турне в своих проповедях искали подходящую форму, чтобы вызвать интерес у людей, принадлежавших к разным социально-профессиональным категориям: купцов, менял, ремесленников, моряков, молодежи и т. д. Так, Гвиберт из Турне различал у мирян двадцать один статус и учитывал также половой фактор (мужчины, женщины, а также те и другие вместе — например, во время процессий). Это стремление быть открытыми для повседневных нужд верующих объясняет, почему те же клирики «на опыте» оценили воздействие на мирян exempta (примеров). Чтобы придать правдоподобие историям, которые они приводили, проповедники предваряли их словесными формулами, гарантировавшими подлинность: «я слышал, что…», «рассказывают…», «помню…» и даже «написано»… Рост популярности exempta у проповедников привел к тому, что с середины XIII в. стало расти число сборников, позволявших в нужный момент найти тот или иной пример. Для упрощения поиска exempta классифицировали по темам, потом в алфавитном порядке. Эти подборки прежде всего составляли францисканцы и доминиканцы. Создание сети монастырей нищенствующих монахов в середине века предоставило для этой компилятивной работы материальную базу. Бесспорный факт, что «профессионалы слова» широко использовали эти рабочие инструменты, означал также, что в числе приемов «убеждения» вырос процент стереотипов.Верования, религиозные обычаи и набожность мирян
Обращение к этим сборникам exempla позволило историкам применить этнографический подход к верованиям людей Средневековья. Например, целый кладезь сведений содержится в «Трактате о разных темах для проповеди» доминиканца Этьена де Бурбона (около 1190–1261), записавшего для собратьев разные истории, которые он собрал в ходе инквизиторских разъездов. Точно так же протоколы допросов, которым с 1319 г. Жак Фурнье, епископ Памье (будущий Бенедикт XII), подверг подозревавшихся в ереси жителей Монтайю, позволили Эмманюэлю Леруа Ладюри воссоздать минимальный религиозный багаж среднего обитателя этой деревни в конце XIII в. Этот багаж можно было бы свести к нескольким догматам (о спасительности последней исповеди) и к материальным обычаям: паломничества, милостыни и прежде всего выплаты десятины. Тем не менее скромные крестьяне как будто глубоко усвоили Христову религию, в центре которой находились устная исповедь и евхаристия, — религию в том виде, в каком ее распространяли нищенствующие братья. Успех популяризаторских сочинений, написанных доминиканцами (таких, как «Краткий рассказ о деяниях и чудесах святых» Жана де Майи, 1225–1230, или «Историческое зерцало» Винцента из Бове, около 1245 г.), а особенно «Золотой легенды» — агиографического сборника, составленного до 1265 г. доминиканцем Иаковом Ворагинским, свидетельствовал о неизменной и даже растущей популярности культа святых. Последние воспринимались не столько как образцы для подражания, сколько как заступники, занимавшие достаточно влиятельные места при «небесном дворе», чтобы покрывать слабости верующих. То есть эта форма религиозности, которая грозила привести к уклонам в суеверие, содержала также динамичность и надежду. Святой архангел Михаил, руководивший взвешиванием душ, имел возможность склонить весы в сторону спасения. Богоматерь считали доброй посредницей в отношениях между ее Сыном и грешниками — к самым трогательным выражениям ее почитания относятся «Чудеса Богородицы» Готье де Куэнси (ум. в 1236 г.) и «Чудо о Теофиле» Рютбефа (ум. около 1285 г.)… На смену величественному образу Марии, восседающей на троне с Сыном на коленях, пришел образ Святой Девы, которая стоит, чуть сильней опираясь на одну ногу и нежно держа на руках младенца. Крупные центры паломничества, привлекавшие в предыдущем веке целые толпы, по-прежнему посещались. Сеть святилищ, содержавших реликвии, наиболее плотной была в южных областях. В результате перераспределения реликвий после взятия Константинополя в 1204 г. в ходе Четвертого крестового похода численность мест отправления культа выросла. Однако когда Людовик IX построил Сент-Шапель в качестве монументального реликвария для частицы тернового венца, народное благочестие вновь обрело централизацию — одновременно в географическом, политическом и теологическом смыслах. На смену традиционному монастырскому окормлению, с которым монастыри уже не справлялись, поскольку в нем участвовало все меньшее их число, пришли милосердные богатые миряне. В окрестностях городов основывали многочисленные благотворительные заведения (богадельни, больницы, лепрозории…), где больным и неимущим скорей давали кров, чем лечили их. Миряне подхватили инициативу Фулька из Нейи (ум. в 1201 г.), открывшего приют для раскаявшихся блудниц: Людовик IX в монастыре «Дочерей Божьих» собрал парижских грешниц. Нельзя ли (в какой-то мере) истолковать и популярность «затворов» (redusoirs), в которых с конца XIII в. добровольно заточали себя благочестивые женщины, не имевшие возможности жить монастырской жизнью, как способ для содержавших их городских коммун дать выход набожности жительниц, которые не находили себе места в женских монастырях? Прокаженных помещали в приюты, покровителями которых часто были святой Лазарь или святая Мария Магдалина. Странноприимные ордены посвящали себя службе бедным. Орден Святого Духа, который основал Ги де Монпелье при поддержке Иннокентия III, принимал в качестве членов как священников, так и простых мирян, но великий магистр неизменно был мирянином. Друзья и благодетели ордена объединялись в братства (confréries). Благотворительными заведениями, чаще всего скромных размеров, иногда руководили и мирские братства. Такие сообщества могли появляться в Париже, в Нормандии или в Провансе. Поместив себя под покровительство святого (или, на Юге, Святого Духа), многие из них делали особый акцент на взаимопомощи или добрых делах: раздаче хлеба, денег, при надобности — одежды. Поскольку такие братства были проявлением солидарности собратьев по ремеслу, жителей квартала или прихода, они вызывали подозрения у церковной иерархии, которой не нравились как их эгалитаризм, так и традиция проведения ежегодных пиров. В 1225 г. на соборе в Бордо призвали выразить порицание некоторым из таких групп, ставивших общение выше благочестия. Наметились и конфликты с нищенствующими братьями, придававшими все больше значения мистическим аспектам духовности. В конце XIII в. они пытались взять под свой контроль мирское благочестие, принимая мирян в «третьи ордены», одобряемые и организуемые папством. Среди тех, кто занимался благотворительностью, были и члены оригинального института, который тоже пронизывали напряжения религиозной жизни XIII в., — бегинажа. Он зародился стихийно, когда некоторые женщины, по преимуществу из знати и городского патрициата, пожелали усвоить полумонашеский образ жизни. Не принимая устава, они посвящали себя молитве и ручному труду, занимались помощью бедным и больным, обучением девочек и погребением покойников. Во Фландрии (Лилль, Дуэ) и в Эно (Валансьен) «дворы бегинок», строившиеся при поддержке графской династии, представляли собой настоящие кварталы, обнесенные стеной, казначеем которых чаще всего был нищенствующий монах. В 1216 г. этот орден был признан Гонорием III по настоянию Жака де Витри, исповедника Марии из Уаньи (ум. в 1213 г.), основавшего бегинаж близ Намюра. В других местах, например в Париже и в Руане, где им покровительствовал Людовик IX, бегинки селились рядом с церквями и монастырями и жили поодиночке, маленькими группами или немногочисленными общинами. Немало их встречалось и в Провансе. Так, Дуселина, сестра францисканца-спи-ритуала Гуго из Диня (ум. в 1256 г.), в 1274 г. основала в Иере заведение «Дамы из Рубо», отделения которого возникли в Марселе и Эксе при поддержке нотаблей этих городов. Пример Дуселины, которая была погребена в 1275 г. как святая рядом с братом в церкви миноритов в Марселе, показывает существование связи между южными бегинками и частью францисканского ордена, желавшей придерживаться идеала абсолютной бедности, который проповедовал основатель. На Лионском соборе в 1245 г. Гуго из Диня выступил как сторонник милленаристских спекуляций Иоахима Флорского (ум. в 1202 г.; посмертно осужден IV Латеранским собором), сказавшихся на взглядах течения «спиритуалов». В последней трети XIII в. один из самых блистательных полемистов, Пьер де Жан Олье (ум. в 1298 г.) из Лангедока, вдохнул новую жизнь в иоахимизм, представив Франциска, обретшего стигматы, воплощением Христа. Он находился в дружеских отношениях с провансальцем Раймундом Годфруа, великим магистром ордена францисканцев с 1289 г. Спиритуалы пользовались расположением папы Целестина V. Когда последний в 1294 г. подал в отставку в пользу Бонифация VIII, иерархия резко переменила взгляды и начала энергично преследовать фратичелли («братцев») как зачинщиков смут. Ошибки, вмененные в вину Пьеру де Жану Олье, экстремистские позиции спиритуалов и доктринальные заблуждения, в которые якобы впали бегинки, были огульно осуждены Вьеннским собором 1311–1312 гг., на основе решений которого Иоанн XXII в 1317 г. обнародовал конституцию, направленную против фратичелли и бегинок. Францисканцы-конвентуалы, сторонники некоторых компромиссов, одержали верх, деятельность спиритуалов сурово пресекли, а Бернар Делисье (ум. в 1320 г.), взявший их под защиту, попал в руки инквизиции. Не вникая в детали прочих решений Вьеннского собора (дело ордена Храма[332], крестовый поход, реформа церкви), надо вслед за Робером Фоссье особо отметить важный характер мер, какими папство впервые в Средние века «пресекло в корне возможности какого-либо обновления благочестия и вернулось к традиции». Главной заботой Климента V было не дать Филиппу Красивому повода возобновить начатый в 1305 г. процесс по осуждению памяти Бонифация VIII (1294–1303). Напряженность в отношениях между папством и французской королевской властью привела к разрыву этих отношений, когда в 1303 г. папа Бонифаций VIII был арестован в Ананьи[333]. Андре Воше предлагает видеть в этом событии «начало конца христианства как идеологической и политической системы». В то время «политический августинизм», господствовавший до конца XIII в., вошел в противоречие с притязаниями королевской власти на четкое разделение духовного и светского. Среди прочих последствий избрания Климента V верховным понтификом в 1305 г. подготовка им Вьеннского собора (на правом берегу Роны, на имперской земле, но в зоне влияния Французского королевства) подтолкнула его разместить папскую курию в Авиньоне. Впоследствии поселение французских пап в этом городе восстановило видимость равновесия между политическим и религиозным началами.
Приложения

Генеалогические таблицы


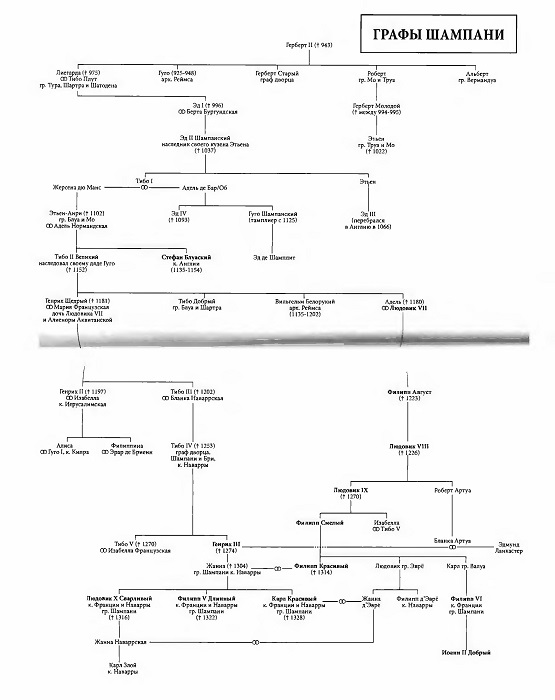



Библиография
Общая библиография (работы по политической истории, охватывающие весь период)[334] Если до самого межвоенного периода история капетингской монархии, вместе с историей церкви, была главной областью приложения сил французских историков Средневековья, то позже интерес к ней снизился, сменившись интересом к экономической и социальной истории, к региональным исследованиям, а потом ко все более многочисленным сферам, включавшим все аспекты жизни людей того времени, которые изучали с помощью новейших методов, разработанных в гуманитарных науках. Справедливости ради надо сказать, что приблизительно поколение тому назад французские медиевисты вновь ощутили интерес к политической истории; но подход к ней сильно изменился — от представления, что политическая история может сводиться к событийной, раз и навсегда отказались. Бросившись из одной крайности в другую, историки даже почти совсем перестали пересказывать и анализировать политические и военные события, так что одна из задач настоящего издания как раз и состоит в заполнении этой лакуны современной историографии — ведь нередко, чтобы найти подробный и основательный рассказ о делах французских королей, приходится обращаться к изданиям почти столетней давности. Тем не менее отметим, что несколько лет назад начался ренессанс биографии — историографического жанра, который неминуемо предполагает уделение немалого места событиям: образы Филиппа Августа, Людовика Святого, Филиппа Красивого вдохновили видных медиевистов на написание больших книг. Впрочем, эти биографии содержат анализ, выходящий далеко за пределы изучения черт отдельной личности, так что в историографии французского Средневековья, видимо, исключен возврат к «истории сражений» или истории, сводящейся к жизнеописаниям великих людей, какой, как говорят, грозит сейчас стать историографии Нового времени. Итак, «возвращение к политике», но не «возвращение к событию». В каком же жанре политической истории пишут сегодняшние медиевисты? Прежде всего, они продолжают дело эрудитов, более века назад взявшихся публиковать и критически оценивать важнейшие источники по нашей истории: издание королевских актов не прерывалось и даже испытало новый подъем; публикуют также, менее систематически, но непрерывно, нарративные источники, счета, следственные материалы и т. д. Выход этих крупных изданий непосредственно выливается в создание историографических трудов: изучение Дж. У. Болдуином царствования Филиппа Августа неотделимо от публикации архивов этого короля, издание «Поэмы о короле Роберте» Адальберона Ланского оживило интерес к сословному обществу и власти в XI в., а издание автобиографии Гвиберта Ножанского нашло широкое и разнообразное использование. Связь с прежними поколениями эрудитов видна также в новом интересе к истории институтов. Однако в этой области чисто описательные исследования уже несколько устарели: последний большой учебник по средневековым французским институтам, написанный Лотом и Фавтье, появился почти сорок лет назад, и только юристы по-прежнему работают в этом жанре[335]. Историки иногда посвящают таким описаниям главы или статьи, но не целые труды, — они предпочитают опираться на то, что приобрели предыдущие поколения, и размышлять об институтах, подбирая к ним всевозможные новые подходы. Так, ряд коллоквиумов был посвящен «Происхождению государства Нового времени»[336], уходящему корнями в XIII и даже в XII в., — рассматривали его отношения с аристократией, бюргерами, культурой, налогами, церковью и т. д.[337] Позднейшие большие работы были посвящены зарождению национального чувства, зарождению монархической идеологии, а также историографии и ее отношениям с властью, символике власти и ее выражению в предметах и ритуалах (прежде всего сакральных), формированию королевского окружения, дворцам… Объектами анализа, часто вдохновляемого антропологией, становились слова, жесты, предметы, резиденции монархической власти; первым образцом такого подхода, оказавшим глубокое влияние на последующие поколения, стали «Короли-чудотворцы» Марка Блока[338]. Еще один магистральный путь исследования, который помогает лучше понять действия власти — это просопография, то есть коллективная биография социальной или профессиональной группы, позволяющая историкам знакомиться с теми, кто отправлял власть от имени короля. Этот метод, лучше всего разработанный применительно к XIV и XV вв., для которых имеются более богатые источники, позволяющие определять место людей в истории и связывать их меж собой, тем не менее удалось применить также к приближенным первых Капетингов, к бальи и советникам их преемников. Впрочем, для капетингской эпохи, когда власть была раздроблена и принадлежала множеству крупных и мелких сеньоров, изучение власти нельзя ограничивать чисто монархическими рамками — немалая часть исследований посвящена территориальным княжествам, Анжу, Шампани или Нормандии, менее важным сеньориям — Куси, Беллему или Монморанси[339], а также епископствам, таким как Нуайон, Бове или Оксер. Таким образом, политическая историография XI–XIII вв. выходит далеко за пределы историографии монархии, и все современные авторы, исследующие большие темы, берут примеры из жизни местных сеньоров и прежде всего территориальных князей[340], изучая их матримониальные стратегии, их роль в установлениях «мира» в XII в.[341], развитие у них представлений о генеалогии[342] или значение, одновременно практическое и символическое, какое они придавали своим дворцам[343]. Политический анализ «феодального» периода неотделим и от социального анализа аристократии[344]. Только для XIII в. и далее изучение монархической власти занимает в политической историографии доминирующее и все более исключительное место. Работы по библиографии Существует примечательная возможность познакомиться с произведениями французских медиевистов с 1965 по 1990 г. — два издания, дополняющие друг друга: L’Histoire médiévale en France: 1969–1989: bilan et perspectives/Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur, 20e Congrès, Paris, ler-4 juin 1989; textes réunis par M. Balard. Paris: Seuil, 1991; Bibliographie de l’histoire médiévale en France: 1965–19901 Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur; textes réunis par M. Balard. Paris: Publications de la Sorbonne, 1992. Событийная история Единственным подробным рассказом о событиях, охватывающим весь капетингский период, остается «История Франции от начала до Революции» под редакцией Э. Лависса, т. II, кн. 2 (987–1137), написанная А. Люшером, и т. III, кн. 1 (1137–1226), написанная А. Лютером, а также кн. 2 (1226–1328), написанная Ш.-В. Ланглуа: Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution/sous la dir. d’E. Lavisse. Paris: Hachette, 1911, переиздание: Paris: Librairie Jules Tallandier, 1980. Немногим менее старые и явно менее глубокие работы: Petit-Dutaillis Ch. La monarchie féodale en France et en Angleterre, Xe — XIIIe siècle. Paris: la Renaissance du livre, 1933. [L’Evolution de l’humanité: Synthèse collective; 4L] [Русский перевод: Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии Х — ХШ веков/Пер. С. П. Моравского. СПб: Евразия, 2001], переиздававшаяся в 1947 г. и позже, и книги из серии «Общая история, публикуемая под редакцией Г. Глотца. История Средних веков» (Histoire générale publiée sous la direction de G. Glotz. Histoire du Moyen Âge): Fliche A. L’Europe occidentale de 888 à 1125. Paris: PUF, 1930 [Histoire du Moyen Âge. T. IL]; Petit-Dutaillis Ch., Guinard P Lessor des États d’Occident: France, Angleterre, Péninsule ibérique. Paris: PUF, 1937 [Histoire du Moyen Âge. T. IV. Deuxième partie], переиздание: Paris: PUF, 1944; FawtierR. L’Europe occidentale de 1270 à 1380. Paris: PUF, 1940 [Histoire du Moyen Âge. T. VI. Première partie]. Общие работы по истории Франции Со времен Лависса очень многие работы по истории Франции рассматривали и капетингский период; пусть никто из авторов не пожелал особо вникать в подробности событий, но все они привели более или менее сжатый их пересказ, сопроводив институциональным, социальным, экономическим анализом, становившимся все глубже по мере развития науки. В настоящее время самая интересная из таких работ — бесспорно, последняя, «Новая история средневековой Франции» (Nouvelle histoire de la France médiévale) в серии «Points. Histoire»; капетингскому периоду в ней посвящены т. 3: Barthélemy D. L’ordre seigneurial: XIe — XIIe siècle. Paris: Seuil, 1990 [Nouvelle histoire de la France médiévale. 3] и т. 4: Bourin-Derruau M. Temps d’équilibres, temps de ruptures: XIIIe siècle. Paris: Seuil, 1990. [Nouvelle histoire de la France médiévale, 4.] Можно также для знакомства с началом династии и ее предшественниками обратиться к т. 2: Theis L. L’héritage des Charles: de la mort de Charlemagne aux environs de l’an mil. Paris: Seuil, 1990. [Nouvelle histoire de la France médiévale. 2] [русский перевод: Тейс Л. Наследие Каролингов. IX–X века/Пер. Т. А. Чесноковой. М.: Скарабей, 1993]. Среди более ранних работ лучшие: Histoire de la France, 1. Naissance d’une nation: des origines à 1348/publ. sous la dir. de G. Duby. Nouv. éd. Paris: Larousse, 1992. — Duby G., Mandrou R. Histoire de la civilisation française. 1, Moyen Âge-XVIe siècle. Paris: Armand Colin, 1958. [Collection U], остающаяся классикой. Более живо написанная: Favier J. Histoire de France. 2, Le Temps des principautés, de l’an mil à 1515. Paris: Fayard, 1984, переиздание: Paris: Librairie générale française, 1992. [Le Livre de poche]. Издание: La France médiévale/sous la direction de J. Favier. Paris: Fayard, 1983 (переиздано в 1992 г.) включает исследования по отдельным темам. Среди учебников для системы высшего образования: Le Jan R. Histoire de la France: origines et premier essor, 480–1180. Paris: Hachette, 1996; Kerhervé J. Histoire de la France: la naissance de l’État moderne, 1180–1492. Paris: Hachette, 1998. [Carré histoire; 44.]; Gauvard C. La France au Moyen Âge du Ve au XVe siècle. Paris: PUF, 1996 [Collection Premier cycle]. Наконец, для первого знакомства можно использовать книгу: Chédeville A. La France au Moyen Âge. Paris: PUF, 1965 [Que sais-je? 69], много раз переизданную. Учебник, ставший классическим: Lemarignier J.-F. La France médiévale: institutions et société. Paris: Armand Colin, 1970 [Collection U.], переиздававшийся. Из более новых книг тема хорошо изложена в издании: Le Goff J. Le Moyen Âge, IXe — début XIVe siècle//Histoire de la France. 2, L’Etat et les pouvoirs/sous la dir. d’A. Burguière et J. Revel; vol. dir. par J. Le Goff. Paris: Seuil, 1989. P. 21–127. Фундаментальным изданием, столь же ясным, но намного более подробным, остается: Histoire des institutions françaises au Moyen Âge, publiée sous la dir. de F. Lot et R. Fawtier. Paris: PUF, 1957–1962. T. I. Institutions seigneuriales. Paris: PUF, 1957; T. IL Institutions royales, les droits du roi exercés par le roi. Paris: PUF, 1958; T. III. Institutions ecclésiastiques. Paris: PUF, 1962. Некоторую пользу еще можно извлечь из книги: Luchaire A. Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens (987–1180). Paris: Imprimerie nationale, 1883. 2 vol. История монархии: некоторые старые работы Приведем сначала некоторые входившие в старую библиографию книги, которые нельзя полностью заменить позднейшими трудами. Впрочем, можно было бы упомянуть и еще много книг, написанных выдающимися эрудитами в течение полувека до Второй мировой войны. Lot F. Fidèles ou vassaux? Essai sur la nature juridique du lien qui unissait les grands vassaux à la royauté, depuis le milieu du IXe jusqua la fin du XIIe siècle. Thèse de doctorat. Paris: E. Bouillon, 1904. Задача этой книги, цитируемой и обсуждаемой по сей день, состояла в том, чтобы показать, что шесть крупных вассалов короны с X в. были связаны с ней тесным оммажем; здесь встречаются парадоксальные суждения, но главное содержание книги — шесть монографических исследований о крупных княжествах. Newman W. М. Le domaine royal sous les premiers Capétiens (987–1180). Paris: Recueil Sirey, 1937. В этой тщательной описи королевских владений в период, когда они еще почти не выходили за пределы Иль-де-Франса, автор совершенно не стремился к обобщениям; однако, помимо документов, здесь можно найти хороший анализ самой природы домена. Fawtier R. Les Capétiens et la France: leur rôle dans sa construction. Paris: PUF, 1942 [Русский перевод: Фавтье P. Капетинги и Франция/Пер. Г. Ф. Цыбулько. СПб: Евразия, 2001]. Книга одного из лучших знатоков материала, довольно живая и написанная без претензий на то, чтобы исчерпать тему, но и по сей день вызывающая большой интерес благодаря свободе изложения и оригинальным подходам к исследованию. Schramm P. E. Der Kônig von Frankreich: das Wesen der Monarchie vom 9. zum 16. Jahrhundert; ein Kapitel aus der Geschichte des abendlàndischen Staates. Weimar: Bôhlau, 1939. 2 Bd. Темы, которые рассмотрел Шрамм (символика власти, выборы, ритуалы…), были блистательно раскрыты во многих позднейших работах, исправлены были и ошибки в деталях, но более ясного изложения, чем у него, нет. Bloch Ai. Les rois thaumaturges: étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre. Strasbourg: lstra; Paris: Humphrey Milford: Oxford University press, 1924. Переиздания: Paris: Gallimard, 1961 и 1983. [Bibliothèque des histoires.] [Русский перевод: Блок M. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии/Пер. В. А. Мильчиной. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998.] О значении этой книги для развития исследований капетингской монархии сказано выше. История монархии: некоторые новые работы Говоря о новых работах, мы намеренно почти не приводим статей и исключаем многие книги, потому что цель этой библиографии состоит отнюдь не в том, чтобы исчерпать материал, а чтобы указать читателям, что можно прочесть дополнительно, и позволить им найти другие работы при помощи выбранных нами. Напомним также, что в этом разделе перечислены только произведения, рассматривающие капетингский период целиком или большую его часть. Lewis A. W. Le Sang royal: la famille capétienne et l’État, France, Xe — XIVe siècle/trad, de l’anglais par J. Carlier. Paris: Gallimard, 1986. [Bibliothèque des histoires.] Научный и увлекательный анализ утверждения наследственного принципа в династии Капетингов. Beane С. Naissance de la nation France. Paris: Gallimard, 1985. [Bibliothèque des histoires.] (Переиздание: 1993, [Collection Folio. Histoire; 56].) Еще одна увлекательная книга, рассказывающая, как постепенно формировался образ Франции (особенно в конце Средневековья, но многие пассажи относятся непосредственно к Капетингам) благодаря написанию ее истории, укреплению ее священного характера (страна святого Дионисия, святого Людовика…) и усвоению королевской символики. Krynen J. Lempire du roi: idées et croyances politiques en France, XIIIe — XVe siècle. Paris: Gallimard, 1993. [Bibliothèque des histoires.] Автор, используя богатую литературу, показывает, как были заложены основы абсолютизма — как возникли сакрализация королевской власти, божественное право, утверждение верховенства династии и представление о необходимости ее власти. Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (XIe — XVe siècles)/sous la dir. de J. Krynen et A. Rigaudière. Bordeaux: Presses universitaires de Bordeaux, 1992. Pange J. de. Le Roi très chrétien: essai sur la nature du pouvoir royal en Franc. Paris: A. Fayard, 1949. Le Sacre des rois: actes du Colloque international d’histoire sur les sacres et couronnements royaux, Reims, 9–12 octobre 1975. Paris: les Belles lettres, 1985. Общей статьи о коронациях Капетингов нет, но есть несколько научных очерков о частных аспектах. Кстати, напомним, что коронациям первых Капетингов посвящено много работ. Le Goff J. Aspect religieux et sacré de la monarchie française du Xe au XIIIe siècle //Pouvoirs et libertés au temps des premiers Capétiens: colloque de Noyon, septembre 1987/publ. par E. Magnou-Nortier. Maulévrier: Hérault, 1992. P. 309–322 (также в издании: La royauté sacrée dans le monde chrétien: colloque de Royaumont, mars 1989/publ. sous la dir. de A. Boureau et C. S. Ingerflom. Paris: Éd. de l’École des Hautes études en sciences sociales, 1992). Erlande-Brandenburg A. Le Roi est mort: étude sur les funérailles, les sépultures et les tombeaux des rois de France jusqu’à la fin du XIIIe siècle. Paris: Arts et métiers graphiques, 1975. Regalia: les instruments du sacre des rois de France, les honneurs de Charlemagne: exposition, Paris, Musée national du Louvre, 14 octobre 1987 — 11 janvier 1988/catalogue par D. Gaborit-Chopin. Paris: Éd. de la Réunion des musées nationaux, 1987. [Monographies des musées de France.) Lombard-Jourdan A. Fleurs de lis et oriflamme: signes célestes du royaume de France. Paris: Presses du CNRS, 1991. Histoire militaire de la France/sous la dir. par A. Corvisier. 1, Des origines à 1715/sous la dir. de Ph. Contamine. Paris: PUF, 1997. [Quadrige.] Этот обзорный труд — всего лишь последнее звено в цепи произведений, немногочисленных, но важных, о войне и армиях в Средние века во Франции или в Западной Европе; в нем можно найти ссылки на эти издания. Le miracle capétien/sous la dir. de S. Rials. Paris: Perrin, 1987. [Passé simple.) Сборник кратких тематических статей. Bournazel É. La royauté feodale en France et en Angleterre (Xe — XIIIe siècles)//Les féodalités/sous la dir. de É. Bournazel, J.-P. Poly. Paris: PUF, 1998. P. 389–510. Gasparri F. La Chancellerie royale française aux XIIe — XIIIe siècles. Paris: Genève: Droz, 1978. Leyte S. Domaine et domanialité publique dans la France médiévale, XIIe — XVe siècles. Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg, 1996. Региональная история Как уже говорилось, место княжеств и самых скромных сеньорий в истории королевства далеко не сводится к их поглощению доменом — оно значительно. Большинству из них посвящены одна или две недавних работы. Надо также напомнить, что существует серия по региональной истории издательства «Privât», в книгах из которой уже описана вся территория страны. Каждая из них в двух-трех главах дает краткий обзор средневековой истории провинции. Первый том издания «Histoire des institutions françaises» Лота и Фавтье, уже упомянутого, включает ряд фундаментальных очерков развития важнейших из региональных государств. Надо также отметить, что многие из региональных диссертаций, посвященных скорей социально-экономическим вопросам, содержат ценные исследования по истории графства или герцогства, в состав которого входил регион: упомянем лишь Parisse М. Noblesse et chevalerie en Lorraine médiévale: les familles nobles du XI au XIII siècle. Nancy: Service des publications de l’Université de Nancy II, 1982, a также работу Д. Бартелеми о графстве Вандомском (уже упоминавшуюся). Монографии, содержание которых имеет более откровенно политический характер: Bur М. La formation du comté de Champagne: v. 950-v. 1150. Lille: Université de Lille III, 1977. Guillot O. Le comte d’Anjou et son entourage au XIe siècle. Paris: A. et J. Picard, 1972. 2 vol. Richard]. Les Ducs de Bourgogne et la formation du duché: du XIe au XIVe siècle. Paris: thèse dactylographiée, 1954. Génicot L. Études sur les principautés lotharingiennes. Louvain: Publications universitaires de Louvain, 1975. Здесь говорится о землях империи на северо-восточной границе, но эта книга заслуживает упоминания из-за их роли во французской истории и общих черт этих княжеств, которые она выявляет. Pirenne H. Histoire de Belgique des origines à 1914.5e éd. Bruxelles: Lamertin, 1902–1932, 7 vol.: T. 1, Des origines au commencement du XIVe siècle. Bruxelles: Lamertin, 1929. Переиздание: Histoire de Belgique des origines à nos jours. Bruxelles: La Renaissance du livre, 1948–1975. Les Principautés au Moyen Âge: communications du Congrès de Bordeaux, 1973. Paris: Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 1979. Особого внимания заслуживают сообщения: Fossier R. Sur les principautés médiévales en France. P. 9–17. — Pacaut M. Recherche sur les termes «Princeps, principatus, prince, principauté» au Moyen Âge. P. 19–27. — Musset L. Origines et nature du pouvoir ducal en Normandie jusqu’au milieu de XIe siècle. P. 47–59. Chédeville A., Tonnerre N.-Y. La Bretagne féodale: XIe — XIIIe siècle. Rennes: Ouest-France, 1987; Leguay J.-P., Martin H. Fastes et malheurs de la Bretagne ducale: 1213–1532. Rennes: Ouest-France, 1997. Sassier Y. Recherches sur le pouvoir comtal en Auxerrois, du Xe au début du XIIIe siècle. Auxerre: Société des fouilles archéologiques et des monuments historiques de l’Yonne, 1980. [Cahiers d’archéologie et d’histoire; 5.] Poly f.-P. La Provence et la société féodale: 879–1166, contribution à l’étude des structures dites féodales dans le Midi. Paris: Bordas, 1976. Первые Капетинги (987–1108) Ф. Менан Почти все нарративные источники этого периода изданы — чаще всего в XIX в., с кратким анализом, либо позже, с французским переводом, например, в серии «Классики французской истории в Средние века» (Les classiques de l’histoire de France au Moyen Âge). Adalbéron de Laon. Poème au roi Robert: introduction, édition et traduction par C. Carozzi. Paris: les Belles lettres, 1979. [Les classiques de l’histoire de France au Moyen Âge; 32.] Adémar de Chabannes. Chronique: publiée d’après les manuscrits par). Chavanon. Paris: A. Picard, 1897. [Collection de textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire; 20.] В настоящее время П. Бурген, Д. Ф. Каллахэн и Р. Лэнде готовят полное собрание его сочинений. Dudon de Saint-Quentin. De moribus et actis primorum Normanniae ducum. Éd. par J. Lair. Caen: Typ. F. Le Blanc-Hardel, 1865. [Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie; 23.] Guibert de Nogent. Autobiographie; introduction, édition et traduction par E.-R. Labande. Paris: les Belles lettres, 1981. [Les classiques de l’histoire de France au Moyen Âge; 34.] Guillaume de Jumièges. Gesta normannorum ducum/éd. critique par J. Marx. Rouen: A. Lestringant, 1914. Guillaume de Poitiers. Histoire de Guillaume le Conquérant. Éd. et trad, par R. Foreville. Paris: les Belles lettres, 1952. [Les classiques de l’histoire de France au Moyen Âge; 23.] Helgaud de Fleury. Vie de Robert le Pieux/texte éd., trad, et annoté par R.-H. Bautier et G. Labory. Paris: Centre national de la recherche scientifique, 1965. [Sources d’histoire médiévale; 1.] Ordericus Vitalis. Historiae ecclesiasticae libri tredecim… emendavit A. Le Prévost. Parisiis: J. Renouard, 1835–1855. [Société de l’Histoire de France. Publications in octavo.] Переиздание: The ecclesiastical history of Orderic Vitalis/ed. and transi, by M. Chibnall. Oxford: Clarendon Press, 1969–1980. [Oxford Medieval Texts.] Raoul Glaber. Les cinq livres de ses histoires (900–1044)/publ. par M. Prou. Paris: A. Picard, 1886. [Collection de textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire; 1.] Перевод: Histoires/trad, et présentées par M. Arnoux. Turnhout: Brépols, 1996. [Miroir du Moyen Âge.] Richer. Histoire de France (888–995). Éd. et. trad, par R. Latouche. Paris: les Belles Lettres, 1930–1937. 2 vol. [Les classiques de l’histoire de France au Moyen Âge; 12.] [Русский перевод. Рихер Реймсский. История/пер. А. В. Тарасовой. М.: РОССПЭН, 1997.] Yves de Chartres. Correspondance. Tome 1,1090–1098/éd. et trad, par J. Leclercq. Paris: les Belles Lettres, 1949. [Les classiques de l’histoire de France au Moyen Âge; 22.] Отрывки из текстов: L'An mille: oeuvres de Liutprand, Raoul Glaber, Adémar de Chabannes, Adalbéron, Helgaud/réunies, trad, et prés, par E. Pognon. Paris: Gallimard, 1947. [Mémoires du passé pour servir au temps présent; 6.] — L’An mil/prés, par G. Duby. Paris: Julliard, 1967. [Archives; 30.] — Les sociétés méridionales autour de Van mil: répertoire des sources et documents commentés/coordonné par M. Zimmermann. Paris: Éd. du Centre national de la recherche scientifique, 1992. [Sud.] Царствования первых четырех Капетингов когда-то были описаны в серии Лависса, и работа Люшера: Luchaire A. Les premiers Capétiens (987–1137). Paris: Hachette, 1901 [Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution. Tome deuxième. 2] была переиздана в 1980 г. издательством Tallandier. Совершенно незаменимы посвященные первым Капетингам работы Ж.-Ф. Лемаринье: Lemarignier J. F. Le gouvernement royal aux premiers temps capétiens (987–1108). Paris: Picard, 1965. См. также: Ganshof F. L. ^entourage des premiers Capétiens//Revue historique de droit français et étranger. Ser. 4, 46 (1968). P. 263–274. О Гуго Капете: Lot F. Études sur le règne de Hugues Capet et la fin du Xe siècle. Paris: É. Bouillon, 1903. Hugues Capet: roi de France/présentation de Hugues Capet par E. Pognon; textes de Hugues Capet, Richer, Gerbert, Helgaud… etc. Paris: Albin Michel, 1966. [Le mémorial des siècles. Les Hommes. Xe siècle.] TheisL. LAvènement d’Hugues Capet: 3 juillet 987. Paris: Gallimard, 1984. [Trente journées qui ont fait la France; 4.] Sassier Y. Hugues Capet: naissance d’une dynastie. Paris: Fayard, 1987. О Роберте II: Pfister Ch. Études sur le règne de Robert le Pieux: 996–1031. Paris: F. Vieweg, 1885. [Bibliothèque de l’École des hautes études. Sciences philologiques et historiques; 64.] Обзорной работы о царствовании Генриха I нет, но есть три статьи: Dhondt J. Henri 1er, l’Empire et l’Anjou (1043–1056)//Revue belge de philologie et d’histoire. T. 25, fasc. 1–2, 1946. P. 87–109 (положения этой статьи критикует О. Гильо в своем очерке о графе Анжуйском). Dhondt J. Quelques aspects du règne d’Henri 1er, roi de France//Mélanges d’histoire du Moyen Âge: dédiés à la mémoire de Louis Halphen. Paris: PUF, 1951. P. 199–208. Guyotjeannin O. Les actes de Henri 1er et la Chancellerie royale dans les années 1020–1060//Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 132 (1988). Nr. 1. Janvier-mars 1989. P. 81–97. О Филиппе I: Fliche A. Le Règne de Philippe 1er, roi de France (1060–1108). Thèse pour le doctorat ès lettres présentée à la Faculté des lettres de l’Université de Paris. Paris: Société française d’imprimerie et de librairie, 1912. Сюда следует добавить: Bautier R.-H. La prise en charge du Berry par le roi Philippe 1er et les antécédents de cette politique de Hugues le Grand à Robert le Pieux//Media in Francia: recueil de mélanges offert à Karl Ferdinand Werner à l’occasion de son 65e anniversaire par ses amis et collègues français. Maulévrier: Hérault, 1989. P. 31–60. Guyotjeannin O. Les actes établis par la chancellerie royale sous Philippe 1er//Bibliothèque de lÉcole des Chartes. 147 (1989). P. 29–48. На основе материалов коллоквиума: «Hugues Capet, 987–1987, la France de l’an mil» (Оксер, 26–27 июня 1987 г., Мец, 11–12 сентября 1987 г., Париж и Санлис, 22–25 июня 1987 г.) были сделаны публикации: Religion etculture autour de l’An mil: royaume capétien et Lotharingie/actes du colloque “Hugues Capet, 987–1987, la France de l’an mil”, Auxerre, 26 et 27 juin 1987; Metz, 11 et 12 septembre 1987; études réunies par D. Iogna-Prat et J.-Ch. Picard. Paris: Picard, 1990; — Le roi de France et son royaume autour de ΙΆn mil. J Colloque “Hugues Capet, 987–1987, la France de l’an mil”, Paris, Senlis, 22–25 juin 1987; études réunies par M. Parisse et X. Barrai i Altet. Paris: Picard, 1992. Часть статей была напечатана в сборнике: La France de Van mil! sous la dir. de R. Delort. Paris: Seuil, 1990. [Points. Histoire; 130.]. Все это было дополнено изданием: Atlas de la France de ΙΑη mil: état de nos connaissances/sous la dir. de M. Parisse. Paris: Picard, 1994. См. также: Brühl C. Naissance de deux peuples: «Français» et «Allemands»; IXe — XIe siècle/trad, de l’allemand par G. Duchet-Suchaux. Paris: Fayard, 1994. Pouvoirs et libertés au temps des premiers Capétiens: colloque de Noyon, septembre 1987/publ. par E. Magnou-Nortier. Maulévrier: Hérault, 1992. От Людовика VI до Филиппа Августа М. Шовен и Ф. Менан Людовик VI О царствовании Людовика VI есть исключительный источник информации — «Жизнь Людовика Толстого» Сугерия: Suger. Vie de Louis VI le Gros. Éditée et traduite par H. Waquet. Paris: H. Champion, 1929. [Les classiques de l’histoire de France au Moyen Âge, 11.], переиздание 1964 г. [русский перевод: Сугерий, аббат Сен-Дени. Жизнь Людовика VI Толстого, короля Франции (1108–1137)/пер. Т. Ю. Стукаловой. М.: Старая Басманная, 2006.] Другие произведения Сугерия (см. статью Словаря на его имя) тоже важны; единственным их полным изданием (включающим разные малые сочинения и переписку) остается Suger. Oeuvres complètes de Suger/recueillies, annotées et publiées d’après les manuscrits… par A. Lecoy de La Marche. Paris: Vve de J. Renouard, 1867 [Société de l’Histoire de France.]. Идет работа над новым полным изданием, которую возглавляет Ф. Гаспарри: первый том вышел в 1996 г. (Suger: Écrits sur la consécration de Saint-Denis; Lbeuvre administrative de l’abbé Suger de Saint-Denis; Histoire de Louis VII/texte établi, trad, et commenté par F. Gasparri. Paris: les Belles lettres, 1996. [Les classiques de l’histoire de France au Moyen Âge.]), второй анонсирован. Недавно был издан перевод разных произведений Сугерия: Suger. La geste de Louis VI et autres oeuvres/prés. M. Bur. Paris: Imprimerie nationale, 1994. [Acteurs de l’histoire.] Э. Панофский опубликовал со вступлением, переводом и комментарием сочинения Сугерия «Книга о делах управления» и «Об освящении Сен-Дени» (Abbot Suger. On the abbey church of St-Denis and its art treasures. [Sugerii abbatis “Sancti dionysii liber”.] Ed., transi, and annot. by E. Panofsky. Princeton, N. J.: Princeton University press, 1946; второе издание, исправленное и дополненное Гердой Панофски-Сёргель, вышло там же в 1979 г.). Еще два нарративных источника исключительного качества во многом связаны с событиями, к которым был причастен король: Galbert de Bruges. Du meurtre du glorieux Charles, comte de Flandre, trahi et assassiné. Publié par H. Pirenne. Paris: A. Picard, 1891. [Collection de textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire; 10.] Перевод: Galbert de Bruges. Le Meurtre de Charles le Bon. Trad, du latin par J. Gengoux. Anvers: Fonds Mercator, 1978. Guibert de Nogent. Autobiographie; introduction, édition et traduction par E.-R. Labande. Paris: les Belles lettres, 1981. [Les classiques de l’histoire de France au Moyen Âge; 34.] Что касается актов короля, до сих пор располагали только их анализом: Luchaire A. Louis VI le Gros: annales de sa vie et de son règne (1081–1137); avec une introduction historique. Paris: Picard, 1890. Недавно Академия надписей и изящной словесности опубликовала их полностью: Recueil des actes de Louis VI, Roi de France (1108–1137)/publié sous la direction de M. R.-H. Bautier; par M. J. Dufour. Paris: Académie des inscriptions et belles-lettres; diffusion De Boccard, 1992–1994. 4 v. [Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France.] Богатство источников контрастирует с малочисленностью исторических работ о царствовании Людовика VI: при всей его значимости ему не посвящено ни одной монографии со времен предисловия А. Лютера к его «Анналам», превосходного, но имеющего давность уже больше века и более не отвечающего на вопросы, которыми задаемся мы. Этот текст с купюрами был воспроизведен в издании: Luchaire А. Les premiers Capétiens (987–1137) [Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution. Tome deuxième. 2], op. cit. Надо надеяться, что публикация актов Людовика VI активизирует изучение этого периода. Пока что есть только отдельные исследования некоторых тем или некоторых периодов царствования. Благодаря двум из них, относящимся к царствованиям Людовика VI и Людовика VII, мы стали лучше понимать их важные аспекты: первое — это социальный анализ королевского окружения, перегруженный, но очень интересный, второй — общая оценка сильных и слабых сторон королевской власти; оба уже были упомянуты выше: Bournazel Ê. Le Gouvernement capétien au XIIe siècle: 1108–1180, op. cit., и Weiner K. F. Konigtum und Fürstentum im franzosischen 12. Jahrhundert, op. cit. О личности короля: Dufour J. Louis VI, roi de France (1108–1137), à la lumière des actes royaux et des sources narratives//Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Vol. 134, № 2. Avril-juin 1990. P. 456–482. В книге: Sassier Y. Louis VII. Paris: Fayard, 1991 рассказывается о последних годах короля. Сугерию посвящено намного больше работ, чем его повелителю: вступление А. Баке к изданию «Жизни Людовика Толстого» (Suger. Vie de Louis VI le Gros. Op. cit.), маленькая биография M. Обера: Aubert M. Suger. Abbaye S. Wandrille: Éditions de Fontenelle, 1950. [Figures monastiques.] и совсем новая работа М. Бюра: Виг M. Suger: abbé de Saint-Denis, régent de France. Paris: Perrin, 1991. Сельскохозяйственная деятельность Сугерия вызвала интерес у Ш. Игуне, большого специалиста по распашкам целины в Иль-де-Франсе, который посвятил ему две статьи (содержание второй шире, чем можно предположить по ее названию): Fligounet Ch. L’abate Suger e le campagne francesi//La bonifica benedettina. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 1963. P. 121–126; Higounet Ch. Notes sur «carruca» chez Suger//Miscellanea Mediaevalia in memoriam Jan Frederik Niermeyer. Groningen: Wolters, 1967. P 241–244; обе перепечатаны в издании: Higounet Ch. Paysages et villages neufs du Moyen Âge: recueil d’articles. Bordeaux: Fédération historique du Sud-Ouest, 1975. P. 119–123, 125–127. Но особое внимание в последнее время благодаря работам историков искусства о Сен-Дени вызвала деятельность Сугерия как строителя и коллекционера. В 1981 г. состоялся большой симпозиум; в состав его материалов вошли, в частности, короткие статьи о других сферах деятельности Сугерия — политике, монастырской реформе и т. д.: Abbot Suger and Saint Denis: a symposium held in 1981 at the Cloisters and at Colombia university/ed. by P. L. Gerson. New York: Metropolitan museum of art, 1986. Людовик VII Полного рассказа современника о его царствовании не было: Сугерий начал биографию, которая осталась незавершенной; еще одна, анонимная, закончилась 1166 г. и осталась очень краткой; подробно известно лишь о начале крестового похода — от монаха и будущего аббата Сен-Дени Эда Дейльского. Ссылки на издания (не содержащие переводов) можно найти в работах И. Сассье и М. Пако, упомянутых ниже. Опись актов царствования была сделана в 1885 г. А. Люшером, опубликовавшим те из них, которые не издавались раньше: Luchaire A. Études sur les actes de Louis VII. Paris: Picard, 1885. [Mémoires et documents.] Переиздание: Bruxelles: Culture et Civilisation, 1964. Любопытно, что, хотя этим царствованием чаще всего пренебрегали, а источники информации о нем достаточно ограничены, ему недавно посвятили две монографии: Pacaut М. Louis VII et son royaume. Paris: SEVPEN, 1964 [Bibliothèque générale de L’École Pratique des Hautes Études]. — Sassier Y. Louis VII. Paris: Fayard, 1991. Можно обратиться также к написанным А. Люшером главам «Людовик VII», «Филипп Август», «Людовик VIII» в «Истории Франции» под редакцией Э. Лависса: Histoire de France depuis les origines jusqua la Révolution. Op. cit. Ill, 1. P. 1–81 или к ее переизданию издательством Талландье 1980 г. Много дополнительной информации содержится в двух произведениях, имеющих выраженный аналитический характер: Pacaut М. Louis VII et les élections épiscopales dans le royaume de France. Paris: J. Vrin, 1957; Boussard J. Le gouvernement d’Henri II Plantagenêt. Paris: Librairie d’Argences, 1956. [Bibliothèque elzévirienne. Nouvelle série Études et documents.] Филипп Август Политическая важность этого царствования и прогресс в сфере административной документации отразились в большом объеме документов, которыми мы располагаем. Нарративные источники При зарождении историография французских королей воспроизвела образец, предложенный полвека назад Сугерием, и центр ее разработки надолго обосновался в Сен-Дени, сохраняя тесную связь с двором и его архивами. Полуофициальные рассказы об этом царствовании, дополняющие друг друга, оставили два великих историка: о первой части, до завершения великих завоеваний, — Ригор, о дальнейшем периоде — Вильгельм Бретонец. Оба рассказа носят название «Gesta Philippi Augusti» (Деяния Филиппа Августа); Вильгельм Бретонец создал также версию в стихах — «Филиппиду». Существует только их старинное издание: Oeuvres de Rigord et de Guillaume le Breton, historiens de Philippe-Auguste. Publiées par H. F. Delaborde. Paris: Renouard, 1882–1885. [Société de l’Histoire de France: 210.] 2 vol. Дипломатические источники Они несравненно богаче, чем для предшествующих царствований, и издатели предприняли обширный труд по их научной публикации, которая как раз завершается. Ее начал Л. Делиль: Delisle L. Catalogue des actes de Philippe-Auguste. Paris: A. Durand, 1856. Сегодня в нашем распоряжении имеются: Recueil des actes de Philippe Auguste, roi de France/publié sous la dir. de É. Berger par H.-F. Delaborde, C. Brunei, Ch. Samaran, M. Nortier, J. Favier et al. Paris: Imprimerie nationale, 1916–2004. 6 vol, a также: Le premier budget de la monarchie française: le compte général de 1202–1203/par F. Lot et R. Fawtier. Paris: librairie ancienne H. Champion, 1932. [Bibliothèque de l’École des hautes études. Sciences historiques et philologiques; 259.]. Идет публикация реестров Филиппа Августа. Вышел первый том, содержащий три реестра: Les registres de Philippe Auguste. Vol. I, Texte/publ. par J. W. Baldwin; sous la dir. de R.-H. Bautier. Paris: Imprimerie nationale: diffusion de Boccard, 1992. [Recueil des historiens de la France. Documents financiers et administratifs; 7.] Имеют ценность и другие источники, такие как счета 1213 и 1221 г. или приговоры суда Шахматной доски в Нормандии. Указания на работы, сопровождавшие эти большие публикации, можно найти в книге Дж. У Болдуина «Филипп Август и его правление», упомянутой ниже. Исследования, посвященные этому царствованию, тоже многочисленны и отличаются высоким качеством. Они вновь оживились за последние пятнадцать лет, так же как и публикации источников. Наиболее важны две больших книги: La France de Philippe Auguste: le temps des mutations: actes du colloque international organisé par le CNRS (Paris, 29 septembre-4 octobre 1980)/publ. sous la dir. de R.-H. Bautier. Paris: Centre national de la recherche scientifique, 1982. [Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique; 602.]; Baldwin]. W. The Government of Philip Augustus: foundations of French royal power in the Middle ages. Berkeley; Los Angeles; London: University of California press, 1986. Французский перевод: Philippe Auguste et son gouvernement: les fondations du pouvoir royal en France au Moyen Âge/trad, de l’anglais par B. Bonne. Paris: Fayard, 1991. С тех пор вышла еще одна биография: Sivéry G. Philippe Auguste. Paris: Plon, 1993. Самым тщательным исследованием событий по-прежнему остается работа: Cartellieri A. Philipp II. August, Konig von Frankreich. Leipzig: F. Meyer, Dyk, 1899–1922. 4 Bde. Можно обратиться также к написанным А. Люшером главам «Людовик VII», «Филипп Август», «Людовик VIII» в «Истории Франции» под редакцией Э. Лависса: Histoire de France depuis les origines jusqu’à la Révolution. Op. cit. Ill, 1. Наконец, содержание книги Ж. Дюби: Duby G. Le Dimanche de Bouvines: 27 juillet 1214. Paris: Gallimard, 1973. [Trente journées qui ont fait la France; 5.], переиздание: 1985 [Collection Folio. Histoire; 1] [Русский перевод: Дюби Ж. Битва при Бувине (27 июля 1214 г., воскресенье)/пер. Н. Матяш. М.: Путь, 1988] выходит далеко за рамки сражения. От Людовика VIII до Карла IV Красивого Ф. Менан Людовик VIII Об этом очень коротком царствовании нет недостатка в информации. Нарративные источники Винцент из Бове: Vincentius Bellovacensis. Speculum historiale//Speculum quadruplex. Duaci: B. Belleri, 1624. T. IV, in-folio, использовал «Турскую хронику», которую вел с 1221 по 1227 г. один каноник из Тура, и сделал к ней собственные добавления, прежде всего для 1226 г. Николай Брейский (Nicolas de Bray), автор «Gesta Ludovici VIII Francorum regis» (Деяний Людовика VIII, короля франков), оставил неполный и напыщенный рассказ, сделав из короля античного героя. Существует два издания «Большой хроники» Матвея Парижского: Matthaeus Parisiensis. Mattaei Parisiensis monachi Sancti Albani, chronica majora/edited by H. R. Luard. London: Longman, Brown, Green, Longman and Roberts, 1872–1883. 7 v.; Matthieu Paris. Chronica Majora de Matthieu Paris; traduite en français par A. Huilard-Bréholles. Paris: Paulin, libraire-éditeur, 1840–1841. 9 vol. В «Истории Вильгельма Маршала»: L’histoire de Guillaume le Maréchal/publ. par P. Meyer. Paris: Librairie Renouard, H. Laurens, successeur, 1891–1901, 3 vol., написанной, несомненно, около 1224–1225 гг., 2700 стихотворных строк посвящены борьбе суверена Плантагенета с Людовиком Французским. Дипломатические источники Inventaires et documents, publiés sous la direction du marquis de Laborde. Layettes du trésor des chartes. T. II [juillet 1223–1246]/par A. Teulet. Paris: H. Plon, 1866. Основные работы Petit-Dutaillis Ch. Étude sur la vie et le règne de Louis VIII (1187–1226). Paris: É. Bouillon, 1894. Sivéry G. Louis VIII, le lion. Paris: Arthème Fayard, 1995. Можно прочесть также: Pernoud R. La Reine Blanche. Paris: Albin Michel, 1972, переиздана в 1982 г. Sivéry G. Blanche de Castille. Paris: Fayard, 1990. Duby G. Guillaume le Maréchal ou le Meilleur chevalier du monde. Paris: Fayard, 1984. Aurell M. La Vielle et l’épée: troubadours et politique en Provence au XIIIe siècle. Paris: Aubier, 1989. [Collection historique.] Людовик IX Обилие источников соразмерно продолжительности и важности этого царствования. См. Sivéry G. Saint Louis et son siècle. Paris: Tallandier, 1983. P. 657–659. Нарративные источники Recueil des historiens des Gaules et de la France (t. XX–XXV). Там можно найти «Хронику» Примата, монаха Сен-Дени (t. XXIV, р. 1–106). «Большие французские хроники»: Les Grandes chroniques de France (publiées par P. Paris. Paris: Techener, 1838 или publiées par J. Viard. T. VII. Paris: Champion, 1932) излагают официальную историю. Можно прочесть также очень живое свидетельство Жана де Жуанвиля — «Мемуары», или «Историю», или «Жизнь Людовика Святого» в разных изданиях, в том числе: Jean de Joinville. Histoire de Saint Louis/publ. par Daunou et Naudet//RHF. T. XX. P. 190–304; Jean de Joinville. Histoire de Saint Louis suivie du Credo et de la lettre à Louis XI publ. par M. Natalis de Wailly. Paris: Vve de J. Renouard, 1868. [Société de l’histoire de France.]; Jean de Joinville. Histoire de Saint Louis//Historiens et chroniqueurs du Moyen Âge: Robert de Clari, Villehardouin, Joinville, Froissart, Commynes/édition établie et annotée par A. Pauphilet. Paris: Gallimard, 1952. [Bibliothèque de la Pléiade, 48.] P. 201–366. [Русский перевод: Жуанвиль Жан де. Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика/пер. со старофранц. Г. Ф. Цыбулько. СПб: Евразия, 2012.] Гильом из Нанжи, монах и архивист аббатства Сен-Дени, умерший незадолго до июля 1300 г., составил «Gesta Ludovici IX» (Деяния Людовика IX), перевод которых включен в «Большие французские хроники». Гильом написал также «Краткую хронику королей Франции» — подобие путеводителя для паломников, посещающих королевские гробницы в Сен-Дени. Оба текста можно найти в RHF, t. XX, р. 312–463 и с 649. Агиографические и приравненные к ним источники Благодаря личности монарха и его скорой канонизации в 1297 г. их количество огромно. В качестве примеров можно назвать: Geoffroi de Beaulieu. Vita et sancta conversatio piae memoriae Ludovici quondam regis Francorum//RHF, XX (1840), p. 3–27, Guillaume de Saint-Pathus. Les miracles de saint Louis/éd. par P. B. Fay. Paris: H. Champion, 1931. [Les classiques français du Moyen Âge; 70.] и Guillaume de Saint-Pathus. Vie de saint Louis /publiée… par H.-F. Delaborde. Paris: A. Picard et fils, 1899. [Collection de textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire; 27.]. См. также Les Propos de saint Louis/présentés par D. O’Connell et préfacés par J. Le Goff. Paris: Gallimard: Julliard, 1974. [Collection Archives; 52.] и Delaborde H.-F. Le texte primitif des enseignements de Saint Louis à son fils //Bibliothèque de l’École des Chartes. T. LXXIII (1912). P. 73–200, 237–262, 502–504. Дипломатические источники Layettes du trésor des chartes. T. II, op. cit.; T. III. [1246–1261] /par J. de Laborde, 1875; T. IV. [1262–1270]/par É. Berger, 1902. — Enquêtes administratives d’Alphonse de Poitiers, arrêts de son parlement tenu à Toulouse et textes annexes, 1249–1271/éd. par P.-F. Fournier, P. Guébin. Paris: Imprimerie nationale, 1959. [Collection de documents inédits sur l’histoire de France, publiés par les soins du Ministre de l’éducation nationale.] — Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, publ. par F.-A. Isambert et al. Paris: Belin-Leprieur, Plon, 1821–1833.29 vol. T. I–IL–Correspondance administrative d’Alfonse de Poitiers/publ. par A. Molinier. Paris: Imprimerie nationale, 1894–1900. T. I, 1894. [Collection de documents inédits sur l’histoire de France.] — Les Olim, ou Registres des arrêts rendus par la Cour du Roi: sous les règnes de Saint Louis, de Philippe Le Hardi, de Philippe Le Bel, de Louis Le Hutin et de Philippe Le Long /publ. par le comte Beugnot. Paris: Imprimerie royale, 1839–1848. [Collection de documents inédits sur l’histoire de France, le série, Histoire politique.] T. 1,1839. — Ordonnances des rois de France de la troisième race. Paris: Imprimerie royale, 1723–1849. 22 vol. T. I, 1723. Юридические источники Beaumanoir Ph. Coutumes de Beauvaisis: texte critique publié… par Am. Salmon. Paris: A. Picard, 1899–1900. 2 vol. — Boileau É. Le Livre des métiers d’Étienne Boileau, publié par R. de Lespinasse et F. Bonnardot. Paris: Imprimerie nationale, 1879. — Les Établissements de Saint-Louis. Introduction et notes de P. Viollet, publié pour la Société de l’histoire de France. Paris: Renouard, 1881–1886. 3 vol. — Li livres de jostice et de plet/publ. parRapetti. Paris: Firmin Didot Frères, 1850. [Collection de documents inédits sur l’histoire de France.] Основные работы Le Goff J. Saint Louis. Paris: Gallimard, 1996 [Русский перевод: Лe Гофф Ж. Людовик IX Святой/пер. В. И. Матузовой. М.: Ладо-мир, 2001.] — фундаментальный труд. Книги: Richard J. Saint Louis: roi d’une France féodale, soutien de la Terre sainte. Paris: Fayard, 1983 и Sivéry G. Saint Louis et son siècle. Paris: Tallandier, 1983, представляют собой выдающиеся обзорные работы, представленные в Предисловии. Одновременно с ними полезно читать: Lorcin М.-Th. La France au XIIIe siècle: économie et société. Paris: Nathan, 1975. [Nathan université, information, formation. Histoire.], очень содержательную книгу, и Sivéry G. L’Économie du royaume de France au siècle de saint Louis: vers 1180 — vers 1315. Lille: Presses universitaires de Lille, 1984. [Histoire], совсем новую, снабженную очень содержательными картами; книги: Sivéry G. Les Capétiens et l’argent au siècle de Saint Louis: essai sur l’administration et les finances royales au XIIIe siècle. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 1995. [Economies et sociétés: histoire.] и Septième centenaire de la mort de saint Louis: actes des Colloques de Royaumont et de Paris, 21–27 mai 1970. Paris: les Belles lettres, 1976, замыкают список главных изданий, внесших вклад в изучение как личности монарха, так и некоторых «моментов» его царствования, например административной реформы 1254–1256 гг. Прочие работы В числе которых есть и имеющие особую историографическую ценность: Bailly A. Saint Louis. Paris: A. Fayard, 1949. — Berger É. Histoire de Blanche de Castille, reine de France; thèse pour le doctorat, présentée à la Faculté des lettres de Paris. Paris: Thorin et fils, 1895. — Berger É. Saint Louis et Innocent IV, étude sur les rapports de la France et du Saint-Siège. Paris: Thorin et fils, 1893. — Boutaric E. Saint-Louis et Alfonse de Poitiers, étude sur la réunion des provinces du Midi et de l’Ouest à la Couronne et sur les origines de la centralisation administrative. Brionne: Le Portulan, 1970. — Brachet A. Pathologie mentale des rois de France. Louis XI et ses ascendants. Une vie humaine étudiée à travers six siècles d’hérédité. 852–1483. Paris: Hachette, 1903. — Cristiani L. Saint Louis: roi de France: 1214–1270. Paris: Apostolat de la presse, 1958. — Duvernoy J. Le Catharisme: l’histoire des Cathares. Toulouse: Privât, 1979. — Faral E. La Vie quotidienne au temps de saint Louis. Paris: Hachette, 1942 [Русский перевод: Фараль Э. Повседневная жизнь во времена Людовика Святого/Пер. с фр. М. Ю. Некрасова. СПб: Евразия, 2009.] — Faure J.-A.-F. Histoire de saint Louis. Paris: Hachette, 1866. 2 vol. — Guth P. Saint Louis, roi de France. Paris: Bloud et Gay, 1960. — Le Nain de Tillemont L.-S. Vie de saint Louis, roi de France. Paris: J. Renouard, 1847–1851. 6 vol. [Société de l’histoire de France.] — Levron J. Saint Louis ou l’Apogée du Moyen Âge. Paris: Perrin, 1976. [Présence de l’histoire.] — Pernoud R. Un chef d’État: saint Louis de France. Paris: I. Gabalda et Cie, 1960. [Situation des saints.] — Wallon H. Saint-Louis et son temps. Paris: Hachette, 1876. 2 vol. Некоторые специальные исследования Aubert F. Histoire du Parlement de Paris, de l’origine à François 1er, 1250–1515. Paris: A. Picard et fils, 1894. 2 vol. T. I. — Cazelles R. De la fin du règne de Philippe Auguste à la mort de Charles V. Paris: Association pour la publication d’une histoire de Paris: diffusion Hachette, 1972. [Nouvelle histoire de Paris, 3.] — Cazelles R. La réglementation royale de la guerre privée de Saint Louis à Charles V et la précarité des ordonnances//Revue historique de droit français et étranger (RHDFE). 4e série. 38 (1960). P. 530–548. — Coornaert E. Notes sur les corporations pai isiennes au temps de Saint Louis d’après le «Livre des métiers» d’Étienne Boileau//Revue historique. 177 (1936). P. 343–352. — Langlois Ch.-V. Les origines du Parlement de Paris//Revue historique. 42 (1890). P. 74–114. — Langlois Ch.-V. Doléances recueillies par les enquêteurs de St. Louis//Revue historique. 92 (1906). P. 1–41. — Mollat M. Le “Passage” de Saint Louis à Tunis. Sa place dans l’histoire des croisades//Revue d’histoire economique et sociale (RHES). 50 (1972). P. 289–303. — Sivéry G. La rémunération des agents des rois de France au XIIIe siècle//RHDFE. 58 (1980). P. 587–607. Филипп III Смелый Можно отметить сравнительную нехватку источников, так как административные и судебные архивы частично были уничтожены. К тому же этот промежуточный хронологический период, находящийся между двумя великими царствованиями, оказался в относительной немилости у историков разных уровней. Нарративные источники Отметим «Gesta Philippi III» (Деяния Филиппа III) Гильома из Нанжи, тесно связанные с «Большими французскими хрониками» и историографической мастерской Сен-Дени и до самого 1277 г. очень зависимые от текста Примата. После этого года их автор выступал как очевидец царствования Филиппа III, но его версия событий иногда вызывает сомнения. Есть также французский перевод «Хроники царствования Филиппа III» Примата, сделанный Жаном дю Винье (RHF, t. XXIII, р. 73–106). «Хроника» Анонима из рукописи 2815, богатая подробностями, была написана до 1297 г. (RHF, t. XXI, р. 91–102). Сохранились также местные и провинциальные хроники: «Рифмованная хроника Сен-Маглуар в Париже» (RHF, t. XXIII, р. 81), лимузенские, фламандские и нормандские хроники и особо ценная хроника Гильома де Пюилорана (RHF, t. XX, р. 776). Эпическая поэма Г. Анелье, излагающая «Историю Наваррской войны» 1276–1277 гг., была издана Ф. Мишелем: Anelier G. Histoire de la guerre de Navarre en 1276 et 1277/publ. avec une trad., une introd. et des notes par F. Michel. Paris: Imprimerie impériale, 1856. [Collection de documents inédits sur l’histoire de France.] Интересные подходы можно найти также в итальянских, каталонских и английских хрониках. Дипломатические источники Некоторые акты 1270–1285 гг. были записаны писцами Канцелярии на последних страницах реестров Людовика Святого и Филиппа Августа. Сохранилось прекрасное собрание хартий. В судебных архивах содержатся реестры «Олим» (Les Olim, ou Registres des arrêts… Op. cit. 4 vol., 1839–1848). Восстановлены некоторые обрывки из архивов Счетной палаты, сожженных в XVIII в. От архивов бальяжей и сенешальств, которые могли бы прояснить отношения между центральной властью и местными чиновниками, осталось немногое. За рубежом немало можно найти в Архивах арагонской короны и в Государственном архиве Великобритании (содержащем переписку между французским двором и Эдуардом I Английским). О литературе и истории идей Представление об очень богатом вкладе этого периода в литературу и философию можно составить по «Литературной истории Франции» (Histoire littéraire de la France. Paris, 1733–2008), tt. 20 (1843), 26 (1873)—33 (1906). «Кутюмы Бовези» Ф. Бомануара (Beaumanoir Ph. Coutumes de Beauvaisis. Op. cit.) заслуживают того, чтобы их отнесли к царствованию Филиппа III. Политическая история царствования Со времени выхода книги Ланглуа: Langlois Ch.-V. Le Règne de Philippe III le Hardi. Paris: Hachette, 1887 появилось мало нового. Среди самых значительных вкладов в изучение периода отметим: Coutumes de Beauvaisis. 3, Commentaire historique et juridique par G. Hubrecht. Paris: A. et J. Picard, 1974 и Aspects de la vie au XUIe siècle, histoire, droit, littérature: actes du Colloque international “Philippe de Beaumanoir et les Coutumes du Beauvaisis, 1283–1983”, journées du 14–15 mai 1983. Beauvais: Groupe d’étude des monuments et oeuvres d’art du Beauvaisis, 1984. Упомянем также: Carolus-Barré L. Les baillis de Philippe III le Hardi. Recherches sur le milieu social et la carrière des agents du pouvoir royal dans la seconde moitié du XIIIe siècle//Annuaire-bulletin de la Société de l’Histoire de France. 1969. P. 109–244. О религиозной и социальной истории 1274, année charnière: mutations et continuités/Colloque international du Centre national de la recherche scientifique, Lyon, Paris, 30 septembre — 5 octobre 1974. Paris: Éd. du CNRS, 1977. [Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique; 558.] — Langlois Ch.-V. La vie en France au Moyen Âge d’après quelques moralistes du temps. Paris: Hachette, 1908. — Bériou N. La prédication au béguinage de Paris pendant l’année liturgique 1272–1273//Recherches augustiniennes. 13 (1978). P. 105–229. — La Prédication de Ranulphe de La Houblonnière: sermons aux clercs et aux simples gens à Paris au XIIIe siècle/publ. par N. Bériou. Paris: Études augustiniennes, 1987. 2 vol. Эта книга погружает нас в атмосферу парижского прихода 1270–1280-x гг. Филиппп Красивый Основные источники и библиография приведены в книге: Favier J. Philippe le Bel. Paris: Fayard, 1978, переизд. 1998. Нарративные источники Они собраны по преимуществу в RHF, t. ХХ — ХХII. Помимо «Больших французских хроник»: Les Grandes chroniques de France (t. VIII, publié par P. Paris. Paris: Techener, 1837 или t. IX, publié par J. Viard. T. VII. Paris: Champion, 1937), внимание привлекают три произведения. Уже упоминавшийся Гильом из Нанжи оставил всемирную хронику, или «Chronicon», от сотворения мира до 1300 г., которая становится оригинальной, когда речь заходит о времени жизни автора. Первую редакцию этой хроники один аноним продолжил с 1300 по 1303 г.; вторая была пересмотрена и продолжена до 1340 г. (Guillaume de Nangis. Chronique latine de Guillaume de Nangis, de 1113 à 1300, avec les continuations de cette chronique, de 1300 à 1368. Nouv. éd., revue sur les manuscrits, annotée et publiée… par H. Géraud. Paris: J. Renouard, 1843–1844. 2 vol.). Иоанн Сен-Викторский — автор «Memoriale historiarum», который составлялся с 1307–1311 гг. и был завершен до 1335 г. Разделяя интересы французского короля, Иоанн очень интересовался Англией. Он довел всемирную хронику в форме простых анналов до царствований Филиппа IV и его сыновей, до 1322 г. (частично издана в составе RHF, t. XXI, р. 623–673; см. также: Samaran Ch. Jean de Saint-Victor, chroniqueur//HLF. T. 41 (1981). P. 1–23). Наконец, Гильом Гиар, принимавший участие во Фламандской кампании 1304 г., сочинил в 1306–1307 гг. «Ветвь королевских родов» (Branche des royaux lignages) в честь Филиппа Красивого и затем, чтобы восстановить истину об этой войне. Его хроника охватывает 1180–1307 гг., но как очевидец он говорит только о 1296–1304 гг. (частичное издание — RHF, t. XXII, р. 171; издание Ж. А. Бюшона: Guillaume Guiart. Branche des royaux lignages. Chronique métrique, publiée… par J.-A. Buchon. Paris: Verdière, 1828. [Collection des chroniques nationales françaises; T. 7 et 8.]). Можно добавить «Метрическую хронику, приписываемую Жоффруа Парижскому» (La Chronique métrique attribuée à Geoffroy de Paris: texte publié… par A. Diverrès. Paris: les Belles Lettres, 1956. [Publications de la Faculté des lettres de l’Université de Strasbourg; 129.]): длиной почти в восемь тысяч стихов, она начинается с 1300 г. и завершается осенью 1316 г. С 1313 г. рассказ, основанный на увиденном и услышанном, становится более достоверным. Автор был, несомненно, клерком канцелярии или парламента, почитавшим власть, но очень критично настроенным по отношению к современникам. Редкий случай — он проявлял интерес к коммерческим и финансовым темам. «Цветы хроник» (Flores chronicorum) Бернара Ги (частичное издание: Bernard Gui. Flores Chronicorum//Vitaepaparum Avenionensium. Nouv. éd. par G. Mollat. Paris: Letouzey et Ane, 1914–1922. 4 vol. T. I (1914): Baluze É. (Stephanus Baluzius). [Clément V, Jean XXII, Benoit XII, Clément VI, Innocent VI, Urbain V, Grégoire XI, Clément VII.]) следует читать в свете таких книг, как Bernard Gui et son monde. Toulouse: Privât, 1981. [Les Cahiers de Fanjeaux; 16] и Guenée B. Entre l’Église et l’État: quatre vies de prélats français à la fin du Moyen Âge (XIIIe — XVe siècles). Paris: Gallimard, 1987. [Bibliothèque des histoires]. P. 49–85. Среди региональных и местных хроник особое внимание следует обратить на Recueil des chroniques de Flandre/publ. par J. J. de Smet. Bruxelles: F. Hayez, 1837–1865. 4 vol. [Collection de chroniques belges inédites; 3,1–4.] и Gilles li Muisis. Chroniques et Annales de Gilles Le Muisit: abbé de St. Martin de Tournai (1272–1352)/publié… par H. Lemaître. Paris: Renouard, 1906. [Publications pour la Société de l’histoire de France.]. Жиль ле Мюизи, сначала монах, а потом аббат монастыря Сен-Мартен в Турне, записал свой рассказ в конце жизни, между 1347 и 1353 г. Обстоятельно и местами живо он описал события, происходившие с 1294 по 1349 г. (см. Coville A. Gilles li Muisis//HLF. T. 37. P. 250–324. — Guenée B. Entre l’Église et l’État. Op. cit. P. 87–124). Дипломатические источники Ordonnances des rois de France de la troisième race. Paris: Imprimerie royale, 1723–1849. 22 vol. T. I, 1723. — Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, publ. par F-A. Isambert et al. Paris: Belin-Leprieur, Plon, 1821–1833. 29 vol. T. II, 1270-e гг. — Glénisson J., Guérout J. Registres du Trésor des chartes. T. I, Règne de Philippe le Bel: inventaire analytique. Paris: Imprimerie nationales, 1958. [Archives nationales.] — Les Olim, ou Registres des arrêts… Op. cit. — Langlois Ch.-V. Registres perdus des archives de la Chambre des comptes de Paris. Paris: Imprimerie Nationale, 1916. — Digard G. et al. Les registres de Boniface VIII. Paris: E. de Boccard: Fontemoing, 1884–1935. 4 vol. [Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome. 2e série; 4.] Есть также сборники документов по разным отдельным темам: Dupuy P. Histoire du différend d’entre le pape Boniface VIII et Philippe le Bel royde France. Paris: S. et G. Cramoisy, 1655 (coc. 627 — процесс Б. Cecce). — Lizerand G. Le Dossier de l’affaire des Templiers. Paris: É. Champion, 1923 [Les classiques de l’histoire de France au Moyen Âge, 2.] (переиздано: Paris: les Belles lettres, 1989). — Langlois Ch.-V. Textes relatifs à l’histoire du Parlement depuis les origines jusqu’en 1314. Paris: Picard, 1888 [Collection de textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire.] — Picot G. Documents relatifs aux états généraux et assemblées réunis sous Philippe le Bel. Paris: Imprimerie nationale, 1901. [Documents inédits sur l’histoire de France.] Бухгалтерские источники Их больше, чем для предшествующих царствований: Comptes du trésor (1296, 1316, 1384, 1477)/publ. par R. Fawtier; sous la dir. de Ch.-V. Langlois. Paris: Imprimerie nationale, 1930. — Comptes royaux (1285–1314)/publ. par R. Fawtier avec le concours de F. Maillard. Paris: Imprimerie nationale, 1953–1956. 2 vol. [Recueil des historiens de la France: Documents financiers; 3.] — Les journaux du trésor de Philippe IV le Bell publiés par J. Viard. Paris: Imprimerie nationale, 1940. [Collection de documents inédits sur l’histoire de France.] — Inventaire d’anciens comptes royaux/dressé par R. Mignon sous le règne de Philippe de Valois; publ. par M. Ch.-V. Langlois. Paris: C. Klincksieck, 1899. [Recueil des historiens de la France. Documents financiers; 1.]. Сохранились свитки тальи, собранной в Париже в 1292, 1296, 1297 и 1313 г. (очень ценные для демографического и социального исследования жизни столицы), и некоторое количество муниципальных счетов (Гент, 1280–1336; Ипр, 1267–1329; Кале). Б. Дельмер и др. издали: Delmaire В. Le compte général du receveur d’Artois pour 1303–1304. Bruxelles: Académie royal des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 1977. Политические и политико-религиозные сочинения Очень многочисленные, ввиду сложившихся обстоятельств: Dubois, Pierre. De recuperatione Terre Sancte: traité de politique générale/publié… par Ch.-V. Langlois. Paris: A. Picard, 1891. — Aegidius Romanus. De regimine principum. Romae: Apud Antonium Bladum, 1556. Перепечатка: Frankfurt: Minerva-Verlag, 1968. Сатирическая литература Тоже имеется в обилии. Следует отметить: Gervais du Bus. Le roman de Fauvel/publ. par A. Lângfors. Paris: Firmin-Didot, 1914–1919. [Société des anciens textes français], обе книги которого были завершены в 1310 и 1314 г. Автор, поначалу капеллан Ангеррана де Мариньи, после стал королевским нотарием и оставался им до 1338 г. Он обличал мир «наизнанку», перевернутый вверх дном, где тем не менее победа зла не предрешена. Он сетовал на всемогущество королевских советников (см. Paris P. Le Roman de Fauvel//HLF. T. 32 (1898). P. 108–153). «Роман о плуте Лисе» (Le Roman de Renart le contrefait, publié par G. Raynaud et Fl. Lemaître. Paris: H. Champion, 1914. 2 vol.) написан клириком из Труа, сочинившим с 1319 по 1322 г. около 32 тыс. стихов, бичуя современников. С 1328 по 1342 г. он переработал и расширил свое произведение (см. Raynaud G. Renart le Contrefait et ses deux rédactions//Romania. 37 (1908). P. 245–283 и Alter J. V. Les origines de la satire antibourgeoise en France. Genève: Droz, 1966. [Histoire des idées et critique littéraire.]). Основные работы Favier J. Philippe le Bel. Paris: Fayard, 1978, переизд. 1998, — по-прежнему фундаментальный труд. Favier J. Un conseiller de Philippe le Bel, Enguerran de Marigny. Paris: PUF, 1963. [Mémoires et documents publiés par la Société de l’École des chartes. 16.] [Русский перевод: ФавьеЖ. Ангерран де Мариньи. Советник Филиппа IV Красивого/пер. А. В. Лентовской. СПб: Евразия, 2003.] Для справки упомянем: Boutaric Е. La France sous Philippe le Bel. Étude sur les institutions politiques et administratives du Moyen Âge. Paris: H. Plon, 1861. Lévis-Mirepoix A. de. Le Siècle de Philippe le Bel. Paris: le Livre contemporain, 1961. [Présence de l’histoire.] Другие важные исследования: Borelli de Serres. Recherches sur divers services publics du XIIIe au XVIIe siècle. Paris: Picard, 1895–1909. 3 vol. — Cazeïles R. De la fin du règne de Philippe Auguste à la mort de Charles V. Paris: Association pour la publication d’une histoire de Paris: diffusion Hachette, 1972. [Nouvelle histoire de Paris, 3.] — Funck-Brentano F. Les Origines de la guerre de Cent ans: Philippe le Bel en Flandre. Thèse présentée à la Faculté des lettres de Paris. Paris: H. Champion, 1896. — Pegues F. J. The lawyers of the last Capetians. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1962. — Poirel D. Philippe le Bel. Paris: Perrin, 1991. [Passé simple.] представляет особу монарха в новом свете. О церковных проблемах Pacaut M. La théocratie: l’Église et le pouvoir au Moyen Âge. Paris: Montaigne, 1957. [Collection historique.] — Lagarde G. de. La Naissance de l’esprit laïque au déclin du Moyen Âge. Louvain: Nauwelaerts, 1956–1963. 5 vol. — Digard G. Philippe le Bel et le Saint-Siège de 1285 à 1304. Liège: G. Thone; Paris: Recueil Sirey, 1937. 2 vol. — Vidal J. M. Bernard Saisset (1232–1311). Toulouse: Privât; Paris: Picard, 1926. [Histoire des eveques de Pamiers; 1.] — Leclercq J. Jean de Paris et l’ecclésiologie du XIIIe siècle. Paris: J. Vrin, 1942. — Rigault A. Le Procès de Guichard, évêque de Troyes (1308–1313). Paris: A. Picard et fils, 1896. [Mémoires et documents publiés par la Société de l’École des chartes, L] — Cohn N. Démonolâtrie et sorcellerie au Moyen Âge: fantasmes et réalités/trad, de l’anglais par S. Laroche et M. Angeno. Paris: Payot, 1982. [Bibliothèque historique.] — Hefele Ch.-J. Histoire des conciles… Nouvelle traduction française faite sur la 2e édition allemande, corrigée et augmentée… par Dom. H. Leclercq. Paris: Letouzey et Ané, 1907–1913. 101. T. VI (1914). — Demurger A. Vie et mort de l’ordre du Temple: 1118–1314. Paris: Éd. du Seuil, 1985. [Русский перевод: Демурже A. Жизнь и смерть ордена тамплиеров. 1120–1314/пер. А. Н. Саниной. СПб: Евразия, 2008.], содержит полную библиографию на эту тему. Pernoud R. Les Templiers. Paris: PUF, 1974. [Que sais-je? 1557.] Финансы и монета Чтобы разобраться с финансовыми и монетными проблемами, особо важными и сложными, следует начать с книги: Finance et fiscalité au bas Moyen Âge-, textes choisis et présentés par J. Favier. Paris: Société d’édition d’enseignement supérieur, 1971. [Regards sur l’histoire; 15.], a потом приступить к следующим: Strayer J. R., Taylor Ch. H. Studies in early French taxation. Cambridge, Mass.: Harvard University press, 1939. [Harvard historical monographs. XII]. — Cazeïles R. Quelques réflexions à propos des mutations de la monnaie royale française (1295–1360)//Moyen Âge. 72 (1966). P. 83–105, 251–278. — Grunzweig A. Les Incidences internationales des mutations monétaires de Philippe le Bel//Moyen Âge. 59 (1953). P. 117–172. — Piton C. Les Lombards en France et à Paris. Paris: H. Champion, 1892. О типах монет: Blanchet J.-A., Dieudonné A. Manuel de numismatique française. Paris: A. Picard et fils, 1912–1936. 4 vol., и Lafaurie J. Les Monnaies des rois de France. Paris: E. Bourgey; Bâle: Monnaies et médailles, 1951–1956. 1951–1956. 2 vol. T. 1. Hugues Capet à Louis XII. Paris, E. Bourgey, 1951. Специальные исследования Aubert F. Histoire du Parlement de Paris, de l’origine à François 1er, 1250–1515. Paris: A. Picard et fils, 1894. 2 vol. Assemblées d’états. Leuven: Nauwelaerts; Paris: B. Nauwelaerts, 1965. Bautier R.-H. Diplomatique et histoire politique: ce que la critique diplomatique nous apprend sur la personnalité de Philippe le Bel//Revue historique. 259 (1978). P. 3–27. Béchon R. Pierre Flotte, chancelier de France. Riom: E. Girerd, 1891. [Cour d’appel de Riom. Audience solennelle de rentrée du 16 octobre 1891.] Delisle L. Chronologie des baillis et sénéchaux royaux depuis les origines jusqu’à l’avènement de Philippe de Valois//RHF. T. XXIV (1904). P. 15–270,369–385. Favier J. Les légistes et le gouvernement de Philippe le Bel//Journal des Savants. 1969. P. 92–108. Guenée B. La géographie administrative de la France à la fin du Moyen Âge: élections et bailliages//Le Moyen Âge. 67 (1961). P. 293–323. Perrichet L. La Grande chancellerie de France, des origines à 1328. Thèse pour le doctorat (sciences économiques et politiques). Paris: L Larose et L. Tenin, 1912. Petit J. Charles de Valois (1270–1325). Paris: A. Picard et fils, 1900. Verger J. Ad studium augmentandum: L’utopie éducative de Pierre Dubois dans son De recuperatione Terre Sancte, v. 1306//Mélanges de la bibliothèque de la Sorbonne offerts à André Tuilier. 8 (1988). P. 106–122. Viard J. La Cour (Curia) au commencement du XIVe siècle//BEC. 77 (1916). P. 74–87. Последние Капетинги Нарративные источники К «Большим французским хроникам»: Les Grandes chroniques de France (publ. par J. Viard. T. VIII–IX. Paris: Champion, 1934–1937) и основным хроникам, упомянутым для царствования Филиппа IV (Гильом из Нанжи и продолжатели, Иоанн Сен-Викторский) добавим «Продолжение Жирара из Фраше» (Continuation de Girard de Frachet//RHF. P. XXI) и «Историю и хроники Фландрии», составленные в монастырях Сент-Омера (Istore et croniques de Flandres: d’après les textes de divers manuscrits/par M. le baron Kervyn de Lettenhove. Bruxelles: F. Hayez, 1879–1880. [Collection de chroniques belges inédites; 19,1–2.] 2 vol.), не следует забывать и «Историю Флоренции» Виллани: Villani G. Istorie florentine//Muratofi L. A. Rerum Italicarum scriptores. Mediolani: ex Typographia Societatis Palatinae in Regia Curia, 1728. Cols. 1007–1196. [Русский перевод: Джованни Виллани. Новая хроника или история Флоренции/пер. М. А. Юсима. М.: Наука, 1997.] Жоффруа Парижский оставил ряд «Сказов», сочиненных с 1314 по 1318 г.: «Avisement pour le roy Louis» [Предупреждение королю Людовику] (1314–1315); «Du roy Phelipe qui ores régné» [О короле Филиппе, который ныне царствует] (ноябрь 1316 г.) — советы, адресованные Филиппу Длинному; «De alliatis» [О союзниках] и «Dit des alliés» [Сказ о союзниках] призывают короля беспощадно бороться с провинциальными лигами; «Un songe» [Песня] высмеивает Людовика X и осыпает похвалами его преемника. Эти «Сказы» были изданы и переведены на английский: Geffroi de Paris. Six historical poems written in 1314–1318, publ. and transi, into English by W. H. Storer and Ch. A. Rochedieu. Chapel Hill: University of North Carolina, 1950. [University of North Carolina. Studies in the Romance languages and literatures. 16. — Texte en vieux français et traduction anglaise en regard.] Текст «Трактата о прославлении Парижа» [Tractatus de laudibus Parisiis] Иоанна Яндунского, сочиненный в 1323 п, включен в издание: Le Roux de Lincy A. J. V, Tisserand L. M. (éd.). Paris et ses historiens aux XIVe et XVe siècles: documents et écrits originaux. Paris: Impr. impériale, 1867. P. 33–79. Дипломатические источники Можно сожалеть о многих потерях в архивах Счетной палаты, Парламента и Большого совета. Тем не менее еще много материалов сохранилось. Так, для царствования Филиппа V девять реестров Сокровищницы хартий включают более 3300 документов, а «Акты Парламента» (Actes du Parlement) насчитывают 2125 актов. Помимо «Ордонансов королей Франции» (Ordonnances des rois de France, 1.I, XII), можно обратиться к изданию: Les journaux du trésor de Charles IV le Bel/publ. par J. Viard. Paris: Imprimerie Nationale, 1917. [Collection de documents inédits sur l’histoire de France.] Основные работы Artonne A. Le Mouvement de 1314 et les Chartes provinciales de 1315. Paris: F. Alcan, 1912. Cazelles R. La société politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois. Paris: D’Argences, 1958. (Первая глава и библиография.) Contamine Ph. La Guerre de Cent ans. Paris: PUF, 1968. [Que sais-je? 1309] Favier}. La Guerre de Cent ans. Paris: Fayard, 1980. [Русский перевод: Фавье Ж. Столетняя война/пер. М. Ю. Некрасова. СПб: Евразия, 2009.] Lehugeur P. Histoire de Philippe le Long (1316–1322). T. I: Le règne. Paris: Hachette, 1897. T. II: Le mécanisme du gouvernement. Paris: Sirey, 1931. Lehugeur P. Le Conseil royal de Philippe le Long (1316–1321). Pont-à-Mousson: L. Bloch, 1929 (рецензия: Ritter G. Le Conseil du Roi sous Philippe-le-Long et son récent historien. [Compte-rendu de deux ouvrages de Paul Lehugeur.]. Moyen Âge. 1933. P. 183–206). Pirenne H. Histoire de Belgique des origines à 1914. 5e éd. Bruxelles: Lamertin, 1902–1932, 7 vol.: T. 2. Du commencement du XIVe siècle à la mort de Charles Le Téméraire. Bruxelles: Lamertin, 1929. Переиздание: Histoire de Belgique des origines à nos jours. Bruxelles: La Renaissance du livre, 1948–1975. Специальные исследования Aubert F. Nouvelles recherches sur le Parlement de Paris. Période d’organisation (1250–1350)//Revue historique de droit français. 39 (1916). P. 62–109, 229–290. Boudet M. Étude sur les sociétés marchandes et financières au Moyen Âge: Les Gayte et les Chauchat//Revue d'Auvergne. 28 (1911), 29 (1912). Passim. Chaplais P. Règlement des conflits internationaux franco-anglais au XIVe siecle (1297–1327)//L. Moyen Âge. 57 (1951). P. 269–302. Dufayard Ch. La réaction féodale sous les fils de Philippe le Bel//Revue historique. 54 (1894). P. 241–272; 55 (1895). P. 241–290. Guessard F. Étienne de Mornay, chancelier de France sous Louis le Hutin//BEC. 5 (1843). P. 373–396. Lousse E. La formation des États dans la société européenne du Moyen Âge à l’apparition des assemblées d’États//Bulletin du Comité international des sciences historiques. 5 (1933). P. 85–96. Viard J. La Cour au commencement du XIVe siècle//BEC. 76 (1916). P. 74–87; Viard J. La Guerre de Flandre (1328)//BEC. 83 (1922). P. 362–382. Сельская местность Э. Мартен Аграрная история — это традиционно одна из любимых тем французских медиевистов, и особое предпочтение отдавали ей три поколения, работавшие с тридцатых по семидесятые годы XX в., то есть поколения Марка Блока, Жоржа Дюби и Робера Фоссье. В нашем распоряжении есть ряд больших монографий по региональной тематике, в большинстве — докторских диссертаций, а также превосходных работ обзорного характера, в том числе предложивших оригинальные подходы к исследованию. В наше время историки текстов в огромном большинстве обратились к другим темам: о больших проблемах крестьянского общества, таких как серваж или организация общины, по-прежнему идут споры, но технология, методы возделывания земли, сельскохозяйственная продукция уже почти никто интересуют (за примечательными, но достаточно редкими исключениями). В изучении жилища и материальных условий сельской жизни эстафету приняли в основном археологи, выявляющие такие аспекты сельской культуры, о которых прежде почти ничего не было известно. Из работ, задававших исследованиям направленность, самым знаменитым по-прежнему остается труд: Bloch М. Les caractères originaux de l’histoire rurale française. Oslo: H. Aschehoug; Leipzig: O. Harrassowitz; Paris: Les Belles lettres; London: Williams & Norgate; Cambridge: Harvard university press, 1931. [Sérié B. Skrifter/Instituttet for sammenlignende kulturforskning; 19.] [Русский перевод: Блок M. Характерные черты французской аграрной истории/пер. И. И. Фролова. М.: Изд-во иностранной литературы, 1957], впоследствии переизданный с дополнениями: Paris: Armand Colin, 1988. Как учебник, в качестве которого она достаточно понятна, воспринимается книга Ж. Дюби: Duby G. ^économie rurale et la vie des campagnes dans l’Occident médiéval: France, Angleterre, Empire, IXe — XVe siècles: essai de synthèse et perspectives de recherches. Paris: Montaigne, 1962. [Collection historique.] 2 vol., где no многим вопросам приведены разъяснительные схемы, до сих пор не устаревшие; из ее новейших изданий (серия «Champs» издательства «Flammarion»), к сожалению, пропали богатые текстовые приложения первой редакции. Средневековый раздел большой «Истории аграрной Франции»: Histoire de la France rurale/sous la direction de G. Duby et A. Wallon. T. I. Paris: Seuil, 1975 (переиздание: Paris: Seuil, 1992. [Points. Histoire]), написанный Г. Фуркеном, — хорошая разработка темы, ограниченная рамками Франции, в отличие от книги Дюби. Более оригинален большой обзор Р. Фоссье «Детство Европы»: Fossier R. Enfance de l’Europe: Xe — XIIe siècle: aspects économiques et sociaux. Paris: PUF, 1982. [Nouvelle Clio; 17, 17bis.] 2 vol.: это не книга по аграрной истории как таковой, но центральное место здесь занимает деревня в период роста; интерпретация ее развития, которую предлагает Фоссье, основана на работах предыдущего периода, на региональных диссертациях и результатах археологических раскопок, и благодаря оригинальности у нее появились последователи и критики. Для знакомства с неизбежным прогрессом в познаниях (особенно в области археологии) и эволюцией представлений со времен «Детства Европы» следует обратиться к изданиям: L’Histoire médiévale en France: bilan et perspectives/Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur, 20e Congrès, Paris, ler-4 juin 1989; textes réunis par M. Balard. Paris: Seuil, 1991. [L’univers historique.] и Bibliographie de l’histoire médiévale en France: 1965–1990/Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur; textes réunis par M. Balard. Paris: Publications de la Sorbonne, 1992, a также к книге: Contamine Ph. Léconomie médiévale. Paris: Armand Colin, 1993. [Collection U. Série Histoire médiévale.], заменившей раннюю работу: Fourquin G. Histoire économique de l’Occident médiéval. Paris: Armand Colin, 1969. [Collection U. Série Histoire médiévale.]; в обоих этих обзорных трудах тема раскрыта очень хорошо. Существуют и небольшие популярные издания; последнее из вышедших в свет — Derville A. Uéconomie française au Moyen Âge. Gap; Paris: Ophrys, 1995. [Synthèse histoire.] Среди больших работ и недавно появившихся серий надо выделить материалы коллоквиумов во Фларане («Культурный центр аббатства Фларан. Международные встречи историков» [Centre culturel de l’Abbaye de Flaran. Journées internationales d’histoire]), c 1981 г. ежегодных, на которых обращались к различным важным аспектам истории средневековой деревни, и два сборника статей их основателя — Шарля Игуне: Higounet Ch. Paysages et villages neufs du Moyen Âge: recueil d’articles. Bordeaux: Fédération historique du Sud-Ouest, 1975; Higounet Ch. Villes, sociétés et économies médiévales/recueil d’articles. Talence: Fédération historique du Sud-Ouest, 1992. [Études et documents d’Aquitaine; 7.]. Кроме того, следует отметить: Le paysage rural: réalités et représentations. Actes du Xe Congrès des historiens médiévistes (Lille, 18–19 mai 1979), 1980//Revue du Nord. 57 (janvier-mars 1980). Numéro spéciale. — Villages et villageois au Moyen Âge! Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 21e Congrès, Caen, juin 1990. Paris: Publications de la Sorbonne, 1992. [Publications de la Sorbonne. Série Histoire ancienne et médiévale; 26.] — Fossier R. Hommes et villages d’Occident au Moyen Âge. Paris: Publications de la Sorbonne, 1992 [Publications de la Sorbonne. Réimpressions; 7.] (сборник статей). — Campagnes médiévales: l'homme et son espace: études offertes à Robert Fossier/travaux réunis par E. Mornet. Paris: Publications de la Sorbonne, 1995. [Histoire ancienne et médiévale; 31.]. Наконец, упомянем журнал «История и сельские общества» (Histoire et sociétés rurales), выходящий с 1994 г., появление которого означало, что ожидаемое обновление французской исторической науки произошло. Региональные исследования поставляют собственно материал для изучения средневековой деревни: Perrin Ch.-E. Recherches sur la seigneurie rurale en Lorraine: d’après les plus anciens censiers (XIe — XIIe siècle). Paris: les Belles Lettres, 1935. [Publications de la Faculté des lettres de l’Université de Strasbourg. Série bleue; Fasc. 71.] — Fourquin G. Les campagnes de la région parisienne à la fin du Moyen Âge: du milieu du XIIIe siècle au début du XVIè siècle. Paris: PUF, 1964. [Publications de la Faculté des Lettres et sciences humaines de Paris. Série Recherches; 10.] — Fossier R. La Terre et les hommes en Picardie jusqua la fin du XIIIe siècle. Paris: B. Nauwelaerts; Louvain: Nauwelaerts, 1968 (переиздание: Amiens: Centre régional de documentation pédagogique, 1987). — Chédeville A. Chartres et ses campagnes, XIe — XIIIe s. Paris: C. Klincksieck, 1973 (переиздание: Paris: J. M. Garnier, 1991). — Devailly G. Le Berry du Xe siècle au milieu du XIIIe: étude politique, religieuse, sociale et économique. Paris; La Haye: Mouton, 1973. [Civilisations et sociétés; 19.] — Débord A. La Société laïque dans les pays de la Charente: Xe — XIIe s. Paris: Picard, 1984. — Bourin-Derruau M. Villages médiévaux en Bas-Languedoc: genèse d’une sociabilité, Xe — XIVe siècle. Paris: l’Harmattan, 1987. [Chemins de la mémoire.] 2 vol. — Barthélemy D. La société dans le comté de Vendôme: de l’an mil au XIVe siècle. Paris: Fayard, 1993. — Mousnier M. La Gascogne toulousaine aux XlIe — XIIIe siècles: une dynamique sociale et spatiale. Toulouse: Presses universitaire du Mirail, 1997. [Tempus.] — Cursente B. Des maisons et des hommes: la Gascogne médiévale, XIe — XVe siècle. Toulouse: Presses universitaires du Mirail, 1998. [Tempus.] — Falque-Vert H. Les hommes et la montagne en Dauphiné au XIIIe siècle. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 1997. [La pierre et l’écrit.] — Derville A. L’agriculture du Nord au Moyen Âge: Artois, Cambrésis, Flandre wallonne. Villeneuve-d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 1999. [Histoire et civilisations.] Среди тематических исследований, более редких, следует отметить две книги, богатые новыми соображениями: Dion R. Histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIXe siècle. Paris: l’auteur; Doullens: Sévin et Cie, 1959 (переиздание: Paris: Flammarion, 1991) и Comet G. Le paysan et son outil: essai d’histoire technique des céréales: France, VIIIe — XVe siècle. Rome: École française de Rome, 1992. [Collection de l’École française de Rome; 165.]. Новыми идеями можно обогатиться и при чтении работы: Bourin M., Durand R. Vivre au village au Moyen Âge: les solidarités paysannes du XIe au XIIIe siècles. Paris: Temps actuels, 1984. [La Passion de l’histoire.] Существует также Flistoire de la population française/sous la dir. de J. Dupâquier. Paris: PUF, 1988, описывающая и период Средневековья. Три издания недавно подвели итог тридцати лет исследований сельского жилища в средневековой Франции: Cent maisons médiévales en France, du XIIe au milieu du XVк siècle: un corpus et une esquisse/sous la dir. de Y. Esquieu et J. Pesez. Paris: Centre national de la recherche scientifique éd., 1998. [Monographie du Centre de recherches archéologiques; 20.] — Pesez J.-M. Archéologie du village et de la maison rurale au Moyen Âge: vingt études sur l’habitat paysan dans la France médiévale. Lyon: Centre interuniversitaire d’histoire et d’archéologiemédiévales: Presses universitaires de Lyon, 1999. [Collection d’histoire et d’archéologie médiévales; 5.] — Le village médiéval et son environnement: études offertes à Jean-Marie Pesez/travaux réunis par L. Feller, P. Mane, F. Piponnier. Paris: Publications de la Sorbonne, 1998. [Histoire ancienne et médiévale; 48.] Много сведений можно найти и в недавно вышедшем коллективном труде: Morphogenèse du village médiéval, IXe — XIIe siècles: actes de la table ronde de Montpellier, 22–23 février 1993/sous la dir. de G. Fabre, M. Bourin, J. Caille, A. Debord. Montpellier: Association pour la connaissance du patrimoine du Languedoc-Roussillon, 1996. [Cahiers du patrimoine; 46.] Хорошая книга Ж. Шапло и Р. Фоссье: Chapelot)., Fossier R. Le Village et la maison au Moyen Âge. Paris: Hachette, 1980. [Bibliothèque d’archéologie] остается полезной, но явно устарела. Публикации и обзоры частных вопросов, очень многочисленные, рассеяны среди материалов коллоквиумов, которые все перечислить здесь невозможно. Обратим внимание лишь на журнал «Средневековая археология» (Archéologie médiévale) и серии «Документы французской археологии» (Documents d’archéologie française) и «Документы археологии в регионе Рона-Альпы» (Documents d’archéologie en Rhône-Alpes), где публикуются материалы больших раскопок. Особо отметим раскопки в озерном поселении Шаравин, сообщившие много нового и отчасти неожиданного об условиях жизни в начале XI в.: Les habitats du lac de Paladru, Isère, dans leur environnement: la formation d’un terroir au XIe siècle/sous la dir. de M. Colardelle et E. Verdel. Paris: Éd. de la Maison des sciences de l’Homme, 1993. [Documents d’archéologie française; 40.] Упрощенная версия:Colardelle M., Verdel E. Chevaliers-paysans de l’an mil: au lac de Paladru. Paris: Errance; Grenoble: Musée dauphinois, 1993. Наконец, исключительные картины повседневной жизни в деревне конца капетингского периода можно найти в книге: Le Roy Ladurie E. Montaillou, village occitan: de 1294 à 1324. Paris: Gallimard, 1975. [Bibliothèque des histoires.] (переиздававшейся) (русский перевод: Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294–1324)/пер. В. А. Бабинцева и Я. Ю. Старцева. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2001. [Другая история.]), написанной на основе тщательного изучения допросных материалов суда инквизиции. Города и городское общество Ф. Менан Исчерпывающий перечень работ, опубликованных на эту тему во Франции за четверть века, содержится в издании: Bibliographie de l’histoire médiévale en France: 1965–1990/Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur; textes réunis par M. Balard. Paris: Publications de la Sorbonne, 1992. P. 17–31, 33–109. Поэтому мы ограничимся перечислением некоторых классических произведений. Coornaert É. Les corporations en France avant 1789. Paris: Gallimard, 1941. Divorne F, Gendre B., Lavergne B., Panerai Ph. Les Bastides d’Aquitaine, du Bas-Languedoc et du Béarn: essai sur la régularité. Bruxelles: Aux Archives d’architecture moderne, 1985. Faral E. La Vie quotidienne au temps de saint Louis. Paris: Hachette, 1942 [Русский перевод: Фараль Э. Повседневная жизнь во времена Людовика Святого/Пер. с фр. М. Ю. Некрасова. СПб: Евразия, 2009.] La Foire: communications présentées aux journées de travail, organisées par la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions. Paris: Dessain et Tolra, 1983. [Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions; 5.] Fournial É. Histoire monétaire de l’Occident médiéval. Paris: F. Nathan, 1970. Geremek B. Le Salariat dans l’artisanat parisien aux XIIIe — XVe siècles, étude sur le marché de la main-d’oeuvre au Moyen Âge/traduit du polonais par A. Posner et Ch. Klapisch-Zuber. Paris, La Haye: Mouton et Cie, 1968. Lavedan P. Histoire de Paris. Paris: PUF, 1967. [Que saisje? 34.] Lavedan P., Hugueney J. L’Urbanisme au Moyen Âge. Paris: Arts et métiers graphiques, 1974. Histoire de la France urbaine/sous la dir. de G. Duby. Paris: Seuil, 1980–1985. T. 2: La Ville médiévale: des Carolingiens à la Renaissance/volume dirigé par J. Le Goff. Paris: Seuil, 1980. Lestoquoy J. Les villes de Flandre et d’Italie sous le gouvernement des Patriciens (XIe — XVe siècles): aux origines de la bourgeoisie. Paris: PUF, 1952. Lorcin М.-Th. La France au XIIIe siècle: économie et société. Paris: Nathan, 1975. [Nathan université, information, formation. Histoire.] Perroy Ê. Le Travail dans les régions du Nord du XIe au début du XIVe siècle. Paris: Centre de documentation universitaire, 1962. 2 fasc. Schneider J. La Ville de Metz aux XIIIe et XIVe siècles, thèse principale. Nancy: G. Thomas, 1950. La ville. Bruxelles: Ed. de la Librairie encyclopédique, 1954–1955. T. VI (Institutions administratives et judiciaires), t. VII (Institutions économiques et sociales). [Recueil de la Société Jean Bodin; 6–7.] Wolff Ph., Mauro F. L’âge de l’artisanat (Ve — XVIIIe s.)//Histoire générale du travail! publ. sous la dir. de L.-H. Parias. Paris: Nouvelle librairie de France: F. Sant’Andréa et J.-G. Tronche, 1959–1961. 4 vol. T. 2. Культурная и религиозная жизнь Э. Мартен Фундаментальными являются два произведения: Dictionnaire des lettres françaises/publ. sous la dir. du cardinal G. Grente. Ed. entièrement revue et mise à jour sous la dir. de G. Hasenohr et M. Zink. Paris: Fayard, 1992. [Livre de poche. Encyclopédies d’aujourd’hui. Pochothèque.] T. I, Le Moyen Âge/ouvrage préparé par R. Bossuat, L. Pichard et G. Raynaud de Lage. Guenêe B. Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval. Paris: Aubier-Montaigne, 1980. [Collection historique.] По истории религии есть несколько учебников, самый известный (и наиболее практичный) из которых: Chélini J. Histoire religieuse de l’Occident médiéval. Paris: Armand Colin, 1968. Переиздание: Paris: Hachette, 1991. [Pluriel] Можно обратиться также к изданиям: Histoire du catholicisme en France/publ. par A. Latreille, E. Delaruelle, J-R. Pa-lanque. Paris: Spes, 1957–1962. T. 1 (1957), t. 2 (1960). Nouvelle histoire de l’Église. Paris: Seuil, 1963–1975. 5 vol. T. 2: Le Moyen Âgel par M. D. Knowles et D. Obolensky; trad, de l’anglais par L. Jézéquel. 1968. Более современные точки зрения приведены в работах: Histoire de la France religieuse. Paris: Seuil, 1988–1992.T. 1, Des dieux de la Gaule à la papauté d’Avignon: des origines au XIVt siècle/vol. dir. par J. Le Goff. Paris: Seuil, 1988. [L’Univers historique.] Paul J. L’Église et la culture en Occident: IXe — XIIe siècles. Paris: PUF, 1986.2 vol. Rapp F L’Église et la vie religieuse en Occident à la fin du Moyen Âge. Paris: PUF, 1971. [Nouvelle Clio; 25.] Переиздание: Paris: PUF, 1994. Не рассчитывая найти связную историю религиозной жизни, можно использовать книгу, написанную в том же духе: Histoire vécue du peuple chrétien/sous la dir. de J. Delumeau. Toulouse: Privât, 1979, которая содержит убедительные взгляды, в частности, на Средневековье. История церкви (в традиционном представлении) изложена в книге: Histoire de l’Église: depuis les origines jusqu a nos jours/publ. sous la direction de A. Fliche et V. Martin. Paris: Bloud et Gay, 1937–1950, t. 4–10, где текст о средневековом периоде не закончен. На ту же тему недавно завершен коллективный труд: Histoire du christianisme: des origines à nos jours/sous la dir. de J.-M. Mayeur, Ch. et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard. Paris: Desclée. T. 4 (1993), t. 5 (1993), t. 6(1990). Очень полезными могут быть два более специфических подхода к этой тематике: Histoire des saints et de la sainteté chrétienne. Paris: Le livre de Paris, Hachette. T. 3 (dir. A. Mandouze), 1987; T. 4 (dir. P. Riché), 1986; T. 5 (dir. P. Riché), 1986; T. 6 (dir. A. Vauchez), 1986; T. 7 (dir. A. Vauchez), 1987. Histoire des diocèses de France/sous la dir. de B. Plongeron, A. Vauchez. Paris: Beauchesne, 1974–1989. 23 vol. (выпуск прерван). Наконец, маленький учебник: Merdrignac В. La vie religieuse en France au Moyen Âge. Gap: Ophrys, 1994. [Synthèse histoire] предлагает краткий обзор предмета. Безо всяких претензий на то, чтобы исчерпать вопрос, и осуществляя неизбежно субъективный отбор, мы, чтобы показать обновление проблематики в изучении средневековой религиозной истории, прежде всего перечислим несколько коллективных трудов. L'Aveu: antiquité et Moyenâge: actes de la table ronde, Rome, 28–30 mars 1984/organisée par l’École française de Rome; avec le concours du CNRS et de l'Université de Trieste. Rome: École française de Rome, 1986. [Collection de l’École française de Rome; 88.] Pierre Abélard, Pierre le Vénérable: les courants philosophiques, littéraires et artistiques en Occident au milieu du XIIe siècle/Colloque international du Centre national de la recherche scientifique, Abbaye de Cluny, 2 au 9 juillet 1972; publié sous la dir. de R. Louis, J. Jolivet et J. Châtillon. Paris: CNRS, 1975. [Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique; 546.] L’Encadrement religieux des fidèles au Moyen Âge et jusqu’au Concile de Trente: la paroisse, le clergé, la pastorale, la dévotion/Prof. F. Zannini. Actes du 109e Congrès national des sociétés savantes, Dijon, 1984. Section d’histoire médiévale et de philologie; 1. Paris: Comité des travaux historiques et scientifiques, 1985. Faire croire: modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du XIIe au XVIe siècle/Table ronde organisée par l’École française de Rome en collaboration avec l’Institut d’histoire médiévale de l’Université de Padoue, Rome, 22–23 juin 1979. Rome: École française de Rome, 1981. [Collection de l’École française de Rome; 51.] Les fonctions des saints dans le monde occidental: IIIe — XIIIe siècle: actes du colloque, Rome, 27–29 octobre 1988/organisé par l’École française de Rome. Rome: École française de Rome, 1991. [Collection de l’École française de Rome; 149.] Genèse et débuts du grand schisme d’Occident/Centre national de la recherche scientifique, Colloque international, Avignon, 25–28 septembre 1978. Paris: Éd. du CNRS, 1980. [Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique; 586.] Groupe religieux de La Bussière. Pratiques de la confession: des Pères du désert à Vatican II: 15 études d’histoire. Paris: Cerf, 1983. Aux origines de l’etat moderne: le fonctionnement administratif de la papauté d’Avignon! Actes de la table ronde organisée par l’Ecole française de Rome; avec le concours du CNRS, du Conseil général de Vaucluse et de l’Université d’Avignon (Avignon, 23–24 janvier 1988). Rome; Palais Farnèse: École Française de Rome, 1990. [Collection de l’Ecole française de Rome; 138.]. Le clerc séculier au Moyen Âge! XXIIe Congrès de la SHMES (Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public), Amiens, juin 1991. Paris: Publications de la Sorbonne, 1993. [Publications de la Sorbonne. Série Histoire ancienne et médiévale; 27.] О бенедиктинском монашестве и новых формах монастырской жизни: Dalarun J. L’Impossible sainteté: la vie retrouvée de Robert d’Arbrissel (v. 1045–1116), fondateur de Fontevraud. Paris: Cerf, 1985. [Histoire.] Dubois J. Les Ordres monastiques. Paris: PUF, 1985. [Que sais-je? 2241.] Pacaut M. L’Ordre de Cluny: 909–1789. Paris: Fayard, 1986. [Nouvelles études historiques.] Pacaut M. Les moines blancs: histoire de l’ordre de Cîteaux. Paris: Fayard, 1993. Les Religieuses eu France au XIIIe siècle: table ronde/organisée par l’Institut d’études médiévales de l’Université de Nancy II et le CERCOM 25–26 juin 1983; sous la dir. de M. Parisse. Nancy: Presses universitaires de Nancy, 1985. Mouvements franciscains et société française: XIIt — XXt siècles: études présentées à la table ronde du CNRS (Centre national de la recherche scientifique), 23 octobre 1982/réunies par A. Vauchez. Paris: Beauchesne, 1984. [Beauchesne religions; 14.] По вопросам, касающимся белого духовенства, его подготовки и связей между церковью и государством, можно обратиться, в частности, к следующим изданиям: Guenée В. Entre l’Église et l’État: quatre vies de prélats français à la fin du Moyen Âge (XIIIe — XVe siècles). Paris: Gallimard, 1987. [Bibliothèque des histoires.] Kantorowicz E. Les Deux corps du roi: essai sur la théologie politique au Moyen Âge/trad, de l’anglais par J.-Ph. Genet et N. Genet. Paris: Gallimard, 1989. Libera A. de. Penser au Moyen Âge. Paris: Seuil, 1991. [Chemins de pensée.] (Может быть полезным познакомиться с книгой того же автора: Libera А. de. La Philosophie médiévale. Paris: PUF, 1989. [Que sais-je?; 1044.].) Pacaut M. La théocratie: l’Église et le pouvoir au Moyen Âge. Paris: Montaigne, 1957. [Collection historique.] Pacaut M. Doctrines politiques et structures ecclésiastiques dans l’Occident médiéval. London: Variorum reprints, 1985. [Variorum reprints. Collected studies series; 223.] Histoire des universités en France/sous la dir. de J. Verger. Toulouse: Privât, 1986. [Bibliothèque historique Privât.] Религиозные представления и обряды верующих, проповедь, проведение таинств стали объектами плодотворных расследований, результаты которых привели к полной перемене терминологии, в какой обсуждение понятий набожности и народной «культуры» происходило в семидесятые годы: Aubrun M. La Paroisse en France: des origines au XVe siècle. Paris: Picard, 1986. Chiffoleau J. La Comptabilité de l’au-delà: les hommes, la mort et la religion dans la région d’Avignon à la fin du Moyen Âge, vers 1320 — vers 1480. Rome: École française de Rome, 1980. [Collection de l’École française de Rome; 47.] Gai demet J. Le Mariage en Occident: les mœurs et le droit. Paris: Cerf, 1987. [Histoire.] Le Goff J. La naissance du purgatoire. Paris: Gallimard, 1982. Переиздание: Paris: Gallimard, 1991. [Collection folio: Histoire; 31.] [Русский перевод: Ле Гофф Ж. Рождение чистилища/пер. В. Бабинцева, Т. Краевой. Екатеринбург: У-Фактория; М.: ACT Москва, 2009.] Longère J. La Prédication médiévale. Paris: Études augustiniennes, 1983. Martin H. Le métier de prédicateur en France septentrionale à la fin du Moyen Âge (1350–1520). Paris: Cerf, 1988. Martin H., Merdrignac B. Culture et société dans l’Occident médiéval. Gap; Paris: Ophrys, 1999. [Synthèse histoire.] Mollat du Jourdin M. Les Pauvres au Moyen Âge: étude sociale. Paris: Hachette, 1978. [Le Temps et les hommes.] Sigal P. A. L’Homme et le miracle dans la France médiévale: XIe — XIIe siècle. Paris: Cerf, 1985. [Cerf-Histoire.] Vauchez A. La Sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge: d’après les procès de canonisation et les documents hagiographiques. Ed. revue et mise à jour. Rome: École française de Rome, 1988. [Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de Rome; 241.] Vincent C. Des Charités bien ordonnées: les confréries normandes de la fin du XIIIe siècle au début du XVIe siècle. Paris: École normale supérieure, 1988. [Collection de l’École normale supérieure de jeunes filles; 39.] Нет недостатка в работах, рассматривающих связь между художественными формами выражения, архитектурой и религиозной жизнью. Помимо книг из серии «Zodiaque», издаваемой аббатством Ла-Пьер-ки-Вир, монографии из которой пользуются авторитетом как работы по романскому искусству, среди учебников и альбомов по искусству можно отметить следующие: Bonne J.-C. L'Art roman de face et de profil: le tympan de Conques. Paris: le Sycomore, 1985. [Féodalisme.] Du Colombier P. Les Chantiers des cathédrales: ouvriers, architectes, sculpteurs. Nouvelle éd. revue et augmentée. Paris: A. et J. Picard, 1973. Demians d'Archimbaud G. Histoire artistique de l’Occident médiéval, le éd. Paris: A. Colin, 1968. [Collection U. Série Histoire médiévale.] Duby G. Le temps des cathédrales: l’art et la société, 980–1420. Paris: Gallimard, 1976. [Bibliothèque des histoires; 26.] [Русский перевод: Дюби Ж. Время соборов: Искусство и общество 980–1420 гг./Пер. М. Ю. Рожновой, О. Е. Ивановой. М.: Ладомир, 2002.] DurliatM. L'Art roman. Paris: L. Mazenod, 1982. [Art et les grandes civilisations; 12.] Erlande-Brandenburg A. L'Art gothique. Paris: Mazenod, 1983. Leriche-Andrieu F Initiation à l’art roman. Saint-Léger-Vauban: Zodiaque, 1984. [Les Travaux du mois; 29.] Oursel R. France romane. Saint-Léger-Vauban: Zodiaque, 1989. [Les Formes de la nuit.] Pamfsky E. Architecture gothique et pensée scolastique. Paris: Éditions de Minuit, 1967. Переиздание: Paris: Éditions de Minuit, 1992. [Русский перевод: Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика/пер. Л. Н. Житковой//Панофский Э. Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схоластика. СПб: Азбука-классика, 2004. [Художник и знаток.] Наконец, надо перечислить некоторые работы — конечно, старые, но по-прежнему впечатляющие как литература высокого качества и неизменно очень увлекательные: Chenu M.-D. La Théologie au douzième siècle. Paris: J. Vrin, 1976. [Études de philosophie médiévale; 45.] Delaruelle Ê. La piété populaire au Moyen Âge. Torino: Bottega d’Erasmo, 1978. Focillon, Henri. Art d’Occident. T. 1: Le Moyen Âge roman. T. 2: Le Moyen Âge gothique. 2e éd. Paris: Armand Colin, 1965. Gilson Ê. Héloïse et Abelard. Paris: J. Vrin, 1964. Переиздание: Paris: J. Vrin, 1997. [Bibliothèque des textes philosophiques.] Gilson Ê. La philosophie du Moyen Âge: des origines patristiques à la fin du XIVe siècle. Paris: Payot, 1944. [Bibliothèque historique.] [Русский перевод: Жильсон Э. Философия в Средние века: От истоков патристики до конца XIV века/пер. А. Д. Бакулова. М.: Республика, 2004.] Leclercq J. Initiation aux auteurs monastiques du Moyen Âge. LlAmour des lettres et le désir de Dieu. 2e éd. Paris: Cerf, 1963. Переиздание: Paris: Cerf, 1990. Leclercq J. St Bernard et l’esprit cistercien. Paris: Seuil, 1990. [Maîtres spirituels; 36.] Le Goff J. Les Intellectuels au Moyen Âge. 2e éd. Paris: Seuil, 1985. [Points. Histoire; 78.] [Русский перевод: Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века/пер. А. Руткевича. СПб: Издат. дом СПбГУ, 2003.] Крестовые походы Б. Мердриньяк Крестовые походы вызвали к жизни богатую историческую литературу, очень неравноценную. Есть два удобных учебника, излагающих вопрос очень ясно: Balard М. Les Croisades. Paris: MA, 1988. [Les Noms, les thèmes, les lieux.] Morrisson C. Les croisades. 6e éd. corrigée. Paris: PUF, 1992. [Que sais-je?; 157.] [Русский перевод: Моррисон С. Крестоносцы/пер. Е. В. Морозовой. СПб: Весь Мир, 2003. [Весь Мир Знаний.] Есть событийная история крестовых походов, очень детальная и легко читающаяся, но устаревшая, к тому же чисто европейская точка зрения, с которой она написана, — достаточно спорная: Grousset R. Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem. Paris: Plon, 1934–1936. 3 vol. Чтобы исправить ошибочное представление, которое может сложиться по прочтении этой книги, можно обратиться, в частности, к следующим двум работам: Sivan Е. L’Islam et la croisade, idéologie et propagande dans les réactions musulmanes aux croisades. Paris: Librairie d’Amérique et d’Orient, 1968. Cahen C. Orient et Occident au temps des croisades. Paris: Aubier Montaigne, 1983. [Collection historique.] Наконец, укажем три книги, для которых характерны три разных подхода к идеологическим аспектам крестового похода: Alphandéry P. La chrétienté et l’idée de croisade: cours professé à l’École pratique des hautes études. Paris: A. Michel, 1954–1959. [L’Évolution de l’humanité; 38-38bis.] Delaruelle É. L’idée de croisade au Moyen Âge. Torino: Bottega d’Erasmo, 1980. Rousset P. Histoire d’une idéologie: la Croisade. Lausanne: LAge d’homme, 1983. [Cheminements.]Фильмография
Б. Мердриньяк
Фильмы Некоторых исторических персонажей очень раннего Средневековья, таких как Артур и рыцари Круглого стола, а также Гамлет, кинематографисты — вслед за романистами и драматургами — обычно помещают в обстановку феодальных времен. Поэтому фильмы, где участвуют эти персонажи, следует относить, несомненно, скорей к произведениям о периоде XI–XIV вв„чем о периоде до тысячного года. Вот почему они упомянуты здесь. Демонстрируя распространенные представления о Средних веках, они могут дать материал для интересных сопоставлений разных эпох и успешного выявления анахронизмов. Для составления этой фильмшрафии мы в основном использовали источники: Tulard J. Guide des films. Paris: R. Laffont, 1997. [Bouquins.] Rapp B., Lamy J.-C. Dictionnaire des films: 10000 films du monde entier. Paris: Larousse, 1996. Франция времен Плантагенетов 1913. «Айвенго», первая экранизация (Хьюберт Бреннон, Великобритания). 1922. «Робин Гуд» (Robin Hood, А. Дуон, США). Во главе своей шайки Робин Гуд восстает против узурпатора Иоанна Безземельного и участвует в реставрации власти законного монарха, Ричарда Львиное Сердце. Фильм считается одной из вершин немого кинематографа. Очень большой успех. 1935. «Крестовые походы» (The Crusades, Сесил Б. Де Милль, США). Грандиозная реконструкция Третьего крестового похода, возглавляемого Ричардом Львиное Сердце и Филиппом Августом. Любовное соперничество двух королей обрекает поход на неудачу. Победитель, мусульманин Саладин, изображен в благоприятном свете. 1937. «Нельская башня» (La Tour de Nesle, Гастон Руде, Франция). Оргии и преступления королевы Мартариты Бургундской в Нельской башне, по драме А. Дюма и Ф. Гайярде. 1938. «Приключения Робин Гуда» (The Adventures of Robin Hood, Майкл Кертиц и Уильям Кили, США). Голливудская версия знаменитой легенды о мятежнике из Шервудского леса. 1941. «Король забавляется» (Le Roi s’amuse, Марио Боннар, Италия). По одноименной пьесе Виктора Гюго. История королевского шута, желающего защитить дочь от преступлений света; он станет жертвой тупой жестокости придворных, а король его предаст. 1946. «Разбойник и королева» (The Bandit of Sherwood forest, Дж. Шерман и Г. Левин, США). Сын Робина собирает бывших участников шайки отца, чтобы защитить короля Генриха III, ребенка. 1951. «Загадочная дверь» (The Strange door, Дж. Пивни, США). Алан де Малетруа, соперник брата в любви, сажает его в заточение. Его племяннице Бланш, которую он вырастил, не сообщая об этом преступлении, удастся вырваться из-под его власти. Фильм ужасов с блестящим актерским составом. 1952. «Айвенго» (Ivanhoe, Р. Торп, Великобритания). Айвенго тоже борется с Иоанном Безземельным и становится союзником Робин Гуда. Превосходный рыцарский фильм; штурм укрепленного замка стал по-настоящему хрестоматийным эпизодом. 1952. «История Робин Гуда и его веселой компании» (The Story of Robin Hood and his merrie men, К. Эннакин, Великобритания). Версия посредственная по сравнению с постановками Дуона и Кёртица. 1953. «Рыцари Круглого стола» (Knights of the Round Table, P. Торп, Великобритания). Ланселот, влюбленный в королеву Гвиневеру, предпочитает покинуть двор Артура. Изящная инсценировка знаменитого рассказа Кретьена де Труа. 1954. «Ричард Львиное Сердце» (King Richard and the Crusaders, Д. Батлер, США). Иногда достигает эпического размаха, но проигрывает «Айвенго» и «Рыцарям Круглого стола». 1954. «Черный рыцарь» (The Black Knight, Т. Гарнетт, Великобритания). Черный рыцарь раскрывает заговор, сплетенный против короля Артура одним сарацином при поддержке короля Корнуэлла. Прекрасно воспроизведенные бои. 1954. «Черный щит Фолуорта» (The Black Shield of Falworth, P. Мате, США). Майлз защищает дело короля Англии и одерживает победу в поединке с предателем, который хотел захватить страну. Благодаря подвигам он женится на дочери королевского вассала. 1954. «Нельская башня» (La tour de Nesle, Абель Ганс, Франция — Италия). Новая экранизация пьесы Дюма и Гайярде. Эта версия намного превосходит фильм Руде. 1956. «Роланд и паладины Франции» (Orlando е i Paladini di Francia, П. Франчиши, Италия). Приключенческий фильм по мотивам «Неистового Роланда» (Orlando furioso) Ариосто. 1960. «Меч Шервудского леса» (Sword of Sherwood Forest, Теренс Фишер, Великобритания). Новое приключение знаменитого изгоя. 1962. «Ланселот и Гвиневера» (Lancelot and Guinevere, Корнел Уайлд, США). Развлекательная версия, но не более. 1963. «Меч в камне» (The Sword in the Stone, последний полнометражный мультфильм, спродюсированный лично Уолтом Диснеем, умершим в 1966 г.; США). Очень своеобразная версия детства короля Артура: под именем Комар он учится у Мерлина, который устраивает все новые волшебные проделки. 1964. «Бекет» (Becket, Питер Гленвилл, Великобритания). Дружба, потом соперничество и, наконец, вражда между Генрихом II Плантагенетом и архиепископом Кентерберийским Томасом Бекетом. В конечном счете король велит убить непокорного прелата, а потом провозглашает его святым. В этой экранизации пьесы Жана Ануя чувствуется шекспировская творческая сила. 1964. «Реванш Айвенго» (La rivincita di Ivanhoe, T. Бочча, Италия). Новая экранизация романа Вальтера Скотта, изображающая борьбу саксов и норманнов в конце XII в. 1965. «Властелин войны» (The War Lord, Франклин Дж. Шаффнер, США). «В Нормандии XI в. девушка становится ставкой в кровавой борьбе двух соперничающих родов». 1967. «Врата рая» (Gates to Paradise, А. Вайда, Великобритания — Югославия). В XIII в. одержимый пастух увлекает детей и взрослых в поход в Святую землю. По роману Ежи Анджеевского. 1969. «Волчья голова: легенда о Робин Гуде» (Wolfshead: The Legend of Robin Hood, Дж. Хаф, Великобритания). Юность героя, который вынужден избрать жизнь изгнанника и удалиться в Шервудский лес. 1970. «Норманнский меч» (La spada normanna, Р. Маури, Франция — Италия). Айвенго находит норманнский меч — символ власти английских монархов. 1971. «Лук Робин Гуда» (L’arciere di fuoco, К. Джексон Педжет, он же Дж. Феррони, Италия — Франция — Испания). Как Генри из Ноттингема стал Робин Гудом. 1972. «Бланш» (Blanche, В. Боровчик, Франция). Историческая драма. В XIII в. молодая и красивая Бланш замужем за старым и ревнивым сеньором, который велит замуровать юного пажа. 1973. «Робин Гуд» (Robin Hood, Вольфганг Райтерман, США). История о Робин Гуде, перенесенная в мир животных. Один из самых посредственных мультфильмов студии Уолта Диснея. 1974. «Ланселот Озерный» (Lancelot du Lac, Робер Брессон, Франция — Италия). Ланселот, потерпев неудачу в поисках Грааля, умоляет Гвиневеру освободить его от клятв. 1974. «Монти Пайтон и священный Грааль» (Monty Python and the Holy Grail, T. Гиллиам и T. Джонс, Великобритания). Король Артур со своими рыцарями отправляется на завоевание Грааля и блуждает в мире абсурда. Пародийный фильм, включающий намеренные анахронизмы и балансирующий на грани сюрреализма. 1976. «Робин и Мэриан» (Robin and Marian, Р. Лестер, Великобритания). После двадцати лет крестового похода Робин Гуд и Малютка Джон возвращаются в Шервудский лес и сталкиваются с ноттингемским шерифом, в то время как Мэриан уходит в монастырь. Шон Коннери и Одри Хепберн делают своих персонажей очень рельефными. 1978. «Парсифаль Галльский» (Perceval le Gallois, Э. Ромер, Франция). Инициация Парсифаля, покидающего родительский замок, чтобы добраться до двора Артура и быть посвященным в рыцари, а потом отправиться на поиски Грааля. Стихотворный текст на современном французском языке, декорации подчеркнуто стилизованные, в духе средневековых миниатюр. Одно из первых появлений Лукини в кинематографе. 1979. «Песнь о Роланде» (La chanson de Roland, Франк Кассенти, Франция). Труппа актеров сопровождает паломников в Компостелу и устраивает спектакль по мотивам «Песни о Роланде». Главный актер решает покинуть Испанию и отправиться во Фландрию, где формируется новая экономика (ср. Prédal R. Le cinéma français contemporain. Paris: Cerf, 1984. [Collection «Septième art»; 67.]). 1981. «Экскалибур» (Excalibur, Дж. Бурмен, США). У кельтского вождя Утера, ставшего королем, есть сын и наследник Артур, окруживший себя доблестными рыцарями, в числе которых Ланселот и Персеваль. Замечательная приключенческая история, но в то же время «размышление о любви и войне, измене и верности». Над старыми верованиями одерживает верх христианство, но некоторая ностальгия остается. 1987. «Страсти по Беатрис» (La passion Béatrice, Б. Тавернье, Франция). После четырех лет, проведенных в крестовом походе, Франсуа де Кортемар возвращается в свой замок, где его ждет дочь Беатриса. Став циничным и грубым, Франсуа развращает чистую Беатрису и вызывает в ней ненависть. Довольно запутанный сюжет, попытка «реалистического» воспроизведения беспокойного Средневековья. 1987. «Монах и колдунья» (Le moine et la sorcière, Сюзанн Шиффман, Франция). Историческая хроника на основе рассказа доминиканского проповедника Этьена де Бурбона: в XIII в. инквизитор преследует целительницу, приравниваемую к колдунье. Сценарий американского историка Памелы Бергер. Не выводя на экран ни костра, ни черной мессы, рассказ отличается «строгостью языка, построением сценария и красотой образов» («Journal des abonnés» Канала+). 1990. «Робин Гуд» (Robin Hood, Джон Ирвин, США). Эта новая версия, может быть, двадцатая, «приглашает нас присутствовать при рождении мифа». Джон Ирвин искал исторической подлинности: съемки на севере Англии, в замке Пекертон, «точной копии крепостей XII в.»; реконструкция саксонской деревни; «леса, выбранные за сходство с лесами средневековой эпохи» («Journal des abonnés» Канала+). 1990. «Рыцари Круглого стола» (Les chevaliers de la table ronde, Д. Ллорка, Франция). Поиски Грааля рыцарями короля Артура. 1991. «Робин Гуд: Принц воров» (Robin Hood: Prince of Thieves, Кевин Рейнольдс, США). Фильм с участием Кевина Костнера; герой — нечто вроде Индианы Джонса в «Приключениях в Шервудском лесу». Анахронизмы. 1993. «Робин Гуд: Мужчины в трико» (Robin Hood: Men in Tights, Мэл Брукс, США). Пародийное прочтение подвигов легендарного героя из Шервудского леса. 1995. «Храброе сердце» (Braveheart, Мэл Гибсон, Великобритания). Подвиги Уильяма Уоллеса, выходца из шотландских крестьян, в борьбе с английскими баронами Эдуарда I. Прекрасные реконструкции городов (Эдинбурга, Йорка) и впечатляющее воспроизведение той жуткой бойни, какой была битва на Стерлингском мосту. Изабелла Французская (Софи Марсо) компенсирует в общении с бесстрашным Уоллесом разочарование, какое вызвала у нее любовь супруга, будущего Эдуарда II. 1995. «Первый рыцарь» (First Knight, Дж. Цукер, США). Фильм, авторы которого очень вольно обошлись со средневековыми историями. Много анахронизмов. Европа и остальной мир 1920. «Гамлет» (Hamlet, С. Гаде и X. Шелл, Германия). Неожиданный Гамлет, потому что это девушка, воспитанная как юноша в датской королевской семье. NB. Исторический Гамлет, князь Ютландии, известный благодаря хронисту Саксону Грамматику, якобы жил в V в. 1938. «Приключения Марко Поло» (The Adventures of Marco Polo, Арчи Майо, США). Фильм, повествующий о приключениях в Китае великого венецианского купца и путешественника конца XIII в. 1938. «Александр Невский» (С. М. Эйзенштейн, СССР). В 1242 г. монголы разоряют Русь, но вырисовывается еще более серьезная угроза — со стороны тевтонских рыцарей, сеющих ужас. Александр Невский поставлен во главе народной армии, которая громит тевтонов на озере Пейпус, на водах, скованных льдом. Музыка С. Прокофьева. Великая классика. 1948. «Гамлет» (Hamlet, Лоуренс Оливье, Великобритания). Великолепная экранизация знаменитой пьесы Шекспира. Гран-при Венецианского фестиваля 1948 г. 1950. «Огонь и стрела» (The Flame and the Arrow, Жак Турнёр, США). Приключенческий фильм на средневековом материале, где Берт Ланкастер, играющий итальянского Робин Гуда, олицетворяет борьбу ломбардцев в XII в. с австрийским владычеством. 1950. «Франциск, менестрель Божий» (Francesco, giullare di Dio, Роберто Росселини, Италия). Роли в фильме исполняли монахи-францисканцы. 1950. «Принц Баяя» (Bajaja, И. Трнка, Чехословакия). Кукольный фильм по сказке Б. Немцовой. Молодой крестьянин побеждает чудовищ и тем самым заслуживает любовь королевской дочери. Средневековая легенда, изложенная в стиле изображений готической эпохи. 1954. «Принц Валиант» (Prince Valiant, Г. Хэтэуэй, США). Сын скандинавского короля просит помощи короля Артура, чтобы свергнуть узурпатора. Конные атаки и турниры поставлены очень удачно. 1958. «Зигфрид» (Sigfrido, Дж. Джентиломо, Италия). Легенда о Зигфриде, поставленная достаточно уважительно. 1958. «Трое негодяев в скрытой крепости» (Kakushi-toride no san-akunin, Акира Куросава, Япония). В Средние века в Японии, разделенной на враждующие царства, принцесса Юкихимэ, изгнанная с самой юности, возвращается на родину, чтобы попытаться положить конец анархии с помощью полководца Макабэ и двух бродяг. Великолепный приключенческий фильм, при съемке которого совершались настоящие подвиги. «Фильм не может заинтересовать зрителя, если тот не чувствует, что актеры при его создании рисковали жизнью» (Куросава). К тому же в этом произведении есть символические и мистические подтексты. 1960. «Монголы» (I mongoli, Андре де Тот, Италия — Франция). В 1240 г. монголы вторгаются в Европу. Польская знать посылает герцога Краковского заключить мир с Чингисханом. Прекрасные правильные сражения и героические конные атаки с участием 20 тыс. статистов и 15 тыс. лошадей! 1961. «Эль Сид» (El Cid, Энтони Манн, США). Большая историческая фреска, воспроизводящая приключения Сида в Испании в XI в., создана под сильным влиянием испанской «песни о деяниях» «Песнь о моем Сиде» (Cantar del mio Cid). 1961. «Франциск Ассизский» (Francis of Assisi, Майкл Кёртиц, США). Версия жизни святого, сильно уступающая по достоинствам фильму Росселини. 1963. «Черные копейщики» (I lancieri neri, Дж. Джентиломо, Италия). Польша, начало XIII в.; два брата борются за власть. Один из них переходит на сторону варваров и в конечном счете терпит поражение. Прекрасные батальные сцены. 1964. «Гамлет» (Г. Козинцев, СССР). Этот советский Гамлет очень мужествен, но в нем нет ничего от революционера. 1966. «Армия Бранкалеоне» (L’armata Brancaleone, Марио Моничелли, Италия). Около 1100 г.: приключения Бранкалеоне у франков, византийцев и сарацин. Жанр — комический гротеск. 1966. «Маркета Назарова» (Marketa Lazarovâ, буквально «Маргарита Лазарь», Ф. Влачил, Чехословакия). Около 1250 г. отец прекрасной Маркеты, богатый крестьянин, обещает ее монастырю, желая искупить грехи. Прохожий бродяга насилует Маркету, которая в конечном счете полюбит его. Трагический фильм с замечательными декорациями и музыкой. 1967. «Долина пчел» (L'Jdoli vcel, Ф. Влачил, Чехословакия). Во времена крестовых походов знатный юноша с трудом переносит жизнь в одном замке, в обществе рыцарей; он решает вернуться домой, в родную долину. Хорошая постановка. 1969. «Гамлет» (Hamlet, Т. Ричардсон, Великобритания). При участии Энтони Хопкинса (Клавдий) и Марианны Фэйтфулл (Офелия). 1970. «Бранкалеоне в крестовых походах» (Brancaleone aile crociate, Марио Моничелли, Италия). Пародийный фильм, как и фильм 1966 г. 1971. «Брат Солнце, сестра Луна» (Fratello sole, sorella luna, Ф. Дзефирелли, Италия). Италия, XIII в.; молодость того, кто станет святым Франциском Ассизским. 1984. «Леди-ястреб» (Ladyhawke, Р. Доннер, США). XIII в., Северная Италия; рыцарь Наварра любит Изабо, но над парой тяготеет проклятие. Наварре, превращающемуся по ночам в волка, удается избавиться от этого злого рока. Очень тщательная историческая реконструкция. 1986. «Имя розы» (Le nom de la rose, Ж.-Ж. Арно, Франция). В 1327 г. францисканец Вильгельм Баскервильский в сопровождении послушника прибывает в бенедиктинский монастырь в Италии, где странным образом гибнут монахи; сокращенная и приправленная эротикой экранизация знаменитого романа Умберто Эко. Прекрасные декорации и тщательная реконструкция. 1988. «Франциск» (Francesco, Л. Кавани, Италия). Новая экранизация биографии святого, сделанная на основе телевизионного сериала компании RAI. Мистическое и фантастическое Средневековье 1959. «Спящая красавица» (Sleeping Beauty, Клайд Джероними, США). Мультфильм по сказке Перро. 1961. «Джек— убийца великанов» (Jack the Giant Killer, Нэйтан Юран, США). Фильм о фермере, спасающем принцессу Корнуэльскую из когтей злого Черного принца. 1975. «Леонор» (Leonor, X. Бунюэль, Франция— Италия— Испания). Фантастический фильм. В Средние века сеньор, повторно женившийся, позволяет неизвестному воскресить свою первую жену Леонору, которая превращается в вампира. Блестящий актерский состав. 1976. «Джабервоки» (Jabberwocky, Терри Гиллиам, Великобритания). Королевство Бруно Констебля опустошает кровожадное чудовище, и его жители заперлись в укрепленном городе, где их эксплуатируют. Устраивается турнир, чтобы выбрать того, кто бросит чудовищу вызов. Экранизация стихотворения Льюиса Кэрролла в духе Монти Пайтона. 1979. «Властелин колец» (The Lord of the Rings, Ральф Бакши, США). Экранизация сказки Дж. P. Р. Толкиена. 1981. «Победитель дракона» (Dragonslayer, М. Роббинс, США). «На страну Урланд наводит ужас Вермитракс, огромный дракон, которому король Касиодор каждый год приносит в жертву юных дев». Волшебника Ульриха просят заняться этой проблемой. Огнедышащий дракон очень удачен. 1985. «Легенда» (Legend, Р. Скотт, США — Великобритания). Герои, в том числе принцесса Лили, борются с чудовищем, которое угрожает священным единорогам, защитникам райского мира. 1988. «Виллоу» (Willow, Р. Ховард, США). «Феерическая сага. Эпопея, полная карликов, колдуний и драконов». Соответствует канонам «вневременного Средневековья». Телефильмы и телевизионные сериалы 1966. «Катары» (Les Cathares, Стеллио Лоренци, Франция). Стеллио Лоренци поставил этот телеспектакль о катарах в рамках передачи «Камера изучает время» (La caméra explore le temps», основанной им. Если некоторые эпизоды, изображая насилие, напоминают вестерн, то другие, напротив, имеют поэтичный и даже завораживающий характер. Идиллия платонической любви Пьера и Эсклармонды придает этой истории дополнительную объемность. 1966. «Франциск Ассизский» (Francesco d’Assisi, Лилиана Кавани, Италия). Телефильм в двух сериях производства RAI. Лилиана Кавани верно воспроизводит жизнь святого, чтобы после этого приступить к истории основания и развития ордена францисканцев. Обе серии впоследствии были объединены в фильм «Франциск», вышедший в кинопрокат. 1968. «Тибо, или Крестовые походы» (Thibaud ou les Croisades, первый сезон — Жозеф Дрималь, второй — Анри Кольпи, Франция). Два сезона по тринадцать серий, каждая по 26 мин. В царствование Фулька Анжуйского, второго короля Иерусалима, кодексы чести попраны. Тибо, сын франкского барона и арабки, решает совершить паломничество к Гробу Господню. 1972. «Проклятые короли» (Les rois maudits, Клод Барма, Франция). Шесть серий. Экранизация произведения Мориса Дрюона, повествующего об истории последних Капетингов и имевшего большой успех, в том числе и за рубежом. В 1977 г. Би-Би-Си под его влиянием поставила «Корону дьявола» (The Devil’s crown) — сериал, посвященный Плантагенетам. 1978. «Время соборов» (Temps des cathédrales, Роже Стефан, Франция). Путешествие по соборам Европы с комментариями Жоржа Дюби. Пересмотренный текст комментария был опубликован издательством «Фламмарион» в издании: Duby С. L’Europe au Moyen Âge: art roman, art gothique. Paris: Flammarion, 1984. [Champs historique; 146.] 1983. «Тайны французского двора» (La Chambre des dames, Янник Андреи, Франция). Десять серий. Хроника семьи купцов и ремесленников в Иль-де-Франсе в XIII в., экранизация романа Жанны Бюрен «Дамская комната». 1985. «Тысячный год» (I'An mil, Жан-Дени де Ларошфуко, Франция). Три фильма по 60 мин., поставленные в сотрудничестве с Жоржем Дюби, показывают рождение феодализма и развитие сельского хозяйства. Библиография Durand J. La chevalerie à l’écran//Avant-scène du cinéma. 221 (février 1979). Numéro spécial consacré à Perceval le Gallois. P. 29–40. La Bretèque F. A. de. Moyen Âge au cinéma//Les Cahiers de la cinémathèque. 42/43 (été 1985). Guibbert P., Oms M. L’histoire de France au cinéma. Condé-sur-Noireau: Corlet; Paris: Télérama; Paris: Les Amis de «Notre histoire», 1993. Baudou J., SchleretLes feuilletons historiques de la télévision française. Paris: Huitième art, 1992. Anthonioz F., Poure M. L’histoire à la télévision//Dossiers de l'audiovisuel. 24 (1989). Paris: Institut National de l’Audiovisuel, 1989. Bosséno G 200 téléastes français//CinémAction, numéro hors série. Septembre 1989.Дискография
Адам дe Ла Аль
Adam de La Halle. Le Jeu de Robin et Marion [Игра о Робене и Марион]. 1. Studio der frühen Musik, München. Thomas Binkley. Telefunken (винил) 641219. Запись 1966 г. Образцовое исполнение, с уважительным отношением к тексту и воспроизведением чувств, заложенных в произведении знаменитого трувера. 2. Pro Musica Antiqua de Bruxelles, Safford Cape. Archiv (винил) 14018. Запись 1952 г. + Рондо, баллады, еирелэ… Альбом, знакомство с которым обязательно благодаря живому и точному представлению его создателей о Средневековье. Music of the gothic era — Musik der Gotik — Musique de l’époque gothique. Рондо: De ma dame vient, J’os bien à m’amie parler. Мотеты. The Early Music Consort of London, David Munrow. Archiv (три виниловых диска) 2723 045. Запись 1976 г. Для альбома характерен поиск музыкальности, соответствующей текстам. The World of Adam de la Halle. Minstrel music of the 12th and 13th centuries. Рондо: Je muir d’amouretes. Dieu soit en cheste maison. Adieu comment amouretes […] Or est baiars. The Cambridge Consort, Joel Cohen. Turnabout TVS (винил) 34439. Музыка, погруженная в Средневековье, исторически безупречная, но иногда ей немного не хватает естественности. French court music of the thirteenth century. Рондо: Tant con je vivrai. Amours et ma Dame aussi. Robin m’aime. Li dous regars. Musica Reservata, John Beckett. L’Oiseau-Lyre (винил) SOLP.332. Произведения, которые звучат приятно, несмотря на несколько преувеличенную «средневековую» тональность. Куртуазная любовь L’Agonie du Languedoc [Агония Лангедока]: произведения Пейре Карденаля, Гильема Фигейры, Томьера и Палази […]. Studio der frühen Musik. Claude Marti, Thomas Binkley. EMI VSM (винил) 1C 063-30 132. Запись 1970 г. Трогательное и верное воспроизведение страданий, причиненных окситанской культуре. Bella Domna: произведения Мартина Кодакса, Ришара де Фурниваля, Беатрисы де Диа и безымянных авторов. Ансамбль Sinfonye, Stevie Wishart. Hyperion (CD) CDA 66283. Запись 1987 г. Поэтичное представление средневековых текстов, проникнутых звуками дальних стран. Cansôs de Trobairitz: произведения Гаусельма Файдита, Раймона де Мира-валя, Арнаута де Марейля […]. Montserrat Figueras, Josep Benet, Pilar Figueras, Hespèrion XX, Jordi Savall. EMI «Reflexe» (CD) CDM 763417-2. Запись 1977 г. Музыка и пение соперничают в изображении облагороженного Средневековья. Chansons des rois et des princes du Moyen Âge [Песни королей и князей Средних веков]: произведения Тибо Наваррского, […] Ричарда Львиное Сердце. Ансамбль Perceval, Guy Robert. Arion (CD) ARN 68031. Запись 1987 г. Подбор текстов столь же тщателен, как и их исполнение. Chansons et motets du ХIIIе siècle: произведения Бернарта Вентадорнско-го, Джауфре Рюделя, безымянных авторов (Chanson d’aube, Chanson de toile), Гираута де Рикьера. Pro Musica Antiqua; Safford Cape. Archiv (винил) 14068. Запись 1956 г. Почти исчерпывающая панорама музыки XIII в. Chante les troubadours: ХIIе et ХIIIе siècles [пение трубадуров XII и XIII вв.]: произведения Раймбаута Оранского, […] Раймона де Мираваля. Gérard Zucchetto, Patrice Brient, Jacques Khoudir. Gallo dist. Adda (CD) CD-529. Запись 1985 г. Несравненный Жерар Дзуккетто, воскресивший для нас fm'amor Лангедока. Le chant des troubadours [пение трубадуров]: произведения […] Джауфре Рюделя, […] Бернарта Вентадорнского, Маркабрюна. Ансамбль Guillaume de Machaut de Paris. Arion (винил) ARN 38503. Запись 1978 г. Живость и чувства иногда берут верх над музыковедческой точностью. The Courts of Love [ «суды любви»]: музыка времен Алиеноры Аквитанской (произведения Ги д’Юсселя […]). Ансамбль Sinfonye, Stevie Wishart. Hyperion (CD) CDH 55186. Запись 1989 г. Исполнение без учета смысла и окраски текстов, несмотря на заманчивый подбор. The Dante Troubadours: безымянные авторы (ХН — ХШ вв.). […] Сочинения Аймерика де Беленоя, […] Пейре Видаля. Mediaeval ensemble Martin Best. Nimbus (CD) N1M 5002. Запись 1986 г. Вдохновенный альбом о красочном Средневековье, на английском языке. English Songs of the Middle Ages [английские песни Средневековья]. Ансамбль Sequentia. Deutsche Harmonia Mundi (CD) GD 77019. Запись 1987 г. Качество исполнения — одновременно строгое и живое. Lo Gai Saber. Troubadour and Minstrel Music 1100–1300 [музыка трубадуров и менестрелей 1100–1300 гг.]. Camerata Mediterranea, Joel Cohen. Erato (CD) 2292 45647-2. Запись 1990 г. Трек, создателей которого вдохновило открытие куртуазной любви. The Marriage of Heaven and Hell [Брак Неба и Ада]: мотеты и песни французского XIII в. The Gothic Voices, Christopher Page. Hyperion (CD) CDA 66423. Запись 1990 г. Вокальный ансамбль с примечательными звучанием и техникой. Musik der Spielleute — Musik of the Minstrels — Musique de ménestrels (XII и XIII вв.) [Музыка менестрелей]: эстампи, сальтарелло, дукция… Studio der frühen Musik von München, Thomas Binkley. Telefunken «Das Alte Werk» (винил) 641928 AW. Запись 1975 г. Образцовый альбом с точки зрения серьезности музыковедческого подхода и изобретательности авторов. Troubadours and Trouvères. Minnesànger und Spielleute [Трубадуры и труверы. Миннезингеры и жонглеры]: произведения Пейре Видаля […]. Studio der frühen Musik of München, Thomas Binkley, Members of the Kammerchores Walther von der Vogelweide, Othmar Costa. Teldec (два CD) 8.35519, 8.44015. Записи 1966–1986 г. Один из обязательных для знакомства шедевров средневековой музыки. Music of the Crusades: произведения Маркабрюна, Гийо Дижонского, […] Тибо Шампанского, безымянных авторов. The Early Music Consort of London, David Munrow. Decca «Serenata» (CD) 430 264-2. Запись 1970 г. Между языками «ок» и «ойль» на этом диске делается мало различия, тем не менее он остается удачей. Troubadours: произведения Раймона де Мираваля, Гираута Рикьера, Бернарта Вентадорнского […]. José-Luis Ochoa, Louis-Jaques Rondeleux, Roger Lepauw, Serge Depannemaker. Harmonia Mundi (винил), HM 566. Запись 1965 г. Возрожденный окситанский язык в звуках строгих и впечатляющих стихов. Musique des trouvères et des jongleurs: Бамбергская рукопись, Адам де ла Аль, […] Готье де Куэнси. Jean Belliard, Élisabeth Robert, Guy Robert, Julien Skowron. Alvarès (винил) C 485. Приятное исполнение благодаря заботе музыкантов о выразительности. Proensa (A Theatre of Voices project): окситанские лирические песни. Paul Hillier и инструментальное сопровождение. ЕСМ «New Series» (CD) 1368. Запись 1988 г. Для этого диска надо сделать только одну оговорку: английское — однообразное — представление о средневековой просодии. Chretien de Troyes. Le Conte de Graal «Chanson de Geste»: le roman de Perceval le Gallois [Кретьен де Труа. Сказка о Граале, «песнь о деяниях»: роман «Персиваль Галльский»]. Ансамбль Perceval, Guy Robert. Arion (винил) ARN 38646. Запись 1982 г. Партитура, «восстановленная» Ги Робером, настолько убедительна, что вводит в заблуждение. Tristan et Iseult (un legénde du Moyen-Âge en musique et en poésie) [Тристан и Изольда: средневековая легенда в музыке и поэзии] Andrea von Ramm, Henri Ledroit, Anne Azéma: Boston Camerata, Joel Cohen. Erato (CD) ECD 75528. Запись 1988 r. Образцовый альбом, музыкальная феерия. Tristan et Iseult [Тристан и Изольда] Музыка Jacqui Detraz, голос Alain Carré. «Les nuits médiévales», St-Antoine l’Abbaye (Isère). Conseil général de Isère (CD) 1997 1–1. Запись: июль 1997 г. Музыка не пытается точно описать эпоху, но остается верной духу рассказа, положенного в основу (тексты — по Жозефу Бедье и Марии Французской). Anthologie de la musique médiévale espagnole, V. 2: Monodie de la cour médiévale (XIIe et XIIIe siècles), Musique Arabo-Andalouze (XII siècle) [Антология испанской средневековой музыки, т. 2. Средневековая придворная монодия (XII и XIII в.), арабо-андалузская музыка (XII в.)]: произведения Маркабрюна, […] Пейре Карденаля. Carmen Orihuela, José Luis Ochoa de Olza, Chor de voix blanches et Atrium Musics, Gregorio Paniagua, Orchestre (nouba) Marocain de Tetùan. Erato (винил) STU 70697. Запись 1976 г. Об арабском влиянии на музыку Испании и Лангедока. Trobadors, Trouvères, Minnesanger: Lieder und Tânze des Mittelalters [трубадуры, труверы, миннезингеры: песни и танцы Средних веков]. Ensemble für frühe Musik Augsburg. Christophorus (CD) SC.GLX 74 033. Запись 1984 r. Каждое произведение из обширного репертуара этих музыкантов повышает качество этого диска. Troubadours [трубадуры]: произведения Беатрисы де Диа, Бернарта Вентадорнского, Пейроля Овернского, Пейре Видаля […]. Clemencic Consort, René Clemencic. Harmonia Mundi (CD) HMC 90396. Запись 1977 г. Альбом, авторы которого слабо чувствуют дух трубадурской лирики. Trouvères: Courtly love songs from Northern France ca. 1175–1300 [Труверы: придворные любовные песни Северной Франции 1175–1300 гг.]: песни, мотеты, песни за прялкой, эстампи, жё-парти, рондо […]. Ансамбль Sequentia. Deutsche Harmonia Mundi (два CD) RD 77155. Запись 1982 г. Исключительное владение репертуаром и тонкое понимание языка «ойль». Trouveres, Troubadours et Grégorien [труверы, трубадуры и григорианцы]: произведения Гираута де Борнеля, Бернарта Вентадорнского […]. Chanterelle del Vasto, Yves Tessier, Mildred Clary. Studio (винил) SM Т-419. Устаревший диск, создателям которого, несмотря на верный замысел, не хватило средств для самовыражения. Minnesanger, Trouvères et Troubadours [Миннезингеры, труверы и трубадуры]. Collegium musicum, Krefeld. Коробка с пластинками (винил) LD 08. Fistulatores et Tubicinatores Varsovienses [Варшавские флейтисты и трубачи]: анонимные авторы XIII в., танцы, […] любовные песни соло […]. Kazimierz Piwkowski, Польша (винил). Записи 1965–1978 гг. Безымянные авторы Духовные безымянные авторы 12th century polyphony in Aquitaine (St. Martial de Limoges) (Многоголосие XII в. в Аквитании: Сен-Марсиаль-де-Лимож] Ансамбль Organum. Marcel Pérès. Harmonia Mundi (CD) HMC 901134. Запись 1983 г. Хорошее воспроизведение тенденций к многоголосию в музыке для церковных праздников. Musiques au temps de Philippe Auguste (1179–1223) [Музыка времен Филиппа Августа]. Ансамбль Guillaume Dufay et Les Saqueboutiers de Toulouse, Arsène Bedois. Erato (винил) STU 71488. Запись 1982 г. Верность средневековым текстам без фольклорных фиоритур. Planctus […] из Las Huelgas […], Гираута Рикьера, […] Гаусельма Файдита. Studio der frühen Musik, München. EMI VSM (винил) 063-30 129. Запись 1976 г. Здесь удивительно сочетаются строгость, талант и чувство. Codex Las Huelgas […]. Discantus (CD) OPS 30–68. Запись 1994 г. Божественное женское исполнение произведений XII в. Campus Stellae. Saint-Martial de Limoges. Saint-Jacques de Compostelle. Discantus. Brigitte Lesne (CD) OPS 30–102. Запись 1994 г. Литургия в женском исполнении, усердном. Светские безымянные авторы Medieval Songs and Dances [средневековые песни и танцы]: произведения Альфонса X Мудрого, […], французских, итальянских и английских безымянных авторов. St. Georges Canzona, John Sothcott. CRD (CD) 3421. Запись 1982 г. Выбор форм исполнения этой очень разнообразной программы придает ей очень живой характер. Danse Royale. French, Anglo-Norman and Latin songs and dances from the 13th century [Королевский танец. Французские, англо-норманнские и латинские песни и танцы XIII в.]. Ансамбль Alcatraz. Elektra-Nonesuch (CD) 7559 79 240-2. Запись 1989 г. Много задора и поэзии. Les Nuits médiévales [Средневековые ночи]. Музыка Le Concert dans l’Oeuf, декламация Alain Carré, St-Antoine l’Abbaye (Isère). Conseil général de Isère (CD) CDO 001. Запись: январь 1992 г. Слова Гильома де Машо, Рютбёфа, Монио Аррасского и др. Авторские произведения Бернарт Вентадорнский Bernart de Ventadorn. The Testament of Tristan [Завещание Тристана]. Martin Best. Hyperion (CD) CDA 66211. Запись 1988 г. Этому сборнику, включающему девять неизданных произведений трубадура, самого популярного у музыкантов, недостает хорошей просодической основы. Кармина Бурана Сборник лирики, составленный в XI–XIII вв. Его авторы — голиарды, школяры, монахи, анонимы и т. д. — создали самые разнообразные произведения, от светских застольных и любовных песен до литургических драм. Version Originale & Intégrale. Carmina gulatorum et potatorum. Officium lusorum. Carmina moralia et divina. Plaintes mariales du Jeu de la Passion. Carmina Veris et Amoris. Carmina amoris infelicis. [Песни за выпивкой и за едой. Месса игроков. Назидательные и духовные песни. Плачи Девы Марии из «Страстей Христовых». Песни Весны и Любви. Песни несчастной любви]. Cleinencic Consort, René Clemencic. Harmonia Mundi (три CD) HMA 1990336-38. Записи 1974–1977 гг. Эта панорама духа времени — Средних веков — восстановлена во всех красках, религиозных или непристойных, которые опоеделяли ее создание. Carmina Burana (I+II). 33 Lieder aus der Originalhandschrift [33 песни из оригинальной рукописи). Studio der frühen Musik, München. Thomas Binkley. Telefunken (две пластинки) TEL 6.35 319. Запись 1970 г. Авторы, посетив мир голиардов, воспроизвели его живо и точно. Carmina Burana: Le Grand Mystère de la Passion [Большая мистерия Страстей], XIII в. Ансамбль Organum. Marcel Pérès. Harmonia Mundi (два CD) HMC 901323/24. Запись 1989 r. Эти избранные религиозные пьесы имели успех, хотя ожидалось, что появление новой записи «Кармина Бурана» вызовет споры. Фульберт Шартрский Stirps Jesse: Fulbert de Chartres, Chantre de l’an 1000 [произведения, связанные с фигурой Фульберта Шартрского, певца тысячного года]. Ансамбль Venance Fortunat, Anne-Marie Deschamps. Quantum (CD) QM 6899. Запись 1989 r. Этот респонсорий певца Шартра заново погружает нас в атмосферу его пылкого мистицизма. Григорианское пение École Notre Dame (période romane): Messe du Jour de Noël [Рождественская месса]. Ансамбль Organum. Marcel Pérès. Harmonia Mundi «Musique d’abord» (CD) HMX 297 1148. Запись 1984 г. Альбом, всерьез показывающий истоки многоголосия школы собора Парижской Богоматери. Codex Calixtinus: монодии и многоголосие из рукописи Сантьяго-де-Ком-постела XII в. Ансамбль Venance Fortunat, Anne-Marie Deschamps. Solstice (CD) SOCD 45. Запись 1985 г. Слушатели этого альбома идут дорогой паломников в Сантьяго-де-Компостела. Gaude Felix Francia: Chants sacrés au temps des premiers Capétiens [духовные песни времен первых Капетингов]. Ансамбль Venance Fortunat, Anne-Marie Deschamps. Quantum (CD) QM 6892. Запись 1987 г. Альбом, записанный в честь тысячелетия династии Капетингов на основе текстов, где религия и политика переплетаются. Гираут Рикьер Guiraut Riquier et la cour d’Alphonse X le Sage [Гираут Рикьер и двор Альфонса X Мудрого]. La Compagnie médiévale. Pierre Verany (CD) PV.789011. Запись 1989 г. Музыкальная демонстрация влияния, какое арабская и андалусская музыка могла оказать на знаменитого трубадура. Хильдегарда Бингенская Hildegard von Bingen: Ordo virtutum (1) [Ряд добродетелей]. Symphoniae, Geistliche Gesange (2) [Симфонии, духовные песнопения]. Ансамбль Sequentia (CD) GD 77051. Запись 1990 г. (1) Deutsche Harmonia Mundi «Editio Classica» (CD) GD 77020-2-RG. Запись 1989 г. (2) В этих альбомах ощутим глубинный и неистовый мистический пыл настоятельницы Бингена. Hildegard von Bingen und ihre Zeit: Geistliche Musik des 12. Jahrhunderts Хильдегарда Бингенская и ее время: духовная музыка XII в.]: произведения Хильдегарды Бингенской, Абеляра, безымянных авторов из Аквитании (XII в.). Ensemble fur frühe Musik Augsburg. Christophorus (CD) CHR 74584. Запись 1990 r. Верное исполнение, исполненное священного пыла оригинальных рукописей. Мессы Messe de Tournai [Турнейская месса]: около 1330 г. Ансамбль Oiganum. Marcel Pérès. Harmonia Mundi (CD) HMC 901353. Запись 1990 r. Мастерское исполнение первого произведения, свидетельствующего о новшествах, какие «новое искусство» привнесло в запись музыки. Пейре Видаль Peire Vidal: A troubadour in Hungary [трубадур в Венгрии]. Ансамбль Fraternitas Musicorum, Gergely Sarkozy. Hungaroton (CD) HCD 12 102-2. Запись 1984 г. Не очень связный сборник, не связанный с лирикой на языке «ок». Перотин Великий Perotin. Organum «Sederunt principes». Pro Musica Antiqua de Bruxelles, Safford Cape. Archiv (винил) 14068. Запись 1956 г. + Leoninus: Judaea et Jerusalem; Anonymes. Этот диск ничуть не устарел и по-прежнему вызывает сильные чувства. Organa «Viderunt omnes», «Sederunt principes». The Early Music Consort of London, David Munrow. Archiv (три виниловых диска) 2723 045. Запись 1971 г. + Léonin; Ars antiqua; Adam de la Halle… Есть музыковедческие неточности, ничуть не лишающие живости этот альбом. École Notre Dame de Paris: organum «Alléluia nativitas». Conductus «Beata viscera». Ансамбль Gilles Binchois, Dominique Vellard. Harmonie Records (CD) H 8611. Запись 1985 г. У истоков западноевропейского многоголосия. Viderunt omnes. Alleluia posui adiutorium. Dum sigillum. Alleluia nativitas. Beata viscera. Sederunt principes […]. The Hilliard Ensemble, Paul Hillier. ECM New Series (CD) 1385 CD 837 751-2. Запись 1988 г. Верность и изящество исполнения работ, созданных школой собора Парижской Богоматери. Филипп Канцлер Philippe le Chancelier. Conductus, Lai, Sequence, Rondellus: «School of Notre Dame» [Кондукты, лэ, секвенции, рондо школы собора Парижской Богоматери]. Ансамбль Sequentia. Deutsche Harmonia Mundi (CD) RD 77035. Запись 1988 г. Эрудиция и живость в исполнении сочинений спорной фигуры Средневековья. Петр Корбейсский Officium Festi Fatuorum [ «Молебен дураков» и месса в честь осла, XIII в.]. Вокально-инструментальный ансамбль Guillaume Dufay, Arsène Bedois. Erato (винил) STU 71285. Запись 1979 г. Не самая живая, но самая серьезная версия «Молебна дураков». Роман о Фовеле Le roman de Fauvel Clemendc Consort, René Zosso. Harmonia Mundi (CD) HMC 90994. Запись 1976 r. Изобретательное и мятежное «новое искусство» в несколько устаревшем, но безупречном исполнении. Le roman de Fauvel Studio der frühen Musik, München. Thomas Binkley, Jean Bollery. EMI Classics «Reflexe» (CD) 1C 063-30 103. Запись 1972 г. Столь же удачная версия коллективного сатирического сочинения XIV в., но с более современными акцентами. Библиография Guide de la musique ancienne et baroque: Dictionnaire à l’usage des discophiles /Sous la direction d’I. A. Alexandre. Paris: Robert Laffont, 1993. [Bouquins.] (Фундаментальный труд.) Dictionnaire de la musique/sous la dir. de M. Vignal. Paris: Larousse, 1987. Davenson H. Les Troubadours. Paris: Seuil, 1961. [Le Temps qui court; 23.] (Содержит краткую дискографию.)Иконография
Богатство каролингской иконографии делает еще более ощутимой крайнюю нехватку изображений, характерную для периода зарождения капетингской монархии: не сохранилось ни одного портрета первых четырех Капетингов. Если они изображались, то в чисто условной манере, точно такой же, как и на печатях их канцелярий. Однако для той эпохи особого внимания заслуживает ковер из Байе: он столь же хорошо воспроизводит военное искусство, как и политическую историю и даже повседневную жизнь. С XII в. эта нехватка восполняется, и для XIII в. мы уже располагаем многочисленными и разнообразными изобразительными свидетельствами: статуями, например, Людовика Святого, лежащими надгробными статуями монархов (начиная с Филиппа III), миниатюрами, например, в «Больших французских хрониках» из Сен-Дени. Изображение, по существу, имело прежде всего религиозный характер и существенно укрепляло веру В начале XI в. Бернар, директор школы при Анжерском соборе, который прибыл в Конк, был настроен очень критически по отношению к знаменитой статус-реликварию святой Веры, но позже стал ее ревностным почитателем и собирателем чудес, какие ей приписывались. Фрески, скульптура, витражи романских и готических церквей составляют внушительный список, особый интерес к которому в свое время проявили Эмиль Маль, позже Эрвин Панофский и который очень тщательно изучается в позднейших работах Франсуа Гарнье, Жана-Клода Шмитта или Жана Вирта. Библиография Garnier F. Le langage de l’image au Moyen Âge. 1. Signification et symbolique; 2. Grammaire des gestes. Paris: le Léopard d’or, 1982–1989. 2 vol. Raynaud C. La violence au Moyen Âge XIIIe — XVe siècle: d’après les livres d’histoire en français. Paris: le Léopard d’or, 1991. Исследование сделано на основе иллюстрированных рукописей «Больших французских хроник». История Франции в картинках. Raynaud С. Le commentaire de document figuré en histoire médiévale. Paris: A. Colin, 1997. [Collection Cursus: TD Histoire.] Намного больше чем справочник — надежный путеводитель. L'image: fonctions et usages des images dans l'Occident médiéval: actes du 6e International workshop on medieval societies, Centre Ettore Majorana, Erice, Sicile, 17–23 octobre 1992/sous la dir. de J. Baschet et J.-C. Schmitt. Paris: le Léopard d’or, 1996. [Cahiers du Léopard d’or; 5.] Wirth J. L’Image médiévale: naissance et développements: Vle — XVe siècle. Paris: Méridiens Klincksieck, 1989.
Nachsatz

Книга крупных французских ученых посвящена истории Капетингов — третьей и самой известной династии королей Франции. Авторы прослеживают путь, который проделала капетингская монархия на протяжении трех столетий (987–1328); от положения мелкого сеньора, каким был основатель династии Гуго Капет, до могущественных властителей, сломивших в неравной борьбе сопротивление крупных феодалов королевства (Филипп Август и Людовик VIII Лев), не побоявшихся соперничать с главой римско-католическо го мира и ликвидировать прославленный орден тамплиеров (Филипп IV Красивый). Авторам книги удалось выполнить сложнейшую задачу — увязать личность каждого из монархов, их специфические черты с происходившими во Франции событиями и переменами. На страницах книги Капетинги предстают в самых разных ипостасях — законодателей, воинов-крестоносцев, расчетливых дипломатов, строителей замков и соборов, благочестивых и святых правителей. На страницах представленной работы читатель может найти практически все, что (пусть даже поверхностно) было связано с Капетингами — войны, придворные интриги, феодальное общество, крестовые походы, борьбу с альбигойской ересью, рождение государства и экономики нового типа культурные реформы, историю средневековых города и деревни. Массив информации настолько огромен, что каждая из глав этого произведения могла бы стать отдельной книгой.
Книга снабжена подробной хронологией, картами и генеалогическими таблицами. Для широкого круга читателей.

Последние комментарии
1 день 12 часов назад
4 дней 10 часов назад
4 дней 14 часов назад
4 дней 20 часов назад
5 дней 3 часов назад
5 дней 11 часов назад