Дэвид Шапиро
Динамика характера
Саморегуляция при психопатологии
Посвящается памяти брата, Артура Шапиро
Выражение благодарности
Мне хотелось бы выразить свою признательность моему другу доктору Джин Шимек за ее заинтересованное чтение рукописи под влиянием моей тревожности. Кроме того, мне очень помогли Мустафа Атакай, доктор медицины Мурат Паркер и Майкл Джексон на разных стадиях написания и подготовки книги к печати, и я хочу поблагодарить каждого из них. Я очень признателен за помощь в подготовке книги моему редактору Синди Хайден из издательства Basic Books, которой я выражаю самую искреннюю благодарность. И наконец, я хочу сказать спасибо моей жене, Джеффри Шапиро, советы которой в процессе написания этой книги, как и всегда, были для меня очень ценными.
Отдельные фрагменты первой и второй глав книги в разной форме появлялись в журнале Social Recearch, и я очень благодарен за разрешение использовать этот материал в своей книге.
Предисловие
С некоторых пор мне захотелось выйти за рамки прежних исследований психопатологии, принимая во внимание тот вызов, который бросает биологическая наука психологическому пониманию этой проблемы. В своем более раннем труде, посвященном невротическим стилям, я попытался максимально точно описать формальные черты невротического ощущения и поведения, в частности образ мышления, установки (в особенности непризнаваемые установки), а также типы действия, характеризующие разные невротические состояния. Мне было интересно проанализировать и описать общие формы патологического ощущения и поведения, так как, видимо, именно эти формы, или стили, формируют то, что можно назвать структурой патологического характера и, в свою очередь, определяют форму характерных симптомов.
Изучение образа мыслительной деятельности, который Вильгельм Райх назвал «образом жизни», неизбежно приводит к иному восприятию динамики психопатологии, отличающемуся от традиционного психоаналитического восприятия, а именно к представлению о сознательном, целеустремленном человеке, деятельность которого и формирующие ее установки не являются лишь результатами патологической динамики, которая включает в себя защитную функцию индивидуального когнитивного и поведенческого стиля, субъективные формы мотивации и вообще характерные черты сознательного ощущения. По моему мнению, этот взгляд в целом на динамику характера представляет собой взгляд на саморегуляцию человека, что с теоретической точки зрения звучит гораздо более внушительно, а с терапевтической точки зрения оказывается полезнее традиционной динамики конфликта между влечением и защитой. В особенности это представление позволяет лучше понять субъективную необходимость тех форм, которые принимают симптомы.
Одним из неожиданных результатов моей предыдущей работы стала убежденность в существовании некоторых формальных связей или родства между теми видами психопатологии, которые с точки зрения симптоматики были совершенно разными, как, например, связь между состоянием одержимости (обсессивным) и паранойяльным состоянием. Я полагал, что последующий формальный анализ позволил бы понять психопатологию, исходя из еще более фундаментальных представлений, и еще более прояснить отношения между разными типами психопатологии, а также общие для них динамические процессы.
В особенности долго я находился под впечатлением того, что симптоматическое поведение, присущее разным типам психопатологии, клинически характеризуется, с одной стороны, сравнительно неосознанным, ситуативным отсутствием планомерности, а с другой — ригидностью, диктатом косных внутренних норм. Оба этих типа сохраняют сниженное ощущение самоуправления (как при принятии решения), или личной ответственности, или действия. Нетрудно заметить функциональную ценность таких типов действия, связанную с защитой или предвосхищением тревоги.
Мой интерес к фундаментальным представлениям о психопатологии фокусируется на следующей идее: определить, можно ли считать разные формы психопатологии разновидностью общих форм более низкой организации. Моя цель состояла не в том, чтобы свести к единственной модели все формы психопатологии и типы характера, которые являются источником симптомов, а, скорее, в том, чтобы понять существующие между ними связи и таким образом узнать, какое значение имеет общая для них саморегуляция.
Наша способность видеть формальную связь и родство между состояниями с совершенно разной симптоматикой, может быть даже преодолевая пропасть, разделяющую психотические и невротические симптомы, имеет еще одну, более насущную ценность. Мне это кажется опровержением идеи о различных специфических причинах, вызывающих эти состояния, будь то идея особенных детских конфликтов или травм, как это было принято считать ранее, или весьма популярное ныне представление о возможных биологических дефектах. Иначе говоря, изучение формальных структур психопатологии может уменьшить привлекательность старых идей, за которые держится наша все еще незрелая наука, и оно заключается в том, чтобы найти причины — слишком простые для столь сложных состояний.
Часть первая
Структура и динамика
Глава 1. Введение
Эта книга написана «против течения». Влияние медицины на психотерапию неуклонно возрастает, и на данный момент интерес, который вызывает психопатология, смещается в область биологии. Это обращение к биологии подразумевает одновременное снижение интереса к психологии психопатологии, но особенно свидетельствует о снижении роли психоаналитического лечения. Такое развитие событий в этой сфере еще 30–40 лет назад было трудно предсказать. После Второй мировой войны в психиатрии психоаналитические взгляды, по крайней мере на уровне теории, и влияние психоанализа оказали кардинальное воздействие на развитие не только клинической психологии, но и клинической социальной работы. В рамках психоанализа была разработана всеобъемлющая теория психопатологии, особенно теория невроза. По существу, она была единственной всеобъемлющей и подробно разработанной теорией, применяемой на практике. Фактически, включая все современные изменения, она все равно остается единственной; ее не удалось заменить, вообще говоря, никакой другой психологической теорией. И тогда еще более поразительным оказывается то, что влияние психоанализа уступило изначальное поле своей деятельности и своих открытий биологии. Вряд ли это произошло только благодаря развитию науки о деятельности нервной системы или повышению эффективности фармакологического лечения некоторых видов психических расстройств. Здесь следует принять во внимание и откровенную неудовлетворенность и разочарование самой теорией психоанализа, а поэтому — и любой психологической теорией в этой области.
В свою очередь, биологическое объяснение психопатологии часто оказывается слишком упрощенным. Определение конкретных биологических процессов, которые могут быть присущи данному психическому состоянию, не способны объяснить волевое поведение, когнитивные процессы, а также содержание мыслей и аффектов, которые, в конечном счете, определяют это состояние.
Например, удалось найти определенные психологические условия, позволяющие объяснить различные последствия самостоятельного (без рекомендации врача) применения снотворного и понять побуждения людей, которые их принимают. Но эти состояния дают лишь «оправдательное основание» для выявления зависимости от лекарств (Cacioppo and Berntson, 1992). На самом деле, зависимость от лекарства обусловлена целой совокупностью факторов: определенным расположением духа (настроением), стечением обстоятельств, принятием определенного решения и совершением определенных поступков; эти факторы играют гораздо более существенную роль, чем просто побуждение. Побуждение может быть вполне достаточным объяснением поведения крысы, но побуждение человека следует принимать в расчет только с точки зрения появления у него искушения. Объяснение зависимости от лекарства наличием таких побуждений удовлетворяет ничуть не больше, чем объяснение факта сексуального насилия высоким содержанием тестостерона в крови. Такие поступки, а следовательно вообще любые человеческие поступки возникают вследствие гораздо более сложного сочетания нейрофизиологических процессов по сравнению с тем уровнем, о котором говорят сегодня. Из такого подхода фактически следует, что объяснение на уровне психологии весьма важно не только для настоящего времени, но и существенно для определения направлений нейрофизиологических
Никто не сомневается в том, что в основе психопатологии, да вообще в основе всех возможностей человеческой психологии, лежит биология. Благодаря особенностям своего биологического развития мы можем думать, говорить и т. п., мы также обладаем способностью самоосознания, а вместе с тем — способностью чувствовать внутренний конфликт и самообман. Кроме того, каждый человек осознает, что с момента его появления на свет специфика биологических различий оказывает влияние на индивидуальную психологию. Но основные усилия в современном направлении развития психиатрии были связаны с выявлением особых нейрофизиологических причин сложных психологических симптомов, существующих бок о бок с психологической основой этих симптомов. Неудача в установлении таких специфических нейрофизиологических причин симптомов до сих пор не поколебала эти усилия.
Наглядным примером может послужить предположение существования особой нейрофизиологической причины состояния навязчивой одержимости
(obsessive-compulsive conditions). Так, например, в одной популярной книге обсуждается возможная связь между навязчивым мытьем рук и ритуальными движениями, в основном имеющими внутреннюю неврологическую природу, некоторых приматов в процессе очищения тела. Можно не сомневаться, что даже самое поверхностное психологическое исследование опровергнет эту точку зрения. Оно покажет, что навязчивое мытье рук — совершенно не бездумная и не рефлекторная реакция, а действие, направленное на снижение или устранение специфичной, непрерывной тревоги, которая постоянно наполняется определенным содержанием. Как правило, в клинической практике симптомы навязчивого мытья рук связаны с другими симптоматическими навязчивыми действиями, например, с соблюдением мер предосторожности: проверкой и перепроверкой, заперта ли дверь на замок, выключена ли газовая плита, или с симптомами одержимости
(obsessional symptoms), например с тягостной нерешительностью. Чуть позже я покажу, что все эти симптомы отражают особый, специфичный тип добросовестности. Иными словами, такие симптомы выражают психологическую динамику и результаты некоторых установок и образа мышления. Они отражают определенный тип личности или тип мышления, а не конкретные расстройства, не связанные с личностью и мышлением.
Биология человека — это основа не только способности говорить, мыслить и осознавать себя, но и основа межличностных отношений. Она определяет, что детей должны воспитывать взрослые, что это воспитание и развитие будет продолжаться долго и что этот процесс обязательно происходит почти во всех человеческих сообществах, как бы они ни отличались между собой. И все это включает в себя когнитивные и эмоциональные особенности человека, возможность развития особых добросовестных установок (о которых мы только что упоминали), а те, в свою очередь, порождают симптомы навязчивой одержимости.
Традиционная форма психоанализа не очень хорошо приспособлена к тому, чтобы стать достойной альтернативой упрощенным биологическим представлениям о психопатологии. Причиной тому является ограничение психоаналитического понимания формирования симптомов, которые имеют именно данную, а не иную форму. В свою очередь, этот недостаток оказывается прямым следствием исторически сложившегося недостаточного признания важности установок, индивидуального стиля мышления, а также видов деятельности и образа мышления, формирующих сознание и поведение.
Ортодоксальные психоаналитики считали невротические симптомы особым проявлением иррациональности на фоне рационального взрослого поведения. Они видели в них внешнее выражение особенных детских конфликтов, бессознательно сохраняющиеся анахронизмы. Но теперь психоаналитики и психотерапевты считают, что большинство симптомов имеют определенную характерологию, хотя бы смутно осознавая их сложную природу, в которой проявляются общие черты установок, поведения и межличностных отношений. Но эта клиническая точка зрения остается концептуально неясной, а потому она вряд ли может претендовать на полноту. Убедительное понимание симптомов должно дать представление о том, что их динамика, независимо от их природы, уже не содержит сохранившихся в памяти характерных конфликтов и тем более концептуальных представлений о таких конфликтах. Динамика патологии взрослого человека включает в себя разные проявления психической организации взрослой личности.
Эта книга служит продолжением моей прежней работы, связанной с характерологическим пониманием психопатологии. Хотя это понимание отличается от традиционного психоаналитического представления, оно сформировалось на основе психоаналитической концепции структуры человеческой психики. Цель моей книги — дать представление о самоорганизации и саморегуляции человеческой психики при разных формах психопатологии; об установках человека, их организации и динамике, включая те, которые сам человек не осознает, не может сформулировать и выразить вербально; а также о формах деятельности и типах реакций, связанных с этими установками.
Если изучать психопатологию именно так, мы увидим ее в совершенно новом свете. Казалось бы, иной раз несопоставимые симптомы и черты поведения зачастую оказываются разновидностями — иногда не слишком явными — более общих паттернов и форм поведения. Оказывается, между относительно независимыми, на первый взгляд, диагностическими категориями имеются формальные связи. Таким образом, появляется возможность понимания самой разнообразной психопатологии с самым широким диапазоном выраженной симптоматики как разновидности психической организации и системы психической регуляции. Такое структурное или характерологическое понимание ведет нас в прямо противоположном направлении от присущей психиатрии цели установления специфических нейрофизиологических причин конкретного, отдельно взятого состояния.
Эго с точки зрения психоанализа
Прилежного студента может только испугать весь объем психоаналитической теории психопатологии. Эта теория крайне сложна, а кое-где столь запутанна, что кажется почти непостижимой. Причина появления таких сложностей заслуживает определенного уважения. В основном они возникли вследствие обобщения клинической практики и клинических наблюдений за длительный период времени: новые данные просто добавляли к старым, но редко заменяли их.
Самая ранняя теория Фрейда была олицетворением простоты. Он исследовал специфические причины особенных симптомов, например нервного тика или конкретной фобии. Он находил эти причины — или верил, что их находил, — в вытесненных из памяти воспоминаниях травматических событий и в сопутствующих им вытесненных аффектах. Такое представление о психопатологии почти не предполагало наличия какой-то общей психической структуры, которая создает симптомы и придает им форму. Конечно же, важным исключением является ключевая для психоанализа концепция защиты в ее простейшем виде вытеснения; она представляла собой организацию самозащиты психики. Но тогда получалось, что симптом или психопатология имели слабую связь с индивидуальностью человека или его психической организацией и в основном относились к воспоминаниям конкретных событий, которые, как считалось, находились внутри психики.
С изменением взглядов Фрейда в направлении создания теории развития либидо и концепции развития внутреннего конфликта представление о психопатологии сделалось намного шире. Оно, как и представление о самой психике, стало гораздо сложнее. Таким образом, начиная с этого времени, пока в процессе клинической работы выявлялась ткань невроза, процесс психоаналитической психотерапии становился все более и более длинным. Теория психопатологии неизбежно расширялась, чтобы вместить в понятие личности новые составляющие и характерные для нее психические процессы. Например, если сначала в качестве процесса защиты (тревожность, вызывающая ограничение самоосознания) рассматривалось только вытеснение, последующие результаты клинической практики указывали на присутствие и других процессов, вызывающих тревожность, и тогда список узнаваемых защитных «механизмов» значительно расширялся.
Систематизация этих достижений психоанализа в 1923 году стала целью и в какой-то мере успешным завершением построения Фрейдом подробной структурной схемы психики. В то время он кратко сформулировал эту цель в своем определении Эго, основного структурного звена, как «связной структуры, организующей психические процессы личности». Особенный интерес вызывает приложение к этому определению, в котором он говорит, что «это та психическая инстанция, которая производит контроль над всеми своими частичными процессами» (Freud, 1923/1961, р. 17)
[1].
Но, по существу, с тех пор при развитии концепции Эго его перестали считать «связной структурой, организующей психические процессы личности». Вместо этого Эго стали просто наделять несистематизированной совокупностью функций, процессов и механизмов соответственно тем или иным убеждениям в области клинических исследований или теоретическим требованиям, которые считались необходимыми. В середине XX века выдающийся психоаналитик Роберт Уайлдер (Robert Waelder) составил список защитных механизмов, которые более или менее отвечали духу времени, назвав его «бессистемным перечнем» (Waelder, I960). Рассмотрим, например, защитные механизмы, которые в основном соответствуют неврозу навязчивых состояний: реактивное образование, интеллектуализация, изоляция аффекта, отказ от деятельности и регрессия. Эти механизмы перекрываются между собой, они чрезвычайно различаются по уровню сложности, по отношению между теоретическим обоснованием и клиническим подтверждением и не имеют никакой системной связи между собой. Этот список защитных механизмов не стал чуть более систематическим, когда не так давно в него добавили защитные механизмы, связанные с серьезными расстройствами, характерными для состояний, которые нельзя назвать психозами, но вполне можно отнести к пограничным.
Я полагаю, что хорошо было бы не только составить список защитных механизмов, но и описать существующую современную концепцию Эго как бессистемной совокупности функций и процессов, добавив к защитным механизмам также различные адаптивные способности и мыслительные процессы, между которыми также отсутствует ясная связь, как и их связь с общей структурой. Короче говоря, на сегодняшний день Эго постижимо приблизительно на том же уровне, который имел в виду Эйнштейн, говоря о физике элементарных частиц: «Наши знания больше похожи на каталог, чем на систему». А следовательно, можно обсуждать конкретных людей и их психопатологию в психоаналитическом ключе, применяя в каждом конкретном случае свои конструкты: такая деятельность напоминает сборку кубика Рубика или «механизмов» Руби Голдберга
[2] (Rube Goldberg).
Структура и динамика сознания
Сознание — это не только связующая структура, но и организующее начало этой структуры. Наша жизнь структурируется под воздействием установок и образа мышления, характерных для каждого из нас. Вместе с тем эти характерные установки действуют как система регуляции. Они автоматически, рефлекторно ограничивают или корректируют предрасположенность реакций, скажем, на конкретные обстоятельства, которые могли бы угрожать, например, психической стабильности или существующей адаптации, даже при условии, что эта стабильность или эта адаптация является патологическими. Например, предусмотрительный человек, который в определенных условиях пытается ослабить свою настороженность, наверное, спустя какое-то время заметит что-то подозрительное, чтобы прекратить свои попытки. Именно настороженная установка превращает чувство этой возникающей расслабленности в ощущение уязвимости и тем самым включает коррекцию возобновляющейся тревоги.
Концепция структуры сознания или человеческой личности как саморегулирующейся системы включает в себя новое представление о психологической динамике. Данное представление в особенности открывает нам новый взгляд на роль сознания в динамике психопатологии. В традиционной психоаналитической концепции сознание в основном не имеет отношения к динамике психопатологии, оно как бы играет роль эпифеномена, фиксирующего воздействие бессознательных процессов. Эта точка зрения совпадает с концепцией пассивно-ассоциативного сознания XIX века.
Согласно этому взгляду характерной сознательной установке принадлежит основная роль в психодинамических процессах, включая и установки, которые могут преимущественно или полностью оставаться неосознанными. Особенно заметно ограничивающее воздействие таких установок, сужающих и искажающих самоосознание, вызывая предвосхищающую тревогу и тем самым эффективно формирующих процесс защиты. Таким образом, с этой точки зрения психоаналитические механизмы защиты могут считаться особыми, подтвержденными клиническим опытом, примерами функционирования этой регуляционной системы. Данные механизмы можно было считать не психическими структурами, которые «использует» человек, а примерами деятельности человеческого сознания.
Организующую и регуляционную систему сознания можно описать как ее «структуру» практически в том же смысле, как это понятие употребляется в архитектуре. Структура здания позволяет ему прочно стоять на поверхности земли; при этом она придает ему определенную форму. Соответственно, структура сознания или личности — это система установок и подходов, которые не только гарантируют сравнительное ощущение стабильности и комфорта в самых разных обстоятельствах, но и позволяют человеку действовать последовательно и определяют основные формы этих действий.
Однако некоторые разновидности личностной структуры вызывают развитие психопатологии. Личность развивается так, чтобы предотвращать возможность конфликта и дестабилизации, только налагая жесткие и длительные ограничения на свою жизнь и поведение. Иначе говоря, в таком случае в реакциях человека проявляются его самоограничения, которые он накладывает на некоторые свои склонности — чувства, мысли, намерения — и даже на некоторые свои установки. Именно эти ограничения, направленные на предотвращение тревоги, создают условия для появления новой тревоги. Например, предусмотрительный и хорошо владеющий собой человек больше не ощущает дискомфорт только из-за обстоятельств или конфликта, изначально послуживших причиной появления такой предосторожности; как только проявилась эта предусмотрительность, она становится причиной появления ощущения дискомфорта при малейшем удивлении или самом незначительном проявлении спонтанности. И каждое такое ощущение дискомфорта вызывает повышение этой предусмотрительности. Ужесточая ограничения возможного выражения личности, такие люди не только создают внутреннее напряжение, но и расширяют сферу конфликта и повышают возможность возрастания тревоги.
Таким образом, в этом циклическом процессе напряжение, вызванное налагаемыми человеком самоограничениями, постоянно растет: происходит самосохранение патологической личности. Часто приходится иметь дело с особыми разновидностями и частными случаями таких ограничений в человеческом поведении, которые проявляются с поразительной добросовестностью; это, например, чрезвычайно широко известный психиатрический симптом навязчивого мытья рук. Поэтому такие симптомы обязательно будут «в характере личности».
Существует большое количество клинических фактов, которые практически подтверждают, что психопатологические симптомы, по существу, являются характерологическими. Для мужчины, одержимого сожалениями о прошлом, который сам считает эту одержимость «сумасшествием», в жизни тем не менее характерны озабоченность упущенными ранее возможностями, а также общий перфекционизм. Эти черты он не считает симптомами, но в их субъективном переживании и в установках, которые они отражают, эти черты поразительно похожи на симптомы, которые он не узнает. Эксперт, работающий с тестом Роршаха, часто может сделать вывод о наличии определенных симптомов, исходя из общей реакции человека на последовательность карточек с изображением чернильных пятен. Например, видя реакцию импульсивной реактивности истерика на пятна Роршаха, эксперт не удивляется эмоциональным взрывам, которые, по словам пациента, «неведомо откуда взялись».
Иными словами, теперь мы знаем, что самые специфические симптомы — те, что кажутся странными человеку, у которого они присутствуют, — это не отдельно взятые «вторжения» в его повседневную жизнь, которыми они считались когда-то раньше. Совсем наоборот, они представляют собой особые проявления этой индивидуальной жизни и характерных для нее установок. Именно в этом особом смысле симптомы можно называть характерологическими, опять же, имея в виду ключевое условие: что жизнь человека и эти самые характерные установки никогда не осознаются и не выражаются вербально. Когда появляются невротические симптомы, они кажутся странными и чуждыми, но вовсе не потому, что представляют собой проникновение бессознательных элементов в повседневную жизнь. Это происходит потому, что они привносят и распространяют добросовестность и тревогу на целые сферы жизни и деятельности человека, где его сознание их не признает, несмотря на их постоянное присутствие.
Рассмотрим еще раз в качестве примера симптом ритуального, навязчивого мытья рук. Как известно, этот симптом появляется у людей, практически постоянно измученных своим проявлением безжалостной добросовестности. Такие люди, все время испытывая тревогу, напоминают себе о том, что они что-то не сделали или сделали недостаточно; они не могут себе позволить испытать удовлетворение. Следовательно, они часто заняты исправлением чего-то или соблюдением мер предосторожности. Они чаще делают больше, чем нужно, предотвращая или снимая свою озабоченность, чем вообще ничего не делают. Подобные действия, совершаемые только ради совершения самого действия, по существу, являются ритуальными. Но пока такие действия не станут крайне добросовестными, обычно в них не видно симптоматики, по крайней мере в их субъекте.
Совсем небольшие различия в общей установке, скажем, навязчивой добросовестности или обязательности могут вызвать появление симптомов или черт характера, которые внешне совершенно не похожи между собой. Например, у одних людей выражение этой установки имеет моральный акцент на «силе воли», отвращении к послаблениям и «уступкам» себе. У других это небольшое различие в установке проявляется в их крайней «поглощенности» работой. Иногда навязчивая добросовестность принимает форму безжалостной тревоги; применительно к несколько иной структуре личности этот симптом проявляется в виде не ослабевающего жестокого перфекционизма. В третьем случае люди никогда не удовлетворяются тем, что их руки чисты или достаточно чисты, и в результате такой установки мы получаем навязчивое мытье рук.
Кроме того, очевидно, что психоаналитические защитные механизмы в виде реактивных образований или отказа от деятельности — это, по существу, разновидности навязчиво-предусмотрительной или корректирующей установки. В приведенных примерах эта установка выражается в предусмотрительной или компенсаторной перепроверке: в одном случае — чтобы избежать тревоги, а в другом — чтобы полностью устранить тревогу, вызванную малейшей возможностью сделать что-то не так.
Когда проясняется характерологическая структура разных видов психопатологии, сразу проясняются связи и сходства состояний, приписываемых разным диагнозам. Это формальные связи, существующие между самыми общими установками и формами мышления и переживания, могут оказаться совершенно неочевидными в специфическом содержании симптома или описании защитных механизмов. Иногда эти формальные связи подтверждают или расширяют область общеизвестных связей, уже выявленных на разных уровнях психоанализом, однако при этом возникают и новые связи, и новые аспекты уже известных связей.
Интересным примером может послужить связь между состоянием навязчивой одержимости и паранойяльным состоянием. Навязчивая брезгливость или перфекционизм, при которых человек во всем находит какую-то мелочь или дефект с точки зрения объекта, привлекающего их внимание, никак не связаны с паранойяльной подозрительностью. Но с точки зрения когнитивной установки, а значит, и с точки зрения качества субъективного ощущения между этими двумя состояниями есть поразительное сходство. Напряженная целенаправленность каждой из них, узкая концентрация внимания на объекте интереса, освобождение его от контекста, а, следовательно, диспропорция в оценке его значения — все эти факторы не полностью идентичны, но явно очень близки. И, по существу, структурное сходство этих двух клинических случаев подтверждается, например, когда навязчивая тревожная озабоченность возможным попаданием в пищу грязи усиливается и развивается до тревоги, обусловленной возможностью отравиться.
Клиническим психологам давно известно, что тесная связь между этими двумя состояниями имеет простую эмпирическую основу. Серьезные нарушения, связанные с патологической навязчивостью, — это общеизвестный фон паранойи, и в некоторых случаях разница между этими двумя клиническими состояниями с трудом поддается диагнозу. Психоанализ выявил эту связь и теоретически объяснил ее наличие предполагаемой близостью соответствующих стадий фиксации и регрессии: в обоих случаях речь идет о регрессии на анальную стадию развития либидо и агрессивной конфликтности. Таким образом, психоаналитическая теория все же признала внутреннюю связь между двумя состояниями, хотя на очень шаткой основе. С другой стороны, защитные механизмы, считавшиеся характерными для каждого из этих состояний, уже упоминавшиеся мной в отношении навязчивой одержимости, и механизм проекции при паранойе не дают ни малейших оснований предполагать какую-либо связь между этими состояниями или связь между двумя типами характера. Причина тому хорошо понятна. Эти защитные механизмы считаются не характерными признаками одержимо-навязчивой и паранойяльной личности, а скорее более или менее элементарными психическими структурами, существенно меньше связанными (если такая связь вообще существует) с характером человека, у которого они выявлены.
К примеру, защитный механизм проекции вообще считался элементарным мыслительным процессом. Но рассмотрение процессов мышления и включенных в этот механизм установок проясняет и его собственное функционирование, и его тесную связь с динамикой, характерной для навязчивой одержимости. Можно лишь вообразить менее стабильное, а значит, более ригидное превращение самоосознанного самоконтроля у некоторых типов одержимо-навязчивой личности в паранойяльную защитную подозрительность. Озабоченность одержимо-навязчивой личности самоконтролем, своими сверхнапряженными усилиями, с целью предотвратить или исправить любой изъян в самоконтроле (как при включении защитных механизмов реактивного образования или прекращения действия), постоянной борьбой с самим собой и своей озабоченностью проявлением слабоволия или уступчивости по отношению к самому себе — все эти факторы в случае паранойи превращаются в защитную мобилизацию, не позволяющую уступить внешней агрессии, которая стремится сломить или ослабить эту волевую защиту. Именно такая защитная мобилизация с ее предвзятой тревожностью в итоге приводит к «проективным» искажениям реальности. Это относительно простая, хотя явно очень значительная трансформация структуры позволяет выявить существенные различия в содержании симптомов и защитных процессов.
Похожую связь можно найти и в других разновидностях психопатологии. Например, существует близкое сходство в общем стиле и субъективном переживании между разными типами пассивных и импульсивных личностей, а также между ними и очень эмоциональной истерической личностью. Всем этим состояниям присуща ситуативная реактивность и субъективное ощущение ослабленной намеренности действия («Я не смог с этим справиться», «Я не знаю, почему я так поступил», «Я ничего не могу поделать со своими эмоциями»), В данном случае тоже не слишком большая разница, скажем, в образе мышления или в степени ситуативности реакции может привести к существенной разнице в симптоматике: в одном случае — крайне изменчивое эмоциональное состояние, в другом — безрассудные поступки. Кроме того, интересна связь между вынужденной
(driven) спонтанностью гипоманиакального состояния и внутренним побуждением
(drivenness) навязчивой личности, с одной стороны, и импульсивностью психопата — с другой. Обе эти связи отмечались отдельно и обсуждались в клинической — прежде всего в психоаналитической — литературе, как, например, связь между истерической личностью и психопатом, но при этом отсутствовал формальный анализ, необходимый для прояснения этой связи.
Если бы можно было представить сознание без структуры, без организующей и регулирующей системы, сознание, которое было бы совершенно пассивным в своей реакции на внешние обстоятельства и чрезвычайно гибким в своем восприятии этих обстоятельств, то можно было бы изучить виды патологии, которые были бы настолько разными, насколько различались бы патогенные условия. Но если мы с самого начала предполагаем наличие организующей и регулирующей системы, то отсюда следует, что независимо от разнообразия патогенных условий принципиально не может быть неограниченного разнообразия патологии. Развитие психопатологии, так сказать, будет ограничено основными направлениями, которые определяются направлениями развития дефектов структуры сознания. Не стоит сомневаться, что клиническая практика это подтвердит. Разумеется, количество индивидуальных вариаций является бесконечным. Но при этом, видимо, останется относительно небольшое количество фундаментальных форм психопатологии, причем в этих формах будет гораздо больше общего, чем часто предполагается исходя из их симптомов, которые могут иметь самую разнообразную форму.
Самоотчуждение и потеря воли и способности к действию
Для всех разновидностей психопатологии характерно наличие самоотчуждения. Его появление — неизбежное последствие ограничений, характерных для динамики психопатологии, которые предотвращают тревожность. Поэтому от невротичных пациентов, пришедших на психотерапию, можно услышать, например, такое: «Зачем я это делаю?»; «Я хочу уйти, но мне что-то мешает»; «Мне кажется, я ее люблю, но не уверен в этом».
Всем формам психопатологии присуща некая потеря человеком ясного ощущения того, что он реально чувствует, хочет и даже что собирается делать. Кроме того, теряется ясное представление о том, что человек собирался делать, что предпочел сделать, что делает и что сделал. Так называемое снижение ощущения действия (Schafer, 1976) или индивидуальной ответственности (Kaiser, 1955/1965) или так называемое снижение самоуправления (Shapiro, 1981) бросается в глаза при симптоматическом поведении, которое ощущается странным и не связанным с субъектом действия, как это проявляется в навязчивых ритуальных действиях, а в более радикальном виде — при паранойяльных галлюцинациях. Но вместе с тем, очевидно, что некоторые люди не признаются в своих намерениях, искренне говоря: «Я не знаю, как это произошло, я не собирался делать ей больно» или: «Я продолжаю с ним встречаться, хотя на самом деле не хочу этих встреч; это похоже на зависимость». Утрата или ослабление способности человека совершать действия не ограничиваются конкретными симптомами и конкретным поведением. Можно было бы сказать, что они определяют симптоматическое поведение, но в той или иной форме и в той или иной мере они все время существуют в психопатологии. При этом снижается не только субъективное ощущение действия. Индивидуальная утрата способности к действию связана с неким
реальным ограничением ши ослаблением волевого действия.
В этом нет ничего особенно примечательного. Самоосознание и ощущение совершения индивидуального действия становятся особенно острыми в процессе совершения или ожидания волевого действия. Именно поэтому конфликт между мотивациями и порожденная им тревога являются особенно сильными. Потеря или ослабление ощущения действия и последующее появление опережающей тревожности прекращается при реальном воздействии процесса волевого самоуправления.
Например, некоторые люди обычно действуют по ситуации; они избегают строить серьезные планы, осознавать последствия своих действий и, видимо, вообще избегают установки действовать намеренно. Их ситуативное действие позволяет с легкостью избегать ответственности или серьезных намерений именно потому, что таким образом укорачивается и сам волевой процесс, и их переживание этого процесса. У людей с ригидным характером, напротив, существует постоянная внутренняя опора на нормы или на «следует»; осознание авторитета этих «следует» ограничивает направление воли или как-то иначе ослабляет ощущение действия или выбора.
Фактически, можно сказать, что все формы психопатологии характеризуются особой зависимостью от факторов, которые можно было бы назвать доволевыми типами действий, а именно — ригидным или пассивно-реактивным типом действий, которые возникают на ранней стадии развития, вызывая предвосхищающую тревожность, снижающую интенсивность переживания действия. Я буду употреблять понятие «доволевое действие» на протяжении всей книги, описывая и ссылаясь на эти типы действий и связанные с ними установки. Но при этом, применяя это понятие по отношению к психопатологии взрослого человека, я не говорю о регрессии. Хотя эти типы действий появились на ранней стадии развития и в процессе развития сменились более полноценным волевым самоуправлением, они никогда не исчезают полностью. Они сохраняются в поведенческом репертуаре всех взрослых, причем, как правило, адаптивно видоизменяются. И я также не имел в виду, что эти типы действий в каком-то особом смысле формируют базовые или элементарные типы психопатологии. Действительно, они слишком перекрываются между собой, чтобы считаться отдельными, элементарными и дискретными, а в самой крайней своей форме — при шизофрении — они переходят один в другой; крайняя ригидная реактивность становится крайней пассивной реактивностью. Тем не менее это примеры основных типов действий, в которых нормальные процессы волевого самоуправления и нормальное ощущение волевого действия или поступка или индивидуальной ответственности снижены и, соответственно, возникает чувство предвосхищающей их тревоги.
Этиология, продолжительность существования структуры и шизофрения
На данный момент мы не можем с уверенностью что-либо утверждать об этиологии психопатологии не только в самых общих чертах, но и в отношении отдельных типов психопатологии. Действительно, изучение причин психопатологии имело свои проблемы — кто-то назвал бы такое изучение поглощенностью причинами (Sass, 1994). Исторически сложилось так, что существовала склонность к слишком упрощенному пониманию выявленных причин и источников разных форм психопатологии: и с точки зрения психологии, и с точки зрения биологии. Специфические причины и источники подвергались обсуждению, при этом внимание участников дискуссии переключалось с одного источника на другой, прежде чем удавалось установить фундаментальную причину или природу патологии. Так, например, в последние годы при исследовании серьезных расстройств психики (но все же не являющихся психозами) основной акцент в психоанализе был сделан на предполагаемых нарушениях в развитии ребенка на очень ранней, «доэдиповой» стадии, особенно на его отношениях с матерью в младенчестве и раннем детстве. Эта концентрация внимания вызвала серьезные обсуждения: к какой стадии развития следует отнести источник данной патологии — к «эдиповой» или «доэдиповой». При этом не было твердых доказательств в пользу той или иной точки зрения, и сами определения патологии были очень размытыми и неоднозначными. Вполне возможно, что само понятие патологии взрослого человека включало в себя предубеждения, обусловленные преждевременными выводами в отношении той или иной биологической или психологической причины патологии, связанной со стадией развития.
Любая психопатология представляет собой сложную картину, в которой нелегко отделить фундаментальные факторы от факторов, которые только бросаются в глаза. В качестве самого яркого примера можно привести обсуждение состояния
anorexia nervosa. С точки зрения приверженности пациенток соблюдению диеты и сохранению веса это состояние обычно называется нарушением пищевого поведения. В самых первых психоаналитических исследованиях анорексии аналитики искали ее патогенные источники в конфликте инфантильных влечений, преимущественно в оральной фиксации. Этот симптом интерпретировали как бессознательное отвержение орального зачатия. Но соблюдение пациентками диеты и сохранение ими веса дали возможность проявиться совершенно иным целям и установкам, а с точки зрения самой последней концепции анорексию относят к навязчивому,
даже фанатичному перфекционизму и аскетизму. Естественно, это более характерологическое понимание направляет наш этиологический интерес в совершенно иное русло.
Психоаналитическая концепция развития и, следовательно, ее взгляд на психопатологию как на регрессивный феномен сейчас стали намного шире по сравнению с изначальным представлением о развитии влечения и внутреннего конфликта. Но многие клинические психологи, включая меня самого, считают традиционную психоаналитическую идентификацию патологии взрослого человека с той или иной стадией инфантильного или детского развития ошибочной в принципе, независимо от того, насколько широко ее следует трактовать. Действительно, в этой связи введение самого понятия регрессии без последующего объяснения основных субъективных процессов, совокупность которых в основном составляет регрессию, кажется весьма спорным. Очень сомнительно, что процесс мышления на этой ранней стадии развития действительно может объять всю сущность патологии взрослого человека. Разумеется, можно выявить предрасположенность ребенка к каким-то патологическим или иным чертам взрослой личности, но дистанция между детским состоянием и патологией взрослого остается очень и очень большой, и не видеть этой дистанции — значит совершенно игнорировать само психическое развитие.
В конечном счете, самая веская причина отвергнуть такую идентификацию психопатологии взрослого с предполагаемыми прототипами раннего детства заключается в соответствии симптомов взрослого человека его установкам и стилю поведения. Я представил эти довольно подробные клинические свидетельства в другой своей работе (Shapiro, 1965, 1981)
[3] и некоторые из них рассмотрю в последующих главах этой книги. Здесь же достаточно сказать, что свидетельством тому, что вся симптоматика взрослого человека находится «в его личности», является тот факт, что этиология психопатологии по своей сути не больше чем особый случай в развитии личности вообще. Наверное, следовало бы оговориться, что она и не меньше чем особый случай развития личности, ибо это значит, что такая этиология гораздо сложнее концепции возможного существования какой-то конкретной и прямой причины — любого специфического конфликта развития, эмоциональной травмы или любой другой конкретной причины.
В начале этой главы я сказал, что психопатология слишком психологически сложна, чтобы иметь прямые и простые нейрофизиологические причины. Но все мы склонны полагать, что в человеческом организме с момента рождения присутствуют элементарные организующие и регулирующие системы, у которых, следовательно, есть и некая внутренняя биологическая основа. Биологические основы темперамента, разных типов ощущения окружающего мира и когнитивных структур в основном с самого раннего детства должны влиять на особенности индивидуального ощущения, восприятия и переживания и на индивидуальные реакции. Это должно быть одной из детерминант не непосредственно психопатологии, которая включает в себя внутренний конфликт и его ответвления, а общей формы развития личности.
Для развития психопатологии — то есть для появления внутреннего конфликта и тревоги, а также ограничений и искажений характера, вызывающих предвосхищающую тревогу, — требуются патогенные условия. Но природу такого развития, даже в каком-то смысле субъективное определение патогенных условий, будет также определять конкретная личность, существующая система установок, ощущений, тенденций к определенному типу реакций и т. д. Иными словами, патологическое
развитие личности
(character)[4], как и развитие определенных симптомов, тоже должно содержаться в самой личности; это развитие, так сказать, должно происходить изнутри, через трансформацию и дифференциацию всех уже существующих психических факторов. Это значит, что внутренний конфликт и тревога в процессе индивидуального развития будут вызывать гипертрофированные проявления уже существующих склонностей, снимающих и рассеивающих тревожность и в основном препятствующих ее появлению.
Само существование и консервативное воздействие организующей и регулирующей системы свидетельствует в пользу закона непрерывности развития, по крайней мере ограниченной непрерывности развития. Такой закон непрерывности должен быть справедлив и для развития патологии, например, вместо закона патологической фиксации или регрессии. Но это должна быть непрерывность развития общей регуляционной структуры, общих стилей и установок, а в случае психопатологии она не должна препятствовать резким симптоматическим изменениям и изменениям аффективного состояния.
Основной принцип непрерывного существования структуры должен быть применим и к приступам психоза, в особенности шизофрении, хотя это, наверное, самое трудное испытание для структуры. Хотя обычно приступ шизофрении у взрослого человека происходит не столь неожиданно, как это иногда себе представляют, наверное, во время этого приступа в клинической работе наблюдается самая поразительная деструктуризация, причем процессы, происходящие во время этого кризиса, до сих пор плохо понятны. Такие понятия, как «декомпенсация», которые обычно употребляются в психиатрии для описания приступа шизофрении, в лучшем случае имеют смутный смысл, а чаще всего лишь порождают путаницу.
Можно ли сказать, что приступ шизофрении, хотя он, несомненно, привносит ощутимый разрыв в процесс развития, все же скрывает под собой более глубокий процесс патологических изменений? Мы попытаемся убедиться, что так оно и есть. Нельзя быть совершенно уверенным в том, что разница между невротическим и психотическим состоянием — лишь вопрос количественного уровня психического нарушения. Но я попытаюсь показать, что превышение степени ригидности и пассивности, которые характеризуют невротическую или непсихотическую патологию, в ряде случаев
у некоторых людей вызывают симптомы шизофрении. В том смысле, что эти симптомы можно считать сохранением формальной связи с состоянием шизофрении, тогда можно было бы сказать, что шизофрения тоже присутствует «в характере человека».
Формальное отношение состояния невроза к шизофрении следует прояснять в двух направлениях: нужно исследовать невротические состояния на присутствие в них этих общеизвестных, формальных отличительных признаков шизофрении: например, потери реальности, ослабления границ Эго и деградации эмоциональной сферы; кроме того, следует тщательно рассмотреть форму самих шизофренических симптомов. Особенно важно в этом исследовании тщательно изучить когнитивные процессы, характерные для невротического и психотического состояний, ибо, вне всякого сомнения, эти процессы особенно важны с точки зрения их связи с внешним миром. Хотя ослабление когнитивных процессов при шизофрении всегда было очевидным (правда, при этом не всегда точно определенным), обычно считалось, что невротические состояния не влияют на когнитивную сферу. Фактически, это различие между невротическим и психотическим состояниями, несмотря на то что оно является вполне реальным, нельзя назвать простым. Отношение к внешней реальности — не столь автономный фактор, и он не зависит от отношения к самому себе как в случае психотической, так и невротической личности. Мы увидим, что фактически и в том и другом состоянии эта связь нарушается из-за уменьшения волевого управления и контроля.
Глава 2. Динамика саморегуляции
Терапевтическая проблема динамики
Психоаналитическое представление о психодинамике порождает не только теоретические, но и терапевтические проблемы. Нетрудно видеть, почему это так. Фундаментальная цель динамической психотерапии — расширение и углубление самоосознания, и в особенности — расширение ощущения пациентом субъективного действия. Это значит, что проясняются его чувства и намерения в отношении всего, что он собирался и решил сделать, а также его намерения и решения в отношении того, что он делает в данный момент. Пациент, который сначала верит (или пытается себя убедить) в том, что «не может» бросить пить, несмотря на все приложенные усилия, приходит к осознанию, что фактически не хотел и не собирался этого делать. Иначе говоря, цель психотерапии заключается в том, чтобы побудить пациента не ощущать необходимости в самоотчуждении, присущем психопатологии, а следовательно — устранить его вообще. По крайней мере, эта цель всегда признавалась психоаналитиками, которые занимались лечением отдельных симптомов, стремясь к признанию пациентами своих бессознательных мотиваций. Кроме того, теперь она становится понятной в связи с общим отношением пациента к своей жизни. Но приходится признать, что традиционная психоаналитическая концепция динамики не полностью соответствует цели терапии.
До тех пор пока в рамках раннего психоанализа считалось, что невротической личностью движет, по крайней мере, ее симптоматическое поведение, направляемое бессознательными силами или механизмами, эта личность представлялась пассивной, почти марионеткой (Erikson, 1950). Распространению этой теоретической концепции, направленной на расширение возможностей действия пациента через его осознание своих бессознательных мотиваций, не хватало осуществления ее собственной цели. Когда у аналитика существует представление о пассивности пациента, прежде чем сказать о том, что причиной его действий являются бессознательные силы и механизмы, он вступает в «борьбу» (Schafer, 1976) с отказом пациента от своих намерений. Даже коррективы эго-психологии, с присущим ей особым вниманием к сознанию, и современный акцент в терапии на «ситуации здесь-и-теперь» не может снять ограничений с представления о патологии взрослого человека как о бессознательном проживании психодинамических детских конфликтов.
Во многих терапевтических подходах и вне психоанализа (гештальттерапия, терапия реальностью
[5]), и в его рамках можно усмотреть сознательные усилия избежать этой проблемы классической теории динамики и непосредственно расширить ощущение пациентом намеренности его симптоматического поведения.
Самые тщательные усилия были предприняты Роем Шафером (Roy Shafer). По мнению Шафера, аналитик подменяет понятия целенаправленного действия (зачастую бессознательно) или то, что он называет «языком действия», обезличенным языком психологических причин и динамики, в которой «присутствуют мысли и чувства» и «действуют психические механизмы». Язык Шафера относится не только к поведению и мышлению, а практически ко всем мотивациям и эмоциям в настоящем и в прошлом как к действию («…мы заменили идею счастья идеей счастливого совершения действий» — Shafer, 1976). На мой взгляд, такая программа заходит слишком далеко и вместе с тем не слишком далеко. Намерения просто необъятные, но только такого притязания, в особенности столь обобщенного, недостаточно, чтобы решить проблему и теоретически, и, я бы сказал, терапевтически.
Хельмут Кайзер, который был первым студентом Вильгельма Райха, оказавшего на него огромное влияние (Райх, акцентируя внимание на «жизненном пути» пациента, часто говорил на «языке действий»), принял как аксиому, что восстановление ощущения пациентом своего действия — он употреблял понятие «ответственность», которое не несло в себе морального смысла, — эквивалентно терапевтическому лечению. Согласно его предположению, этого можно достичь, последовательно уделяя терапевтическое внимание тем конкретным факторам, которые мешают пациенту выражать в своей речи и в своем поведении свои истинные чувства, желания и намерения — или помогают избегать такого выражения (Kaiser, 1955/1965). Иначе говоря, Кайзер предлагает усилить ощущение действия пациента, последовательно привлекая внимание к самым прямым и общим способам, мешающим ему получать это ощущение. Можно было бы сказать, что Кайзер, который сам написал очень мало, использует язык действия, но делает это именно там, где присутствует действие, где непосредственно существует речь и поведение пациента. Этот терапевтический метод и его теоретическую основу далее развил доктор Шапиро (Shapiro, 1989).
В конечном счете, для решения и терапевтических, и теоретических проблем в динамической концепции традиционного психоанализа требуется больше применять концепцию психодинамики. Из-за искажения и сокращения ощущения действия в психопатологии необходимо особенно ясно понимать субъективные процессы волевых действий, включая сознательные процессы развития намерения и принятия решения, а также роль этих процессов в динамике психопатологии. Речь идет о психодинамике личности, о саморегуляции характера в целом — в отличие от динамики отдельных бессознательных сил и внутренних психических механизмов личности.
Психоанализ нас научил тому, что у симптоматического поведения есть свои причины, но это не причины, которые управляют пассивной личностью как марионеткой. Причинами являются установки, мысли, субъективные состояния, которые, возможно, человек не узнает, но тем не менее они побуждают его думать и действовать, чтобы предупредить появление ощущения дискомфорта или свести его к минимуму, и думать и действовать только таким образом.
Источник тревожности: воспоминания или личность?
Фрейд сказал: «Эго взрослого человека с его возросшей силой… продолжает защищаться от опасностей, которые больше не существуют в реальности» (Freud, 1937/1964, р. 238)
[6]. Идея активного, пусть бессознательного, присутствия в сознании взрослого анахроничных детских конфликтов и тревог, по существу, была основной для всего динамического понимания психопатологии. Эта концепция предлагает решение большинства явных проблем психопатологии. Симптомы и тревоги, которые кажутся иррациональными даже человеку, у которого они проявляются, должны иметь причину. Какая причина и какой источник могут быть более благовидными, нежели детские «опасности, которых больше не существует в реальности»?
К тому же это понимание имеет свои границы: «Почему симптом имеет данную конкретную форму? Почему используется та защита, а не другая?» Фрейд сам признавал эти недостатки своей концепции (Freud, 1913/1958, р. 131), а с тех пор — и остальные психоаналитики. Со временем и с расширением идеи того, что представляют собой симптомы, ограничения этого представления стали еще более очевидными. Объяснить содержание одержимой идеи, навязчивого ритуала или даже паранойяльной галлюцинации особым проявлением детской тревоги — это одно; но объяснить общие установки и характерные черты человека, как, например, импульсивность, отсутствие спонтанности или ригидно-защитное высокомерие, — это совсем другое. Иначе говоря, так совершенно невозможно объяснить
общие, характерные формы симптомов взрослого человека. Специфическая детская тревожность имеет слишком шаткую основу, чтобы можно было вообразить, как такие основные аспекты личности были сформированы и продолжали функционировать. Действительно, если воспоминания и тревоги раннего детства фактически продолжают жить в психике взрослого человека, то гораздо легче поверить в то, что так оно и есть, ибо их наделили значением, которое каким-то образом воплощается в динамике характера взрослого человека.
Концепция Фрейда об Эго взрослого человека, защищающего его «от опасностей, которые больше не существуют в реальности», была основана на представлении об организации психики, которое и на сегодняшний день остается несколько рудиментарным. Согласно этой концепции, тревога имеет регуляционную функцию, но чрезвычайно простую. В данном случае тревога играет роль запрещающего сигнала, преимущественно связанного с внешней опасностью, например, с возможной кастрацией или изоляцией. У взрослого человека она включается при оживлении детских желаний или фантазий, вызывающих ощущение этой опасности. Вместе с тем, как я уже сказал, можно легко видеть логику этой теории. Содержащаяся в бессознательном детская фантазия о какой-то
внешней опасности, например, об угрозе наказания, действительно кажется единственным способом объяснить патологическую тревогу взрослого человека, если
не иметь представления об индивидуальной структуре его личности. Очень трудно избежать предположения о появлении внешней угрозы или даже воспоминаний или фантазии об этой угрозе, как это было в самой ранней версии психоанализа, не имея представления о том, как эта тревога развивается в процессе жизни и деятельности самой патологической личности. Но, принимая во внимание индивидуальную организацию личности, сразу можно обнаружить другой источник тревоги, совершенно не зависящий от мысли или воспоминания о внешней угрозе; этот источник присущ всей системе регуляции личности и характеризует ее стабильность.
Клиническая практика нас учит, что у определенных типов личности развиваются определенные типы установок, организующих сознание, не толерантное по отношению к некоторым склонностям, присущим личности. Например, сексуальные желания ригидной, морализирующей личности вызывают у нее ощущение дискомфорта. Но эта нетерпимость будет распространяться не только на конкретные желания и действия. Она распространится на целые категории мотиваций и реакций и даже на типы установок, враждебных этой личности и угрожающих ее стабильности. Тогда скажем так: если эти враждебные установки, мотивации и реакции активизируются, соприкасаясь с сознанием, воплощенным в конкретных намерениях, они вызывают тревогу. Таким образом, в данной концепции тревога становится реакцией на совершенно иную угрозу, нежели внешняя опасность, а именно угрозу внутренней структуре. Эта угроза зависит не от воспоминаний, а от структуры личности.
Действительно, последняя и самая структурированная концепция Фрейда об источнике тревоги — «тревоги Супер-Эго» — уже не полностью опирается на угрозу, связанную с идеей внешнего наказания. По крайней мере, эту угрозу частично заменила угроза «наказания» Супер-Эго, присущая внутренней структуре. Но это изменение оказалось незавершенным, ибо по-прежнему считается, что под деятельностью Супер-Эго подразумевается идея родительского запрета и наказания.
Есть способ проверить предположение, что тревога — это вовсе не ожидание «опасности, которой больше не существует в реальности», а прямое ощущение угрозы существующему характеру личности. Его можно проверить, исследуя индивидуальное содержание тревоги людей определенного характера. Так как тревога имеет много разных свойств и проявлений, то, если эта точка зрения верна, содержание патологической тревоги будет зависеть от индивидуального характера человека и его установок.
Рассмотрим следующие примеры:
Пациентка, которая на сеансах психотерапии часто с раздражением отзывалась о совершенных по отношению к ней несправедливостях и в прошлом, и в настоящем, однажды, запинаясь, нерешительно и неожиданно для себя «позволила» себе испытать удовлетворение. Сначала ее это смутило. Она сказала себе, что (позволив себе испытать это удовлетворение) она слишком легко дает людям «отделаться» (в смысле выйти из конфликта), «половину своей жизни допуская компромиссы».
Страдающий навязчивостью мужчина, который обычно тщательно следовал правилу не пропускать ни одной «возможности», упустил случай получить новое назначение. Сначала он попытался себя успокоить тем, что эта возможность представится ему еще раз, а затем решил, что, в конце концов, он не так много потерял. Но эти аргументы не дали результата, и он почувствовал огорчение. В итоге он решил, что, наверное, это действительно был его реальный шанс, который он не использовал, а упустив его, он «свалял дурака».
Робкая молодая женщина, очень смущаясь, говорит своему терапевту, что заметила у него новые контактные линзы. И добавляет, что она очень «нервничала», сказав ему «нечто очень личное». По ее мнению, это «дерзко» и даже «бесстыдно».
Каждый из этих людей с тревогой оглядывался на свои собственные действия (которые могли заключаться только в мысли или речи) и на угрожающее ощущение самого себя, которое вызывается такими действиями. В каждом случае качество и содержание этого ощущения и вызываемой им тревожности определяется природой индивидуального характера человека.
В первом случае ощущение личного удовлетворения у этой воинствующей женщины вызывает предчувствие прекращения морального протеста и появления смиренной покорности.
Во втором случае любое отступление от строгого исполнения обязанностей ригидная, одержимая исполнительность обращает в небрежный и безответственный поступок.
В третьем случае не оскорбительное, но личное общение воспринимается как наглость человеком, который приучил себя знать в жизни свое место.
В каждом из этих клинических эпизодов речь идет о действии или поступке, в котором в особой форме воплощается установка, присущая данному типу личности
(character), и в каждом из них присутствует характерная тревога. Теперь, вместо того чтобы сказать, что эту тревогу вызывает бессознательная идея о какой-то опасности, можно утверждать прямо противоположное: любые идеи об опасности, которые могут выражать эти тревожные ощущения покорности, чванства и дерзости, а также присущие им характерные качества, будут порождать запреты, имеющие индивидуальный невротический характер.
В таких случаях переживание тревоги не требует предположения о сознательном или бессознательном воспоминании какой бы то ни было опасности. Оно не зависит от вторжения идеи об опасности или ее просчитывания. Хотя в данных случаях особая черта тревоги называлась («дерзость», «наглость» и т. п.), вероятно, эта сознательная формулировка стала следствием терапевтической ситуации; это не типичное переживание тревоги, и эти качества явно ей не присущи. Только присутствия характерного признака исходящей угрозы, например ее смутности, неуловимости, а иногда даже непонятности, становится достаточно, чтобы включить динамические процессы саморегуляции личности, которые мы называем защитными.
Системе регуляции не нужна система формирования или восприятия идей; ей нужен лишь порог чувствительности и процесс включения корректирующих реакций. В этом отношении тревогу можно сравнить с ощущением боли. Можно сказать, что боль — это «сигнал» угрозы возможного нанесения вреда организму, а значит, она включает процессы, предотвращающие нанесение такого вреда. Но в данном случае мы употребляем термин «сигнал» метафорически, так как обычно в этом процессе отсутствуют идеи. Мы отдергиваем руку от горячей сковородки вовсе не потому, что думаем, что обожжем кожу, а просто потому, что чувствуем боль.
Когда я говорю о том, что случай и природа патологической тревоги определяется не воспоминаниями взрослого человека, а его характером, я подразумеваю, что патогенный конфликт перестал быть первопричиной и стал содержанием данного характера. Давайте предположим, что ранние детские переживания тревоги были вызваны ожиданием некоторой реальной или воображаемой внешней угрозы, например угрозы наказания или изоляции. Предположим, что некоторые такие переживания будут особенно напряженными или продолжительными и что они будут иметь продолжительное патогенное воздействие. Какова будет природа этого воздействия? Будет ли она состоять из воспоминаний или мыслей о какой-то особой реальной или воображаемой опасности, с бессознательной защитой от нее, и, как полагал Фрейд, существовать отдельно от развития личности? Или же оно в основном оказывает влияние на развитие личности, а значит, скорее всего, воздействие является более общим и характерологическим?
Давайте представим альтернативу: некоторые патогенные детские переживания тревоги, связанные либо с реальной эмоциональной травмой, либо с ожиданием воображаемой опасности, в результате приводят не только (или даже вообще не приводят) к травматическим воспоминаниям, а к изменениям личности ребенка и его установок. Далее предположим, что такие изменения будут состоять, вообще говоря, из некоторых типов установок, предотвращающих появление тревоги. В основном это будут некоторые типы запретных установок, возможно, связанные с робким или послушным поведением, или же установки, связанные с ригидно-обязательным, внимательным и осторожным поведением. Скорее всего, направление такого развития будет патологическим.
Раз такое развитие связано с запретами или ограничениями, значит, уже существуют скрытые установки, предотвращающие появление тревоги, и ребенок уже становится совсем иным. Раньше это был просто испуганный ребенок; теперь он становится пассивно-послушным или робким. Ранее он был испуган какой-то конкретной реальной или воображаемой опасностью и мог продолжать ощущать угрозу под воздействием факторов, которые сознательно или бессознательно оживляли у него в памяти эту конкретную угрозу. Но теперь, став робким и пассивно-послушным, он боится гораздо чаще, чем только при появлении какой-то конкретной опасности или любых напоминаний о ней. Сущность актуальной угрозы теперь определяется не отдельными воспоминаниями и фантазиями ребенка, а его актуальными установками или его личностью, а именно тем, каким он стал. Если он стал робким, его непоследовательные желания и стремления кажутся опрометчивыми; если он стал внимательным и послушным, любое простое взаимодействие покажется ему жестким.
Нарушение, быть может даже намеренное, покажется ему дерзостью или наглым непослушанием не потому, что оно оживляет в памяти реальное или воображаемое наказание, а потому, что воспринимается с точки зрения робкого или ригидно-послушного ребенка, и потому, что
в нем воплощается установка, характерная для этой робкой или послушной личности. Действительно, вполне вероятно, что тревогу будет вызывать само субъективное ощущение угрожающей установки, которая может воплотиться во многих других намерениях или же не иметь никакого конкретного намерения. И из этого тревожного ощущения непослушания или безрассудной опрометчивости возникнут самые разнообразные факторы, которые будут восприниматься как угроза.
Точно так же любой патологически ограниченной личности будут угрожать не только конкретные действия, мотивация или обстоятельства, но и общие категории действий, мотиваций и обстоятельств. Так, настороженная паранойяльная личность в самых разных обстоятельствах будет ощущать себя уязвимой и тревожной. Любое, даже самое безобидное окружение, за исключением очень хорошо известного, ей может показаться опасным (например, новый ресторан), потому что есть вероятность столкнуться с чем-то для себя неожиданным и «показаться смешным».
В этом смысле динамика невротического конфликта теряет зависимость от своего происхождения и превращается в психодинамические факторы личности. Таким образом, характер патологии становится автономным и самовоспроизводящимся. Какая бы конкретная тревога ни способствовала формированию патологически ограниченного характера, если такой характер существует, необходимость предвидеть появление более общей тревоги будет препятствовать ее ослаблению.
Есть еще один аспект динамического представления, заслуживающий особого внимания, особенно среди психотерапевтов. Объяснение патологической тревоги как сигнала опасности, которой больше не существует, зависит, в силу его правдоподобия, от идеи опасности, которая объективно велика и даже ужасна, например кастрация или изоляция. Другие психоаналитические теории тревоги тоже имеют в основе ощущение или воображение огромной опасности, такой как «дезинтеграция» (Kohut, 1971) или «аннигиляция» (Hurvitch, 1991). При этом предполагается, что для объяснения силы и непрерывности этой реакции воображаемая опасность должна быть достаточно серьезной. С другой стороны, с точки зрения динамики личности никаких подобных предположений не требуется. Больше нет никакой необходимости в мыслительной стадии регуляционного процесса бессознательного ожидания опасности. Нужно лишь определить пороги толерантности разных склонностей и реакций
характера конкретной личности, соответствующие ее стабильности. Например, чем более ригидна личность, тем ниже порог тревоги для некоторых видов спонтанного действия. Реакция личности, или, скорее, человека, на опасные для нее мотивации или намерения, а значит, отвратительные и для нее нестерпимые, является рефлекторной и ситуативной, т. е. не поддающейся предварительному расчету.
Уверен, что такая картина, несомненно, намного ближе к реальной клинической практике по сравнению с традиционным представлением. В клинической ситуации мы часто наблюдаем у невротических личностей, по крайней мере, тревогу, а чаще — усиление реакций, предшествующих тревоге, вызываемых гораздо менее драматичными и более мирными намерениями или обстоятельствами, чем это предполагалось. Однако такие намерения или обстоятельства для некоторых людей оказываются невыносимыми. Для одного человека нарушить правило и упустить «возможность», для другого — сделать теплый комплимент своему психотерапевту становятся воплощением установок, вызывающих у них ощущение угрозы («чванство», «дерзость»). Эти поступки не имеют объективных последствий, но возбуждаемая ими тревога не является поверхностной. Нарушение правил для упомянутого выше ригидного мужчины, а для робкой женщины риск, связанный с высказыванием вслух комплимента, — очень значительные события и поступки. И это не только нарушения идейных принципов их поведения. Они будут иметь идейное содержание: у ригидного мужчины они могут вызвать дурные предчувствия последующих ужасных нарушений и не менее ужасных последствий, — при этом они могут быть тесно связаны с конкретными воспоминаниями (одни из них больше доступны и лучше вербализованы, другие — хуже), но речь идет о воплощаемой ими установке, а не о воспоминании, которое они вызывают, даже если оно связано с ощущением угрозы. В такой установке содержится угроза существующему характеру: в какой-то мере в ней и воплощаются изменения, угрожающие существующему характеру.
В динамической концепции можно предположить некую цикличность или, по крайней мере, необычное направление развития логики. Такая цикличность отсутствует в точке зрения на патологию как на прямой результат специфичного патогенного воздействия: например, травматического воспоминания или особого патогенного конфликта. Почему этот ригидный мужчина так тревожится об упущенной возможности? Потому что он ригиден, потому что он живет по правилам, потому что для
любого человека, который живет по правилам, любая спонтанность, какой бы безобидной она ни была, означает нарушение правил и ощущается как необдуманный вызов и проявление гордыни.
Таким образом, структурная концепция динамики характера имеет очень интересную связь с тревогой и защитой. Мы считали, что защита обусловлена самой природой того, от чего требуется защищать. Но если предполагается, что у патологической личности существует защитная функция, предупреждающая появление тревоги, направление процесса следует считать обратным: природа ограничивающего характера определяет то, что вызывает тревогу и от чего следует защищаться. Для человека, обладающего ригидным контролем, небольшое проявление спонтанности вызывает предчувствие потери контроля.
Значение защиты
Регуляционная система человека должна включать в себя не только сигнал, «включающий» корректирующую реакцию при угрозе стабильности системы, но и средства восстановления утраченной стабильности. По крайней мере, она должна включать в себя важные средства предупреждения нестабильности. Мы обязаны психоанализу появлением фундаментальной концепции действия ограниченного сознания, выполняющего именно эти функции. Теперь имеет смысл рассмотреть проблемы, связанные с одним представлением, чтобы прояснить другое.
Проблема динамики, которая фактически заставляет рассматривать человека как марионетку, связана не только с определенным способом описания; она не только присуща любой концепции внутренних сил и действий. Можно пожаловаться, что эти внутренние силы и действия слишком часто рассматривались буквально, антропоморфически и волюнтаристски. Но такое объяснение, считавшееся метафорическим, присуще вообще любому научному исследованию (например, «вода сама доходит до уровня, который должен установиться») и кажется довольно безвредным. Беда не только в том, что принцип действия сил и механизмов в психоанализе — это больше чем просто удобная метафора, и является общей и для его теории, и для его динамики. Беда еще и в том, что считается, что эти силы и механизмы бессознательно и незаметно действуют внутри сознательной личности и, по существу, независимо от нее (Anna Freud, 1937) и что их воздействие приводит к пассивности сознания. По крайней мере, очень вероятно, что именно эта брешь в психоанализе, эта неясность связи сознания с тем, что является бессознательным, эта с виду безобидная пассивность сознания в психодинамике патологии — именно она становится средоточием теоретических и терапевтических проблем. Именно это представление о пассивности сознания отличается от клинической реальности. Ибо в клинической практике видно, что сознательная личность принимает очень активное участие в процессе защиты. Конечно, нельзя сказать, что такой человек сознательно организует собственную психодинамику, но он очень активно реализует ее в жизни.
Например, ригидная личность, которая ощущает дискомфорт в процессе любого выбора или принятия решения,
активно занимается поиском правил, которые можно применить к данной ситуации. Появление неких правил придает такому человеку ощущение его личного выбора. Так, он себя спрашивает, как ему следует скорректировать свои действия, чтобы поступить должным образом, соответственно, поступить правильно. В ресторане он заказывает более здоровую или не слишком дорогую еду, хотя не уделяет особого внимания ни здоровой пище, ни экономии.
Например, активное и сознательное, хотя и неграмотное, защитное избавление от тревоги, как правило, более заметно при проявлении постоянной нерешительности, когда нельзя найти типичные примеры поведения или правила, в соответствии с которыми нужно действовать. Такая нерешительность раньше считалась проявлением амбивалентности, имеющей глубинные истоки. Но, по сути, дело не в амбивалентности, а в результате функционирования — пусть и не совсем удачного — защитного процесса. В некоторых ситуациях, когда нельзя избежать индивидуального выбора, ригидная, одержимая личность чувствует, что склоняется к решению, которое вызывает у нее ощущение тревоги, похожее на ощущение проявленного безрассудства («Наверное, я совершаю ошибку!»). Эта тревога заставляет человека тщательно разобраться в причинах, препятствующих реализации его склонности. Этот процесс, который многократно повторяется в любой области деятельности, часто заставляет человека мучиться (хотя мучения — это не цель процесса, а его цена) и, хотя зачастую заканчивается быстрым принятием решения, тем не менее, устраняет угрозу, вызванную необходимостью сделать целиком и полностью осознанный выбор.
Только что рассмотренные нами процессы защиты заключаются в активной деятельности в определенном стиле и с определенной целью
избавления от тревоги в конкретных условиях. Но этот стиль существует постоянно, с присущей ему стабильной организацией установок и поведенческих паттернов; для ригидной личности — это приверженность рутине, постоянная ссылка на моральные и нравственные нормы и правила. Все это формирует защиту,
предвосхищающую появление тревоги, и постоянно поддерживает состояние стабильности. Разумеется, все перечисленные выше факторы включают в себя активную деятельность сознания.
Психоаналитическое понятие защиты представляет собой организацию, управляющую энергией влечений. В понимании психоаналитической концепции управление механизмов защиты состоит в том, что они препятствуют доступу к сознанию бессознательных желаний или фантазий, порожденных влечениями, тем самым предотвращая появление конфликта или тревоги. В психиатрических описаниях также очень часто появляются вытекающие отсюда замечания о «контроле над импульсом» или «потере контроля». Как мы увидим впоследствии, эти понятия отражают теоретические и терапевтические проблемы, сравнимые с проблемами, обусловленными самим понятием защиты.
Ни природа, ни точное происхождение такого управления нигде не были ясными настолько, насколько фундаментальным было в психоанализе понятие организации, управляющей энергией влечений. Самый известный современный сторонник этой концепции Дэвид Рапапорт допускает, что «о природе процесса, вызывающего такой контроль, известно мало» (Rapaport, 1950). Рапапорт часто говорил о биологических порогах разрядки напряжения влечения как о возможном ядре этого «контркатексиса»
[7] и в своем обсуждении часто проводил аналогию песчаной отмели, на которой сосредоточены все напряжение и вся тормозящая сила противодействия. Однако это аналогия вряд ли будет иметь какую-то психологическую актуальность.
Изначальной моделью защиты является вытеснение. Всеобщее представление о защите как некой организации, препятствующей доступу к сознанию, отрицание осознания травматических воспоминаний или желаний, вызывающих угрозу, является обобщением этой модели. Именно в модели вытеснения идея некоего противодействия или контроля любой природы кажется самой ясной и самой подходящей. Оказывается, идея такой управляющей организации подходит и к другим клинически узнаваемым защитным процессам, например, к процессу реактивного образования. В данном случае, например, легко заметить преувеличенную установку альтруизма как структуры, контролирующей в особенности чувства гнева или обиды; хотя теоретически исключать присутствие неизвестной деятельности сознания — это весьма сомнительно. Но очень часто клинические случаи оказываются не столь простыми или однозначными, как эти примеры, во всяком случае, так кажется на первый взгляд.
Существует множество защитных процессов, процессов предвосхищения тревоги и процессов избавления от тревоги, включая ряд хорошо известных механизмов, которые слишком сложны, чтобы их считать просто противодействующими силами или управляющими импульсами структуры или ожидать от них ответа при появлении противодействующих сил. Например, нет никаких сомнений в действии защитного механизма у паранойяльной личности, настаивающей на присутствии вражеского агента, который вызывает у него в голове женские сексуальные желания. Но в этом случае ничто не мешает доступу к сознанию ни желания, ни фантазии, и ничто их оттуда не вытесняет. В данном случае защита действует совершенно иначе: она заключается в том, что человек теряет осознание этой связи с желанием и фантазией и ответственностью за них.
Базовая модель защиты как контролирующей структуры, препятствующей доступу к сознанию, не адекватна концепции саморегуляционного или защитного процесса. Если саморегулирующейся системой признать динамику личности, природа защиты предстанет в совершенно ином свете. Тогда защитные механизмы могут быть просто отдельными чертами этой системы. То есть нельзя утверждать, как это иногда бывает, что человек «использует» эти процессы; наоборот, сами эти процессы создают личность.
Психоанализ, следуя модели сознания как органа чувств, изначально считал его пассивным, регистрирующим средством. Из этой общей концепции следует, что процессы защиты, а также желания и фантазии, от которых человек защищается, должны находиться в бессознательном. Если ощущения желаний и фантазий были невыносимыми, вполне логично, что их можно было чувствовать, пока они еще
не достигли пассивного сознания. Но сегодня мы относимся к сознанию совсем иначе: не как к пассивному, регистрирующему органу, а как к активно созидающей, интегрирующей и организующей функции. Более того, мы узнаем, что субъективное ощущение имеет характерологическую организацию. Индивидуальные стили познания и мышления, а также свойства и качества ощущения мотивации и аффекта в целом соответствуют организации личности и ее установкам. Например, знания некоторых ригидных людей оказываются слишком точными и подробными, иногда слишком буквальными и лишенными понимания контекста; с другой стороны, импульсивные люди, склонные к противоречиям, избегают процессов осмысления и планирования, ограничивающих их действия, и выносят суждения исходя из текущей ситуации. Теперь можно легко убедиться в том, что такая деятельность сознания играет главную роль в психологической системе регуляции, включая ограничивающие процессы защиты, предотвращающие появление тревоги.
В итоге деятельность сознания, организующая все его функции и придающая ему форму, создает и функции защиты, ограничивающие саму его деятельность. Тогда понятно, что отпадает всякая необходимость в создании других контролирующих и ограничивающих механизмов, чтобы препятствовать доступу к сознанию. Воздействие, которое приписывалось механизмам, блокирующим или искажающим отдельные мысли и чувства, могут быть связаны с разными стилями мышления, ограничивающими или искажающими общую картину субъективного ощущения. Например, позже мы обсудим ригидное защитное предубеждение, характерное для когнитивной организации паранойяльной личности. Когда это защитное предубеждение становится чрезмерным, возникающие из-за него искажения реальности ничуть не отличаются от искажений, которые можно было бы объяснить действием механизма проекции.
Можно сказать, что любой организующий и структурирующий процесс имеет ограничивающие или контролирующие аспекты, и в той же мере это характерно для любой деятельности сознания, связанной с его структурированием. Это можно проиллюстрировать на примере
общего развития ощущения мотивации и аффекта. Присущая младенцу объективация внешнего мира, его возрастающее осознание разных фигур и предметов привносит с собой осознание целей и повышение намеренности действий
[8]. Эта способность к намеренным или волевым действиям постепенно заменяет младенцу всеобщую, присущую ему ранее ситуативную реактивность.
Изменяется общее качество жизни субъекта: качество когнитивного, мотивационного и аффективного ощущения. Можно сказать, что это изменение носит запрещающий характер в том смысле, что происходит снижение ситуативной диффузной реактивности. Но пониженная ситуативная скорость реагирования лишь вызывает развитие более сложных форм мотивации. Отпадает всякая необходимость предполагать наличие дополнительных механизмов контроля и ограничения.
Нечто похожее можно сказать относительно опыта взрослого и крайней запутанной проблемы самоконтроля, или «силы воли». Наличие у взрослых разных и долговременных интересов и продолжительных эмоциональных связей способствует быстрому возрастанию сопротивления многим ситуативным соблазнам. Точнее говоря, такой индивидуальный контекст приводит к тому, что соблазн, который мог бы оказаться сильным, становится либо менее сильным, либо вообще перестает быть соблазном. Это происходит не в результате воздействия самодисциплины или силы воли или любой другой сознательной или бессознательной формы «контроля» импульса. Данный процесс лишь говорит о том, что наличие интересов и планов создает точку зрения, позволяющую видеть ситуативное взаимодействие с окружением. Можно сказать, что такая точка зрения формирует организующую роль сознания, определяющего субъективное качество ситуативного окружения. В этом случае можно сказать, что интересы и планы человека выполняют функцию «механизмов контроля импульсов», хотя фактически они формировались с совершенно иной целью.
Формы сознания развиваются в контексте общего развития. Разумеется, очень хорошо известно, что качество когнитивной функции начинает развиваться в детстве, но формы ощущения мотиваций и аффектов тоже развиваются. Вообще, ощущения мотивации постепенно становятся более планируемыми, а действия — более намеренными. Иными словами, волевое действие, сопровождаемое ощущением действия и самоосознания, постепенно заменяет ранние формы пассивно-ситуативной или ригидной реактивности. Но тем не менее даже у взрослого человека все действия ни в коей мере не являются полностью волевыми, то есть обусловленными ясными, осознанными целями.
Развивающиеся дериваты
(developmental derivative) самых ранних видов действия — как пассивно-ситуативных, так и ригидных — сохраняются в поведенческом репертуаре взрослого человека. Этим видам действия, как существенно менее волевым, присуще сниженное самоосознание и в особенности пониженное ощущение действия. Мы гораздо меньше осознаем себя и свои намерения при немедленных и необдуманных реакциях или при отвлечении нашего внимания от однообразной рутинной работы, чем в процессе принятия нами осознанного решения. Репертуар и организация разных видов деятельности в высшей степени индивидуальны; фактически, они представляют собой фундаментальный аспект индивидуального характера. Предусмотрительный человек позволяет себе проявлять минимум спонтанности, да и то лишь в очень ограниченном количестве ситуаций; импульсивная личность избегает намеренных, планируемых действий и чувствует себя комфортно, только если в данный момент ситуация предоставляет широкие возможности для действий.
В психопатологии развились защитные стили, предвосхищающие появление тревоги, ограничивая и искажая самоосознание и ощущение действия. Такие защитные стили характеризуются гипертрофией развивающихся ранних видов действия или дериватов этих видов, снижением самоосознания и ощущения действия. Далее я покажу, что разные формы психопатологии можно понимать как разновидности гипертрофии этих видов ослабленного или ограниченного действия.
Когнитивная основа характерологической защиты: догматизм и паранойяльное знание[9]
Действие любой характерологической защиты — это сложный процесс, поэтому здесь полезно хотя бы немного проиллюстрировать общую точку зрения на характерологическую защиту, о которой я только что говорил. Я опишу только один особый аспект такой защиты. И догматическая установка некоторых людей, страдающих навязчивостью, и связанная с ней паранойяльная установка на познание в разной степени являются иллюзией предвосхищения тревоги и преувеличенной способности справиться с ситуацией, и они обе основаны на ограниченном и предубежденном стиле познания. На следующем примере видно, как может сформироваться когнитивный стиль познания с одновременным ограничением субъективного ощущения, и как в процессе своего формирования он ограничивает субъективное ощущение, и каким образом такие когнитивные стили создают характерологическую защиту.
Довольно догматичный политический деятель заявляет с характерной самоуверенностью: «Поверьте мне, Рейган проиграл выборы». Аудитория возражает: «Но результаты опросов показывают, что он лидирует». На это следует презрительный ответ: «Вы, что, действительно верите в результаты опросов?»
Установка на высший авторитет, которую мы узнаем в догматичной личности, — это заимствованный авторитет. Она отражает соперничество человека, чувствующего себя маленьким по сравнению с фигурами или образами, которые считает великими. В ней отражается желание и постоянное усилие идентифицироваться с такими фигурами или образами, которое никогда не находит удовлетворения и не бывает успешным, что приводит лишь к преувеличенно-высокопарному представлению о себе и других. Одним из аспектов этого соперничества является подмена истинно индивидуального суждения взглядом, который может нести отпечаток высшего авторитета. Таким образом можно избежать ощущения независимости суждения и воплощенной в нем установки — ощущения, которое вызывает тревогу у человека, чувствующего себя маленьким и слабым. Процесс, предвосхищающий тревогу, создает защиту. Но этого нельзя достичь никаким защитным механизмом, подразумевающим независимый бессознательный контроль структуры или противодействующей силы. Тревогу предотвращает активная идентификация с высшим авторитетом или соперничество с ним.
Догматизм, который иногда является одним из аспектов такого соперничества, а также связанное с ним ощущение прозорливости или дальновидности также имеет когнитивную основу. Оно зависит от особого когнитивного стиля, ригидного и узко сфокусированного, в основном характерного для людей, страдающих навязчивостью. Такое знание характеризуется постоянным осознанием цели. Целенаправленность такого типа обязательно включает в себя предвзятость. Она не уделяет внимания тому, что не соответствует ее целям или ожиданиям. То, что отвечает целям и ожиданиям, уже известно заранее, а то, что не обещает достижения удовлетворения, сразу отметается в сторону («Неужели вы действительно верите в это?…»). Результат такого познания — не только легко и более или менее предсказуемый вывод, но и ощущение осведомленности.
Похожая, но более радикальная форма установки превосходной осведомленности часто наблюдается у паранойяльной личности. Иногда у таких людей присутствует подозрительная осведомленность, иногда — защитно-высокомерная осведомленность, иногда — оба этих вида осведомленности.
Например, паранойяльный мужчина впервые входит в кабинет терапевта, быстро осматривается и говорит с презрительным выражением лица: «Безусловно, вы все это записываете. Я об этом не подумал». (При этом не было никаких записывающих устройств, не велось никаких записей.)
Эта установка известна психологам, работающим с клиническими тестами. Другой человек, также с преобладанием паранойяльного стиля, проходя тест Роршаха (описывая карточки с чернильными пятнами), посмотрел на карты, на их обратную сторону, криво усмехнулся и, смерив психолога презрительным взглядом, сказал: «Ах да, это, конечно, Роршах. Я проходил его раньше, это — летучая мышь», — и, сказав, кинул карту на стол. Его снисходительная улыбка наряду с замечаниями «конечно» и «я проходил его раньше», видимо, выражали следующее: «Я знаю, что вы собираетесь делать. Это видно невооруженным взглядом».
Параноик с более серьезными нарушениями выразил такую же установку более откровенно; он сказал своему соседу по палате в психиатрической клинике: «Они не хотят иметь со мной никаких дел. Я слишком много знаю».
Целенаправленность паранойяльного знания гораздо более интенсивна, а следовательно, его избирательная предубежденность гораздо более сильна, чем просто предубеждение догматичной личности. Соответственно, подтверждение паранойяльным ожиданиям найти гораздо легче и быстрее, и, следовательно, иллюзия знания гораздо сильнее, даже более претенциозна и высокомерна. Таким образом, как в случае паранойяльной, так и в случае догматичной личности защитная иллюзия о когнитивном превосходстве основывается на реальном когнитивном ощущении.
Самообман
Защитные механизмы действуют и для того, чтобы предотвратить тревогу, и для того, чтобы от нее избавиться. Хотя эти два случая никак нельзя назвать совершенно противоположными, особенно поучительным является именно рассеивание тревоги или усилия, направленные на то, чтобы ее рассеять. Я предположил, что процессы защиты, — процессы, искажающие или ограничивающие самоосознание в интересах предвосхищения ощущения тревоги или избавления от нее, — протекают именно во время формирования такого ощущения. Эта динамика часто заметно проявляется в феномене, который в другой своей работе я назвал «речью самообмана»
(self-deceptive speech) (Shapiro, 1989). В такой речи зачастую очень четко просматриваются мельчайшие процессы фактического искажения самоосознания.
Вот пример: внештатный сотрудник, не имеющий конкретного договора на работу, которую он надеялся получить, принял трудное для себя решение — согласиться на менее выгодное для него предложение. Он пытается рассеять свои опасения относительно неудачно принятого (в данном случае) решения. Он эмпатично произносит. «Я
уверен, что поступил правильно!.. — и более спокойно добавляет: — Полагаю, это так».
В этой связи важно помнить, что речь — это не просто язык. Речь — это действие, в котором используется язык. Процитируем английского философа и лингвиста Остина: «Сказать нечто — значит сделать нечто» (Austin, 1962). Как правило, речь-действие имеет коммуникативные цели: обещание, предупреждение, обмен шутками или информацией и т. д. Но речь-действие, которую рассматриваем мы, совершенно иная. Она не столько направлена на общение с другим человеком, сколько произносится с целью воздействовать на самого говорящего. Иными словами, это произнесение фраз вслух в основном предназначено для ушей самого говорящего, чтобы рассеять или переосмыслить какие-то тревожные мысли и чувства, — как правило, мысли и чувства, которые говорящий не слишком осознает, но при этом они достаточно близки к осознанию и ощущаются им как угроза. Следовательно, реплики самообмана часто принимают форму эмпатичного убежденного утверждения, как, например, в приведенном выше примере («Я
уверен, что поступил правильно! Я в этом
абсолютно уверен»). Зачастую повторения («Я
уверен, что поступил правильно! Я в этом
абсолютно уверен») служат одной и той же цели. Такая речь — это усилие, не распознаваемое самим говорящим, с целью убедить себя в том, во что он не верит, или почувствовать то, что он не чувствует. Она не отражает того, что процесс формирования защиты уже завершился, и является активным продолжением, даже кульминацией этого защитного процесса.
По существу, реплики самообмана распознаваемы не только в усилиях рассеять тревогу. Гораздо чаще они предвосхищают тревогу, причем в самых разных характерных формах. Клинический смысл таких высказываний впервые открыл Хельмут Кайзер, сделав очень интересное наблюдение. По мнению Кайзера, пациенты не говорят прямо (Fierman, 1965). Кайзер объяснил, что, хотя они могут быть совершенно искренними, фактически речь всех, без исключения, невротичных людей производит впечатление некой искусственности или неискренности; то, что они говорят, как бы не выражает то, что они действительно думают или чувствуют. Их слезы иногда кажутся вынужденными или умышленными; детские истории кажутся отрепетированными; раздраженный пересказ вчерашнего события, если его послушать, имеет характер публичного выступления. Оно является искусственным, но при этом не следует думать, что у рассказчика есть осознанное намерение обмануть слушателя. Короче говоря, Кайзер наблюдал именно речь или высказывание самообмана.
Важность наблюдения Кайзера заключается не только в его определении такого типа самообмана как регулярно встречающегося и даже основного симптома всей психопатологии. Кроме того, его наблюдение позволяет убедиться в том, что самообман — не совсем внутренний процесс. Это значит, что и сам процесс, а не только его результат, можно, по крайней мере частично, заметить в речи. Нельзя сказать, что этот процесс защиты является полностью бессознательным. Хотя речь самообмана, очевидно, не осознана и намеренно не планируется, то есть ее
цель не осознана, но в ней явно присутствует некая часть осознанной деятельности и усилий.
При тщательном наблюдении такие активные усилия постепенно становятся заметными. Например, называемые человеком чувства зачастую не выражаются в его речи. Иногда человек вообще отрицает у себя наличие каких-то чувств; иногда он, наоборот, их преувеличивает. На сеансе психотерапии пациент рассказывает о своем несчастье, но его описание и жестикуляция выглядят вынужденными и слишком мелодраматичными. Или же человек говорит о том, что он в ярости, но на самом деле он не выглядит разгневанным. Он с пафосом произносит: «Я ненавижу своего отца!», но, оказывается, он думает, что «должен» ненавидеть своего отца, хотя на самом деле ему отца жалко. В таких случаях также сама речь самообмана свидетельствует о наличии активных защитных усилий.
Фактически, в таких случаях оказывается, что самообман, да и сам процесс защиты, обретает в речи свою окончательную форму. Возможно, весь самообман, в конечном счете, воспроизводится в речи, обращенной или к самому себе, или к слушателю; определенно это наблюдается у самых разных людей. Если бы это было не так, это не было бы так заметно. В итоге, мы сейчас признаем, что истинное чувство или убеждение получает свою полностью осознанную форму в речи; то же самое можно было бы ожидать от усилий, направленных на самообман.
Самообман и отношение к внешней реальности
Существует и другая характеристика речи самообмана, заметная слушателю, которая, по существу, подтверждает отсутствие в ней коммуникативной сущности и раскрывает другой аспект процесса защиты. Когда мы слышим «Я уверен, что поступил правильно!» или нечто подобное, сказанное с особым акцентом, мы не ощущаем, что это сообщение было сделано и даже понято в обычном смысле. Голос говорящего часто звучит громче обычного. Как правило, нет ощущения, что он смотрит прямо на человека, к которому обращается. Он не концентрирует на нем взгляд; он кажется отстраненным. У слушателя сразу появляется искушение помахать рукой, чтобы привлечь внимание говорящего. Это внимание обращено внутрь: так обычно бывает, когда кто-то прислушивается к себе, как человек, который тренирует речь.
Правда, в некоторых случаях это внутреннее звучание речи самообмана принимает другую форму, которая сначала совсем не кажется обращением внутрь. Иногда говорящий смотрит прямо в глаза слушателю испытующим взглядом. Отклик, который он видит — или думает, что видит, — в глазах слушателя, имеет для него особую важность. Подтверждающая реакция слушателя приносит ему заметное облегчение, но даже небольшое сомнение вызывает у говорящего некое ощущение дискомфорта и часто заставляет его повторять свои усилия. Но, несмотря на такую явную сосредоточенность на слушателе, говорящий и в данном случае, на самом деле, обращается к себе и слушает только себя. Его концентрация на слушателе вводит в заблуждение; он смотрит на слушателя так же внимательно, как смотрит в зеркало в поисках признаков несовершенства, переставая осознавать само наличие зеркала. Это наблюдение иногда подтверждается, если говорящему неожиданно приходится прервать свою речь, на что он реагирует смущенным смехом, словно впервые заметив слушателя — и, наверное, себя тоже.
Иными словами, оказывается, что, по крайней мере, в более энергичной форме речи самообмана, избавляющей от тревоги, говорящий утратил нормальное объективное осознание себя и своего слушателя. Ощущение отдельности от слушателя, «полярности» говорящего и слушателя, если заимствовать этот термин у психолога Хайнца Вернера (Werner, 1948), значительно снижается. Процесс защиты, по крайней мере, по этой причине и в этом отношении ослабил нормальное отношение к внешней реальности и нормальный интерес к ней.
Потеря ясного ощущения, в чем человек убежден, что он чувствует или что он хочет сделать, в результате защитных ограничений или самообмана — это одновременно потеря ясного ощущения того, в чем он убежден, что он чувствует или хочет
сделать в отношении чего-то или кого-то. В этом смысле отношение к себе не отличается от отношения к внешнему миру. Процесс защиты зависит не только от внутренней динамики. Ослабление и искажение ощущения внешней реальности неизбежно сопровождается потерей или искажением самоосознания. Невротическая личность, ощущающая себя слабой и ничтожной, переоценивает важность и значимость другого человека. Одержимая личность, неуверенная в том, что она хочет, «осознает», что, совершив свой выбор, она отвергла нечто гораздо более желаемое.
Процессы, которые вносят свой вклад в данный тип искажения, нетрудно определить. Тревога, связанная с личным выбором («Наверное, мне это нужно сделать!.. Наверное, мне действительно этого хочется!..»), заставляет одержимую личность рассматривать альтернативы, даже когда решение уже принято. Но эта тревога свидетельствует об искажении самого взгляда на альтернативы. Упущенная возможность будет вспоминаться с удручающей и обвиняющей предубежденностью. Будут вспоминаться лишь те элементы, утрата которых вызывает сожаление, и появится представление о том, что кто-то или что-то нужен настолько, что недоступность этого объекта или субъекта вызывает боль. Такой искаженный образ внешней реальности — не результат обыкновенного процесса суждения или недосмотра. Скорее, это результат некоего морального дискомфорта, тревожной озабоченности необходимостью сделать выбор, если он вообще существует, даже не допуская малейшей возможности ошибиться; и возможная ошибка не должна пройти незамеченной: она обязательно вызовет угрызения совести и не останется безнаказанной. Таким образом, это искаженный образ реальности отражает сложное отношение, даже предубежденность, обычного человека к внешней реальности вследствие внутренней динамики самообмана. Как правило, привычное суждение возвращается, и отвергнутая «возможность» теряет свой блеск, если она снова становится доступной.
Искажение самоосознания и одновременное искажение внешней реальности может действовать и в противоположном направлении, а иногда может странным образом найти подтверждение. Прекращение самообмана и восстановление подлинных чувств человека, как это может случиться в психотерапии, обязательно к тому же дает ясное представление об объекте, вызывающем эти чувства. Мужчина, который долго настаивал на том, что хочет закончить отношения со своей подругой, возможно, начнет осознавать, что фактически не хочет этого делать, а лишь думает, что ему следовало бы это сделать. Начиная осознавать свои подлинные чувства, он впервые создает ясную картину и самому себе, и слушателю о человеке, вызывающем эти чувства. Это уже не та картина, которую он нарисовал раньше и которая побуждала его покинуть свою подругу, а его реальное представление о ней, а потому оно соответствует его поведению. Таким образом, из смутного и тенденциозного представления о внешней фигуре появляется более ясное представление и о себе, и о ней. Можно сказать, что в этот момент восстанавливается «полярность» между «я» и вызывающим интерес внешним объектом.
Обсуждая проблемы шизофрении, Луис Сасс (Louis Sass) предположил, что в бредовые идеи не слишком верят, ибо они отражают отсроченное неверие (Sass, 1992). Наверное, он прав, но его замечание имеет более общий смысл и более широкое применение. Оно применимо к любому самообману. Это значит, что в итоге в обычном смысле в самообман, по существу, никто не верит. Именно поэтому речь самообмана является такой искусственной, излишне эмоциональной и содержит повторы. И именно потому может неожиданно появиться настоящая уверенность, которая вызывает ощущение дискомфорта и которой ранее удавалось избегать или отрицать («Я уверен, что поступил правильно!.. Я так полагаю»). Вот почему нельзя считать, что утверждения, содержащие самообман, ненадежны в отношении предсказания действия. Люди никоим образом не делают то, что говорят, и не думают, что они хотят это делать, или же из-за этого прекращают делать, что говорят, и думают, что они не хотят этого делать. По существу, в самообман включается не только отсроченное неверие, а отсроченное неверие
или уверенность. Иными словами, это в какой-то мере отсроченный нормальный объективный интерес к внешней реальности в соответствии с требованиями внутренней динамики. Короче говоря, некая подобная отсрочка нормального отношения к внешней реальности — это один из аспектов процесса защиты. А раз так, он, разумеется, ни в коем случае не является постоянным и стабильным и всегда требует напряжения и дополнительных усилий.
Ситуативный самообман
Тип самообмана, который мы до сих пор рассматривали, вызывается индивидуальным конфликтом и тревогой. Его содержание определяется природой этой тревоги. Но существует и другой тип самообмана, который вызывается внешней угрозой или насилием: раскаяние в результате «китайского промывания мозгов» (во время так называемой «культурной революции». —
Примеч. ред.) или «политических процессов» в Советском Союзе; «восстановление» смутных травматических воспоминаний при терапевтической интервенции, «воспоминания» (самооговор) при лишении свободы о преступлениях, которые никогда не совершались; принятие своих недостатков запуганной женой, которые ей не совсем понятны. Все это не просто случаи подчинения (решение людей сделать то, что от них требуется) или принятия новых убеждений; повторяю, это — результаты новой формы мышления, или же другого образа мыслей. Они заслуживают внимания не только из-за интереса, который они сами по себе привлекают, а главным образом потому, что они проливают новый свет на психодинамические процессы, в особенности на процессы защиты.
Во всех этих случаях нормальная установка суждения задерживается или просто становится непригодной; причем в некоторых случаях это даже происходит сознательно, по крайней мере, в существенной для человека области. Иногда крайне необходимо отсроченное критическое отношение или «логическое мышление». Например, в широко освещенном в прессе случае о сомнительном сексуальном насилии, совершенном над детьми, одному из обвиняемых под сильным давлением, заставлявшим его вспомнить и исповедаться, рекомендовали «даже не пытаться ни о чем думать» (Wright, 1994)
[10].
Наверное, чаще всего нормальная установка суждения просто не работает из-за запрета, вызванного угрозой насилия.
В любом случае кажется, что разные формы принудительного «контроля над мыслями» или «промывания мозгов» действуют не просто и прямо, а опосредованы процессом, в котором утрачен нормальный интерес к реальности. Оказывается, существующие убеждения нельзя просто «вычеркнуть» из сознания и принудительно ввести туда новые. Но можно лишить человека способности к активным суждениям или добиться на них запрета. В более мягкой форме это можно выразить следующим образом: то, что человек знает, он знает, и у него нет возможности это не знать. Но знания ответов недостаточно, если можно запретить человеку задавать себе вопросы.
Становится очевидным, что подверженный насилию человек никогда не будет уверен в том, что он сделал, а что не сделал. Но его можно подвести к той точке, когда он уже не сможет продолжать не верить. Точнее говоря, так же как порожденная влечениями динамика
(internally driven dynamics) может побудить отказаться от обычного суждения в пользу альтернативного представления о реальности, принуждение может вызвать похожий отказ от нормального интереса к реальности и обычной установки доверия и недоверия. Покорная и запуганная жена даже не рискнет взглянуть на своего разгневанного мужа. Она не столько понимает, что он говорит, сколько понимает, что он делает. С ее точки зрения, лишь посмотреть на него и оценить, что он говорит, — это уже дерзкое неповиновение. Снять тревогу в таких случаях можно только посредством пассивного принятия и «согласия». Таким образом, получается, что объект насилия присоединяется к насилию. Запуганная жена напоминает себе о имеющихся у нее недостатках; быть может, даже о тех недостатках, которые, по существу, непонятны ей самой.
Почти точно так же обвиняемый в сексуальном насилии, о котором мы только что упоминали, в итоге соглашается с тем, что помнит совершенные им действия, которые он отрицал сначала. Но присутствовавший на признательном показании следователь отметил, что его признание было полно разных «наверное» и «должно быть». В конце признания обвиняемый мужчина сказал: «Послушай, парень, получается так, будто бы я это сделал, но я этого не делал». Другая обвиняемая в этом насилии также «восстановила» в памяти воспоминания действий, которые она сначала не могла вспомнить. Она также отметила, что эти ее «воспоминания» отличаются от «нормальных воспоминаний».
Переживания этих людей очень похожи на опыт людей, описанный Робертом Лифтоном (Robert J. Lifton, 1963) во время «китайского промывания мозгов»:
Один такой человек говорит: «Ты начинаешь во все это верить, но это особый вид уверенности».
В этой связи Лифтон говорит о «подчинении личной автономии» (т. е. свободы). Он отмечает особую манеру речи людей, подверженных воздействию этой «реформы»: например, «разговор на языке клише», «дословное повторение ключевых фраз» (р. 117) и т. п. Очевидно, что такая манера не похожа на нормальный разговор и не служит цели доведения до слушателя истинных чувств и убеждений говорящего. Лифтон как раз отметил реакцию, избавляющую от тревоги, возникающую в состоянии принуждения.
Видимо, действительно защитные механизмы включаются тревогой, порожденной изнутри. В данных случаях принуждения
мы можем распознать те же самые психологические процессы, которые мы наблюдали при характерной психопатологии, известной в психиатрии. Таким образом, оказывается, что пассивное, некритичное, предвосхищающее тревогу состояние сознания, присущее более или менее стабильной форме истерического характера, идентично состоянию сознания, возникающему в случаях «восстановленной памяти». В любом контексте оно включает в себя готовность уступить авторитетному мнению, принять идеи авторитета и, наконец, «поверить» в них, или, скорее, думать, что в них веришь. Каждое из этих состояний можно назвать «подчинением автономии».
В некоторых вынужденных признаниях просматриваются другие защитные механизмы, известные в психопатологии. Нам известны усилия ригидных, страдающих навязчивостью людей не только делать, но и думать и даже чувствовать, что они «должны», а также их мышление в рамках самообмана, что именно так, по их представлениям, они обязаны думать и чувствовать. Вместе с тем такое состояние является другой формой «подчинения автономии». Его можно было бы сравнить с подчинением солдата, независимое мнение которого не принимается в расчет вследствие точного подчинения Уставу. Соответственно, такие люди часто приходят к выводам, которые логически можно понять, но они совершенно нереальны, вплоть до полного абсурда; их речь полна искусственных «должно быть», «могло быть» и «наверное» (маленькие красные пятна на лице «могут быть» кровью; «можно» заразиться, взявшись за дверную ручку, и т. п.). Мысли, которые раскрывают их «возможно», «наверное» и т. п., — это не подлинные суждения о реальности. В них нет подлинной уверенности, но от них нельзя избавиться, не вызвав при этом сильной тревоги.
Описанные мной процессы, с присущим им частичным или временным отказом от подлинного суждения о реальности, действуют и для того, чтобы породить уверенность («уверенность в завтрашнем дне»), которая стала общим результатом так называемого советского показного стиля политического руководства. Думаю, что эти процессы не только аналогичны тем, которые действуют в условиях принуждения, а полностью им идентичны. От тревоги или ужаса ситуации можно избавиться, лишь перестав интересоваться реальностью и даже сознательно приняв правила, выработанные «логикой» обвинителя — логикой, в которой обычно содержится множество всевозможных «должно быть».
Так, Артур Лондон, который описывает условия («Ты должен доверять партии. Пусть она тебя направляет»), которые привели его от доверия партии к политическому преступлению в Чехословакии, говорит: «Это больше не проблема фактов или правды, а только формулировок, это мир схоластики и религиозных ересей» (London, 1971, р. 173).
Жена Лондона, которая, по существу, приняла на себя его вину, пишет: «Я не могла поверить в то, что я права, а партия — нет» (р. 304). Иными словами, она не рискнула ничего сделать, а только отказалась от своих убеждений, и, поступив так, отказалась от нормального отношения к внешней реальности. Ее утверждение — это явное выражение динамики самообмана, которая в данном случае управляется сочетанием внутренне порожденной тревожности и ужаса, индуцированного извне.
Нельзя завершить обсуждение концепции самообмана, не сказав ни слова об окружающей ее философской проблеме, в особенности потому, что эта проблема может быть тесно связана с общей концепцией внутренней защиты. Самообман может легко показаться парадоксальным. «Как может человек намеренно, сознательно не знать?» — говорят философы. Ясно, что этот процесс требует селективного контроля за поведением человека, так что эта селективность должна относиться и к тому, что человек должен знать, и к тому, что вместе с тем он может не знать. Если наличие этой проблемы совсем не беспокоило психоаналитиков, то ее решение не удовлетворяло философов. Психоаналитики могут ввести независимый бессознательный орган, Эго, которое намеренно обманывает сознательную личность. В этом смысле проблема отделения обманщика от обманутого заканчивается, но только благодаря введению описательного понятия, создающего «умное» бессознательное, и процессу, формирующему как раз такую картину пассивного сознания, которая является проблематичной.
Этот парадокс исчезает, если исходить из концепции динамики характера, в которой не предполагается наличие планирующего или «умного» сознания. Самообман обязательно включает в себя некий процесс самоконтроля и использует некий процесс саморегуляции. Но совершенно лишне предполагать, что процесс постоянного контроля регулирующего действия должен быть «умным», «знающим» или совершенно отдельным от сознания. Все виды регуляционных действий рефлекторны и бессознательны. Как уже отмечалось ранее, мы отдергиваем руку от горячей плиты не для того, чтобы защитить кожу, а просто потому, что чувствуем боль. Самообман не требует знания того, что мы не должны знать; ему нужна система регуляции, которая может включаться под воздействием противоречивых мыслей и чувств, едва они начинают зарождаться, и которая может реагировать, чтобы предотвратить их дальнейшее сознательное развитие. Индивидуальный характер создает именно такую регуляционную систему. Она соединяет в себе и регистрирующую, и ограничивающую функции.
Расширенная система защиты
Если сначала рассмотреть концепцию защитных механизмов, чтобы лучше понять картину саморегуляции, легко увидеть, что защита, т. е. предвосхищение патологической тревоги или избавление от нее, включает в себя не только строго внутренние процессы, но и разные виды внешних действий, а зачастую — и внешнего окружения. Кульминация процесса защиты в речи самообмана — великолепный пример таких действий; но есть и много других примеров. Позже мы более подробно обсудим некоторые системы защиты, а в данном случае имеет смысл кратко проиллюстрировать мою точку зрения.
Рассмотрим случаи людей, страдающих гипоманией, с присущими ей искусственным акцентом на силе духа и чрезмерной уверенностью в себе. Это защитное, зачастую не слишком стабильное приспособление имеет целью предотвратить болезненную для нее самокритику и депрессию. Но оказывается, что ее ощущение своей успешности требует не только постоянного самоутверждения и постоянного лестного самовнушения («В прошлый вечер я была великолепна!»), но и вынужденной «спонтанности», а также постоянных, быстрых и в некотором смысле успешных действий. Такая активность и побуждаемая
(driven) спонтанность — это не только результат восторженности, как считается обычно; это основные составляющие восторженности, ключевые с точки зрения защитной цели избегания самокритичных суждений. Более того, для сохранения и поддержания такой активности необходимо внешнее окружение: чрезмерная амбициозность должна иметь цель; чтобы часто появлялось желание развлекать, нужна определенная аудитория. Еще один похожий пример — постоянная, даже вынужденная
(driven) целенаправленность людей, страдающих навязчивостью. Такой целенаправленности явно нужны внешние цели. Они обычно находятся в виде работы, в особенности такой работы, завершение которой можно четко определить.
Хотелось бы сделать акцент на том, что такая активность и такая организация деятельности — не только результаты защитной динамики, но и компоненты важных динамических состояний саморегуляции личности. Иначе говоря, система защиты, как любая система саморегуляции любого живого организма, — это открытая система.
Хорошо известно, что, по крайней мере в психопатологии, исключающей психозы, организация защиты и установки, которые она в себя включает, тоже имеет адаптивные аспекты. Результативность людей, страдающих навязчивостью, а нередко и людей, страдающих гипоманией, социальные призывы истериков, способность к быстрому действию психопатов (в определенных условиях) и, наконец, подозрительность человека в отношении скрытого беспорядка — все эти факторы могут обладать ценностью с точки зрения адаптации. Эти адаптивные способности отражают сущность и природу защитных механизмов. Иными словами, преимущества в адаптации стилей защиты — это не собирательный результат дополнительных возможностей, связанных с самой защитой. Это способности, внутренне присущие этим стилям, и их адаптивная ценность могла быть чрезвычайно важной в процессе их развития. Адаптивность защитной гипертрофии некоторых склонностей, опять же, фактически демонстрирует, что защита — это не просто запрет или контроль чувств и мотиваций, а их реформирование, которое может стимулировать не только потребность в предвосхищении тревоги, но и возможности, вызванные условиями ее развития.
Часть вторая
Психопатология, действие и воля
Глава 3. Ограничение воли
Как правило, в психологической теории мотивация трактуется объективно. Обычно ее представляют в виде некой силы, влечения или побуждения. Даже если мотивация трактуется в чем-то более субъективно, как желание, эта трактовка редко относится к ее индивидуальной, субъективной форме. Приблизительно то же самое можно сказать о трактовке действия; его характерные свойства — импульсивность, намеренность и нерешительность — редко принимаются во внимание. Гораздо чаще в психологической теории просто предполагается, что, когда мотивационное побуждение достигает определенного напряжения, происходит действие. Действительно, с трудом можно представить индивидуальную форму мотивации, не рассматривая психологию воли; и психоанализ, и общая психология предпочитали избегать аспектов, связанных с волей, будучи обремененными старыми философскими проблемами. Но даже в этом случае они никогда не пренебрегали тем значением, которое, особенно для психопатологии, имеют разные виды ограничения и сокращения волевых процессов, а также искажений и компромиссов в волевом ощущении.
У взрослого человека почти не бывает действий, обусловленных простой ситуативной потребностью в объекте. Действия никогда не бывают незапланированными, без их представления в воображении и их осознания, за исключением, пожалуй, более серьезной патологии. Потребности, желания, аффекты, возможные обстоятельства не сразу порождают действие; они порождают интерес к возможности действия и, в конечном счете, могут породить намерения. Именно намерение, а не потребность и не аффект является самым прямым побуждением к действию.
В отличие от понятия потребности или влечения к объекту, намерение — это побуждение человека, который в соответствии со своими установками и образом мышления в той или иной мере осознает возможности и результаты действия. Именно поэтому качество действия будет настолько же характерным для человека в данной ситуации, насколько оно будет отражать напряжение потребности или силу желания. И именно поэтому характерное качество действия и его субъективное ощущение будут значительно отличаться у разных людей, с более или менее осознанными намерениями, с более или менее спонтанным или нормативным поведением, чаще следующих велениям сердца или, наоборот, живущих «на автопилоте».
Волевое, или самоуправляемое, действие, действие в направлении осознаваемых целей — это результат развития. Конечно же, вместе с тем оно представляет собой результат эволюции; несомненно, возможность осознанного самоуправляемого действия очень существенна для развития адаптивной способности человека. Но развитые умственные способности предполагают и определенную психологическую уязвимость. Ибо способность к волевому управлению действием одновременно привносит ощущение энергичного намерения, осознания совершения выбора и принятия решения вместе с ощущением действия и принятием личной ответственности. И в свою очередь все это, вместе взятое, может вызвать новый вид внутреннего конфликта и появление патологической тревоги.
Никому не удается избежать неудач в развитии способности к волевому управлению, а следовательно, каждый человек должен заплатить за него свою цену, связанную с теми или иными ограничениями, тем или иным уровнем внутреннего конфликта или тревоги. Там, где конфликт или тревога становятся серьезной угрозой процессу развития, человеку приходится следовать по пути развития, предвосхищающему ее появление. Можно предположить, что такой конфликт и развитие, предвосхищающее тревогу, принимают гипертрофированные формы, опирающиеся на доволевые способы ослабления ощущения действия или, точнее, на адаптацию взрослого человека к таким способам. Эти пассивнореактивные или ригидные доволевые способы ослабления ощущения действия в их гипертрофированной форме проявляются в известных в психиатрии клинических синдромах. Далее мы подробнее рассмотрим их природу, а также их влияние на поведение взрослого человека.
Пассивно-реактивные и ригидные формы
Младенец пассивен в особом, более глубоком смысле, чем просто неактивен или послушен. Младенец пассивен в смысле побуждения к своей активности своими жизненными потребностями или рефлексами; он рефлекторно или инстинктивно реактивен по отношению к тому, что ему представляется. Несомненно, мы понимаем, что эта ранняя активность и реактивность оказываются более сложными по сравнению с тем, какими мы их считали раньше, но, по существу, она остается пассивной активностью и реактивностью в этом смысле пассивности. Младенец еще не находится во власти мотивов, которые Хайнц Вернер (Heinz Werner, 1948) назвал «индивидуальными [осознанными] мотивами».
Появление таких индивидуальных мотивов и намеренных действий и последующее появление все лучше сформулированных, сложных и отдаленных целей происходит слишком постепенно, чтобы их можно было точно отметить. Несмотря на свой быстрый старт, процесс развития намеренного действия оказывается гораздо более протяженным, чем можно было бы подумать. Можно вспомнить его основное свойство, сравнив неосознаваемую и безответственную спонтанность действий, отвлеченность внимания и ситуативную реактивность не только младенца, но и более взрослого ребенка с серьезным, хотя и не всегда постоянным планированием жизни подростка и его чрезвычайно осознанной заинтересованностью в самоопределении. Это развитие можно охарактеризовать как постепенно возрастающее и все более осознанное самоуправление.
Сначала развитие активной намеренности действий тесно связано с постепенной объективацией осознания младенцем внешнего мира. Появление осознанных целей и намеренных действий в достижении этих целей неизбежно следует из узнавания интересующих его внешних объектов. Узнавание погремушки вызывает интерес к погремушке как к объекту, который хочется схватить. Таким образом одновременно появляются и новый объект — погремушка, и новый субъект — ребенок, активно хватающий эту погремушку. Начало объективации
внешнего мира — это вместе с тем начало новой, более активной и более автономной формы мотивации или направленности действия, направленности соответственно осознанным целям. Само по себе развитие означает не столько другую установку по отношению к внешнему миру, сколько
появление самой установки по отношению к внешнему миру. Отсюда следует описание Вернером этого нового направления как появления из рефлекторной или инстинктивной всеобщей реактивности новой индивидуальной мотивации.
С каждым продвижением вперед в объективации внешнего мира: узнавании интересующего объекта, воспоминании и представлении того, что отсутствует в данный момент перед глазами, понимании некоторых причин и следствий и т. д. — цели постепенно формулируются и обостряется поляризация «я» и внешнего мира. Вместе с тем отношение ребенка к внешнему миру становится более активным, осознанным и самоуправляемым. Чем яснее становятся осознанные им цели и шире и богаче их видение, тем более намеренным и планируемым становится его самоуправление. Постепенно, в процессе развития, продолжающегося на протяжении всего детства, ситуативная реактивность ребенка заменяется более обдуманным выбором и принятием решений. Он все больше и больше становится субъектом действия; не будет слишком большим преувеличением предположить, что и сам ребенок все больше и больше ощущает себя субъектом действия.
Я еще не отметил очень интересную и, с моей точки зрения, очень важную черту доволевой жизни ребенка — детскую ригидность. Разумеется, эта ригидность хорошо известна. Каждому из нас знакома настойчивость ребенка в отношении того, чтобы все делалось «правильно», то есть именно так, как раньше, несмотря на изменившиеся обстоятельства или даже логику эффективного достижения желаемой цели. Хайнц Вернер говорит нам о том, что эта ригидность по-прежнему отражает общий и относительно недифференцированный охват объективной ситуации, отсутствие у ребенка способности отличать существенное от несущественного, а следовательно, наличие у него установки «все или ничего».
Нетрудно увидеть пассивность в этой верности следованию обычному и привычному и его отношению к рассмотренной нами пассивной реактивности. Интерес ребенка в данной конкретной ситуации сразу включает общее воспоминание или даже «чувство», как это все было. Его отношение к этому воспоминанию или чувству остается пассивным; но этот путь — единственный. Ригидность и пассивную реактивность можно было бы попробовать отличить так: пассивная реактивность относится к ситуативной и квазирефлекторной реакции ребенка на внешний стимул; ригидность относится к пассивному воспроизведению жесткой внутренней программы, в данном случае — воспоминания. Таким образом, в процессе постепенного прояснения и объективации картины ранняя ригидность ребенка постепенно заменяется более осмысленным осознанием сущности своих целей и более активным поиском и проявлением объективного суждения и самоуправления.
Есть и другая ключевая размерность в развитии самоуправления, которую в данном случае нужно рассмотреть: это отношение с миром взрослых. Разумеется, развитие у ребенка ощущения автономии и его самоощущения как субъекта действия не является результатом лишь его физического или психического развития и его возрастающего осознания объективного мира, вызывающего у него интерес. На самоуправление и действие влияют взрослые, т. е. их суждения и налагаемые ими ограничения. Первые признаки способности ребенка к самоуправлению и волевому контролю позволяют взрослым оказывать более сильное и продолжительное воздействие на поведение ребенка по сравнению с воздействием, которое можно было оказывать в младенчестве.
Взрослые конкурируют между собой, и авторитет их поведения и их суждений определяет и то, кто из них прав, а кто нет, а также то, что и как нужно делать. Сначала, согласно Пиаже, авторитет налагаемых взрослыми ограничений принимается конкретно, как абсолютный закон: плохо то, что запрещается и наказывается взрослыми (Piaget, 1932). Но позже власть взрослых превращается в правила, которые интериоризируются и применяются ребенком, при этом они по-прежнему сохраняют свое субъективное качество императива, исходящего от взрослого и подкрепляемого его авторитетом. Таким образом, развивается волевое самоуправление ребенка, но в той мере, в которой оно все еще ограничено выполнением авторитетных правил, оно по-прежнему остается ригидным. Можно сказать, что ригидность установившейся привычной жизни в какой-то мере заменяется ригидностью правил, установленных взрослыми. Таким образом, деятельность ребенка несколько развивается, но она остается зависимой от авторитета, заимствованного у взрослых.
Если развитие происходит относительно хорошо, то, пока ребенок взрослеет, закрывается индивидуальный зазор, отделявший его от мира взрослых. Некоторые правила укореняются в его личности, влияют на его установки и в свою очередь изменяются под их воздействием; другие правила просто прекращают существовать. Правила, которые укоренились и изменились, тем самым утратили свою ауру высшего авторитета, которому требовалось подчиняться, иногда даже подчиняться беспрекословно. Таким образом, эти правила утрачивают свою ригидность; они уже превращаются из правил в личные убеждения, используемые в соответствии с личными суждениями. Вместе с тем эта новая взрослая личность начинает осознавать значительно более широкий мир и новые и более отдаленные возможности, и в свою очередь это осознание изменяет человека, превращая его в личность, у которой есть намерения и планы. Вместе с тем произошло превращение человека, который лишь реагировал на свое окружение, в человека, который совершает выбор согласно своим интересам и ценностям и активно преследует свои цели.
Все это присутствует в процессе, который обычно ведет к тому, что в подростковом возрасте человек сначала робко, а затем все более уверенно открывает для себя, что имеет право на собственное мнение. Это условие уважения к своему собственному суждению, к знанию того, что он хочет и что намеревается делать. Это ощущение действия, основанного на актуальности по-настоящему волевого самоуправления.
Однако ни один человек не может все время полностью осознавать все свои намерения или даже просто все время иметь намерения. Самые планирующие и предусмотрительные люди бывают спонтанно реактивными, рассеянными и легко отвлекаются. Любой человек делает многое из того, что ему привычно и что для него обычно. Такие действия совершаются полуавтоматически, вряд ли вызывая само ощущение действия. Например, именно в таких случаях люди обычно говорят о себе, что живут «на автопилоте».
Многие авторитетные, даже ригидные правила вполне удобны для жизни. В таком случае отпадает необходимость в рефлексивных действиях и экономится энергия. Эти правила следуют не из глубоких убеждений, а из их неявного принятия, зачастую даже не столько из-за признания их полезности, сколько из-за их авторитетности; их осмысливать становится просто неуместно. Человек ведет машину так, как его научили водить; его манеры поведения за столом такие, каким им полагается быть. Многим правилам, разным привычкам и традициям — не исключая даже религиозные — мы следуем просто потому, что чувствуем, что по-другому поступать нельзя, или же просто не хотим забивать себе голову мыслями о том, как поступить иначе. В таких случаях мы также допускаем присутствие авторитета, но эти правила ни в коем случае не становятся для нас обременительными, так как мы с ними согласны, понимаем причины их появления или даже знаем их источник. В процессе такой и подобной ей деятельности человек вряд ли ощущает возможность свободного выбора или принятия решений, и это действительно идет ему на пользу.
Таким образом, при развитии действия или волевого самоуправления ранние, доволевые типы действия (ситуативные или спонтанные реакции, действия, основанные на правилах или привычках, ригидные или пассивно-реактивные по своей природе типы действий пониженной активности) никогда полностью не исчезают. Развиваются взрослые, зачастую адаптивные дериваты этих типов реакций и действий, которые остаются в поведенческом репертуаре каждого человека. По существу, совершенно не исчезая, дериваты этих доволевых типов действия могут составлять значительную часть нашего поведения. Однако они становятся подчиненными более планируемым, волевым действиям. Поэтому при возникновении новых или более сложных ситуаций в ключевых точках и направлениях спонтанные или привычные виды действий обычно осуществляются с некой задержкой
(suspended). Затем они заменяются более произвольными действиями, которые направляются сознанием. Мы едем на машине по главной магистрали, расслабившись, слушая музыку, разговаривая, мечтая, — то есть ведем машину автоматически, сосредоточивая на вождении только часть полного внимания. Во время этого расслабленного состояния осознание самого действия — ведения машины — существенно снижается. Но когда приходится съехать с трассы или впереди появляются признаки дорожного происшествия, мы замолкаем и сосредотачиваем внимание, а затем снова расслабляемся, чтобы снова ощутить себя водителем.
Иерархическая система самоуправления развилась в разных видах спонтанной реактивности или привычных действий, которые требуют минимальной степени осознания или не требуют его вообще, зачастую не побуждают полностью сосредоточить внимание и сопровождаются пониженным ощущением действия. Этот выбор направления действия с более или менее автоматической реактивностью имеет некие пределы, для каждого человека обусловленные и его личностью, и внешними обстоятельствами. Когда изменяются обстоятельства и достигаются эти пределы, изменяется тип действия и вместе с ним изменяется ощущение самоуправления. Рассеянный интерес сменяется более острой направленностью, или же ослабляется сконцентрированная и целенаправленная установка. Однако оценка обстоятельств — фактор субъективный и сугубо индивидуальный.
Иерархическая система самоуправления служит причиной разнообразия в поведении каждого человека, а также причиной того, что ни одного человека нельзя полностью охарактеризовать единственным стилем поведения. Это не значит, что не существует относительно стабильной личности или что мы не можем дать общие характеристики личности. Это лишь означает, что «характер» — более сложная и гибкая структура и система, которую нельзя описать одним типом поведения или одной установкой. Эта структура-система включает в себя не только общие склонности, но и пределы и флуктуации установок и типов поведения, а вместе с ними — и ощущений действия в разных обстоятельствах.
Довольно запутанное и сбивающее с толку понятие потери контроля зачастую приводит к интересным примерам иерархической организации самоуправления. В психиатрии можно часто встретить ссылки на «слабый контроль над импульсами» или тому подобное — относительно насильственного или какого-то иного нежелательного поведения, в особенности когда сам субъект отказывается от своего намерения. Несомненно, в таких случаях человек поначалу и часто совершенно искренне на самом деле как будто ощущает потерю самоконтроля. При этом в процессе терапии оказывается, что отсутствует не способность к самоконтролю, а откровенное желание его осуществлять.
По-видимому, есть аргументы и «за», и «против»: предполагая потерю самоконтроля, мы считаем, что он существует и вместе с тем — что он отсутствует. Из того, что система самоуправления, или «контроля», является не простой и унитарной, а иерархической, действительно вытекает неоднозначность. Именно наличие такой иерархии в самоуправлении дает возможность одним людям больше, чем другим,
позволять себе или даже устраивать себе
(arrange) «потерю контроля», полностью не осознавая, что они это делают. Руководитель, избегающий жестко кон
тролировать импульсивного подчиненного, может гораздо легче отказаться от ответственности даже перед самим собой за поведение своего подчиненного. Таким образом он позволяет совершаться действиям или получаться результатам, которые были бы совершенно недопустимы, если бы действия совершались намеренно. Это — пример защитной функции иерархического направления действия.
Когда направление действий преимущественно определяется ситуацией или они становятся рутинными, самоосознание и ощущение действия обычно становятся слабыми и периферийными. Но ощущение действия — ясное осознание, что человек делает, что он хочет или предпочел сделать то, что он сделал, — иногда становится очень острым. Когда человек сознательно отделяет себя от рутины или когда такой рутины просто не существует, когда человек разочаровывается в своих ожиданиях или когда нет таких ожиданий, которые заслуживают внимания, или когда становится невозможной беззаботная, ситуативная реакция (даже у тех людей, у которых она вполне возможна), в силу растянутости действия во времени, а следовательно, неизбежной рефлексии и самоосознания, — очень вероятно, что во всех этих случаях самоосознание и ощущение действия оказываются весьма острыми.
Из наблюдений психопатологии мы знаем, что именно такое самоосознание и ощущение действия вызывают у некоторых людей острое чувство дискомфорта, и не только в связи с конкретными мотивациями, но и вообще — в связи с их жизнью. Тогда они рефлекторно избегают такого чувства или, по крайней мере, добиваются того, что оно существенно притупляется, опираясь на доволевые виды действий, пассивно-реактивные или ригидные типы внутренне ослабленных действий или даже ограничиваясь ими. Развившиеся установки и образ мышления (о которых мы поговорим чуть позже), охватывающие эти типы действий, становятся общими и характерными. Организация этих установок и образа мышления в индивидуальном характере становится основным средством предвосхищения тревоги, то есть системой защиты. При этом мы почти ничего не знаем о внешних условиях или предрасположенностях к такому развитию, но все же можем сделать очень серьезные обобщения.
Если мы правы, нормальные установки и типы ограниченных в детстве действий станут, так сказать, строительным материалом системы защиты взрослого человека. Отдельные пассивно-реактивные или ригидные типы действия, которые уже достижимы, будут связаны не только с предвосхищением тревоги, как это требуется, но и с благоприятными для них внешними условиями. Такие типы действий могут быть гипертрофированными и содержать в себе ограничения. Например, допустим, что тревожно-послушный ребенок в особых условиях становится милым и приятным в общении, но необычайно восприимчивым, понятливым и даже робким подростком. Обычное проявление инициативы, быть может, даже серьезные амбиции будут казаться дерзкими, вызывающими тревогу, а потому будут наталкиваться на внутренние запреты. Короче говоря, появляется саморегулирующаяся система, невротический характер
(neurotic character), с присущей ему динамикой и его собственной напряженной стабильностью.
Далее мы рассмотрим некоторые конкретные, диагностически определимые непсихотические состояния, в которых проявляются доволевые типы пассивной реактивности и ригидности: пассивно-реактивные типы действий и установки — так, как они проявляются в истерическом и импульсивно-психопатическом состояниях; ригидность — так, как она проявляется в одержимо-навязчивом и паранойяльном состояниях. Каждое из этих состояний обычно считается отдельным психиатрическим синдромом (а в последнем случае некоторые психиатры считают навязчивую одержимость особым нейрофизиологическим заболеванием). При наличии определенных особенностей у каждой такой пары явно несопоставимых симптомов и разных, хотя не столь несопоставимых установок мы увидим, что на самом деле эти симптомы представляют собой дериваты довольно тесно между собой связанных типов. По существу, с некоторой степенью точности можно определить связь между состояниями в каждой паре, между двумя разными представителями общего доволевого типа.
Хотя типы динамики, представленные в этих состояниях, являются дериватами ранее развившихся типов, хочу повторить, что это не имеет никакого отношения к регрессии. Это не значит также, что патология взрослых людей, в которой представлены эти типы динамики, развивается по линейному закону. То, что разные формы пассивно-реактивных и ригидных типов динамики присутствуют практически у всех взрослых, указывает на бессмысленность предположения о наличии регрессии. Следует лишь предположить, что все эти типы динамики, которые уже доступны, могут нарушить или исказить процесс развития.
Еще одно предположение заключается в том, что все эти гипертрофированные доволевые виды действия в процессе развития могут подвергаться разным адаптивным изменениям и иметь патологические и адаптивные разновидности, позволяющие получить гораздо более реалистичное представление о психопатологии взрослого человека, чем предлагает теория регрессии. Ибо существуют упрямые факты, что психопатология взрослого человека не соответствует детским прототипам. Например, маленький мальчик в реальности не похож на взрослого психопата, даже если у импульсивных, непредсказуемых типов действий психопата могут найтись исторические источники в предшествующей им детской ситуативной реактивности. Эта реактивность достигает своей патологической, «взрослой» формы только при интеграции с циничными, авантюрными установками, которые появляются у человека значительно позже. По существу, вполне вероятно, что те последующие условия, которые способствовали развитию цинизма, кардинально изменяют развитие личности в сторону поиска защитной опоры в доволевом типе действий. Вместе с тем нам следует обратить внимание на адаптацию, или защитную организацию и структуру, сохранившуюся с периода раннего развития, а не на регрессию на эту более раннюю стадию.
Глава 4. Пассивная реактивность
Состояния, которые мы будем здесь рассматривать, будут очень различаться в симптоматическом поведении: эмоционально лабильный истерик, умеренно возбудимый, зачастую смутно представляющий свою цель, легко поддающийся влиянию; приспосабливающийся психопат, иногда расчетливый, иногда безрассудный, эмоционально нейтральный; «слабые» личности, не чувствующие себя способными сопротивляться любому соблазну или внешнему давлению. Эти типы характера и их симптомы оказываются настолько разными, что можно легко усомниться в справедливости нашего утверждения, что все они относятся к одной и той же категории.
При этом, чтобы увидеть фундаментальные сходства их характера, нужно лишь заметить то, что у них явно отсутствует, и даже более того — чего они явно избегают. Это ощущение и реальность планируемого и осмысленного действия. Именно в этом отношении все эти типы характера могут считаться пассивными и описываться как пассивные. Это значит, что они будут обязательно пассивны в поведенческом смысле: то есть вести себя медлительно, покорно и послушно. Они пассивны в более глубоком смысле — в том, что у них в какой-то мере отсутствует рефлексивное, осознанное управление в поведении и в жизни.
Иначе говоря, для всех таких людей характерно сниженное ощущение индивидуального действия или ответственности за такой особый характер своих действий. Это не вопрос нравственной нормы, а психологический факт: они не ощущают свои действия намеренными и умышленными; часто такое ощущение идет вразрез с их желанием. Они чувствуют и так или иначе себе говорят: «Я не могу с собой справиться», «Я не знаю, как от этого отказаться», «Она знает все мои слабые места и давит на них», «Я совсем растерялся». Психопат говорит так: «Эта вещь просто там лежала, поэтому я ее взял»; истерик говорит: «Мной руководили эмоции». Несомненно, такие заявления иногда выглядят как оправдания или жалобы, как подчеркивание сниженной активности в форме невинного протеста. Но такое внешнее выражение этой подчеркнуто сниженной активности маловероятно, даже вообще невозможно, в форме обвинения, пока снижено реальное ощущение действия. Отказ психопата от ответственности
(Как же ты снова попал в беду? — «Как только я хочу со всем этим покончить, кто-то вкладывает оружие мне в руку»;
Зачем ты его ударил? — «Он стал сопротивляться») — это лишь защитное преувеличение реально сниженного ощущения ответственности.
Мы подробно рассмотрим два разных типа этой общей пассивной реактивности: истерическую личность и беспринципную психопатическую личность. Во-первых, они выбраны потому, что, следуя психиатрической категоризации, их очень просто определить и легко представить. Кроме того, у них поразительно отличается симптоматика, и по этой причине их можно использовать, чтобы ясно продемонстрировать некоторые характерные аспекты.
Мы постараемся увидеть следующее: первое — что эти два вида характера представляют собой взрослую адаптацию доволевых типов динамики, предвосхищающих тревожность. Второе — что соответствующие формы основных симптомов — это внешнее выражение данных динамических типов. Третье — что они в той или иной мере являются адаптацией пассивно-реактивного типа ситуативной реактивности (возможно, изначально обладающие разной степенью развития, а, следовательно, разной степенью ограниченности действия). И, наконец, четвертое — что таким способом можно определить основную связь двух состояний пассивной реактивности и что эта основная связь подтверждается соответствием характерных для них симптомов. Таким образом, это не отдельные заболевания, о которых привыкли говорить психиатры. И характерные для них симптомы не следует считать специфическими последствиями детских конфликтов или эмоциональных травм, сохраняющихся в человеческой памяти.
Два вида спонтанности
Разумеется, я здесь подчеркиваю общее употребление понятия «спонтанность». Мы с легкостью согласимся считать спонтанностью эмоциональность и энергичную реактивность истерика, однако применение этого понятия к беспринципным или безрассудным действиям психопата нам может показаться странным. Вместе с тем, по существу, это два вида спонтанности, два уровня относительно ситуативной реактивности. Вследствие различия в их симптоматике мы привыкли считать, что они совсем не связаны между собой, хотя Джорж Вайян (George Е. Vailliant) замечает, что психопата, пребывающего в состоянии бездействия, очень трудно отличить от так называемого примитивного истерика (Vaillant, 1975)
[11]. Кажется, что их характерные установки — цинизм одного и романтизм другого — действительно очень далеки друг от друга и даже противоположны. Но я постараюсь показать, что эти различия не мешают выявить определенную связь между ними, как я предположил; они лишь помогут нам определить эту связь.
Здесь уместно вспомнить некий аспект отношения эмоции к действию в раннем детстве. В самой ранней реактивности младенца вряд ли можно отличить одно от другого. Эмоциональное ощущение тесно связано с соматомоторной активностью (Werner, 1948). Но при постепенном развитии все более намеренного действия оно отделяется от эмоции. Эмоции, чувства продолжают оставаться ситуативно-реактивными по отношению к внешним событиям, но по мере развития ребенка их уже не хватает для того, чтобы включить действие. Чувства становятся мотивационными факторами, побуждающими к действию, но само действие постепенно становится более осознанным, эффективным и планируемым. Иными словами, действие становится результатом не только ситуативных чувств, но и более отложенных интересов.
С того времени, когда происходит такое разделение общей реактивности младенца, с одной стороны, на ситуативное осознание чувства, а с другой — на начало волевых действий, все менее вероятной становится подлинная утрата контроля над действием. У взрослого человека немедленная эмоциональная реакция может побудить его к действию, но она не может его вызвать повторно. Отделение аффективной реакции от волевого действия также сопровождается дифференциацией самого аффекта на отдельные эмоции.
Я отмечаю это развитие в особенности затем, чтобы прояснить сбивающую с толку связь между двумя видами спонтанности, о которых идет речь. Можно подумать, что импульсивный психопат, который часто совершает даже самые безрассудные действия, в этом смысле является более реактивным или, по крайней мере, обладает более примитивной реактивностью, чем истерик. При этом кажется, что он реагирует менее, а не более эмоционально. Действительно, психопата часто считают «холодным» или аффективно нейтральным. Причину этого явного парадокса позволяет понять ранняя связь аффекта с действием.
Мы можем назвать тип эмоционального переживания, характерного для истерика, лабильным и даже поверхностным, но, тем не менее, оно является результатом развития. Эта реактивность, в которой эмоция как целое полностью отделена от действия. По сравнению с ней реактивность импульсивного психопата является менее дифференцированной (отделенной от действия) реактивностью. Действие психопата, несмотря на то что оно всегда расчетливо, ни в коем случае не является нейтральным. Искушение или провокация более прямо и быстро переводятся в действие и, особенно в случае провокации, часто сопровождаются внезапными вспышками гнева. Эти два состояния представляют собой адаптацию разных, хотя и тесно связанных доволевых типов, причем по своему происхождению один из них более развит, чем другой.
Психопатический характер
Импульсивная и беспринципная психопатическая личность, наверное, лучше всего подпадает под категорию, традиционно называемую в психиатрии «нарушением характера». Говоря о психическом состоянии психопата, наряду с другими психиатрически важными особенностями у него следует отметить относительное отсутствие тревоги и симптомы субъективной неприветливости и «эго-отчуждения». Иными словами, психопатический или социопатический характер традиционно считался более или менее устойчивым нарушением целостности характера. Считалось, что характер психопата резко отличается от невротических состояний, симптоматика которых, включая тревогу, считалась следствием продолжающегося внутреннего конфликта. В психоаналитической литературе совсем недавно серьезно обсуждался более общий вопрос, известны ли психиатрии такие характерные патологии, например, психопатический характер, которые возникли вследствие нарушения развития или его задержки, а не в результате внутреннего конфликта.
Идея задержки в развитии
(developmental arrest) кажется весьма сомнительной. В ней преувеличено сходство психопатологии взрослого и ребенка и, по-видимому, игнорируется значительное разнообразие функций, наблюдаемых у всех людей, не исключая даже шизофреников
[12]. С другой стороны, возможность разных видов психологической дефицитарности является вполне реальной. Она вполне может быть во многом аспектом любой психопатологии, но не исключать при этом конфликта — фактора, который, скорее всего, определяет ее форму.
На мой взгляд, в основном разница между расстройствами характера, с одной стороны, и неврозом, с другой, больше не находит подтверждения. Как я уже говорил раньше, есть серьезное свидетельство тому, что вся психопатологическая симптоматика и, несомненно, все непсихотические состояния соответствуют основным типам характера, в которых они проявляются, и в этом отношении психопатический характер больше не следует считать им противоположным.
Как можно себе представить, противоположностью психопатии не является и относительное отсутствие тревоги. Из клинической практики в основном следует, что психопатическому характеру, как и психопатологии вообще, присуща не столько тревога, сколько многообразие способов ее избегания. Действительно, при одних формах психопатологии, включая психопатию, удается избежать тревоги более успешно, чем при других, но это вряд ли можно сопоставить с фундаментальным различием между психопатией и невротическими состояниями. Речь идет лишь о недооценке эффективности быстрого нерефлексивного психопатического действия в рамках суженного и ограниченного самоосознания и ощущения действия и, следовательно, предваряющего действие появления тревоги.
Но дело совершенно не в том, что отсутствие тревоги у психопатов совершенно оправданно. Многочисленные клиницисты описывают затруднения, защитные, паранойяльные и депрессивные, и «другие реакции, которые, как считается, отсутствуют у психопатов» (Person, 1986), особенно в условиях ограниченного действия. Действительно, Персон и другие клиницисты (например, Vaillant, 1975) отмечали, что импульсивные и ошибочные действия, которые обычно являются характерными для таких людей, как и частая смена работы, изменения в личных отношениях и места жительства, становятся тем самым необходимым фактором, который устраняет их тревогу. Иными словами, психопат предвосхищает появление тревоги через «отыгрывание». Следовательно, ему всегда нужно находиться в действии. Короче говоря, импульсивное действие психопата является защитой.
В пользу этой точки зрения есть и другое свидетельство. Все психопатические и импульсивные личности имеют общую черту: им присуща сильная склонность к злоупотреблению алкоголем и принятию наркотиков. Употребление и того и другого еще больше снижает самоосознание и ощущение намеренности действия. Они оказываются важным дополнением к типу ситуативного действия, предвосхищающего тревожность, и к «спонтанности» действия.
Так, мужчина среднего возраста, имеющий длинную историю кратковременных демонстраций себя в обнаженном виде молоденьким девушкам, допускает и даже делает акцент на том, что он — «слабый» человек, у которого отсутствует самоконтроль. Он говорит (в свою защиту), что делает это, только когда выпьет. Но при этом не выражает никакого желания или намерения бросить пить.
Многие черты психопатического или импульсивного характера, которые, с другой стороны, можно было бы считать просто дефицитарностью характера, действительно требуют подкрепления, а, следовательно, появляются в защитно-преувеличенной форме. Таким образом, мужчина, о котором только что шла речь, не просто предпочитает считать себя «слабым», не осознающим авторство своих действий; к тому же он и далее активно пытается себя «ослабить». В других случаях безрассудство психопата подкрепляется искусственной бравадой, беспринципность усиливается защитным цинизмом.
Все это подразумевает не столько существующее нарушение или дефицитарность действия, рефлексии или осознания в процессе развития, как утверждали бы некоторые психологи, сколько активное избегание ощущения этих процессов — действия, рефлексии или осознания. Чтобы лучше понять суть дела, следует сказать: эта картина предполагает, что, если существует такая дефицитарность (например, способности к рефлексии), она может быть использована и усилена, чтобы предвосхитить тревогу. Может быть, нечто подобное можно сказать обо всей психопатологии: вполне вероятно, что любая дефицитарность в развитии характера, которая вообще может быть, будет использована в защитных целях.
Наконец, есть еще одно свидетельство в пользу отнесения психопатического характера к другим видам патологии, в которых проявляются более наглядные признаки внутреннего конфликта. По общему мнению, это свидетельство теоретическое. Речь идет о связи психопатического характера с другими типами пассивной реактивности, в особенности о связи с истерической личностью, которую мы рассмотрим чуть позже. Само соответствие характерных черт одного состояния характерным чертам другого состояния, которое я постараюсь показать, отражающее родственную связь двух типов патологии, кажется мне самым убедительным аргументом в пользу того, что они — две разновидности невротического характера, которые различаются преимущественно своей зависимостью от пассивно-реактивных типов динамики, чем-то отличающихся между собой.
Черта или дефицитарность, которая чаще всего считается основной беспринципного психопатического характера, — это дефицит совести или Супер-Эго. Нет никаких сомнений, что этот дефицит является реальным, зато есть сомнения в том, что он является основным. Общая концепция относит к целостной структуре характера то, что оказывается лишь специфическим выражением этого характера. При слабом ощущении действия или поступка не может быть действенной совести. Никакая моральная убежденность не может появиться там, где существует слабое ощущение намерения, а следовательно, и слабое ощущение личной ответственности.
Не только слабая совесть, но и многие другие характерные психопатические черты, которые часто просто приписываются этой слабости, по существу, являются прямым следствием этого пониженного ощущения действия. Например, хорошо известная склонность таких людей перекладывать ответственность («Как только я хочу со всем этим покончить, кто-то вкладывает оружие мне в руку») отражает не только отрицание вины человеком со слабой совестью, но и — на более фундаментальном уровне — защитное преувеличение реально пониженного ощущения намерения.
Есть особое следствие высокой реактивности психопата, важное для понимания ряда психопатических симптомов. Реактивность такого типа соответствует только эгоцентричному взгляду на мир. Быстрая и нерефлексивная реактивность может привести лишь к ограничению субъективного мира на уровне здесь-и-теперь, вызывающего лишь самый неотложный
(immediate) интерес или беспокойство.
Самым очевидным отражением такого субъективного мира является общая черта психопата — его беспринципность и приспособленчество. Беспринципностью обычно считается стремление человека со слабыми нравственными устоями и принципами вести себя в соответствии не с моралью, а с целесообразностью. Но, скорее всего, беспринципность отражает психопатическую дефицитарность не только морали, но и активно планируемого самоуправления. Иными словами, она отражает более фундаментальные аспекты, чем слабую мораль, а именно ограничения в немедленной реактивности на то, что психопат видит, а также отсутствие у него более продолжительного и более широкого взгляда. Ибо именно более широкий взгляд на мир обычно сужает ситуацию здесь-и-теперь до отдельной черты в общем контексте. При отсутствии такого взгляда можно даже сказать, что беспринципность представляет собой более или менее успешную адаптацию пассивно-реактивного типа к миру взрослых.
Психопатическая привычка лгать также считалась прямым отражением бессовестности, но на самом деле подразумевает более фундаментальный аспект характера. Отсутствие у человека совести всегда считалось причиной его желания лгать. Менее вероятно, что сама по себе привычка легко лгать считалась чертой психопатической личности. Привычка психопата лгать без всякого напряжения или же его общее многословие свидетельствуют об отсутствии у него иной, отличающейся от нормальной, связи с внешней реальностью. Разумеется, солгать может любой человек, и в некоторых обстоятельствах можно спокойно лгать с чистой совестью. Но нормальный человек проявляет интерес к объективной реальности, и ее осознание, совершенно независимо от совести, постоянно препятствует легкой лжи и многословию. У психопатического характера такое отношение к внешней реальности ослаблено. Интерес психопата ограничивается более неотложными личными аспектами: уходя, оставить желаемое впечатление или не оставить нежелательного впечатления, и его ничуть не останавливает настойчивое желание осознать фактическую суть дела.
Иногда это ограничение интереса к актуальной ситуации маскируется, хотя всего лишь слегка. Подросток, которого выгнали из школы за злостные нарушения правил, в ответ на вопрос о своих планах сказал, что, «может быть», он станет врачом. Нельзя сказать, что он был неискренним; но в тот момент он не осознавал, что для него это значит возвратиться в школу. Но иногда такое смутное представление о будущем и отсутствие планов или активных действий в настоящем совершенно не скрывается. Женщина, которую обвинили в краже чеков, высказалась очень откровенно: «Обналичивая чек, вы же не думаете, что вас поймают» (Reid et al., 1986).
Не обязательно, что эти люди легко существуют в ситуации здесь-и-теперь. Они активно избегают смотреть в будущее. Повторю по-иному: эта черта — не просто отражение обычной дефицитарности. Дефицитарность может присутствовать, но если это так, она используется в защитных целях или преувеличивается. Нельзя всерьез смотреть в будущее, не осознавая самого себя и собственных намерений, и как раз такого осознания избегают психопат или импульсивная личность.
В основном это избегание достигается просто через быстрое неосознаваемое действие. Но есть и другие дополнительные средства, цель которых совершенно ясна. Например, иногда ограничивая внимание только неотложными шагами в том, что явно вызывает дальнейший интерес, можно избежать более чем смутного осознания этого интереса или, быть может, избежать осознания и самого этого избегания.
Например, пациент-алкоголик готов покинуть клинику. Он сообщает врачу, что собирается на вечеринку, где будет много выпивки. Врач его спрашивает, собирается ли он употреблять алкоголь на этой вечеринке.
Пациент: «Нет никакого смысла что-то обещать. Я уже давал обещания много раз, но, когда приходит время, я их нарушаю».
Врач ему объясняет, что совершенно не намеревался вытянуть из него обещание, он лишь хотел спросить о том, что пациент собирается делать на вечеринке.
Пациент: «Нет, ничего не могу сказать. Я не хочу договариваться, если не смогу сдержать слово.
Посмотрю, как я себя почувствую, когда туда приду».
Не желая даже думать о своих поступках в будущем, он, так сказать, откладывает решение до последнего момента.
Вполне вероятно, что более или менее успешное избегание всего, за исключением ситуации здесь-и-теперь, становится основой бесстрашия или безрассудства или даже просто небрежности, которые иногда бывают присущи психопатической личности. Возможно, не так далек от реальности столь хорошо знакомый нам по романтической приключенческой литературе образ в чем-то психопатического, но бесстрашного негодяя, который легко рискует своей жизнью и успехом. Стремление некоторых преступников, зависимых людей и алкоголиков идти на риск ради сиюминутных интересов, даже осознавая плачевные последствия, в динамической психологии иногда понимается как выражение бессознательного стремления к саморазрушению. Но совсем необязательно предполагать ясность бессознательного планирования. Скорее, можно предположить, что планирование, включающее в себя ясное осознание будущего риска, просто избегается. Можно сказать, что небрежное отношение психопата к риску дополняет его беспринципность; обе эти черты отражают ограничения, а иногда — и эффективность пребывания психопата в ситуации здесь-и-теперь.
Не всегда легко отделить простую дефицитарность, возможно — когнитивную дефицитарность, от характерологической защиты, предвосхищающей тревогу. То, что изначально могло быть дефицитарностью, ограничивающей действие (например, когнитивной дефицитарностью), затем стало выполнять более широкую функцию избегания действия, предвосхищающего тревогу, как, например, в случае защитного избегания осознанного планирования. К тому же не всегда можно точно обозначить развивающий или логический приоритет той или иной черты характера. Например, недостаток отсроченных и стабильных целей и интересов, возникший вследствие индивидуальной дефицитарности или, что еще вероятнее, из-за безнадежных и аморальных условий жизни, связан с развитием беспринципной реактивности в ситуации здесь-и-теперь. Ибо без нормального контекста отсроченных и стабильных интересов, усредняющих и уточняющих сиюминутные возможности и стимулы, воздействие этих возможностей и стимулов будет более сильным. Но эти беспринципные, ситуативные типы действий затем могут стать специфическими, защитно-функциональными, вызванными циничными установками. В таком случае сознательное планирование и серьезные договоренности будут угрожать этой стабильности и вызывать тревогу. Того, что когда-то было недостижимо, теперь следует избегать. Такая неоднозначность и обтекаемость присуща развитию характера и его динамике.
Истерический характер
Избежать формирования запланированной и намеренной цели вместе с присущим ей ощущением действия, а у некоторых людей — ощущением тревоги, — значит сформировать психодинамический тип пассивной реактивности. Можно легко нарисовать сравнительную картину двух разновидностей такой реактивности, воплощенную в двух типах личности, которые мы рассматриваем. С одной стороны, психопат действует быстро, быть может, даже безрассудно, без самоосознания и запретов; иногда он действует холодно, иногда — под влиянием внезапной смены настроения или интереса. С другой стороны, заряженная эмоциями истерическая личность иногда действует порывисто, но в определенных ограничениях, в основном так, чтобы вызвать минимальные последствия, не причиняющие оскорбления. («Истерический характер»
(hysterical character) часто диагностируют как «сценический характер»
(histrionic character), но демонстративность не является основной чертой этого характера. Демонстративное поведение некоторых истерических личностей — это только их сознательно преувеличенная лабильная эмоциональная реактивность. Иными словами, это дальнейшее усилие, направленное на укрепление защиты характера этого типа и соответствующего ему образа «я».)
Таким образом, психопатический и истерический характеры представляют собой два пассивно-реактивных типа, которые в разной степени избегают планируемых, рефлексивных, намеренных действий, и тревожное ощущение действия в первом случае
в основном
предупреждается, а во втором, по крайней мере, существенно снижается. Хотя между основными, формальными факторами двух разновидностей личности, таких как основное свойство аффекта, быстрота или ситуативность реакции и ощущение действия, можно показать наличие соответствующей связи, эти два состояния различаются и становятся более индивидуальными в своих проявлениях и особенностях симптоматики (табл. 1).
Таблица 1. Пассивно-реактивный динамический тип
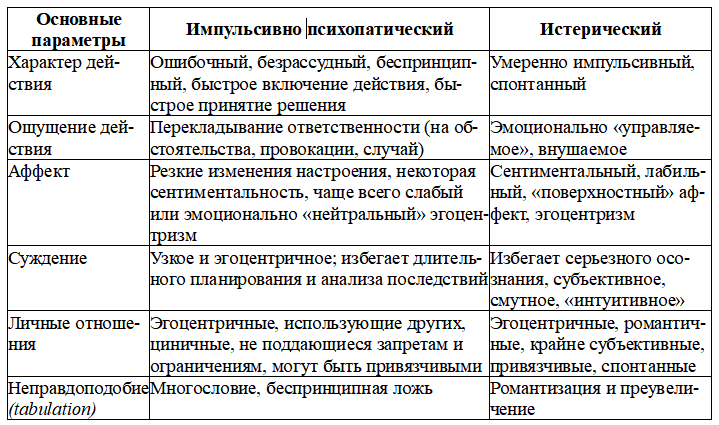
Некоторые установки и особая разновидность образа «я» придают пассивно-реактивному типу истерического характера его специфичную и хорошо известную форму. Это установки и образ «я» человека, имеющего слабое чувство личного авторитета, а потому не рискующего о нем заявить, человека, не принимающего себя всерьез и не ожидающего, даже не надеющегося на то, что его будут принимать всерьез. В основном, в силу известных социальных причин, эти черты присущи женщинам (Lakoff, 1977).
Тридцатилетняя женщина говорит о том, что не может рассказать отцу о своих политических взглядах: «Это было бы слишком резко».
Иногда такие люди испытывают робость, иногда они подвижны и привязчивы, в чем-то даже фривольны или безответственны, обладая преувеличенно детскими, безвредными манерами. Раздражаясь, такие женщины становятся «сварливыми»; нервничая, они «расстраиваются». По их мнению, ими управляют их эмоции, а их суждения — не более чем просто замечания, основанные не на логике, а на интуиции. Таким образом, они активно отказываются от возможностей серьезной рефлексии и в какой-то мере — от своих намерений и личной ответственности.
Итак, сужение диапазона действия или ослабление личной ответственности, которые выражены в этих установках и отказах, проявляются гораздо меньше, чем у психопатов. Романтическая и защитно-гиперболизированная идея истерической личности в отношении того, что ею управляют эмоции, а не мысли, ясно отражает ослабленное ощущение самоуправляемого и намеренного действия. Но по сравнению с откровенным перекладыванием ответственности психопата, когда ощущение личного участия практически отсутствует
(Зачем ты его ударил? — «Он сопротивлялся»), у истерика присутствует ощущение действия, хотя и в ослабленном виде.
Это различие в утрате действия или его избегании отражается в соответствующей разнице между общими чертами или общим уровнем истерической импульсивности, с одной стороны, и безрассудным действием психопата — с другой. Истерики импульсивны, но, как правило, только в тех ситуациях, в которых последствия не имеют особого значения, как, например, женщина, которая говорит вслух все, что приходит ей в голову. Истерические личности в целом не способны к немедленным, ситуативным действиям, способным повлечь серьезные последствия. Серьезный поступок, вызывающий определенные последствия, или какое-то небрежное действие, которое психопат совершает легко, у истерика вызывает тревогу. Все происходит в точности именно так, ибо истерик не может избежать
осознания, что действие имеет последствия, в той степени, в которой это получается у психопата, а потому не может избежать и чувства ответственности, которое несет в себе это осознание.
Действительно, иногда обычная истерическая оторванность от реальности
(flightness) распространяется на поступок, возможные серьезные последствия которого не предполагались ранее. Когда наступают эти последствия, ответная реакция изумления может ясно показать отсутствие рефлексии и сниженное осознание действия, которое содержалось в поступке.
Так, молодая женщина, которая всего несколько месяцев спустя после свадьбы неожиданно бросила своего мужа вследствие романтического увлечения его другом, испытала потрясение, когда обманутый супруг предпринял соответствующие действия, чтобы расторгнуть их брак. Она восклицала: «Но это была просто детская шалость!»
Даже если так оно и есть, реакция этой женщины с точки зрения ее отказа от ответственности близка к точке зрения психопата, оказавшегося в соответствующих обстоятельствах и утверждающего, что ему просто не повезло.
Защитное оправдание истерического характера, связанное с особым акцентом и установкой на безвредность, детскую наивность и оторванность от жизни, относится к субъективной оценке. Запрет на формирование намеренных и серьезных целей одновременно становится запретом на получение знаний, а иногда — запретом и на сами знания. Такие люди постоянно размышляют о своих недостатках или воображаемых недостатках, о своих личных и профессиональных качествах, особенно в присутствии человека, к которому они испытывают уважение. Они переоценивают значение авторитета других людей, они внушаемы и при индивидуальном подходе легко поддаются «промыванию мозгов». Чаще всего они, наверное, ощущают себя детьми или, может быть, не совсем взрослыми («Я еще не состоялся как личность») в мире настоящих взрослых людей.
В некоторых разновидностях своей симптоматики истерический тип пассивной реактивности, видимо, очень далек от импульсивного психопатического характера. Чтобы вспомнить об их близости, нужно просто еще раз убедиться в том, что это именно так, потому что защитное ограничение действия у истерической личности оказывается не столь сильным, а потому тревога, запреты и отказ от своих способностей заметны у нее гораздо лучше.
Соответствие характерных черт истерика и психопата на соответствующих им уровнях пассивной реактивности можно легко распространить дальше. Например, эта связь сама проявляется в качестве аффекта, характерного для каждого типа. Говорят, что великий режиссер Федерико Феллини сказал, что от сентиментальности до цинизма только один шаг, и эту мысль великого режиссера нетрудно понять. Сентиментальность, которая часто служит описанием истерического аффекта (кстати, нередко и аффекта психопата), — это эмоция, которая легко пробуждается и является лабильной, и которая впоследствии остается не слишком связанной с вызвавшим ее объектом, а потому легко переносится на другие объекты. Истерический аффект часто также описывается как «поверхностный» или капризный; при этом ему придается то же значение. Можно считать, что все эти качества находятся в том самом «одном шаге» от холодной неискренности и цинизма психопата, хотя, несомненно, сам этот шаг является очень важным.
Такая эмоциональная реактивность также считается эгоцентричной. В ней присутствует тенденция к доминированию сиюминутных и ситуативных индивидуальных интересов и обстоятельств, в отличие от более абстрактных, а значит, более стабильных интересов, то есть такого вида интереса, о котором Пиаже говорит как об «аффективной децентрации» (Piaget, 1981). Этот фактор тоже можно рассматривать как «отступление»
(step away) от более откровенных эгоцентричных интересов психопата, которые даже более отзывчивы на изменение нюансов оттенков и возможностей данного момента или ситуации.
Есть еще один известный аспект истерического эмоционального эгоцентризма. Такие люди наделяют других людей, а также предметы и ситуации аффективными чертами и свойствами, которыми те не обладают. Согласно их описанию, босс больше чем жизнь; учитель — это великан («Я его ненавижу!»); даже чернильное пятно Роршаха летучей мыши — оно «огромное! жуть!». Эти фигуры не воспринимаются объективно, в соответствии с присущими им качествами; они, так сказать, уже готовые творения чувств субъекта. Чернильное пятно кажется «огромным», потому что человек, который его видит, чувствует себя маленьким. Эта субъективность часто заметна в сумасбродных, а иногда в сумбурных романтических чувствах истерика. Наверное, можно сказать, что в этом «аффективном» смысле истерическая личность «использует» объект своих чувств. Если это верно, такое использование соответствовало бы эгоцентричному использованию других людей психопатом, но на более высоком, аффективном уровне.
Причина субъективности истерика связана не только с особенностями его аффективного состояния. Она связана и с его отношением к внешней реальности, и вообще с его отношением к объективной истине — так же как эгоцентризм психопата. Психопат известен не просто своей способностью лгать (все мы обладаем этой способностью), а своей способностью лгать легко и непринужденно. Психопаты очень многословны; их рассказы легко вписываются в ситуацию и подчиняются ее требованиям. Как я уже сказал, эта характерная черта — не только отражение дефицитарности сознания, но и более фундаментального ограничения интереса. Интерес психопата в немедленном исполнении своих требований и реализации своих возможностей и ситуаций затмевает ему осознание объективной реальности.
Нечто подобное можно сказать об истерической личности. Чернильное пятно летучей мыши выглядит «огромным», потому что человек, который на него смотрит, ощущает себя маленьким; но есть и другая причина. Обычно неизбежное осознание объективного существования фигуры вроде чернильного пятна ограничивает такую субъективность. Истерику не хватает объективизации. В этом случае также мгновенная субъективная реакция замещает осознание объективной реальности. И фактически истерические личности хорошо осведомлены о своих романтических преувеличениях, искажении истины, даже фальсификации, но не с целью приспособления, а на менее осознанном уровне и скорее из эмоциональных побуждений.
Нет никакой необходимости продолжать это описание дальше. Соответствие симптомов или характерных черт, несмотря на его непременное присутствие в некоторых основных характерных чертах, нельзя ожидать в каждой детали. Так как эти два состояния являются взрослыми характерологическими адаптациями тесно связанных, хотя не идентичных пассивно-реактивных типов каждый из них приобрел свои особенные, отличающие его характерные черты. Так, например, Робин Лакофф (Robin Т. Lakoff 1977) отмечал, что обычное представление истерической личности практически идентично социально сформированному образу фемининности. Такая личность явно может быть социально и даже профессионально успешной. Точно так же психопат или, по крайней мере, человек с явно выраженными психопатическими чертами в определенных обстоятельствах может оказаться симпатичным человеком, человеком действия, который вызывает восхищение своим умением быстро и часто принимать эффективные решения и явно выраженным стремлением к риску.
Глава 5. Ригидность
Ригидная «воля»
Чем обусловлена ригидность: избытком воли или, наоборот, ее недостатком? Является ли она следствием беспомощности или своевольного отказа? Любое первое впечатление о ригидности, которая, скажем, проявляется в форме упрямства, догматизма или паранойяльного сопротивления, — это выражение чрезмерных усилий воли. Все эти черты, видимо, отражают активное и намеренное самоуправление, которое находится на противоположном полюсе по отношению к импульсивности или другим разновидностям пассивной реактивности. Во многом такое же впечатление производит ригидность маленьких детей. Присущую им настойчивость в том, чтобы поступать по-своему, как им кажется «правильно», мы называем «своеволием».
При этом другой взгляд на ригидность, видимо, дает прямо противоположную картину. Например, в классическом исследовании взрослых с органическими повреждениями мозга, проведенном Гольдштейном и Шреером (Goldstein and Schreer, 1941), крайняя ригидность пациентов характеризуется беспомощным «безволием»
(will-lessness), неспособностью переходить по своей воле от одной точки зрения к другой, «привязанностью к стимулу»
(stimulus-bound), пассивно-реактивной, конкретной установкой. Таким образом, с одной точки зрения ригидность — это крайняя неспособность самоуправления и ситуация полной беспомощности; с другой — это прямо противоположное: чрезмерное напряжение индивидуальной воли.
Тот же самый парадокс отметил Курт Левин (Kurt Lewin) в своем классическом исследовании детей с задержками психического развития. Он заметил, что «воля умственно-отсталых детей зачастую оказывается сильнее… воли нормального ребенка», и выделял их упрямство, неуступчивость и «педантичность… с которой поставлена их обувь перед кроватью, совершенно одинаково…» (Lewin, 1935, р. 204–205). Действительно, Левин отмечает, что приверженность таких детей правилам игры придает их поведению «привлекательный вид нравственной прямоты» (р. 217).
Не менее очевидно парадокс проявляется в разных чертах ригидной личности, и в этой связи особенно интересен его субъективный аспект. Например, догматизм или упрямство человека, страдающего навязчивостью, не только кажется наблюдателю похожим на чрезмерное напряжение воли, но и, как правило, вызывает у этого упрямого человека чувство гордости своей силой воли. Но когда мы слышим о такой же упрямой или догматичной личности, которая не может терпеть ни малейших изменений в своей привычной жизни, или, когда человек сам сравнивает свою повседневную жизнь с поездом, идущим по заданному маршруту и расписанию, то поведение, казавшееся ранее твердым и уверенным, на самом деле оказывается всего лишь беспомощным и послушным.
Вопрос можно переформулировать в понятиях, которые являются для нас более привычными. Кажется, что ригидной, навязчивой личности присуща крайняя ответственность, ощущение действия, которое выходит за рамки обычного. Совершенно не похоже, что действия такого человека вызываются неосознаваемой импульсивностью; наоборот, им присуща напряженная намеренность. Подобный человек ощущает свою ответственность за то, что выходит из-под его или чьего-то еще контроля, и не только в отношении того, что он делает, но и в отношении того, кем он себя ощущает. Такое действие кажется больше чем просто полноценным. При этом он сообщает, что никогда не делал того, что хочет делать на самом деле, или что в действительности он не знает, что он хотел делать. И фактически мы видим: когда этот человек сталкивается с необходимостью выбора или принятия решения, имеющего даже самые небольшие объективные последствия, его охватывает сильная тревога.
Противоречие можно прояснить, посмотрев ближе на психологию ригидности. Согласно Хайнцу Вернеру (Werner, 1948), ригидность маленького ребенка, которая проявляется, например, в его настойчивости в том, чтобы все делать так, как он делал раньше, следует из неполной объективации ребенком внешнего мира. Именно ограничения в понимании ребенком общего взгляда на ситуацию, то обстоятельство, что существенные элементы еще не успели отделиться от несущественных, ограничивает его ощущение операциональных вспомогательных целей, — именно эти ограничения требуют, чтобы действие совершалось точно так же, как раньше. У ребенка отсутствует ясное и объективное ощущение связи между действием и целью, и, следовательно, ситуативный аспект привносит в сознание воспоминание обо всем действии в целом, о «правильном» действии
(right way). Интерес к цели включает внутреннюю программу, и действие происходит по «накатанному», привычному пути.
Почти точно так же можно описать применение ребенком правил, которым он научился от взрослого. Как и общее воспоминание предшествующего опыта, такие правила определяют правильный способ действия. Такой тип действия побудил Левина сравнить приверженность правилам у детей с задержками в развитии со строгой «моральной прямолинейностью»
(moral rectilinearity). Мы привыкли считать безусловное принятие детьми авторитета взрослого естественной детской зависимостью от статуса взрослого в глазах ребенка, но вместе с тем его принятие должно отражать отсутствие ясного осознания ребенком существенных элементов любой ситуации.
Иными словами, самоуправление ребенка в соответствии с установленными взрослым правилами не основано на ясном ощущении объективной реальности и не включает в себя активную оценку требований этой реальности. Правило, установленное взрослыми на данный момент, — это помощь ребенку в совершении намеренного действия. Пока ребенок будет опираться на эту помощь, его самоуправление будет оставаться пассивным. Оно состоит из привычной, «накатанной»
(reeling off) активности, которая включается его интересом и направляется в соответствии с жесткой внутренней программой, в той самой мере отражая его все еще неадекватное представление о реальной ситуации. Разумно предположить, что этот процесс включает в себя неполное ощущение индивидуального выбора или действия, но зато включает в себя ясное определение «правильного» способа действия. Упрямая детская «воля» теперь говорит от имени авторитета взрослого, поскольку прежде этот авторитет был обусловлен воспоминаниями о раннем опыте.
Следовательно, по крайней мере, насколько это связано с детством, мы можем несколько прояснить смысл ригидной воли и разрешить связанные с ней парадоксы. Ригидная воля ребенка — это просто идея, в которую он верит, не понимая логической основы, чтобы достичь своей цели, — а цель может быть достигнута только благодаря жесткой внутренней программе правил, заложенной у него в памяти. Следовательно, полное самоуправление и действия ограничиваются, но при этом убежденность сохраняется. Далее мы увидим, что нечто похожее можно сказать и о ригидности взрослого, хотя, разумеется, динамика его психического состояния будет совершенно иной.
Ригидный характер
Обычно субъективный зазор, который, по ощущениям ребенка, отделяет его от внешнего мира, постепенно исчезает. Развивается объективация внешней реальности, а вместе с ней — подлинное волевое самоуправление. Но мы знаем, что развитие не всегда происходит именно так. На примере ригидного характера мы видим, как взрослые продолжают жить под влиянием авторитетных правил.
Такие люди, как и люди с истерическим характером, по-прежнему ощущают себя не совсем зрелыми взрослыми людьми и продолжают конкурировать со взрослыми, не осознавая, что они это делают, вспоминая или, скорее, создавая образы взрослых, обладающих непререкаемым авторитетом, и постоянно ссылаясь на авторитетные правила. Для таких людей осознание авторитетных норм и правил оказывается столь весомым, что ощущение индивидуального выбора и независимого принятия решения само по себе становится смелым и тревожным. Следование нормам и правилам и конкуренция с авторитетными фигурами осложняет и делает невозможным такой индивидуальный выбор («Я
не знаю, что я хочу!»). В какой-то мере, как мы увидим далее, опора на такие правила даже смещает оценку внешней реальности. Как и в случае с ребенком, субъективное действие и самоуправление ограничены, зато вполне доступно осуществление «желания», которое не запрещается, считаясь правильным выходом, верным решением, принятым в соответствии с обстоятельствами.
Разумеется, психологическая функция таких правил и моделей у ригидных взрослых другая, чем у детей. Взрослому, в отличие от ребенка, не нужно поддерживать когнитивно ограниченную способность самоуправления. К тому же эта функция у детей не столь экономична, как у взрослых, которым она обычно помогает следовать привычкам и правилам. Правила и модели, которым следует ригидный характер, всегда оказываются избыточными. Они используются взрослым, обладающим когнитивной способностью к самоуправлению, но не рискующим это делать. Авторитет таких правил и моделей, которые были полезны и убедительны для беспомощного ребенка, теперь становится препятствием к самоуправлению дееспособного взрослого.
Чрезмерность управления имеет ряд симптоматических разновидностей. Наверное, самой главной из них, присущей всем видам ригидного характера, является особый тип самоосознания. Развиваются самоосознаваемые роли, которые являются версиями и дериватами именно тех моделей и правил, которые адаптированы к условиям жизни взрослых. Адвокат стремится себя вести так, как, по его мнению, должен вести себя адвокат. Внешнее проявление такого самоосознания и самоуправления заключается в преувеличенной целенаправленности действий и высокопарном и напыщенном поведении. Обыкновенное действие, в котором внимание в основном фокусируется на цели, затрудняется вниманием, направленным на контроль самого процесса.
Но внутренний контроль такого типа не всегда проявляется так мягко, чтобы ощущаться только как внутреннее препятствие. Может появиться напряжение и разрыв между спонтанными реакциями человека и его суждениями, а также требованиями и указаниями, порожденными его внутренними нормами и моделями. Эти требования и указания, обычно принимающие индивидуальную форму самоосознания, придирок или побуждающего чувства «Мне следовало бы» или «Я должен», часто затмевают, подавляют спонтанные реакции, надежды и суждения. Такие люди часто думают, что они хотят делать то, что, по существу, они только считают, что нужно было бы сделать, или они уже не знают, что они хотят делать, или у них ослабевает ощущение того, что они хотят сделать.
Женщина, продолжающая отношения, которые, по ее настоятельному убеждению, она хочет завершить, говорит о своей привязанности как о необъяснимой «зависимости».
Другая женщина, которая долго считала, что «действительно хочет» переехать в другой город, на самом деле только думала, что это ей следует сделать, презрительно приписывая свое бездействие «инерции».
Иными словами, такие люди в той или иной мере отчуждены от чувств и мотиваций, не соответствующих их правилам и моделям, — их «следовало бы». Они часто прикладывают усилия
воли (опирающиеся на правила), чтобы подавить свои истинные желания. В этой борьбе воли усилия ригидного характера в идентификации себя и того, что ему хочется сделать, с тем, каким, по его мнению, ему следовало быть и что следовало бы хотеть сделать, — эти усилия могут быть достаточно велики не только для того, чтобы ослабить его истинные желания, а чтобы сделать их неузнаваемыми для себя.
Пожилой мужчина, хороший специалист, с чувством собственного достоинства говорит о своих внезапных приступах сильного пьянства: «Я не
хочу пить! По всей вероятности, что-то детское
внутри меня хочет выпить, но
я этого не хочу!»
В таких случаях реальные чувства и мотивации у человека выражаются не только в совершении конкретного действия, но и в том, что они влияют на сознание, даже если оно этого не ощущает. Из-за этого возникает напряжение и волевая борьба. Но идентификация себя и своей воли ригидной личностью мешает ей выявить качество ее истинных желаний как таковых и ослабляет их ощущение, сводя все лишь к недостаточным усилиям воли либо вообще к безволию, что внешне часто проявляется в признании «слабости», «зависимости», «инертности», «чего-то детского внутри».
Ограничение ощущения мотивации включает в себя и ограничение объективного взгляда на внешнюю ситуацию или на фигуру, вызывающую интерес. Тогда создается селективная картина, подкрепляющая представление ригидной личности о том, что ей следует делать; эта картина исключает все, что касается ее реальных чувств, ее желаний и зачастую — ее действий. Она исключает всю реальную притягательную силу неодобряемых связей, облегчение от употребления алкоголя, неприятную реальность изменений, которые ей приходится наблюдать.
Создавая такую картину, ригидная личность опирается на правила, на «следовало бы», тогда как любой другой человек ориентируется по ситуации; в ресторане ригидная личность спрашивает себя, что следует есть, тогда как обычный человек выбирает из тех блюд, которые указаны в меню; ригидная личность не упускает ни малейшей возможности применить правила там, где другой человек может свободно выбирать и даже не обратить на это никакого внимания; ригидная личность считает, что нужно все доводить до конца, в то время как любой другой человек считает бессмысленным прилагать дальнейшие усилия.
Интересно отметить, что ригидность взрослой психопатологии не отличается от детской в отсутствие ясного объективного представления о внешней фигуре или ситуации. Существенная разница заключается в том, что у взрослого ограничена психологическая динамика, а у ребенка ограничены когнитивные возможности. Но, в отличие от ригидности ребенка, патологической ригидности взрослого внутренне присущи скованность и напряжение, так как она является внутренне амбивалентной. У ребенка ригидная опора на авторитетные правила в основном заключается в преследовании своих спонтанных интересов, а ригидному взрослому эта опора требуется для предвосхищения тревоги, что намного важнее его спонтанных интересов. Отсюда следует озабоченность ригидной личности своим самоконтролем и «силой воли». В таком случае эта озабоченность самоконтролем сама по себе становится очень ценной. Подобным образом развиваются разные виды общих типов динамики.
Такие люди гордятся своей силой в особом смысле умения преодолеть себя, а также свои склонности и желания, стыдясь и презирая все, что им кажется проявлением слабости, уступками себе, невозможностью преодолеть те самые склонности и желания. Сила или слабость воли становится мерой их самооценки — иногда ключевой. Воля человека, в отличие от его склонностей, в той или иной мере считается подлинным и определяющим фактором его действий («Нечто детское у меня внутри хочет выпить, но я — не хочу» и тому подобное). Чувства и желания, не соответствующие воле, считаются явным искажением или, в случае крайней ригидности, — выражением некого чужого влияния.
Человек, который может уважать и даже признавать в себе только того, кем, по его мнению, он «должен быть» в соответствии с правилами и моделями, которым он никогда полностью не соответствует, в лучшем случае может иметь завышенную самооценку и смутное ощущение, что он является хозяином самому себе. Скорее всего, он будет испытывать постоянные колебания самооценки и ощущения, что он владеет собой. Такие люди часто проявляют защитную заносчивость и даже высокомерие, но именно этим они предвосхищают ощущение покорности, унижения и стыда. Такие люди могут хорошо осознавать свое состояние, пытаясь избавиться от чувства своего несоответствия, напоминая себе, что они лучше других. В конечном счете, они таким образом себя осознают, постоянно за собой наблюдают, оценивая и сопоставляя себя с другими.
Симптомы и черты, которые мы только что описали, являются в той или иной форме или мере характерными для всех разновидностей ригидного характера. Это напряженный стиль. По существу, рассматривая дискомфорт, внутренне присущий этой динамике, можно было бы легко засомневаться в том, перевешивают ли субъективные издержки, связанные с организацией такого характера, выгоду, получаемую от его защиты. В сущности, это сомнение может появиться в отношении любой психопатологии в самых разных ее проявлениях. Но разные повороты и ответвления психологического развития нельзя запланировать и рассчитать в надежде на конкретный конечный результат. Это рефлекторные реакции на ситуацию здесь-и-теперь и на ощущения от нее, и каждый такой поворот в развитии может быть лишь стартом из какого-то предыдущего состояния равновесия.
Дальше мы рассмотрим две основные формы ригидного характера: навязчиво-одержимую и паранойяльную. Несмотря на различие соответствующих им симптомов, связь между состоянием навязчивой одержимости и паранойяльным состоянием оказывается даже более тесной, чем обсуждаемая ранее связь между истерическим и психопатическим характером. Здесь есть не только ясно выраженная связь между соответствующими им симптомами и чертами; относительно менее ригидное и более стабильное состояние навязчивой одержимости может послужить основой для развития более серьезного и менее стабильного паранойяльного состояния. Это говорит о том, что эти два состояния могут представлять собой не только защитную адаптацию двух тесно связанных, но противоположных доволевых психодинамических типов, как это происходит в случае истерической и психопатической личности, а отдельный тип ригидности, который в некоторых случаях может принимать крайние и менее стабильные формы. Во всяком случае, мы еще не можем совершенно точно определить среди многих других особую разновидность навязчиво-одержимого характера, склонного к развитию паранойи.
Ригидность навязчивой одержимости
Как уже известно, в основном ригидный характер соответствует той или иной форме навязчиво-одержимого характера. Навязчивая одержимость представляет собой не только преобладающую и легче всего узнаваемую разновидность ригидного характера; в определенном смысле она является наиболее фундаментальным типом ригидности. Это значит, что сущность динамики ригидного характера легче всего наблюдать в состоянии навязчивой одержимости, а другие симптомы или черты, которые иногда проявляются у ригидной личности, например, садизм и мазохизм, несложно вывести из этой динамики (Shapiro, 1981). Паранойяльные состояния также можно рассматривать как некое видоизменение навязчиво-одержимого характера.
Чрезвычайно заметны хорошо известные симптомы одержимости и навязчивости, такие как прекращение или защитное избегание действия и ощущения личной мотивации. Так, например, в навязчивом ритуальном мытье рук явно просматривается поведение, «накатанное» в соответствии с внутренней программой и никак не связанное с внешней реальностью. Несколько меньше оно заметно в более общих чертах одержимости стремления к совершенству, — эту черту вряд ли можно полностью устранить из детской доволевой ригидности. Настойчивое стремление к тому, чтобы все «было правильно», без различения объективно важного и объективно тривиального, сочетается с нормальными автономными суждениями. Субъективное ощущение действия заменяется смутным ощущением вынужденных действий по правилам
(rule-driven).
Во многом то же самое относится к более или менее продолжительному преследованию цели людей, страдающих навязчивой одержимостью. Одержимая целенаправленность очень заметно отличается от обычной целенаправленности. В ней выражается не только индивидуальная цель в обычном смысле, желание что-то сделать или вызвать какие-то изменения в окружающем мире. Побуждение к навязчиво-одержимому целеполаганию порождает не связь человека с внешним миром, а его связь с самим собой. Такая целенаправленность действительно часто обладает какой-то ценностью, но, тем не менее, она может в основном побуждать к деятельности ради самой деятельности или, точнее говоря, заставляет делать что-то только для того, чтобы это «что-то» было сделано.
Крайний случай усилий, направленных на удовлетворение внутренних побудительных директив, — это навязчивые ритуальные действия, которые могут быть вообще безрезультатными или давать результат, не имеющий никакой объективной ценности. Но различие между навязчивым ритуалом и обычной навязчивой целенаправленностью не столь резкое, как могло бы показаться; во многом такая целенаправленная деятельность — каждый вечер носить домой портфель с деловыми бумагами — есть не что иное, как ритуальное, хотя и рационализированное действие.
И в ритуале, и (только менее остро) при обычной навязчивой целенаправленности человек ощущает себя рабом своей цели, в отличие от нормального ощущения. Он ощущает свою ответственность, которую чувствует находящийся под присягой солдат, выполняющий уставные требования, совершенно отдельно от осознания причин этих требований. В результате приложенных усилий солдат может почувствовать удовлетворение, выполнив свой долг, или чувство стыда, если он допустил промах или потерпел неудачу. Но в данном случае речь не идет о подлинном самоуправлении или совершенном выборе, а только об исполнении предписанного ответственного поручения. Чувство долга или ответственности перед высшим авторитетом в этом смысле притупляет ощущение индивидуального выбора и мотивации или выдавливает их в сознание, хотя при этом переживание неудачи даже усиливается.
Навязчиво-одержимая ригидность — это ригидность долга или, в особых случаях, ригидность нравственности. Такая мораль или нравственность не только более жесткая, грубая и требовательная по сравнению с моралью обычных людей, как это часто считается. Она не отличается от обычной высокой морали, только с более твердыми принципами и более строгая. Самые строгие моральные принципы не имеют признаков невроза. Особые отличия навязчиво-одержимой морали вовсе не количественные; они принципиально иные по своему качеству. Это мораль правил, которая в чем-то очень отличается от морали личных убеждений. Мораль правил притупляет или замещает нормальное ощущение индивидуального выбора и действия, тогда как обычная мораль в этом ощущении содержится. Именно поэтому некоторые люди с моральной одержимостью, включая религиозно-одержимых людей, могут совершать потрясающие нравственные падения. Именно поэтому некоторые люди, одержимые наведением чистоты, в каких-то случаях могут себе позволить быть совершенно грязными.
Это не значит, что обычная мораль, мораль по убеждению, у одержимых людей отсутствует или что такие люди живут, руководствуясь лишь моралью правил. У них может быть нормальная мораль, как, впрочем, и нормальные суждения. Только в отдельных, особых случаях это нормальное суждение или нормальную мораль замещает дополнительный, чрезмерный, основанный на правилах, авторитет. Но совершенно отдельно от этих правил, от их «следовало бы» и «не следовало бы», у одержимых людей есть ценности и принципы, влияющие на их взгляд на мир, на их повседневный выбор и на их менее осознаваемые действия. Хотя эти ценности могут существовать в большей, даже в подавляющей части их деятельности, большинство людей их обычно не замечает, как и все остальные ценности; они являются теми линзами, через которые человек видит мир. Но там, где возможности выбора и действия могут привлекать к себе внимание, там, где могут быть приняты решения, неизбежно повышающие осознание индивидуального действия, одержимые личности не могут опираться на собственные ценности или собственные суждения, не чувствуя при этом тревоги. В таких случаях они не рискуют нарушать свои правила. Даже в светской жизни очевидно, что объективно безопасный выбор или решение могут привлекать к себе внимание только потому, что они отличаются от уже установленных, а следовательно, авторитетных правил.
Например, если мужчине, страдающему одержимостью, вдруг пришлось нарушить регулярное расписание времени игры со своим маленьким сыном, к которому он действительно очень привязан, то его тревога разбудит призрак вреда, который он тем самым может причинить ребенку («Во всех книгах написано…»). Эта проблема еще больше повысит его тревогу. Этот милый славный человек беспокоится, что, если «он только поступил так, как ему хотелось», это может значить, что он проявил полное безразличие к потребностям и страданиям других, даже в собственной семье. Здесь не только отражение бессознательной амбивалентности; эта формула порождена его тревогой, вызванной отклонением от правил.
Навязчивые ритуалы, такие как ритуальное мытье рук, постоянная проверка, заперта ли дверь, в которых особенно ясно проявляется основанная на правилах сущность одержимой добросовестности, обычно напоминают (может быть, следует сказать «воспроизводят») действия, связанные с соблюдением предосторожности, или корректирующие действия, добросовестные действия, направленные на избежание неудачи. Но в определенной мере даже самому одержимому очевидно, что эти действия не отражают добросовестной оценки окружающего мира. Они вообще не выражают связи между субъектом действия и внешним миром, как это происходит в нормальной мотивации и в нормальном действии, но, повторяю, эти действия были совершены ради того, чтобы их сделать, или для удовлетворения субъекта действия тем, что он совершил какие-то действия.
Из этой цели следует, что, хотя такие действия можно смоделировать, соблюдая обычные предосторожности или ставя разумные цели, все равно по своей сути они остаются формальными, и зачастую слишком формальными. Иногда этот формализм или ритуальность оказываются совершенно незаметными с точки зрения своего сходства с обычными целями и для самого человека, страдающего одержимостью, и для окружающих. Так, бизнесмен, который каждый вечер приносит домой портфель с деловыми бумагами, говорит себе, что он так поступает в случае, «если» хочет работать. Но иногда такие действия остаются настолько далекими от реальных целей из-за процессов, о которых мы поговорим чуть позже, что теряется возможность их осмыслить. Такие действия становятся заметными, и именно они в основном считаются симптомами.
Если жизнь в рамках, определенных авторитетными правилами, позволяет избежать тревоги, она обязательно является деспотичной. Она требует постоянного осознания наличия этих правил, постоянного осознания «следует». В постоянном недовольстве собой и напоминаниях о себе навязчиво-одержимого человека ясно видно, что ему «следует» сделать то или другое. Его осознание правил воздействует на них так, что превращает их в требовательные указания («Вам следует…!»). Довольно часто эти императивы требуют только следующее: «Вам следует делать больше!» Таким образом, типичный повторяющийся навязчивый симптом у навязчиво-одержимых людей имеет особую форму управляемой целенаправленности; при этом его основной смысл состоит в том, что им следует что-то
делать.
Следствием постоянного давления
необходимости делать является запрет на получение любого продолжительного удовлетворения. Это значит, что осознание человеком себя, не сопровождавшееся контролирующим недовольством или осознанием последующих «нужно» и «следует», вызывает ощущение тревоги. Осознание такого ощущения или паузы в целенаправленном
действии вызывает у одержимых людей тревожную озабоченность тратой ценного времени, исчезающими возможностями и т. п., тем самым порождая новое давление, побуждающее к действию. Действительно, осознание кратковременного отсутствия такого давления может даже побудить сознание заняться поисками того, что нужно сделать, например, взять на себя какую-то ответственность или проблемы, над которыми следует думать. Такое побуждение порождает напоминание о требовании целенаправленного действия даже перед тем, как поставлена конкретная цель. Так, например, одержимый мужчина замечает, что, проснувшись утром, он «ищет то, о чем бы побеспокоиться».
Короче говоря, требования ригидной или основанной на выполнении правил добросовестности никогда нельзя удовлетворить, никогда нельзя получить полное удовлетворение. Каким бы окончательным или последним ни было мытье рук, всегда сохраняется возможность считать его недостаточным — из-за какого-то недосмотра, какой-то оставшейся или вновь появившейся загрязненности. Следовательно, эта щепетильность обладает внутренним постоянством. Таким образом, особенно при очень высокой тревожности, одержимая добросовестность стремится войти в свои права. Мужчина, который обеспокоен здоровьем зачатого им ребенка, не может не обратить внимания на возможность заражения вирусом СПИДа. Загрязнение и заражение пищи людьми, которые ее готовят и фасуют («У них могут быть открытые раны»), не поддается никакому контролю («В особенности следует избегать посещения ресторанов»), но никакой способ приготовления пищи не может успокоить и устранить эту озабоченность («Любые красные или красноватые частицы такой пищи могут оказаться следами крови»).
Непреклонность и повторяемость одержимой озабоченности и ее свойства распространяются на другие сферы деятельности — это последующие симптоматические разновидности общей доволевой динамики, основанной на подчинении правилам.
Такой же принцип, связанный с тем, что нельзя упускать никакой возможности, приводит к обращению одержимой озабоченности на самого человека. У мужчины, обеспокоенного возможностью заражения и начинающего осознавать свою тревогу, появляется мысль, что он сошел с ума и, наверное, ему нужно обратиться в психиатрическую клинику. Сами действия, направленные на соблюдение предосторожности, или корректирующие действия могут потребоваться для соблюдения предосторожности или коррекции. Повторяющаяся проверка, заперта ли дверь, исправен ли замок, вызывает беспокойство, которое заставляет человека снова и снова проводить такую проверку.
Но в основном такое распространение одержимого беспокойства имеет предел. Сам факт, что ритуальная повторяющаяся предусмотрительность или корректирующие действия, по существу, являются формальностями, обусловленными соблюдением правил, позволяет как-то формально их пересматривать. Процедуры, угрожающие бесконечной продолжительностью или повторяемостью действий, можно в той или иной мере выполнять, используя технические средства, например, совершая нужное количество проверок в определенной последовательности или осуществляя такие действия чисто символически или совершая другие формальные экономичные действия.
Действия, направленные на соблюдение предосторожности, корректирующие или формальные действия, которые составляют навязчивые ритуальные действия, в основном можно изменить через юридическое или технико-экономическое вмешательство, постепенно превратив их в жесты и действия, все менее и менее поддающиеся реалистичной оценке и еще более отдаленные от их изначальных целей. Для рутинной деятельности могут потребоваться свои правила, «правильность» заранее выбранной последовательности действий, отклонения от которой вызывают сильную тревогу. При этом изначальные цели, формальные, но все же понятные, могут легко забыться и потеряться, как это часто происходит в религиозных обрядах и церемониях. Повторяю: таким образом основная характерологическая опора на доволевые типы динамики, связанной с выполнением правил, может в конечном счете расщепляться на совсем загадочные ритуальные симптомы.
Самым распространенным видом одержимости, связанной с соблюдением
предосторожности, является беспокойство, деятельность мышления. Предвидеть неприятность, никогда не упускать из вида любую возможность наступления беды, постоянно держать в голове все эти возможности — значит что-то делать. Пока такое предусмотрительное мышление замещает нормальное, обращать особое внимание, как это и происходит, на возможность наступления самого худшего и его основные последствия — значит сжиться с худшим, даже предполагать худшее, словно жить, постоянно готовясь к худшему.
В своей более благоприятной и менее жестокой форме это замещение лишь искажает реальный масштаб возможной неприятности. Но зачастую выявляются новые возможности, которые вызывают новое беспокойство. Иногда они ужасны, как, например, упоминавшееся ранее предположение о заражении вирусом СПИДа. Но иногда это лишь отдаленное беспокойство, в котором нет уверенности даже у одержимой личности, но при этом от него не удается сознательно избавиться.
Например, страдающий одержимостью бизнесмен, прибыв в пункт своего назначения, тревожится о том, что ветка дерева, на которую он, «наверное», наехал по пути, «вполне могла» подскочить вверх и нанести кому-то травму, хотя на дороге не было видно ни одной машины. Наверное, говорит он, нужно было лучше проверить. В его словах не слышится убежденности, и он не делает ни малейшей попытки поехать назад и проверить.
Такие идеи не отражают настоящего ослабления суждения, ибо человек, испытывающий одержимое беспокойство, действительно верит в возможность воображаемого несчастья. Его беспокойство обычно наполнено разными «может быть», «могло быть» и «возможно». Эти слова вообще не являются оценками реальности. Одержимая личность откладывает свои оценки реальности, предпочитая добросовестно соблюдать правила. Именно поэтому мужчина, о котором только что шла речь, не выглядел убежденным в том, что он действительно мог кому-то нанести травму. Когда до его сознания доходит, что, похоже, и он сам не особенно верит в реальность такой возможности, он перестает отвечать прямо. «Наверное, — говорит он, — надо бы это проверить. При случае».
Именно поэтому эти одержимые идеи, хотя они замещают суждения, сами не являются суждениями в обычном смысле, а потому могут существовать вместе с реальными суждениями и поведением. Мужчина, обеспокоенный тем, что «мог» причинить кому-нибудь на дороге травму, не спешит проверить, что там происходит; человек, который, кажется, сходит с ума от возможности заболеть СПИДом, совершенно не торопится сдать анализ крови. (А если он поспешит это сделать, то не надеется, что у него все в порядке, ибо может знать, что у него все нормально, но прежде всего ему важно выполнить необходимые меры предосторожности и тем самым позволить себе снизить уровень тревоги.) Иными словами, часто даже внешне серьезное беспокойство одержимой личности позволяет ей практически рассуждать о проблемах, связанных с ее действиями.
Другая разновидность добросовестного, предусмотрительного действия — контролирование себя и своих мыслей с целью выявления постыдных идей или ужасных «импульсов». Психиатры часто неправильно понимают воздействие таких мыслей и импульсов, когда относятся к беспокойным или тревожным мыслям одержимой личности совершенно серьезно. Важно знать, что эти идеи или «импульсы» возникают у человека, чрезвычайно тщательно контролирующего свои мысли. Это люди, которые, не осознавая своих действий, наблюдают за своими мыслями и даже изучают их с усердием собственного Инквизитора, и такое следствие не может не дать положительных результатов.
Например, глубоко религиозный, но одержимый мужчина с грустью заметил, что насчитал у себя сто сорок две «греховные мысли» за один день.
Ужасные «импульсы» (а по существу —
идеи о таких импульсах), с которыми, по убеждению одержимого человека, он борется, пытаясь взять их под контроль, не столь отличаются от других навязчивых мыслей. Как только одержимый человек, изучающий свои мысли, выявляет эти тревожные идеи — что он «может» изнасиловать или убить невинного ребенка, или с разгону броситься вниз с моста на машине, или выкрикнуть вслух нечто постыдное, — он чувствует, что ему нужно следить за этими мыслями, как следует их узнать, предположив для себя самые худшие последствия. Кроме того, он чувствует, что должен продолжать контролировать свой рассудок, чтобы эти и другие мысли всегда были ему подконтрольными. Так, один мужчина, узнав о том, что каждое утро он исследует свой рассудок в поисках неприемлемых мыслей, в особенности мыслей о нападении на молодую девушку, объяснил, что, если он не выявит их у себя, если он позволит себе потерять их след, тогда он действительно «сможет это сделать».
Содержание таких идей или «импульсов» не обязательно не имеет никакой основы в фантазии. Но они преувеличиваются в тревожную угрозу, если преимущественно не структурируются усердием регистрирующего мышления. Эти тревоги тоже полны «может быть» и «могло быть», как и все остальные формы проявления одержимого беспокойства. Эта озабоченность вызвана предосторожностью, цель которой — найти истоки исходящей угрозы. По существу, они отражают нервозность ригидной личности и недоверие к ее собственным неосторожным действиям, которые совершаются без опоры на нормы и правила.
Наверное, симптомы и характерные черты навязчивой одержимости являются самыми известными и широко распространенными. Но разновидности этих симптомов и характерных черт проявляются в очень широком диапазоне и самых разных контекстах навязчиво-одержимого характера. Их можно заметить и у людей, которые стремятся достичь многого, и у людей, у которых такое стремление выражено значительно меньше, чем беспокойство. Вполне вероятно, что эти различия характера, о которых мы знаем совсем немного, включают в себя различия в степени ригидности, хотя вряд ли они могут определяться только ею.
Различия в степени ригидности могут оказаться важным фактором в выявлении различия между теми формами навязчиво-одержимого характера, которые могут стать основой для паранойяльного развития, и гораздо более многочисленной группой форм, которые такой основой не становятся. Большинство — явно менее ригидные люди, страдающие навязчивой одержимостью, очень хорошо осознают
внутренний конфликт и даже поглощены им. Больше осознавая то, что считает своей слабостью и неадекватностью, такой человек скорее будет вести внутреннюю борьбу с самим собой, выражать постоянное недовольство собой и испытывать беспокойство. Более ригидные люди, слишком самоуверенные, уверенные в своей силе воли, испытывают больше презрения к слабости, они чаще более догматичны, и вместе с тем у них выше степень самоотчуждения. Как станет ясно впоследствии, теоретически более вероятно, что паранойяльные симптомы будут развиваться в последнем случае.
Помимо этих разновидностей навязчиво-одержимого характера динамика ригидной личности может разветвляться или распространяться в разных направлениях, и вполне вероятно, что симптомы и характерные черты навязчивой одержимости будут как-то связаны с одним из этих направлений. Так, например, они, скорее всего, будут присутствовать у людей с выраженными садистскими или мазохистскими склонностями, причем могут сопровождаться тревожностью в отношении силы или слабости воли, стремлением заставить другого человека уступить или уступать самому, приучать других к дисциплине или самому подчиняться ей (Shapiro, 1989). Паранойяльные состояния, тесную связь которых с состоянием навязчивой одержимости мы рассмотрим более подробно, — это еще одна разновидность ригидной личности. И как мы убедимся впоследствии, характерные черты навязчивой одержимости широко распространены и заметны, по крайней мере, в двух формах шизофрении. Повторяю, все это свидетельствует о том, что обычные психиатрические категории описывают не конкретные заболевания, а разновидности нарушений более общих форм характера.
Паранойяльная ригидность
Сходство установок, соответствующих навязчивой одержимости и паранойе, а также основных форм присущих им симптомов оказывается поразительным, несмотря на различное содержание симптомов и традиционно признаваемых защитных механизмов. Это сходство настолько тесное, что позволяет выделить два состояния, которые во многих отношениях «ощущаются»
(feel) похожими. Осознанная оценка навязчивой личностью своего состояния кажется мягче остро паранойяльной формы самоосознания. В первом случае имеет место осмотрительная намеренность действий, во втором — еще более тщательное соблюдение предосторожности; предвидение несчастья или неудачи, которое мы называем навязчивой тревожностью, — и паранойяльное ожидание угрозы; упрямое сопротивление разному влиянию в одном случае — и подозрительное сопротивление в другом.
Связь наблюдается и в дальнейшем. Мы уже рассматривали родство догматических установок, общих для навязчивого характера и паранойяльного знания. Можно сказать, что даже общее свойство паранойяльного бреда — лишенная реалистических пропорций поглощенность той или иной идеей — напоминает крайнюю форму одержимости. Именно их формальной связью можно объяснить возможные затруднения в установлении точного диагноза между паранойяльным и крайне ригидным состоянием навязчивой одержимости, а также в случайном развитии одного состояния из другого.
В некотором отношении формальную связь между навязчиво-одержимой и паранойяльной ригидностью можно выявить довольно точно. Очевидно, что при их сравнении в каждом случае паранойяльное состояние оказывается более ригидным, однако это не самая характерная особенность, присущая этой связи. Самой поразительной чертой является превращение внутренней навязчиво-одержимой борьбы с собой в соответствующее паранойяльное переживание конфликта с внешним противником. Это довольно точное соответствие. Когда навязчивая личность осознанно участвует во внутренней борьбе против любых «уступок» себе и различных послаблений воли, паранойяльная личность борется против внешних сил, заставляющих ее «уступить», стремящихся ее подчинить или к чему-то ее принудить, ослабить ее волю или прекратить сопротивление. Там, где человек, страдающий навязчивой одержимостью, борется с ощущением, что он оказывается менее значимым, чем должен быть, паранойяльная личность борется с внешними силами, заставляющими ее покориться и почувствовать свою ущербность. В каждом ригидном состоянии основной является борьба, направленная на то, чтобы подчинить себя своей воле. Навязчиво-одержимая личность так и воспринимает эту борьбу — как усилия, направленные на преодоление собственной слабости, тогда как у паранойяльной личности место этой борьбы смещается вовне. Это превращение обусловливает более полное внутреннее отчуждение человека (табл. 2).
Таблица 2. Ригидные типы динамики
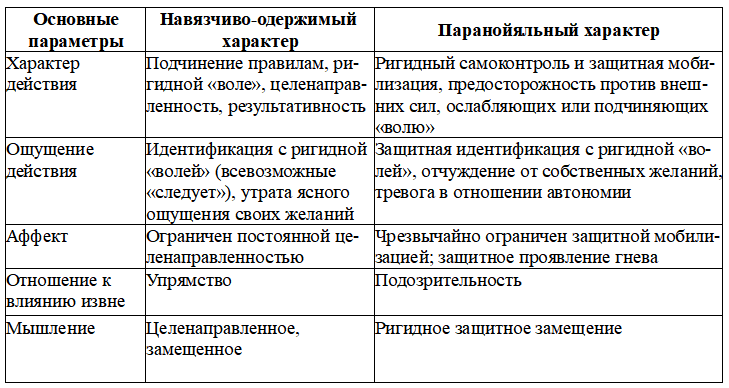
Для любой формы психопатологии в той или иной мере характерно наличие самоотчуждения. Оно явно наблюдается в попытках навязчиво-одержимого человека отождествить себя с тем, кем, по его мнению, он должен быть, и в его отказе от чувств и желаний, противоречащих его намерениям, задачам и правилам. Наиболее явно оно проявляется в его признании таких чувств и желаний в крайне ограниченной и предвзятой форме, с точки зрения их несоответствия стоящим перед ним целям, то есть только как искажения, погрешности или слабость воли, как, например, лень, «инерция» или «что-то детское внутри». При этом, пусть весьма ограниченно, человек, страдающий навязчивой одержимостью, признает наличие таких чувств и желаний. Если он не признает их полностью как собственные чувства и желания, но он, по крайней мере, переживает их как свои огрехи и свои слабости или же как свои неудачи в отношении того, кем он должен быть. Он на самом деле сокрушается из-за этих недостатков и неудач, осознает свой стыд и постоянно выражает недовольство собой, вспоминая о том, кем он должен быть.
В случае паранойяльной личности более сильный скрытый стыд и презрение к себе приводит такого человека к состоянию более или менее стабильной ригидности, к более настоятельному, но менее успешному отказу от собственной жизни. Взяв крайний случай Шребера, пациента Фрейда, на материале которого тот изучал паранойю, мы увидим, что Шребер настойчиво отрекался от своих женских сексуальных фантазий, с негодованием заявляя, что его личность «морально безупречна»; при этом у себя в воображении он представлял, что под воздействием внешних сил превратился в «женщину-шлюху» (Schreber, 1955).
В общем случае паранойяльная личность приходит просто к завышенному самомнению относительно своей силы воли и своего авторитета, к уже обсуждавшимся представлениям, к раздутой гордости, даже высокомерию, а иногда и к величию. Такая гордость граничит с крайней неуверенностью в себе, которую вполне можно ожидать у людей, пытающихся подавить свои чувства покорности и стыда. Следовательно, эти люди чрезвычайно чувствительны к проявлению пренебрежения и неуважения, к насмешкам, испытывают сильную тревогу относительно возможности унижения. Одним словом, они постоянно находятся в положении защиты. По существу, ригидности всегда в той или иной мере внутренне присуща защитная реакция.
Человек, обладающий ригидной волей, в конечном счете, воюет на два фронта: он должен охранять себя и от угрозы внешнего принуждения, и от угрозы внутреннего соблазна. Иначе говоря, ригидная личность должна избегать проявления двух видов слабости: уступок другим и уступок себе, своим желаниям и чувствам. Тогда эти две разновидности проявления слабости становятся субъективно эквивалентными; ригидная личность ощущает их почти одинаково, и озабоченность уступкой одного вида никогда не бывает без проявления в той или иной мере озабоченности другого вида. В этом, так сказать, проявляется связь между двумя фронтами;
внутренняя угроза ригидной воле может, особенно в случае крайней ригидности, легко превратиться в защитное чувство
внешней уязвимости. Связь между двумя видами угрозы — это поворотная точка, с которой начинается паранойяльное превращение внутреннего конфликта во внешний.
Действительно, навязчиво-одержимая личность преимущественно поглощена борьбой с самой собой, кроме того, она хорошо известна своим упрямством. По своей функции сопротивления внешнему влиянию это упрямство соответствует гиперчувствительной и подозрительной установке параноика. Но различие между этими двумя установками — невозмутимость одного и гиперчувствительность другого — отражает различие между двумя типами ригидности, особенно в их сравнительной стабильности, и позволяет отчасти распознать паранойяльную психодинамику.
Упрямство и невозмутимость навязчиво-одержимой личности — это, по существу, принципиальный отказ отвлечь внимание от своих собственных целей. В целом они подкрепляют ее явно выраженную и часто результативную целенаправленность. Такой человек сам не отвлекается от своих целей и не дает себя отвлечь другим людям. В случае паранойяльной ригидности, которая является ее более крайней формой, под воздействием более сильного и менее стабильного внутреннего напряжения, чем у навязчиво-одержимой личности, этот сравнительно невозмутимый отказ или отчуждение от внешнего влияния заменяется защитным и зачастую враждебным его ожиданием. В контексте более слабой внутренней структуры упрямство сменяется подозрительностью. Можно сказать, что подозрительность — это упрямство, которое стало вынужденным, а, следовательно, защитным.
Если усилие подавить стыд и все, что его вызывает, с демонстративным утверждением авторитета оказывается слабым, внешние обстоятельства, которые бросают вызов этому авторитету или воле, объединяются человеком в угрожающую ему опасность. К таким обстоятельствам паранойяльные личности крайне чувствительны. Любое истолкование другого человека или организации, которое может показаться им принудительным или неуважительным, все, что напоминает им «помыкание», любой намек на попрание чувства собственного достоинства, снисходительное отношение или категорический отказ, особенно если речь идет о человеке высокого статуса, которым они восхищаются, по существу, будет напоминать паранойяльной личности о ее ничтожестве, то есть станет ее унижать и вызывать у нее защитную реакцию.
Один такой мужчина, которому посоветовали на работе обращаться к начальнику «господин директор», гневно отверг это предложение, заявив, что он никогда не станет «пресмыкаться» перед руководством.
Иногда чувству собственного достоинства угрожает уже одно присутствие фигур, вызывающих восхищение. Таким образом, подобное восхищение часто сопровождается выражением недовольства или вообще отрицается, а эти фигуры часто становятся объектами, вызывающими защитное чувство гордости и враждебности.
Все это говорит о том, что защитное и враждебное отношение к внешнему миру, в особенности к определенным людям, внутренне присуще ригидному самоуправлению в своей крайней и нестабильной форме. Такая защитная реакция является основной характерной чертой паранойяльной личности, а не вторичным проявлением — результатом спроецированной агрессии, как это принято считать. Вместе с тем проявление такого типа ригидности предотвращает осознание чувства стыда и отвращения, заменяя их поиском и осознанием внешней угрозы. В этом смысле находится стабилизирующее решение для ригидности, которая иначе вызывала бы ощущение неуверенности.
Результирующая защитная реакция — это не ответная реакция на неопределенную враждебность или агрессивность. Это отношение прежде всего характеризуется соприкосновением с унижением, горечью и даже ненавистью, которые ощущает человек, находясь в подчиненном положении или испытывая стыд, но, не осознавая этого, стремится сблизиться с теми людьми, которых он считает лучше себя.
Считалось, что в паранойяльном состоянии основным защитным механизмом является проекция, хотя чтение психоаналитической литературы не проясняет ни ее психологической основы, ни ее конкретного воздействия. Действительно, феномен проекции явно непосредственно воздействует на механизм защиты. Такой тип защиты с его ожиданием угрозы содержит в себе крайнее когнитивное замещение, замещение подозрительностью. Человек, чувствующий свою уязвимость, не может позволить себе открытых или уравновешенных суждений. Он занят только поисками признаков угрозы. Сущность этой угрозы будет определяться особенностями ощущения им собственной уязвимости, а это чувство уязвимости будет определяться теми личностными аспектами, теми мыслями и чувствами, которые он отвергает. Чем более тревожным и нестабильным является состояние паранойяльной личности, тем сильнее ее защитная реакция и тем более серьезным и ригидным оказывается замещение. Свидетельства, которые соответствуют этому защитному и неузнаваемому и неосознаваемому замещению и его подкрепляют, человек будет избирательно принимать, перескакивая с одного на другое, отметая в сторону противоречащий им контекст. Таким образом, при достаточно ригидном и узком замещении неизбежно выявление угрозы унижения, оскорбления или пренебрежения, а также попытки принуждения, насмешки или какого-то иного насилия над волей (табл. 3).
Таким образом, спроецированные мысли не направляют осознание неприемлемых и отвергаемых бессознательных чувств и мотиваций;
они являются отражением защитного беспокойства, которое вызывают такие чувства и мотивации. Разнообразие содержания таких мыслей ограничено именно потому, что они являются результатом защитной тревоги и замещения. Защитное беспокойство мужчины, который испытывает стыд, отражается в мыслях, что этот стыд заметен, что его унижение видят все, что это расценивается как его слабость и женоподобие. Или же у него появляются мысли о проявлении к нему пренебрежения или уроне, нанесенному его статусу или авторитету. Тревога в отношении проявления слабоволия, мягкости или соблазна «уступить» может также вызвать мысли о принуждении («Попался!») или о применении внешнего воздействия (гипноза, яда), ослабляющего или уничтожающего силу воли, или иногда эквивалентной ей физической силы. Неизбежный успех достаточно ригидного и узкого замещения в выхватывании нужных свидетельств и подтверждений и устранении их контекста часто создает ауру доверия и знаний; об этом уже говорилось ранее, в главе 2 «Динамика саморегуляции», при обсуждении спроецированных мыслей.
Ригидность и пассивная реактивность
Крайние случаи паранойяльной ригидности помогают прояснить основную связь ригидности и пассивной реактивности, ибо можно видеть, что в чем-то они совпадают. Как паранойяльное защитное замещение постепенно становится ригидным, так все более немедленными и ситуативными постепенно становятся суждения, а подлинная рефлексия снижается. Напряженная и проницательная сосредоточенность, присущая паранойяльным личностям, часто создает впечатление эффективного, волевого внимания. Но неизбежное «открытие» специального подтверждающего ключа позволяет ясно увидеть ригидность и крайнюю ограниченность поиска, реагирующего лишь на те объекты и элементы, которые будут отвечать ожиданиям, и на те объекты и элементы, которые соответствуют уже более или менее устоявшейся мысли или идее («идее фикс»).

Чем более ригидным и узким оказывается паранойяльное замещение, тем легче определить эти элементы и тем скорее появляется окончательная спроецированная идея. В крайнем случае паранойяльного бреда исчезает даже отдаленное сходство с таким активным поиском. Спроецированная идея включается так резко, что теряется все субъективное ощущение действия и все внешнее сходство с ним. Новость о событии, опасном для такого человека, услышанная им по радио, якобы является
намеренным сообщением.
Мы вернемся к обсуждению этого материала в разговоре о шизофрении.
Глава 6. Подверженность влечениям и гипоманиакальность
Видимо, употребление в психологической и психиатрической литературе такого «технического» термина, как подверженность влечениям
(drivenness)[13] является не слишком точным, однако этот термин широко распространен и хорошо понятен.
Он включает в себя более или менее серьезную деятельность, деятельность ради деятельности, которая, по-видимому, возникает вследствие внутреннего побуждения или даже давления, причем деятельность настолько напряженную, что снять это напряжение нет никакой возможности, не вызвав ощущения дискомфорта. Действительно, мы знаем, что при двух известных типах внутреннего давления
(drivenness), навязчиво-одержимом и гипоманиакальном, любой перерыв в деятельности не только вызывает ощущение дискомфорта, но и встречает сознательный протест, независимо от конкретного вида деятельности. Подверженная внутреннему давлению
(driven) навязчивая личность становится тревожной и беспокоится, что тратит время впустую, если «ничего не делает». Человек, страдающий гипоманией, становится возбужденным, иногда раздраженным и даже испытывает гнев, когда его прерывают; его экспансивное настроение пропадает или портится. Эта картина управляемой влечениями деятельности
(driven) свидетельствует о том, что она является защитной, к которой человек постоянно себя побуждает, чтобы предвосхитить появление ощущения дискомфорта.
В основном такой взгляд на подверженность влечениям
(drivenness) мало отличает ее от другой формы защитного процесса, направленного на предвосхищение тревоги. Пока защитный стиль поведения, например, сценичность и демонстративность истерика или импульсивность психопата, требуют какой-то деятельности, такую деятельность вполне разумно называть управляемой. Но эта конкретная защитная деятельность имеет некоторые отличия; в особенности в ней содержится чрезвычайно осознанное стремление что-то
делать и очень подробное представление о
деятельности.
И навязчиво-одержимая, и гипоманиакальная подверженность влечениям, побуждая к деятельности, предотвращает появление ощущения дискомфорта, при этом сравнительные черты этой деятельности и этого дискомфорта очень отличаются. Навязчиво-одержимая деятельность является очень целенаправленной, даже дисциплинированной, имеет осознанную цель, которую нужно достичь, особенно если способы достижения поддаются количественной оценке. С другой стороны, гипоманиакальная деятельность, как правило, является амбициозной, но далеко не дисциплинированной. Она в основном включает в себя вынужденную
(driven) спонтанность и преувеличенную скорость реакции. В одном случае защиты используется ригидный динамический тип; в другом — пассивно-реактивный тип. Можно сказать, что управляемость навязчивой одержимости предвосхищает появление дискомфорта, вызываемого спонтанностью постоянной целенаправленной деятельности, тогда как гипоманиакальная подверженность внутреннему давлению предотвращает появление дискомфорта, вызываемого рефлекторной реактивностью с постоянной «спонтанностью».
Гипоманиакальная подверженность влечениям
Разумеется, остается показать, что гипоманиакальный случай относится к подверженности влечениям. В конечном счете, еще задолго до появления в недавнем прошлом биологического направления в психиатрии все были убеждены, что гипоманиакальные и маниакально-депрессивные состояния обусловлены скорее биологическими, чем психологическими причинами. Причина такого предположения — явное отсутствие убедительных психологических причин частого эпизодического появления таких состояний
[14]. Но, как мы убедимся позже, это отсутствие внешних психологически значимых объяснений ни в коем случае нельзя назвать последовательным. Во всяком случае, хотя предполагаемые биологические процессы никогда не были точно описаны, все же есть общее ощущение, что эти состояния обусловлены биологическими причинами.
Создается вполне правдоподобное впечатление, что различные черты преимущественно маниакального и гипоманиакального состояний есть непосредственный результат протекания биологических процессов. Возможно, одна причина, по которой эти состояния больше, чем вся остальная психопатология, вызывают ощущение присутствия биологических процессов, заключается в том, что в основном эти состояния кажутся менее связанными с процессом мышления, чем другие психические нарушения. Эйфория, интенсивность возбуждения, смутное физиологическое ощущение возбуждения, которое часто предвещает маниакальный эпизод, бурный поток (можно даже сказать — потоп) идей и общее ускорение мыслительных процессов, заметное извне и ощущаемое изнутри, — все это легко отнести к влиянию биологических процессов. Действительно, имеющийся опыт подтверждает, что биохимические изменения в организме могут повышать настроение. При нормальном физическом самочувствии иногда ощущаются такие эффекты; одним из примеров может послужить так называемое «опьянение бегуна», которое испытывают спортсмены, а также воздействие различных наркотиков; даже небольшой подъем настроения, вызванный алкоголем, подтверждает влияние на настроение биохимии организма. Часто утверждается, что фактически периодичность повторения маниакальных и депрессивных эпизодов отражает периодические биологические флуктуации.
Но есть не менее сильные аргументы и с другой стороны. Самый явный из этих аргументов заключается всего лишь в следующем: притом что настроение может быть восприимчиво к биологическому состоянию, оно не менее восприимчиво и к психологическому состоянию. Самый наглядный пример: согласно нашим ожиданиям, влюбленные находятся в состоянии возбуждения и подъема настроения. Такое сравнение проводит бывший пациент Джон Кастенс (John Custence), страдавший манией, вспоминая свое состояние (Custance, 1952). По существу, в той мере, в которой психологические реакции имеют, по крайней мере, временное воздействие, наблюдая за колебаниями настроения, мы можем видеть, что отношение между биологическими и психологическими причинами нельзя считать односторонним.
Действительно, существует веское основание для утверждения, что в определенных ситуациях нормальные люди могут приходить в аффективные состояния, поразительно похожие на гипоманиакальные (хотя оказывается, что такие ситуационно индуцированные состояния долго не продолжаются после окончания самой ситуации). Например, Фрейд, ссылаясь на работу Лебона (LeBon, 1986)
[15] при обсуждении психологии толпы (Freud, 1922/ 1949), отмечал, что переживания и поведение людей в толпе, особенно в праздничной толпе, отражает освобождение от обычных ограничений «идеала Эго» (или Супер-Эго), похожее на то, которое наблюдается при мании.
Фрейд говорит, что «…в массе индивид попадает в условия, разрешающие ему устранить вытеснение бессознательных первичных позывов… Угасание при этих условиях совести или чувства ответственности нашего понимания не затрудняет» (Freud, 1921/ 1955, р. 74)
[16].
Несомненно, что освобождение от личной ответственности, которое наступает во время пребывания в группе, может вызывать возбуждение и поднимать настроение. Действительно, Лебон описывает «сознание толпы», утрату ею моральных запретов и нормальных ограничений разума (никаких следов «критического духа»), говоря об огромной внушающей силе такого освобождения. Описание Лебоном толпы также включает в себя формальные характеристики мышления и познания («немедленное обобщение»; «установление связи между разобщенными элементами»), которые чрезвычайно похожи на гипоманиакальные.
Нетрудно найти и современные примеры, позволяющие сопоставить возбуждение и устранение запретов при встречах людей на праздниках или непосредственно в группах, деятельность и цель которых как раз и состоит в освобождении от запретов. Описан случай так называемого «одичания», когда группа подростков специально демонстрировала отсутствие у них каких бы то ни было ограничений, кульминацией чего было грубое изнасилование, — такое поведение предполагает гипоманиакальное возбуждение. Один из участников этого события описывает его так: «Все смеялись и прыгали вокруг… и каждый вел себя глупо»
(The New York Times, 11/4/89).
Существуют и другие мнения в пользу психологической причины. Несмотря на выводы, с которыми соглашался сам Фрейд, эти маниакальные эпизоды периодически появляются вне всякой связи с психологически значимыми событиями; примером тому служат многочисленные свидетельства людей, наблюдавших такие эпизоды. Например, Томас Фримен (Thomas Freemen) рассказывает о маниакальном эпизоде, возникшем у его пациентки при появлении в палате санитара, молодого мужчины, в которого, по ее мнению, она влюбилась (Freeman, 1976). Возможно, более информативным станет замечание Клары Томпсон о возникновении гипоманиакального состояния у изначально депрессивной и обвиняющей себя пациентки после всего лишь нескольких недель психотерапии с симпатичным психотерапевтом (Green, 1964). Клинический опыт свидетельствует о том, что такое развитие гипомании происходит совсем нередко, ибо есть описание нескольких подобных случаев.
Такова одна точка зрения из многих при ответе на вопрос, вызваны ли маниакальные или гипоманиакальные эпизоды (или депрессивные эпизоды, с которыми они, как правило, тесно связаны) чисто биологическими причинами. Такие состояния явно свидетельствуют о наличии внутреннего конфликта; в них содержится психологическая динамика. Нетрудно понять, что на настроение или основное эмоциональное состояние можно прямо воздействовать как биологически, так и психологически; но трудно себе представить, как с помощью химии создать определенную психологическую динамику.
Динамика
Джон Кастенс, страдавший маниакально-депрессивными состояниями, предлагает свое видение этой психодинамики. Оно подтверждает предположение Фрейда. Кастенс свидетельствует: «В состоянии депрессии меня преследовало чувство вины; моя нравственность не давала мне покоя… Что бы я ни делал, я чувствовал, что должен сделать что-то еще. Меня все время беспокоили мои прошлые грехи и неудачи…» (Custance, 1952, р. 61), тогда как в состоянии мании наблюдалось прямо противоположное: «В маниакальном состоянии [бремя морали] с меня спадало словно по волшебству» (Custance, р. 50).
Именно поэтому состояния мании и гипомании, а также депрессии нельзя считать просто «нарушениями настроения». Гипоманиакальные состояния не состоят лишь из ощущения возбуждения и чувства приподнятого настроения. Это возбуждение и приподнятое настроение имеют идейное содержание, и это содержание воплощает в себе особые установки, предвосхищающие тревогу. Фактически эти защитные установки время от времени сознательно формулируются. Можно говорить о почти что гипоманиакальной идеологии, о принципах гипоманиакальной подверженности внутренним побуждениям. Кроме всего прочего, она является программой, которая определяет проявление спонтанности, быстроту реакции, отвергает второстепенные мысли, сомнения и ограничения, а вместе с ними рефлексию, рассуждения и оценки (Custance, р. 174). Несомненно, такая точность и определенность в процессе регулярных клинических наблюдений создают у врача впечатление, что гипоманиакальная эйфория является искусственной или стремится быть таковой. Как говорит Кастенс, цель, которую нужно достичь, — это «свобода делать что хочется, свобода освобожденного Ид… свобода от всевозможных законов, ограничений и запретов» (р. 145).
Правда, чаще всего такая свобода описывается здесь не как программа, а как исключительное ощущение. Но это говорит о том, что такое ощущение не достигается и не продолжается в отсутствие деятельности. Это становится особенно очевидно, когда эйфория начинает истощаться. Бывший маниакальный пациент Алонсо Грейвс (Alonzo Graves), отмечая у себя нестабильность резкого подъема настроения, подробно говорит о необходимости активно поддерживать такой подъем. Он пишет: «При постоянных вторжениях реальности эйфория… скорее всего, заканчивается и требует некоторой намеренной мобилизации… Чтобы чувствовать себя радостным и неунывающим, мне лично приходилось петь …» (Graves, 1942, р. 673).
Очевидно, что действия должны быть такими, чтобы препятствовать мыслям, в которых содержится самокритика. Прежде всего, согласно Кастенсу, это означает «быть в состоянии постоянной активности»; «кроме всего прочего, нужно постоянно оставаться в движении» (Podvoll, 1990, р. 76).
Чтобы предвосхитить мысли, содержащие самокритику, требуется вообще избегать критического мышления. Так, Кастенс оправдывает отказ от «нормальных запретов, имеющих объяснение», а иногда пытается поддерживать свой дух (наряду с другими видами деятельности) «автоматическим письмом» — то есть писать быстро, не задерживая внимание на том, что написано. (Этот метод применяли сюрреалисты, стремясь получить доступ к бессознательному; иными словами, таким способом они пытались освободить себя от ограничений сознательной рефлексии.)
Психоаналитическое понимание мании и гипомании сосредотачивается в защитном механизме отрицания или «отрицания через гиперкоменсацию» (Fenichel, 1948, р. 410)
[17]. Отрицание самокритичных или депрессивных мыслей наряду с вынужденным компенсаторным оптимизмом и самоободрением («Прошлым вечером я была великолепна!») явно присутствует даже у людей со слабо выраженной гипоманией.
Однако это должно казаться лишь частью более общего защитного типа управляемой активности и усилий избежать самокритичных мыслей и «ограничений, имеющих причину». Вполне вероятно, что именно побуждаемые внутренними влечениями действия
(driven activity) и присущее им избегание самокритичных мыслей позволяют избегать «вторжений реальности» и продолжать человеку себя обманывать, что мир именно такой, каким он его хочет видеть. Возможно и то, что именно такая активность может порождать, по крайней мере у некоторых людей, подлинное ощущение возбуждения или «скоростной гонки»
(speediness), несколько похожее на «опьянение бегуна»
(runner’s high), которое дает поддержку самообману.
Гипомания и психопатический характер
Может показаться парадоксальным, но гипоманию сравнивали и с навязчиво-одержимым, и с психопатическим состоянием.
По существу, эти оба сравнения вполне понятны (и позже мы еще вернемся к состоянию навязчивой одержимости), но, наверное, связь с психопатическим состоянием является наиболее очевидной. В конечном счете, сущность защитного типа психопатии проявляется в импульсивной реактивности, в быстрой реактивности, позволяющей избежать рефлексии. А значит, не случайно, что преувеличения, часто — излишние преувеличения всех хорошо известных черт психопата, таких как отсутствие запретов, относительное бесстрашие или эгоцентризм, многословие, беспринципность, а также сама безрассудная импульсивность, — все эти черты можно найти у гипоманиакальной личности (табл. 4).
Таблица 4. Гипомания и психопатическая личность

Именно эти преувеличения, характеризующие гипоманиакальное состояние, отражают появление этого состояния в результате внутреннего давления побуждений
(drivenness). Но вследствие этой подверженности внутренним влечениям гипоманиакальными чертами являются не только соответствующие преувеличенные черты психопата. Эта связь более сложная. Гипоманиакальные черты, независимо от степени их соответствия психопатическим, в какой-то мере оказываются осознанными, а психопатические черты — нет. В них заметны приложенные усилия, они искусственны, постоянно поражают наблюдателей своей «фальшью» и «претенциозностью» (Fenichel, 1948), в отличие от соответствующих черт психопата.
Тогда как психопатов можно сделать весьма вовлеченными, правда, эта вовлеченность бывает конкретной и не требует слишком больших затрат, гипоманиакальные личности сами исторгают поток шуток и развлекают окружающих. Психопаты ведут себя раскованно, часто — импульсивно, иногда — безрассудно. Гипоманиакальная личность не только более импульсивна, что, конечно же, верно; но вместе с тем у нее нет сознательных сомнений, она сознательно ведет себя крайне раскованно, иногда — разнузданно («Я буду делать то, что захочу!» — Freeman, 1976, р. 38). В своей импульсивности психопат действительно бесстрашен. Гипоманиакальность — это не просто более высокая степень психопатии; она предполагает наличие программы, в которой содержится бесстрашие («Нет ничего невозможного!»). Хотя психопат является многословным, гипоманиакальная личность еще легче справляется с неожиданными мыслями и побуждениями. Она сознательно отвергает любую потребность осмыслить что-то еще раз и утверждает, что вправе поступать таким образом.
Психолог, проводящий тест Роршаха, спрашивает, почему чернильное пятно кажется «ярким и красивым»; гипоманиакальный пациент отвечает: «Потому что мне хочется, чтобы оно было таким!» (Schafer, 1954, р. 254).
Есть и другое, очень важное, но несколько проблематичное выражение гипоманиакального типа вынужденной и осознанной спонтанности. Это субъективное восприятие самой спонтанности. Несмотря на явное свидетельство того, что спонтанность гипоманиакальной личности является вынужденной и осознанной (мы это уже отмечали ранее), она воспринимает себя в какой-то мере втянутой в действие «потоком» мыслей и импульсов.
Даже Кастенс, описывая побуждающую его
(driven) программу в одном месте, в другом говорит об «ощущении импульсов, исходящих откуда-то извне моего (сознательного) „я“, которым невозможно сопротивляться». Он говорит: «Я могу смотреть просто так, совершенно бессмысленно, куда это меня приведет: к импульсу или действию» (Custence, 1952, р. 36).
Согласно клиническому отчету, маниакальный пациент Грейвс в этом отношении был более категоричным и более откровенным (1942, р. 504). Он описывает, как писал статьи «без каких бы то ни было умственных усилий… независимо от темы». Это заставляло его поражаться тому, что «его разум не просто передающее устройство».
На первый взгляд, это пассивное восприятие действия подтверждает биологическую теорию маниакального и гипоманиакального состояний. Иными словами, оно дает картину гиперспонтанности, не столько побуждаемой
(driven) самим человеком, сколько порожденной потоком энергии, от которой человек должен как-то отделаться.
Здесь следует запомнить, что сниженное ощущение действия является важным аспектом любой формы психопатологии: как в ее пассивно-реактивной, так и в ригидной форме. Везде, где происходит ограничение волевого процесса, существует и потеря ощущения намерения действия или самого действия, и чем больше ослабляется воля, тем более сильным будет такое субъективное ощущение.
В особенности эта утрата субъективного ощущения действия заметна у импульсивных психопатов, которые тоже «все в движении». Психопат остро чувствует возможность получения выгоды и быстро превращает ее в действие, однако он с трудом осознает наличие намерения, содержащегося в этой остроте ощущения, или даже намерений, побуждающих его к действию. Наоборот, скорее всего, он скажет нам, что ему просто представилась возможность или появилось искушение («Как только я хочу со всем этим покончить, кто-то вкладывает оружие мне в руку»), что действие, которое последовало, ожидалось, даже требовалось совершить, т. е. оно было обусловлено обстоятельствами («Он сопротивлялся») или же подчинялось какой-то внутренней силе, которой было бесполезно сопротивляться («Все произошло… из-за того стресса» — Martin, 1991; «Я был совершенно сломлен» — Hevesi, 1991).
Нужно лишь представить себе, как наступает вынужденное
(driven) усиление такого вида реактивности при
гипоманиакальном ощущении быстрого действия. Что касается психопата, не он сам начинает совершать намеренные действия; это ситуация «вызывает у него повышение адреналина» и включает сразу мысль и действие. Что касается гипоманиакальной личности, побуждаемой
(driven) к такой быстрой и немедленной реактивности, отметающей любые сомнения, с присущим ей пропорциональным снижением осознания действия и несомненно более сильным ощущением возбуждения, «адреналин» оказывает более мощное воздействие, и ее ощущение отличается заметным едва сдерживаемым потоком «извергающихся» идей и возможностей.
Гипоманиакальность и навязчиво-одержимый характер
Мы уже отмечали связь гипоманиакальности не только с психопатической личностью, но и с личностью навязчиво-одержимой. Эта связь подтверждается множеством клинических свидетельств, начиная с зарождения психоанализа (Abraham, 1924/ 1953). Наличие симптомов и характерные черты навязчивости и одержимости часто отмечалось у маниакально-депрессивных личностей, особенно в связи с эпизодами депрессии.
Например, Джон Кастенс, описывая свой образ мышления во время депрессии, сообщает: «Чем бы я ни занимался, я чувствовал, что должен сделать что-то еще. Я постоянно испытывал беспокойство» (Custance, 1952, р. 61). Это типичное ощущение одержимости. Кастенс также отмечает одержимое совершение ритуальных действий в целях предосторожности, чтобы, по его словам, умиротворить Сатану: «Каждую ночь я возносил Господу запоздалые молитвы, одно послание за другим, после чего выкуривал три ритуальные сигареты…» (р. 70–71). Действительно, у Кастенса сама депрессия оказалась результатом сильной и безжалостной (то есть одержимой) самокритики. Так, например, он говорит: «…моя совесть не дает мне покоя… Ни на мгновение я не могу забыть грязные поступки, которые мне приходилось совершать в жизни».
Очень похоже содержание маниакально-депрессивного психоза Алонсо Грейвса. Он говорит, что «всегда жил, критически относясь к себе» и что испытывал «ненависть к самому себе» (Graves, 1942, р. 689). Действительно, можно увидеть непосредственное выражение этой ненависти к самому себе, когда он сообщает о своей «трусости» при избегании им ответственности, о своем «презренном» рыдании (превращении в «плаксу») и т. п. (р. 144).
Но такие проявления характерных черт навязчивости не ограничиваются у этих людей периодами депрессии. По существу, в «нормальные» периоды, когда у людей не проявляется ни тяжелой депрессии, ни явно выраженной маниакальности или гипоманиакальности, у них часто проявляются характерные черты и симптомы навязчивой одержимости. Например, Грейвс, стиль письма которого, по сути, является педантичным, называет себя «педантичным стоическим человеком», «в чем-то высокопарным». В своей идее «сознательного разума» он называет себя «дисциплинированным, уравновешенным и трудолюбивым» (р. 665).
Этот последний эпитет «трудолюбивый» вызывает особый интерес. Ибо оказывается, что часто гипоманиакальным или маниакальным состояниям предшествует навязчиво-одержимое внутреннее побуждение
(drivenness). Например, Грейвс, журналист, перед своими срывами периодически ссылается на свою амбициозность («чрезвычайно амбициозен») и свои усилия («достаточно большие, чтобы вызвать перенапряжение») для достижения «жизненных целей» (р. 608). Он говорит о том, как давит на него работа, о необходимости напряжения и концентрации сил, о том, как его «подгоняют» требования, предъявляемые его работой (р. 178), и о том, как это привело его к безумию.
Оказывается, что внутреннее побуждение
(drivenness) одержимого типа может превратиться в побуждение гипоманиакального типа. Фактически Грейвс нам говорит: «Каждому [маниакальному возбуждению] предшествовали усилия, предпринимаемые на основе здравого смысла, напряжение, необходимое, чтобы написать материал, концентрация сил, постепенно становящаяся иррациональной» (р. 325–326). В особенности ссылаясь на один случай, когда ему нужно было сделать много срочной работы для своей газеты, Грейвс замечает, что в процессе приложения этих усилий он в какой-то мере получил «осознание второго и третьего дыхания, которое может открыться». Находясь в таком состоянии, он «всегда мог лучше выражать свои мысли» (р. 132).
Возможно, что внешне необходимая или внутренне побуждаемая
(driven) рабочая активность в условиях, когда необходимость в быстром действии не позволяет в нем усомниться или лишний раз задуматься, в какой-то момент у некоторых людей рождается ощущение легкого и спонтанного результата («внешнее выражение потока» —
expressional flow)
[18]. Если это так, можно достичь перехода от тяжелой и напряженной управляемости
(drivenness), импульсивное побуждение к которой и ее бремя вызывают чувство ответственности, к эйфорическому гипоманиакальному побуждению
(drivenness), при котором это бремя исчезает.
По существу, само гипоманиакальное состояние еще несет на себе печать одержимости внутренним побуждением
(drivenness). Оно часто характеризуется не просто самыми разными грандиозными идеями, обычно очень увлекательными и даже захватывающими, например объединения Востока и Запада или освобождения людей от сексуальных ограничений. Подобные гипоманиакальные идеи были связаны с навязчиво-одержимой реактивностью (Fenichel, 1945), как и проявления излишнего великодушия. Но, как мы уже видели, гипомания — это состояние, в котором проявляется не только приподнятое настроение или радостное возбуждение, но и состояние
действия, которое часто воображается творческим и имеет потрясающий результат, достигнутый как будто безо всяких усилий.
Мужчина, который в течение нескольких лет безуспешно пытался закончить книгу, теперь, будучи в слабовыраженном гипоманиакальном состоянии, ликуя говорит: «Мне не стоит писать роман! Вся моя жизнь — это роман!»
Это явно говорит о том, что возбужденная одержимость самокритикой и недовольство собой («…Что бы я ни делал, я чувствовал, что должен сделать что-то еще…»), характерное для депрессивного состояния, никоим образом полностью не отсутствует в гипоманиакальном состоянии. Возможно, на какое-то время или отчасти оно исчезает, если удается прийти к некоему компромиссу («Вся моя жизнь — роман!»). В любом случае нетрудно понять наличие связи между двумя типами внутреннего побуждения
(drivenness). В конечном счете, они представляют собой два способа предотвращения суждений, содержащих самокритику и самообвинение, через постоянное
действие, в особенности через какое-то
достижение либо благодаря упорной работе в одном случае, либо благодаря «спонтанному» воодушевлению — в другом.
Есть еще нечто заслуживающее внимания в этой любопытной связи между сходной с психопатией гиперспонтанностью гипоманиакального состояния и навязчивостью, которая явно просматривается в ее основе. То, что сначала кажется особым сочетанием двух защитных типов в одном состоянии, может послужить примером их иерархической организации у патологической личности. Защитные типы реакций оказываются иногда более, а иногда менее подходящими. Если ригидная и навязчиво побуждаемая
(compulsively driven) личность страдает от жестких самообвинений в неудачливости, тогда, вероятно, в особых обстоятельствах, чтобы удовлетворять тем нормам, которые на себя налагает человек, может включиться дальнейшая защитная реакция, имеющая цель избежать таких упреков. Но если наше представление верно, эта реакция может быть только защитной, присущей личности, управляемой влечениями
(driven), и эта реакция является результатом его установок и способов действия. Вероятно, одной такой возможностью, доступной некоторым людям с таким типом личности, может быть усилие избежать таких побуждаемых внутренними влечениями
(driven) жестоких самообвинений через такое же побуждаемое
(driven) безрассудство.
Биология
Что в итоге можно сказать о роли биологии в природе такой управляемой влечениями
(driven) личности, и особенно в гипоманиакальных состояниях? По-прежнему не очевидно, что нам следует считать эту роль существенно отличающейся от роли, которую играет биология в образовании любого другого вида психопатологии или вообще в любом аспекте человеческой психологии. Очевидно, биологические процессы являются основой человеческого мышления и человеческой психологии вообще. Несомненно, индивидуальные биологические различия и их проявления в развитии будут иметь психологическую обусловленность и, например, будут оказывать влияние на способ создания защиты, тем самым влияя и на форму психопатологии, если будет развиваться психопатология. С этой точки зрения нельзя гарантировать, что ответственность за
любую психопатологию будет возложена только на внешние обстоятельства, так как это означало бы, что одинаковые условия будут оказывать одинаковое влияние на любого человека с любой биологической конституцией. Если бы оказалось, что биологически организованная аффективная система или общий уровень действия людей, у которых развивается маниакальное, гипоманиакальное или депрессивное состояние, были предрасположены к формированию таких реакций, это было бы вовсе не удивительно. Но это совсем не значит, что такие состояния следует рассматривать, совершенно не принимая во внимание психологию.
Часть третья
Неврозы и психозы
Глава 7. Неврозы и психозы
Нами собрано такое количество фактической информации о психозах, в особенности о шизофрении, полученной как благодаря клиническим наблюдениям, так и в результате совсем недавних биологических и психологических исследований, и все же наше понимание этих состояний ни в коем случае нельзя назвать исчерпывающим. Так, например, мы знаем, что они возникают иногда постепенно, иногда неожиданно в явно острой форме, и при этом психологические процессы, которые формируют приступ, остаются не совсем ясными и понимаются совершенно по-разному. По существу, связь психоза с непсихотической патологией в целом никак нельзя назвать устойчивой. Возникают ли определенные формы психоза из особых непсихотических состояний? Является ли различие между психотической и непсихотической патологией только количественным, как можно предположить на основании некой непрерывности промежуточных состояний, или же между ними существует фундаментальное качественное различие? Может ли быть так, как сказал Фрейд, что невроз развивается вследствие внутреннего конфликта, тогда как причина психоза заложена в отношении к внешнему миру? Вызван ли приступ шизофрении нарушением и разрушением существующих невротических защит и появлением более примитивного (а потому более непонятного) идейного содержания и аффекта или, как считают некоторые, сама шизофреническая бессвязность и непоследовательность является защитной — т. е. способом, позволяющим избежать контактов с людьми?
Разумеется, в конечном счете, возникает вопрос о вкладе биологического фактора в шизофрению. В своем обсуждении мы предположим наличие некоторой биологической и генетической предрасположенности. Такая предрасположенность может стать необходимым условием появления симптомов шизофрении, но, во всяком случае, этого оказывается явно недостаточно. Таким образом, остаются вопросы, связанные с психологической структурой и психодинамикой шизофрении. До какой-то степени эти вопросы в последние годы оставались в стороне, но предположение о биологической предрасположенности ни в коем
случае их не исключает.
В целом у нас есть более ясное представление о структуре и динамике невротической патологии, чем патологии психоза, что и определяет содержание и структуру этой и следующей главы. Они включают в себя сравнительное сопоставление этих двух патологий, моя цель состоит в том, чтобы использовать наше понимание невротических, или, иначе говоря, непсихотических, состояний, чтобы сначала прояснить связь этих состояний с психозом, а уже затем рассмотреть природу и динамику самого психоза — в особенности шизофрении.
Есть смысл проверить и перепроверить некоторые формальные аспекты отношения
невротической личности к
внешнему миру. Формальное качество этой связи, в отличие от отношений с внешним миром шизофреника, в основном не привлекало к себе пристального внимания психиатров. Психиатрические проблемы невротика, по существу, считались проблемами, обусловленными его отношением к самому себе. Наверное, это правильно. Неправильны последующие выводы, что его суждения относительно внешней реальности тем самым являются подлинными и, за исключением отдельных людей и ситуаций, его восприятие внешнего мира и его реакции на него ничем не примечательны. Действительно, «хороший контакт невротика с внешней реальностью» обычно считался существенным фактором, отличавшим его патологию от психоза. Но фактически все обстоит гораздо сложнее.
Тщательное исследование покажет, что фундаментальные аспекты нарушенного у шизофреника отношения к внешнему миру присутствуют и в состоянии невроза, хотя, разумеется, это ослабление не такое сильное. Основная потеря объективного отношения к реальности, ослабление ощущения «я» и, следовательно, ослабление «границ Эго», качественное ухудшение эмоционального переживания и, конечно же, ослабление волевого самоуправления, которое было главным аспектом нашего обсуждения, — все эти феномены заметны и в своей крайней форме хорошо известны при проявлении шизофрении, хотя в более умеренном виде они присутствуют и при непсихотической патологии. Фактически, они симптоматичны для психопатологии вообще.
Формальные симптомы
(formal symptoms) такого типа, присущие невротическим состояниям, обычно остаются незамеченными, так как изучение невротических конфликтов традиционно концентрировалось на содержании особых конфликтов. Но такие симптомы становятся заметными с точки зрения характерологии. Я сделаю обзор нашего понимания природы и динамики этих аспектов отношения невротической личности к внешнему миру исходя из применения этого понимания к случаю шизофрении. Но мне хочется прояснить, что выявление определенного соответствия между формальными характеристиками невротического и психотического состояний не должно означать, что между неврозом и психозом существует лишь количественное различие. Очевидно, что между ними существуют кардинальные различия. Но природа имеет свою диалектику, и количественные изменения в какой-то момент переходят в качественные.
Психоаналитическое понимание психоза и, как следствие, его основное психиатрическое понимание были запутаны некими теоретическими проблемами, порожденными главным образом традиционной концепцией защиты. Эта концепция защитных механизмов как структур, контролирующих и сдерживающих импульсы, породила идею психоза как радикального нарушения или разрушения невротических защит, «декомпенсации», если использовать общеупотребительный психиатрический термин, и регрессии к более примитивным состояниям, как правило, связанным с ранним детством. Таким образом, согласно общепринятой психоаналитической точке зрения, «…расстройство сознательной жизни, которое происходит при наступлении острого приступа психоза, приводит к полной дезорганизации Эго. Эго восстанавливается только на второй фазе… Создаются новые типы защитных механизмов… совершенно отличающиеся по своей структуре от защит, которые были эффективны на стадии, предшествующей наступлению психоза» (Thomas Freeman, ссылающийся в основном на утверждения М. Katan and others, 1981, р. 448).
Но картина «расстройства сознательной жизни» и «полной дезорганизации Эго» даже на стадии острого приступа психоза неправильно описывает процесс психологических изменений. То, что могло показаться психическим расстройством
(dissolution), фактически должно стать реорганизацией сознательной жизни, и эту реорганизацию следует определять на основе законов, присущих этой сознательной жизни. По существу, само наличие последующей фазы, или стадии восстановления, подразумевает некую непрерывность.
Иными словами, если регуляционная система структуры в том или ином смысле страдает серьезными недостатками и подвергается реорганизации, так и должно быть в соответствии с возможностями, заложенными в природе самой этой системы. А если это так, то можно себе представить, что новую, реорганизованную сознательную жизнь будет характеризовать структура, которая, по крайней мере, имеет какую-то поддающуюся определению связь с изначальной структурой, если одна из них вообще не является продолжением другой.
Я хочу предложить такое понимание связи непсихотического и психотического состояний и процессов, содержащихся в приступе психоза, по крайней мере шизофрении, в соответствии с которым возникновение шизофрении отражает не срыв характерных процессов, предотвращающих тревогу, или процессов защиты, а их радикальное распространение и усиление. Конечно, многие симптомы шизофрении очень различаются между собой, но, тем не менее, можно определить родство их основных форм с патологией, проявлявшейся до наступления психоза.
Такой взгляд на природу психоза и его приступы в сущности обусловлен характерологической природой защитных механизмов, о чем говорилось в главе 3 «Ограничение воли». Признание, что защитные процессы состоят из общих характерных установок, предотвращающих тревожность, и динамических стилей, позволяет понять, что эти процессы включают в себя не только внутреннее отношение человека к самому себе, но вместе с тем обязательно включают его отношение к внешней реальности. Все предвосхищающие тревожность ограничения мотивационных и эмоциональных переживаний, которые мы видели в состоянии невроза, сопровождаются ограничениями и нарушениями в отношении к внешней реальности. Они включают в себя общие и систематические нарушения познания и суждения.
По существу, как впоследствии станет ясно, защитные ограничения мотивационного и эмоционального переживания вряд ли можно себе представить без соответствующих нарушений в познании и суждении. Более того, эти непсихотические нарушения связи человека с внешним миром выявляются при тщательной проверке не столь серьезных нарушений представления о реальности и некоторых ее искажений, которые, с другой стороны, как нам известно, присутствуют и в состоянии психоза. Таким образом, получается, что природа и динамика этих невротических симптомов позволит нам кое-что узнать об их более крайней и менее известной психотической форме.
С этой целью будет полезно сначала рассмотреть некоторые известные факты, характеризующие состояние невроза и состояние психоза.
Невротическая потеря реальности
Вернемся к случаю одержимого беспокойства
(obsessional concern), приведенного в главе 5 «Ригидность». В этом состоянии проявляется поразительная потеря реальности, что нередко встречается во многих подобных случаях одержимого беспокойства, которые, совершенно очевидно, не являются психотическими.
Мужчина приезжает в офис по дороге, вдоль которой растут деревья с раскидистыми кронами. Он выглядит обеспокоенным, как это с ним обычно бывает, и сразу с беспокойством объясняет, что он переехал по дороге ветку дерева, и колесо машины «наверное, подбросило» ветку вверх, так что, падая, она «наверное, могла» нанести кому-нибудь травму. Он добавляет, что, «наверное», ему следовало вернуться и все проверить. Но при этом совершенно не двигается с места. Вместо этого он вопросительно смотрит на слушателя. «В конце концов, — заявляет он, как бы извиняясь за свою озабоченность, — это можно сделать просто на всякий случай». Видимо, он под этим подразумевал, что ему придется свыкнуться с мыслью, что ему нужно отнестись к этому случаю ответственно и серьезно, разумно это или нет, верит он в это или нет, если существует хотя бы чисто гипотетическая возможность такого исхода.
Установка одержимости муками совести
(obsessisively conscientious), которую выражает этот мужчина, прямо воздействует на его оценку реальности. Точнее говоря, у него в мыслях вообще нет оценки реальности; это конструкция такой одержимости муками совести, которую лучше было бы назвать
альтернативой оценке реальности. Он может рационализировать свою идею (именно так иногда и поступают одержимые люди), что это не более чем проявление заботы, но фактически его установка не имеет отношения к проявлению заботы в обычном ее понимании. Подлинная забота может порождаться стремлением избежать ошибки. Но он обеспокоен лишь тем, что может совершить ошибку, вызванную его недостаточной моральной ответственностью, и чтобы этого избежать, он искажает реальность.
Такое одностороннее беспокойство порождает радикальное когнитивное пристрастие. Ни одну возможную ошибку или неудачу, которая приходит в голову, эта одержимая личность пропустить не может, какой бы невероятной или даже нелепой ни была эта ошибка, — независимо от того, что сам человек может быть совсем не уверен в том, что он ее совершил. По существу, одержимая добросовестность зачастую заходит еще дальше. Даже если такая возможность ошибки появляется спонтанно, ее следовало бы предвидеть; рассудок должен заниматься ее поисками. Неочевидность ошибки не может исключить возможности ошибки; она лишь должна побуждать к дальнейшему, более тщательному поиску. Из такого пристрастного душевного поиска есть лишь один выход: найти возможный недостаток или собственную ошибку.
Очевидно, этот процесс отличается от нормального процесса суждения или оценки реальности. Прямая связь между человеком и интересующей его внешней реальностью, включающая в себя нормальное суждение, в данном случае сталкивается с некими сложностями. По существу, внутренний моральный контроль и управление смешиваются с нормальными отношениями между субъектом и объектом. В соответствии с этим внутренним управлением некоторые мысли о реальности заслуживают уважения, их даже можно «принимать на веру», тогда как другие мысли и выводы просто запрещены. Таким образом, обычное суждение в той или иной мере затруднятся или отклоняется системой внутреннего контроля системы мышления. Этот ограничивающий процесс может послужить примером того, что можно было назвать динамикой одержимого пристрастия или, если сделать некоторое обобщение, — психопатологией суждения.
Разумеется, эта когнитивная динамика будет влиять на оценку в самых разных обстоятельствах с самыми разными последствиями. Одержимо-обязательная личность будет вообще считать себя обязанной относиться с особым вниманием к тому, что вызывает у нее беспокойство, несчастье и хлопоты, хотя искушение довериться менее неприятной ситуации будет с презрением отвергнуто как дурацкое и безответственное («слишком легкий выход»).
Следовательно, такой человек будет предполагать худшее. Такое искажение реальности представляет собой общую когнитивную основу самых широко распространенных и самых известных симптомов — симптомов одержимости, наряду с широким разнообразием других симптомов навязчивости, связанных с соблюдением предосторожности и внесением коррективов.
Но можно ли когнитивные продукты этих динамических процессов действительно относить к утрате или искажению реальности? Вследствие упоминавшегося выше пристрастия, вызванного одержимостью, можно легко показать, что одержимая личность по-прежнему отчуждена от своих собственных искажений реальности и что именно это отчуждение или способность проверки реальности отличает ее случай от психоза. В конечном счете, именно это обстоятельство проявляется в словах упоминавшегося выше мужчины: он не сказал, что,
должно быть, кого-то ранил, а сказал, что он, «наверное, мог» кого-то ранить. Именно потому, что на самом деле он не верил в то, что сделал это, ему не хотелось возвращаться обратно на место происшествия, и он надеялся получить поддержку.
Явное отсутствие малейших побуждений проверить, как все обстоит на самом деле, в таких случаях, как правило, не ограничивается словами «наверное, было» или «могло быть» и другими подобными речевыми оборотами, характерными для человека, одержимого беспокойством. Подобные свидетельства действия или бездействия наблюдаются часто. Даже студент, испытывающий тревогу, решительно и убедительно заявляющий, что абсолютно уверен в том, что провалит последний экзамен и будет исключен из учебного заведения, на самом деле не пакует свои чемоданы. Иногда люди, одержимые беспокойством, согласны, что «слишком тревожатся». Они могут подтвердить, что эта конкретная тревога или идея, которой они одержимы, является искусственной, что им прекрасно известно, что это «сумасшедшая» идея. Все это так, и вместе с тем данный вопрос об «отстраненности»
(distance) или о «проверке реальности» поставить не так просто.
Следует иметь в виду, что отношение одержимой личности к внешней реальности нельзя свести только к выяснению такого простого аспекта, например, как отстраненность или проверка истинного положения дел. Протекающие процессы гораздо сложнее. Несомненно, что обусловленное одержимостью искажение реальности не отражает ослабления мышления в смысле нарушения когнитивных способностей. Мы хорошо это знаем хотя бы из колебаний степени таких искажений; например, беспокойство одержимой личности иногда более выражено, иногда менее, а иногда исчезает совсем. Но верно и то, что, если способность такого человека к суждению не ослаблена, такое суждение иногда становится для него бесполезным. Исполненные сознания долга установки лишают его возможности доверять такому суждению и даже признавать или как-то сформулировать его для себя, если оно этим установкам не соответствует. Он не сможет отважиться (вернее, ему кажется рискованным) сказать или даже всерьез подумать: «Нет, я не уверен в том, что запер дверь». Эти «наверное» и «возможно», присущие одержимому беспокойству, отражают нечто меньшее, чем уверенность, но само их настойчивое присутствие вместе с тем выражает запрет на окончательное недоверие. Именно по этой причине утверждения одержимой личности, в которых проявляется отстраненность — «Я очень беспокоюсь» или «Я знаю, это ненормально», — при всей их эмпатичности никогда не бывают полностью откровенны. Вероятно, утверждение «Я знаю, это ненормально» следовало бы заменить на «Наверное, это ненормально», а затем на «Впрочем, кто знает? Возможно…»
[19].
В итоге одержимая личность не знает сама, во что она верит; ее установка колеблется в соответствии с колебаниями ее внутреннего динамического состояния. Динамика такой личности заставляет ее моментально отказаться от своей обычной оценки, создавая возможность личного неуспеха, ошибки или неудачи. В другой или даже в тот же самый момент наличие более простой, подлинной оценки реальности может проявиться в самом действии и даже, хотя более слабо, в сознании.
Луис Сасс в своей прекрасной книге «Сумасшествие и модернизм» («Madness and modernism») привлекает внимание к феномену, который иногда наблюдается у шизофреников и который он называет «двойной бухгалтерией» (Sass, 1992). Пациент-шизофреник, идентифицирующийся с персонажем своего бреда — к примеру, скажем, с Иисусом Христом, — при этом прекрасно ведет себя в палате психиатрической клиники, как нормальный человек. Действительно, на эту тему ходит много анекдотов, особенно среди людей, которые провели какое-то время с шизофрениками, проходившими курс стационарного лечения, и наблюдали более или менее нормальное поведение таких пациентов во время кризисов или в других особых случаях.
Сасс утверждает, что установка шизофреника по отношению к своему бреду — это установка не доверия, а «отсрочки недоверия». Позже мы вернемся и рассмотрим данную установку шизофреников, но такая характеристика вполне соответствует случаю одержимой личности. Разумеется, как и в настоящей двойной бухгалтерии, два суждения о реальности не должны иметь одинаковый статус; обычно принято иметь белую (открытую) и черную (скрытую, но реальную) бухгалтерию, в которой в данном случае с трудом признается даже сам человек
[20].
Искажения реальности или пристрастные суждения подозрительных людей очень похожи на суждения, присущие состоянию одержимости, хотя, как правило, последние выражаются с более высокой степенью убежденности. Для людей, ощущающих свою уязвимость, ошибка, связанная с недооценкой возможности угрозы, гораздо более серьезна, чем ошибка, связанная с ее переоценкой. Отсюда их предубежденность в отношении предполагаемой опасности. Но подозрительная личность, как и одержимая, совсем не обязательно убеждена в реалистичной оценке своей тревоги. Такой человек убежден лишь в том, что ему не следует пренебрегать возможной опасностью или ее недооценивать, не давая застать себя врасплох, а потому он не должен себе позволять быть уверенным в том, что находится в безопасности. А значит, и в случае одержимости, и в случае подозрительности искажения реальности отражают не когнитивные нарушения, а когнитивные ограничения. Ригидная предубежденность, характерная для этих патологий и вызываемая их динамикой, не позволяет сформировать объективное отношение к реальности или дать ей истинную оценку, но при этом дает полную свободу развития тревожным фантазиям и подозрениям.
При других формах непсихотической патологии ограничения когнитивной установки искажают реальность в иных аспектах. Возьмем, например, импульсивного и беспринципного человека, у которого типичное ситуативное действие, предвосхищающее тревогу, препятствует серьезному планированию и рефлексии. Иногда таких людей называют «безразличными к будущему». Но более вероятно, что, скорее всего, они избегают серьезного взгляда на будущее, чем действительно к нему равнодушны. Они часто ожидают быструю выгоду и отвлекаются, движимые смутными надеждами, но не обращают внимания на предсказуемый риск и цену, которую придется заплатить.
Например, неблагополучный молодой человек, постоянно обвинявшийся в мелких преступлениях, к тому же симулировал свое утопление во время урагана, чем ввел в заблуждение полицию, да еще с привлечением третьего лица, а именно подруги, которая написала заявление о его исчезновении. Когда они оба пропали, полиция, разумеется, всполошилась, и они сразу же нашлись (Herszenhom, 1998).
Действительно, импульсивные люди часто кажутся несчастными. Человек, который избегает планирования, не может иметь реалистичной идеи об отдаленных последствиях своего действия. Именно в такой ситуации появляются мысли об исполнении желаний. Даже когда проясняется цена желаемого, которую обычно можно без труда предсказать, такие люди обычно начинают считать себя просто невезучими.
У личности, обладающей истерическим характером, наблюдается потеря реальности иного типа. Такие люди, не доверяя собственному авторитету, отказываются от независимого критического суждения. Они внушаемы, идеи у них, как правило, заимствованные, а суждения обычно конвенциональные, ибо они не подвергают сомнению чужое мнение («Он говорит…», «Все говорят…»). Часто они не рискуют доверять собственному восприятию.
Например, молодая женщина, принимая упреки своего мужа-профессора в том, что она расстраивается, когда он обращает внимание на молоденьких привлекательных студенток, теперь стыдливо называет свои расстройства и огорчения «сверхневротичными». «Мой муж говорит, — объясняет она, — что всего лишь выполняет свою работу, и он прав, ведь это часть его работы». И только позже, продолжая вспоминать случившееся, признается, что такая воодушевленная и кокетливая манера ее мужа общаться со студентками нисколько не соответствует его заявлению, что это только работа.
Изначальное изложение содержания инцидента этой женщиной и ее собственное отношение к нему как к проявлению «сверхневротичности» отражает то, что, по существу, можно назвать потерей реальности. Точнее, в этом примере отражается подчинение женщины ее собственным суждениям, включая актуальное восприятие реальности, сформировавшееся, чтобы согласиться с мнением мужа, когда тот стал ее упрекать.
Это тоже можно назвать «двойной бухгалтерией». В конечном счете, у нас есть свидетельство в виде ее изначального расстройства поведением мужа, наличия изначально реалистичного восприятия и оценки происходящего. Это реалистичное восприятие и оценка затем были отвергнуты (хотя, наверное, не полностью, ибо восстанавливались без особых затруднений) вследствие упреков со стороны мужа. В других случаях она никогда не смогла бы себе позволить совершенно сознательно сформулировать относительно реалистичные оценки или вообще что-то ясно изложить. В тот момент оценка реальности, если можно сказать, что она существовала, была для нее недоступна.
В итоге познание нельзя отделить от когнитивной установки, а когнитивную установку, в свою очередь, нельзя отделить от психодинамики личности в целом. Предвосхищающие тревогу стили и ограничивающие установки невротической личности обязательно препятствуют, ограничивают или искажают представление о реальности и отношение к ней.
Остается понять, имеет ли какое-то отношение утрата реальности в непсихотическом состоянии ко всему, что существует при психозе. Но пока мы можем сделать два вывода: 1) прежнее утверждение, что в состоянии невроза вообще не происходит потери реальности, не соответствует действительности; 2) потеря реальности в таких состояниях, по крайней мере, является прямым последствием не разрушения характерологической защиты, а ее воздействия.
Самость и объект
Особая важность этих выводов прояснится впоследствии. Потеря реальности в непсихотических состояниях не является целенаправленной; она не мотивируется желанием избежать контакта с реальностью или отстраниться от нее. Скорее, это побочный результат действия установок и стилей, предотвращающих тревогу, на которые я уже указывал. Это следует отметить, ибо если похожие процессы фактически протекают при психозе, то существует четкая альтернатива общепринятому взгляду, что психотическая потеря реальности — это целенаправленный «поворот» или «отход» от реальности. Иногда предполагается, что любой психологический результат должен иметь осознанную или бессознательную цель; например, считалось, что абсурдность некоторых высказываний шизофреников была мотивирована защитным желанием избежать понимания. Однако, заимствуя метафору Эндриса Энжиля (Andreas Angyal), кролик оставляет следы, когда скачет зимой через заснеженное поле, но не преследует при этом никакой цели.
Мы знаем, что явным симптомом шизофрении является ослабление или неполноценное ощущение единой самости [единого «я»] и, соответственно, ослабление обособленности или отдельности всего, что действительно является внешним по отношению к самости. Этот симптом часто описывается как утрата «границ Эго», если заимствовать этот термин у Виктора Тоска, который пользовался им при описании шизофрении в статье «Воздействующий автомат» (Victor Tausk, «Influencing Machine», 1933). Некоторые авторы действительно считали такую потерю границ Эго основным симптомом шизофрении (Blatt and Wild, 1976; Freeman et al., 1958).
На ослабленное ощущение единого «я» и обособленной от него внешней реальности у шизофреника в существенной мере накладывается потеря реальности, но некоторые проявления такого взаимодействия являются настолько особыми, что заслуживают отдельного рассмотрения. Чтобы сделать обсуждение более интересным, я проиллюстрирую, как такой симптом проявляется при шизофрении. Но, повторяю, наша главная цель — понять, можно ли найти похожие или подобные феномены в непсихотических состояниях, а если да, могут ли психодинамические процессы, определяющие невротическое состояние, помочь понять их более существенные проявления в состоянии психоза.
Видимо, в основном подразумевается, что здесь речь идет о непрерывном субъективном ощущении себя (в отличие от
представления о себе). То есть ощущение себя — это в целом не столько осознание себя, сколько осознанное отношение или установка по отношению к чему-то внешнему. Это осознание своего «я», которое содержится в осознанном намерении или плане по отношению к внешней цели или даже в установке или взгляде на что-то внешнее, это активное отношение к чему-то вовне. В таком случае ощущение «я» содержится в том, что Хайнц Вернер (1948) называет отношением
полярности самости и объекта. Оно, несомненно, является одной из составляющих ощущения индивидуального действия, и, наверное, его трудно выделить из этого ощущения.
В повседневной жизни это полярное отношение самости и объекта сильно колеблется. Есть случаи, например, при просмотре кинофильма, когда человек позволяет поглотить себя внешней ситуации и «теряется» в ней, то есть можно сказать, что у него пропадает ясное осознание своего внешнего окружения. Если какой-то герой фильма испытывает сильную боль, зритель содрогается. Или, например, если человек поглощен слушанием музыки, источник которой ему не виден, он теряет ощущение того, что музыка звучит извне. При привычных или автоматических действиях «я» также может стать относительно прозрачным; в одном случае человек подчиняется тенденции забыться, и вместе с тем его осознание внешней ситуации имеет тенденцию к сужению до распознавания ключей и сигналов. В другом случае, когда наши действия становятся намеренными и планируемыми, когда мы начинаем осознавать возможности выбора или принятия решения, а также спроецированные возможности или альтернативные цели, ощущение своего «я» также усиливается.
Если оказывается, что ощущение своей самости и существующего отдельно от нее внешнего мира так зависят друг от друга и даже являются аспектами единого ощущения полярности, то предвосхищающие тревогу ограничения жизни человека, находящегося в состоянии невроза, должны также воздействовать на эту обособленность внешнего мира одновременно с ослаблением ощущения самости. Иными словами, если такое рассуждение верно, то ослабление границ единой самости и «границ Эго» должно считаться симптомом любой психопатологии как при неврозе, так и при психозе.
Как я уже говорил, при шизофрении этот феномен совершенно ясен. Например, Тоск описывает жалобы шизофреника на то, что любому человеку известны его мысли, что его мысли не сосредоточены у него в голове, а распространяются по всему миру, проникая одновременно в голову другим людям (Tausk, 1933). Разумеется, и внутри границы тоже становятся проницаемыми. Например, паранояйльный шизофреник у Тоска жалуется на некую машину, которая извлекает у него мысли и чувства при воздействии таинственных сил, создаваемых феноменальным мотором, находящемся у него в теле, работа которого вызывает у него разные странные ощущения. Самость больше не остается неприкасаемой, в нее вторгаются и ею манипулируют внешние силы.
Восприятие шизофреником внутренних телесных ощущений, от которых он может или не может быть отчужден, вовсе не обязательно должно содержать в себе угрозу или быть паранойяльным. Например, пациент Эндриса Энжиля признается: «…другие люди проникают своей головой в мою голову. Когда я жую, мне кажется, что язык кого-то другого пробирается ко мне в рот и принимает пищу» (Angyal, 1936, р. 1036).
Бывает много искажений внешнего мира при шизофрении, которые не сопровождаются такими нарушениями самости и не касаются внутренних ощущений. Но тем не менее в них можно увидеть потерю полярности, то есть раздельное ощущение самости и объекта. Например, распоряжения и упреки, которые явно исходят изнутри, ощущаются как внешние: мужчина-шизофреник, озабоченный своей слабостью, изнеженностью и женоподобием, рассказывал, что слышит странный голос, который резко ему говорит: «Будь мужчиной!»
Шизофреник наделяет внешний мир поразительными субъективными качествами, более или менее идеальными, которые могут быть не только результатами его воображения, но и прямого восприятия. По мнению Хайнца Вернера (1948), «свойства вещей перестают быть по своей сути объективными, не сохраняют свою геометрическую форму и становятся „не от мира сего“
(out there)».
Например, бывшая пациентка Маргерит Сеше — Рене (Renee), страдавшая шизофренией, описывая острый приступ своей болезни, рассказывает о тщетных усилиях своей учительницы вселить в нее уверенность: «Но ее улыбка… лишь усиливала мою тревогу и смятение, когда я видела ее зубы, белые и даже сияющие на свету. Неизменно сверкая, вскоре они приковали к себе все мое внимание, словно в комнате не было больше ничего, кроме ее зубов…» (Sechehaye, 1968, р. 22).
Иногда ощущение шизофреника концентрируется на искажениях внешнего мира, как в только что приведенном примере, иногда — на внутренних ощущениях, отражающих ослабленное ощущение самости. Но одно из них, как правило, всегда обусловливает наличие другого. Так, например, это проявляется у пациентов-шизофреников в описании ими специфических телесных ощущений:
Мужчина-шизофреник рассказывает, что, проходя мимо некоторых женщин, он чувствует странное «гудение» между бедрами и животом.
Женщина-шизофреник описывает свои сексуальные ощущения: «…словно там меня кусают множество маленьких зверюшек» (Freeman et al., 1958).
В ситуации, где нормальный человек осознает свое собственное чувство, сексуальное влечение или какой-то иной интерес к другому человеку и, можно сказать, отношения между ним и другим человеком, эти пациенты-шизофреники осознают лишь странное внутреннее ощущение и неуловимое внешнее включение этого ощущения.
Луис Сасс утверждает, что в шизофреническом ощущении главным является необычное интроспективное сознание. Сасс отмечает, что шизофреник часто осознает телесные функции и ощущения, которые для обычного человека остаются незамеченными или уходят из фокуса внимания. Он говорит: «…внимание обращается внутрь, пациент начинает замечать… и у него появляется ощущение, что слюна у него во рту, положение шеи и движение век начинают ему мешать…» (Sass,
1992, р. 227–228).
Сасс цитирует пациента-шизофреника: «…моя грудь похожа на гору напротив меня… Мои руки и ноги раскинуты в стороны и ведут себя, как им вздумается… Я должен с этим покончить и узнать, находится ли моя рука у меня в кармане или нет» (р. 229). Иными словами, части и функции тела больше не являются составляющими целого и не представляют единую самость, а существуют сами по себе и управляются извне.
Согласно предположению Сасса, такая потеря ощущения единой самости и ослабление отношения полярности между самостью и внешним миром — это симптомы безжалостного самокопания. Он уверен, что такое самокопание, или «гиперрефлексия», проявляются в тревоге, вызванной телесными ощущениями и психическими процессами, которые в нормальном состоянии при целенаправленной деятельности тела и психики оставались незамеченными, но вызывают у шизофреника распознавание обособленных телесных ощущений, не связанных с другими. Сасс считает, что сама утрата шизофреником целеустремленного, волевого управления — это последствие его безжалостной интроспекции, похожее на эффект сороконожки, которая за способность к самоосознанию платит способностью передвигаться. Вопрос волевого ослабления при шизофрении мы рассмотрим позже, но, по всей видимости, следует предположить, что гиперосознание телесных ощущений наряду с ослабленным ощущением единой самости скорее является результатом потери волевого управления, чем ее причиной.
Давайте вернемся к нашим изначальным вопросам. Является ли свидетельством непсихотического состояния ослабленное ощущение единой самости и ослабление полярности в субъект-объектных отношениях, которое во всяком случае сравнимо с тем, которое мы наблюдаем при шизофрении? А если так, какова динамика этого ощущения? Что касается первого вопроса, ответ на него довольно ясен: ослабленное и частичное ощущение самости и соответствующее ослабление полярности субъект-объектных отношений действительно можно наблюдать в каждой невротической патологии. Психодинамическая основа этих эффектов также хорошо ясна. Повторяю, именно неизбежные следствия ограничений жизни человека, включая его познание, создают процессы защиты. Каждое нарушение или ослабление субъективного качества мотивации к действию привносит с собой ослабленное и фрагментарное ощущение самости и ослабление границ между субъектом и объектом. Особая форма этого ослабления границ зависит от природы ограничений в жизни конкретного человека, включая бреши в его ощущении самости.
По существу, при навязчивой одержимости ослабление границ Эго в основном сопровождается определенной интроспекцией и фрагментацией самости, о чем говорит Сасс. Люди, которые все время подчиняются правилам, зачастую пребывают в затруднении относительно того, что они чувствуют или хотят делать. Они очень много занимаются познанием своей души, пытаясь в себе открыть, что им «следовало бы» делать. Они проводят инвентаризацию своих потребностей, желаний и мыслей. Результатом этого процесса, который сам является симптомом предвосхищающей тревожность и вместе с тем болезненной ригидности, несомненно оказывается фрагментированное ощущение самости.
Рассмотрим следующий пример: молодой профессионально компетентный мужчина, испытывающий тревогу по поводу того, что ему следует жениться и обзавестись семьей, жалуется на то, что он никогда не влюблялся. Он объясняет это тем, что всегда оценивал, насколько ему «подходит» каждая претендентка с точки зрения образования, происхождения, внешней привлекательности и т. п. Его цель состоит в том, чтобы найти подходящую женщину, которая бы удовлетворяла запросам, которые он считает своими «потребностями»: соответствовала бы его профессиональному статусу, его сексуальным склонностям, хорошо смотрелась бы с ним рядом и т. д. В итоге обязательно получается некая совокупность «за» и «против», соответствующих этим разным «потребностям», или, можно было бы сказать, этим разным частям самости.
Такой тип сдерживания нормальных мотивационных и эмоциональных отношений с внешним объектом не только вызывает фрагментацию самости, но и изменяет восприятие этого внешнего объекта. В ситуации, где кто-то другой увидел бы человека, который мог бы ему понравиться или в которого он мог бы влюбиться или не влюбиться, этот мужчина подсчитывает степень соответствия. В ситуации, где кто-то осознавал бы свою реакцию на другого человека и в этой реакции воспринимал бы себя самого и этого человека, данный мужчина, с одной стороны, осознает только свои «потребности» (сравните с ощущением «гудения» шизофреника), а с другой — сопоставляет с ними качества другого человека (подходящее образование, неподходящий рост и т. д.). Благодаря такому восприятию другого человека (наверное, лучше назвать его прямым восприятием, чем рациональным объяснением восприятия) женщина в его представлении перестает быть индивидуальностью и низводится до совокупности особенностей, соответствующих другой совокупности особенностей, характерных для его субъективной жизни. Иными словами, такое восприятие отражает слабость границ Эго или полярного отношения между самостью и внешним субъектом, и эта слабость границ Эго — непосредственный результат воздействия защитной ригидности, предвосхищающей тревогу.
Такой тип ослабления границ вообще характерен для навязчивой личности. Неукоснительно подчиняясь правилам, такие люди все делят на то, что следует делать, и на то, что не следует делать. Это значит, что во внешних ситуациях навязчивая личность как бы слышит некие команды. «Возможность» должна приносить выгоду независимо от того, насколько она благоприятна. Неоконченная работа должна быть закончена; это не просто работа, которую можно закончить или не закончить по желанию. Получается, что правила, которым следует навязчивая личность, привносят в жизнь этого человека императивы, которые вместе с тем лишают его ощущения своих собственных желаний.
В других случаях одержимо-добросовестное беспокойство тоже находит либо очень преувеличивает в объекте какие-то черты, которые, несомненно, порождены самим беспокойством. Это относится не только к преувеличению неудач, которые порождены не только одержимым беспокойством, но и одержимыми сожалениями. В ретроспективе упущенная возможность видится блестящей; ее ретроспективная ценность определяется не только субъективной привлекательностью, но и всепоглощающим искренним сожалением. Во многом такой же процесс характеризует одержимую нерешительность. Лишь только некую альтернативу приходится признать ошибочной и перепроверять с точки зрения допущенной ошибки, она сразу становится привлекательной. Во всех этих случаях полярное отношение самости и внешнего объекта ослабляется, как только субъективная оценка реальности заменяется правилом щепетильного отношения к ней.
При других типах невротических состояний, где ослабление субъективной самости принимает иные формы, утрата полярности в отношении между субъектом и объектом тоже принимает иные формы. Когда истерическая личность утверждает, что ею управляют эмоции и что ее суждения — не больше чем интуиция, фактически это говорит о фрагментарном самоощущении. И это фрагментарное, неполное самоощущение оказывается прямым результатом защитного отрицания активного суждения и намеренного действия. Вместе с тем эта дополнительная истерическая фрагментарность в ощущении самости характеризует субъективность истерического восприятия картины мира, и эта субъективность способствует романтической идеализации одних персонажей и созданию отвратительных образов других. Иными словами, ощущение эмоционально управляемой
(emotion-driven) самости включает в себя меньше, чем ясное ощущение внешнего объекта, вызывающего эту эмоцию. Нормальное отношение между одним человеком и другим низводятся к отношению между эмоцией и тем, что создает эта эмоция, то есть снова речь идет о потере Эго своих границ.
Ослабленная полярность субъект-объектного отношения прослеживается и во внушаемости истерической личности, в той легкости, с которой на нее можно оказывать влияние, а в общем — в той значимости и в том авторитете, который представляют для нее внешние фигуры. Истерическая пациентка сидит, нервничая, и моментально замолкает в кабинете терапевта. Затем произносит, как бы извиняясь: «Я не могу придумать, что сказать». И добавляет: «Я знаю, вы ждете, пока я начну говорить». Она явно ощущает себя ответственной за то, чтобы отвечать ожиданиям терапевта. В таком случае ожидания других людей воспринимаются ею как требования, а их мнения обладают силой истины. Иначе говоря, мнения или ожидания других людей не воспринимаются только как мнения и ожидания других, то есть как внешние, а становятся неотличимыми от мнений и ожиданий самости.
То же самое иллюстрирует экстериоризация ответственности у человека с импульсивным или психопатическим характером. Реакции психопата оказываются слишком быстрыми, слишком ситуативными, чтобы он мог их ощущать как воплощение своих намерений, своего выбора и самовыражения. Вместе с тем эти реакции слишком быстрые, чтобы позволить ему видеть внешнюю цель. Вместо этого цель ощущается только как резкое побуждение к действию, и последующее действие следует в виде включенной рефлекторной реакции («Она давит на мои болевые точки»). Мы называем субъективный результат этого ощущения экстериоризацией, перекладыванием ответственности за действие на некого внешнего субъекта, провоцирующего это действие. Но точнее было бы сказать, что слабость ощущения самости и ее собственных намерений стирают различия между внешним побуждением или провокацией, с одной стороны, и индивидуальной мотивацией — с другой. Такая потеря полярности, или экстериоризация ответственности, тоже представляет собой непосредственное восприятие. Это не только защитная тактика, хотя восприятие может развиваться и в защитных целях. Это свойство присуще неотложности, характерное для пассивно-реактивного стиля. Однако уже сам по себе этот стиль создает защиту.
Вряд ли необходимо еще приводить примеры. При любой невротической патологии причины несовершенства или ограничения самости субъекта обусловлены защитной опорой на формы более низкой организации. Вместе с тем отсутствие прочного ощущения самости подразумевает не слишком ясное восприятие того, что для самости является внешним. Разумеется, при невротической или непсихотической патологии это менее очевидно, чем при психозе, и пока этот феномен является общим и характерным для данного стиля, он лишен субъективных черт эксцентричности, которые часто играют очень большую роль при шизофрении.
Аффект
Хронические шизофреники часто описываются как апатичные, а их аффект как «плоский» или «притупленный». Широко распространенным является такое наблюдение, которое, например, сделал Ариети: в прогрессирующем состоянии болезни пациенты-шизофреники «кажутся совершенно утратившими способность чувствовать» (Arieti, 1974, р. 375). Обычно считали, что «уплощение» аффекта отражает примитивизацию умственной деятельности человека, находящегося в таком состоянии. Этому взгляду не противоречило появление у таких пациентов внезапного гнева или воинственности, а также диффузного и явно неконтролируемого возбуждения.
Шизофренический аффект мы рассмотрим чуть позже, в следующей главе. Сейчас достаточно сказать, что наряду с потерей реальности и ослаблением границ Эго деградация качества аффекта в основном считалась отличительным симптомом шизофрении. В психоаналитической теории потеря эмоциональной реакции рассматривалась как еще одно свидетельство утраты интереса к внешнему миру и замкнутости на себя.
Но существует непреложный факт: качество эмоциональной реакции снижается при любой патологии, включая и непсихотические состояния. Как может быть иначе? Если защитные процессы в невротических состояниях включают общие характерологические ограничения и нарушения в жизни человека, то как может оставаться неизменным качество эмоционального ощущения? Хорошо известно, что определенная потеря качества эмоционального ощущения присуща истерии и психопатии — обоим пассивно-реактивным непсихотическим состояниям, которые уже обсуждались. Знание существенных особенностей такой потери в каждом состоянии и сравнение их в этом отношении между собой будут очень поучительными для нашего понимания симптомов шизофрении.
Вспомним, что истерики отличаются своей исключительной эмоциональностью, но такая эмоциональность обычно считается поверхностной. Во всяком случае, психопаты эмоционально более поверхностны; иногда они сентиментальны, иногда действительно подвержены внезапной смене настроения, но чаще всего они аффективно нейтральны или эмоционально холодны. В случае истерического или психопатического состояния деградацию качества аффекта понять нетрудно. В каждом случае оно отражает характерологический тип защиты. В конечном счете, эмоциональная реактивность — это не свойство независимого органа чувств, как например, способность слышать или видеть. Это общий аспект связи с внешним миром, неотделимый от установок и стилей, которые вообще формируют природу этого отношения к внешнему миру. Ограничения, налагаемые пассивно-реактивным типом истерического характера, в особенности определяют свойства и качество истерической эмоциональности и ее роль в психической жизни такой личности.
У нормального взрослого человека волевое действие отделено от эмоциональной реакции. Ключевая связь между ними, безусловно, есть, но она не является исходной. Немедленная эмоциональная реакция приобретает свою интенсивность и длительность благодаря другим, более стабильным целям и интересам, и она зачастую либо как-то изменяется и трансформируется под их воздействием, либо исчезает, не получая подкрепления. В таком случае, если она остается продолжительной, чувство становится составляющей индивидуальной мотивации человека и важным фактором при определении того, что он хочет делать.
Такое развитие ограничивает природа истерической пассивной реактивности, неотложности ее реакции. Важнейший процесс интеграции неотложной реакции с существующими целями и интересами укорачивается или упрощается. В результате эмоциональность остается хорошо выраженной и вместе с тем эфемерной. Нет ощущения, что такой тип эмоциональной реакции является составляющей индивидуальной мотивации, индивидуальной причины действия, а значит, и составляющей ощущения действия; скорее, ее можно сравнить с дуновением ветра, иногда — с ураганом, который настигает истерическую личность и может вызвать у нее импульсивные действия, а может пройти и без последствий. Таким образом, даже очень сильные эмоциональные взрывы сразу после их окончания человек может распознать с большим трудом, так как принимает их за проявление своих истинных чувств. Например, их можно принять за результат предменструального напряжения, или как некое отклонение от нормы — «сверхневротичный» эпизод, или просто как то, чему «я не придала значения».
Истерическую эмоциональную реактивность также называют эгоцентричной. То есть ей присуща не только тенденция к ограничению людьми или обстоятельствами, тесно связанными с человеком, но и тенденция к преобладанию в ней непосредственного воздействия на человека этих людей или обстоятельств. В описании истерической женщиной своего учителя как великана («Я его ненавижу!») не столько выражаются ее чувства по отношению к нему как индивидуальности и субъекту, сколько его воздействие на нее в недавнем прошлом. Вместе с тем нестабильность, поверхностность и эгоцентризм истерического аффекта представляют собой прямой результат действия пассивно-реактивного истерического защитного стиля.
Еще более неотложная пассивная реактивность психопата, вообще говоря, приводит не к повышению эмоциональности, а к ее снижению. Но она воздействует в том же направлении. Быстрый переход интереса в действие еще больше, чем при истерии, сокращает развитие значимой, явно выраженной эмоциональной реакции по отношению к объекту интереса, существующей отдельно от самого действия. Можно сказать, что психопата слишком быстро поглощает неотложное достижение цели, чтобы он мог себе позволить эмоционально рассматривать объект, который является этой целью, или обдумывать процесс ее достижения.
Пациент-психопат на вопрос психотерапевта, какой будет его реакция, если они встретятся где-то вне клиники и у терапевта будет то, что захочется пациенту, ответил: «Я бы у вас это взял. Если мне что-то понадобится, я у вас отниму, но вы же знаете, здесь нет ничего личного. Вы мне даже чем-то нравитесь» (Wishnie, 1977, р. 132).
Эмоциональное безразличие психопата еще больше усугубляет поверхностность и эгоцентризм аффективной реакции по сравнению с его заинтересованностью в получении немедленной выгоды. Если еще больше заострить проблему — оно еще больше усугубляет поверхностность и эгоцентризм в эмоциональном отношении человека к внешнему миру.
В общем характерологическом отличии истерического характера от психопатического, которое я предполагал раньше, содержится и аффективный аспект. Это отличие между защитной гипертрофией пассивно-реактивного стиля относительно низкой и относительно высокой неотложности действия; между взрослой, преимущественно женской защитной адаптацией, присущей ранним стилям действия, и взрослой, наверное, преимущественно мужской защитной адаптацией стиля действия, еще более раннего по своему происхождению. В обоих случаях качество аффекта страдает вследствие пассивно-реактивного стиля действия. Степень такой деградации аффекта соотносится с неотложностью этой реакции.
Здесь снова полезно вспомнить, что эмоциональная реакция — это результат индивидуального развития. Отделение эмоциональной реакции, чувства от действия происходит в процессе развития человека. Объективация мира, развитие прочного ощущения самости и возрастающей способности к планомерным и намеренным действиям — все это постепенно снижает раннюю рефлекторную неотложность действия и неразборчивость
(totality) реакции и создает дальнейшую возможность для дифференциации и качественного очищения эмоциональной сферы
(differentiation and refinement to the quality of emotionality). Может быть, мы можем вывести общий закон, определяющий качество эмоциональной сферы взрослого, исходя из общей картины его развития, не подразумевая никаких простых соответствий. Если снижается способность к планомерному и рефлексивному действию или такое действие сокращается в защитных целях, в угоду пассивному или ригидному стилю неотложной реактивности, качество эмоциональной сферы будет соответственно снижаться. Оказывается, этот закон действует и в случае поверхностной эмоциональности истерика, и в случае еще более эмоциональной нейтральности психопата. Позже мы увидим, насколько это представление будет полезно для понимания хронической шизофрении.
Потеря волевой управляемости и ощущения действия
В предыдущих разделах этой главы я хотел показать, что потеря реальности, ослабление границ Эго и деградация качества аффекта, то есть все факторы, обычно считающиеся симптомами шизофрении, фактически присутствуют и в непсихотических состояниях. Кроме того, я хотел показать, что, по крайней мере, в непсихотическом состоянии эти формальные симптомы можно понимать не как нарушение защиты, а, наоборот, как ее результат, в особенности воздействие защитного отчуждения, начиная с полного ощущения действия и кончая доволевым, ригидным или пассивно-реактивным стилем сокращенного действия. Вплоть до этого момента в нашем сравнительном исследовании известные формальные симптомы шизофрении можно было принять на веру; только в отдельных случаях они требовали специального пояснения; я сосредоточился на демонстрации сопоставимых симптомов при их проявлении в состоянии невроза. Но в дальнейшем нам придется несколько сместить фокус внимания.
Теперь мне хочется рассмотреть радикальную потерю воли при шизофрении, ее характерные признаки и некоторые ее последствия и вместе с тем прояснить связь такой потери воли при шизофрении с невротическим избеганием и прекращением действия. Таким образом, в данном случае у нас остается цель сравнительного исследования двух типов состояний, чтобы определить, как динамика одного из них может помочь понять динамику другого.
В своей более ранней работе (Shapiro, 1981) я утверждал, что потерю или ослабление ощущения самоуправления (понятие, которое я употребляю как синоним понятия действия) и соответствующее ослабление актуальных процессов волевого действия можно наблюдать при
всех формах психопатологии. Но в целом эти симптомы (а по существу, субъективные и объективные описания одних и тех же симптомов) были определены по-разному в состоянии невроза и при шизофрении. Иными словами, и шизофреническая потеря воли, и невротическое избегание действия хорошо известны, но они известны отдельно друг от друга.
Невротическое избегание действия, по крайней мере в контексте особенных симптоматических действий, очень хорошо известно в психоанализе. В конечном счете, отделение осознания намерения от бессознательно мотивированного действия — фундаментальный аспект психоаналитического понимания симптоматического поведения (Fenichel, 1941). Долго считалось, что цель психоаналитического лечения как раз и заключается именно в превращении изначально пассивного и отчужденного ощущения симптома в осознание его активной мотивации. Но, как я уже отмечал, в самое последнее время прекращение действия или отказ от его осознания стали считаться более общим, а фактически — главным аспектом невротического состояния (Schafer, 1976), а терапевтическое восстановление действия было эквивалентно излечению (Kaiser, 1955/1965).
Если невротический отказ от действия в психоанализе достаточно хорошо выявлен, то в общей психиатрии не хуже определено объективное ослабление воли при шизофрении. Во всяком случае, вкратце я скажу, что его выявляли гораздо чаще, ибо клинически оно было более заметным. Насколько мне известно, при этом ни в психоанализе, ни в психиатрии не провели подробной и четкой связи между невротически ослабленным ощущением действия и шизофреническим ослаблением воли. Элементы этой важной связи были известны независимо, но они были описаны на двух разных языках, и там, где должна быть явная и очевидная связь, существует разрыв.
Этот разрыв объясняется существующей разницей в подходах к изучению клиники шизофрении, с одной стороны, и невротических состояний — с другой. Интерес к шизофрении сосредоточен на общей форме поведения и мышления, тогда как интерес к невротическим состояниям в основном ограничивался содержанием субъективного ощущения и его динамики. Но связь между ослаблением воли и избеганием ощущения действия становится очевидной только с признанием динамической значимости действия в самой общей форме.
Сама по себе защитная мотивация избегания осознания действия или индивидуального намерения не может считаться отказом от действия; ибо фактически от действия нельзя отказаться усилием воли, за исключением особых случаев поведения, которые можно было бы как-то рационализировать. Нарушение субъективного ощущения действия может иметь основу в неком объективном психологическом процессе. Общее избегание или ослабление ощущения действия в состоянии невроза достигается вследствие общего ослабления или нарушения процесса волевого действия. Таково, например, ситуативное действие психопата и присущее ему сокращение нормального волевого процесса, процесса принятия решения, позволяющего ему избегать ясного осознания своих намерений, а ответственным за свои действия считать некоего внешнего субъекта. Итак, мы пришли к следующей возможности: ослабление волевого управления при шизофрении может также вызывать предвосхищающий тревогу возврат (в данном случае радикальный) к доволевым формам динамики.
В клинических наблюдениях шизофрении регулярно отмечается серьезное ослабление воли. В особенности Ариети заявляет, что шизофрения — это прежде всего патология воли. Этот феномен также отмечают Гольдштейн (Goldstein, 1944), Энжиль (Angyal, 1937) и другие авторы (включая Блейлера (Bleuler), Криплина (КгаерНп) и Юнга), описывая его по-разному: как ослабление волевой деятельности, воли или намеренности, или как состояние крайней пассивности, или как привязанность к стимулу
(stimulus-boundedness), или как конкретную реактивность
(concrete reactivity). Эти наблюдения в основном относятся не только к пассивности в поведенческом смысле, т. е. в смысле отсутствия активности или подчиненности. Они относятся к неспособности или нежеланию (здесь имеются некоторые расхождения, хотя преобладающей точкой зрения является неспособность) совершить некое действие, сделать осознанный выбор или даже сконцентрировать, сфокусировать внимание или волю или сместить их фокус.
По существу, в большинстве случаев результаты этих клинических наблюдений подтвердились недавними контрольными и экспериментальными исследованиями. Ослабление селективного внимания или «избирательности»
(filtering) внимания при шизофрении (см., например, Chapman and Chapman, 1973; Frith, 1979); способности произвольно смещать фокус внимания или поддерживать внимание в данном направлении (Venables, 1987); начинать действие (Frith and Done, 1988); «центрального контроля»
(central control) (Shakow, 1977); «исполнительной» деятельности
(executive functioning), например в когнитивной гибкости или планировании будущего (Morice and Delahunty, 1996), подтвердилось в контрольных исследованиях, хотя экспериментаторы прежде всего предполагали прямую нейропсихологическую причину такого ослабления и не связывали утрату отдельной когнитивной функции с более общей потерей воли.
Однако не приходится сомневаться, что шизофрения дает картину ослабления или подавления или отказа от активного волевого самоуправления (в любом случае это серьезная потеря), особенно если иметь в виду когнитивное самоуправление. По крайней мере, в клинической практике это часто внешне проявляется в виде крайней пассивности. Отсюда появился менее формальный, но более содержательный психиатрический термин «шизофреническое поражение»
(schizophrenic surrender).
В основном такая пассивность известна любому человеку, который наблюдал особенную инертность хронических пациентов-шизофреников в палате или на прогулке в психиатрических клиниках, особенно в дни, предшествующие интенсивному применению медикаментов, повышающих психическую активность. Но потеря волевого самоуправления может принимать множество форм; она наблюдалась и отмечалась в самых разных обстоятельствах и для разных состояний шизофрении.
Наверное, самым ярким примером является хорошо известное, хотя и редкое ныне кататоническое состояние «восковой гибкости»
(waxy flexibility)[21]. Такие пациенты предпочитают не менять позу, более-менее сохраняя неподвижность, независимо от положения, в котором они находятся.
Примечательно, что кататоническая неподвижность иногда прерывается эпизодами «кататонического возбуждения»
(catatonic excitement), которые, по описанию Нунберга (Nunberg, 1948/1961), являются действиями с проявлениями бесцельного бешенства, «сумбурными и спутанными движениями, моторным эквивалентом сумбурной речи»
(movement salad, the motor equivalent of word-salad)[22] (Arieti, 1974, p. 81). Активность такого типа, при том что она совершенно отличается от неподвижности, никоим образом не идет вразрез с нарушением или прекращением волевого управления; она лишь отражает альтернативное внешнее выражение этого нарушения или прекращения волевого управления.
Но кроме таких крайностей нередко встречаются клинические случаи, похожие на тот, который приводит Энжиль: «Когда пациент входит в дверь, у него возникает новая проблема, а именно переступить через порог. Он довольно долго топчется на месте, делая сначала шаг вперед, потом назад, пока, наконец, не входит в комнату… к каждому элементу желаемого от него совокупного действия его следует побуждать отдельно. Например, ему недостаточно сказать, что он может уйти. Ему нужно сказать, чтобы он встал, направился к двери, открыл ее и т. д.» (Angyal, 1937, р. 1048–1049).
Динамику, обусловленную такими нарушениями воли, мы рассмотрим в следующей главе, но в данном случае важно отметить, что кроме своего отражения в поведении ощущение радикальной потери субъектом волевого самоуправления непосредственно отражается в содержании шизофренического бреда.
Например, женщина-шизофреник, ссылаясь на собственные высказывания, говорит: «Это говорят нелюди, это аудиозапись» (Rosenbaum and Stone, 1986).
Конечно, в случае паранойяльной шизофрении мысли и ощущения, связанные с подчинением своего волевого контроля внешним силам или борьбой против утраты такого волевого контроля, регулярно выражаются в бредовой обеспокоенности
(delusional preoccupations). Широко распространены идеи об управлении человеком при помощи излучения, гипноза или о воздействии на его психику специальной техникой.
Паранойяльный шизофреник Шребер периодически жаловался на то, что ему «приходится мычать, как дикое животное, потому что [его] донимают привидения» (1955, р. 227). Шребер также говорит о том, что «закрывает глаза» под воздействием «силы лучей», которые таинственно управляют его пальцами: когда он играет на пианино, лучи заставляют его «исполнять движения пальцами» (р. 40) и т. д.
С полной уверенностью можно сказать, что именно потеря волевого самоуправления в мышлении и внимании при шизофрении, прояснившаяся в результате хорошо организованных клинических наблюдений, а в последнее время — в результате контрольных и экспериментальных исследований, является самым серьезным нарушением волевой деятельности и из всех рассмотренных нами патологий больше всего выражена при шизофрении. Именно это нарушение, описанное, например, Гольдштейном как «конкретность»
(concreteness) и характеризующееся мышлением, которое «управляется неотложными заключениями, сделанными на основании какого-то особенного аспекта объекта или ситуации» (Goldstein, 1944, р. 18), или Блейлером как «ослабление активного внимания», в противоположность «пассивному вниманию», которое сохраняется (Rapaport, 1951, р. 638). И именно этот тип нарушения воли современные исследователи описывают как дефицит внимания, или как ослабление когнитивной гибкости и исполнительной когнитивной деятельности, или как неспособность сохранять установку или быстро ее изменять, если это необходимо.
Все эти авторы описывают самый глубокий тип пассивной реактивности, хотя это понятие они не употребляют. Именно пассивность, зачастую в виде пассивного отвлечения, проявляется в разных формах шизофренических нарушений мышления. В результате такого блуждающего внимания появляется именно то, что мы называем несвязным
(loose) или скачкообразным
(tangential) мышлением у шизофреников, при котором ассоциативные связи уводят «подвижной состав» мыслей с прямого пути к пункту назначения. Наверное, по этой же причине их внимание захватывают фрагменты речи, звучание слова или фразы и другие стимулы, сразу вызывающие воспоминания, что иногда приводит к ошибочным перескокам и отклонениям мыслей, следовательно, — к их путанице.
Более того, выдающийся исследователь Фриц (C.D. Frith) действительно предположил (хотя впоследствии его предположение было отвергнуто), что неудача сознания при выборе и поддержании направления деятельности или мышления с одновременным отказом от альтернатив (гипотеза дефектного отбора) может стать причиной не только таких симптомов нарушения мышления, но и шизофренических слуховых галлюцинаций. Фриц предположил, что такие галлюцинации создаются в связи с воспринимаемыми предсознанием внешними звуками, которые более активно направленное внимание не должно допускать до осознания (Frith, 1979). Позже он отверг свою гипотезу «дефектного фильтра» в пользу гипотезы дефектного начала и отслеживания действия (Frith and Done, 1988). Но обе эти концепции или гипотезы включают в себя утверждение об утрате направленного действия — как в процессе восприятия, так и в процессе отслеживания.
Находка, заключающаяся в том, что формальные размеры
(dimensions) симптомов шизофрении, которые мы считали присущими и непсихотической патологии, подтверждают гипотезу о наличии близкой динамики. Этой гипотезе, состоящей в том, что симптомы шизофрении являются не результатом разрушения существующей защитной структуры, а наоборот — результатом ее радикального распространения, присущи ясность и определенная логика, отсутствующие у альтернативных гипотез. Она постулирует известный процесс: возрастание тревоги приводит к возрастанию опоры на существующие типы психодинамики, которые исключают тревогу. Например, мы ожидаем, что повышение тревоги, управляющей ригидной личностью, приведет к возрастанию ригидности. Это не значит, что симптомы, появляющиеся вследствие возрастания такого защитного напряжения, обязательно будут только более сильными, чем предыдущие симптомы. Иногда будет именно так; одержимая личность в условиях стресса станет еще более одержимой. Но у некоторых людей возрастание опоры на доволевые типы психодинамики, особенно если возврат к ним оказывается глубоким, иногда может вызвать качественную трансформацию симптомов. То есть такая защитная реакция может вызывать совершенно иные симптомы, однако в них следует по-прежнему видеть результат задействованных ранее динамических форм. Примером этому может послужить развитие паранойяльной ригидности из навязчивой ригидности. Другим примером может быть развитие шизофрении.
Уместно повторить, что эта психологическая гипотеза ни в коей мере не следует из предположения о биологической предрасположенности. Наоборот, если, например, оказывается, что такая предрасположенность включает некий бессимптомный дефицит концентрации внимания, гораздо легче себе представить защитное использование этого дефицита концентрации внимания в виде одной из типичных реакций, которые мы рассматриваем.
Глава 8. Шизофрения
В предыдущей главе мы рассмотрели четыре аспекта взаимоотношений человека с внешним миром. Конечно же, они значительно перекрываются между собой; это разные стороны единого отношения, и нельзя себе представить, что нарушение одной из сторон не приведет к нарушению остальных. Но в данном случае основной интерес представляет для нас именно аспект волевого управления и субъективного ощущения действия самости. Так получается, потому что, видимо, именно процесс волевого самоуправления и осознания человеком своих действий непосредственно порождает тревогу и (если говорить о непсихотической патологии) именно предвосхищающие тревогу капитуляция воли и отказ от действия, в свою очередь, в целом воздействуют на отношение человека к внешнему миру. Все остальные аспекты — потеря реальности, ослабление границ и деградация качества аффекта — являются побочными результатами этого защитного процесса.
До сих пор мы в основном рассматривали эти воздействия и процессы в том виде, как они проявляются в невротической патологии. Теперь возникает вопрос: происходят ли те же самые процессы при шизофрении и оказывают ли они такое же влияние? Если поставить этот вопрос острее, то мы хотим знать, можно ли считать симптомы шизофрении, подобно невротическим симптомам, результатами сокращения (но в данном случае более радикального и даже блокирующего сокращения) волевого управления в пользу ригидных или пассивно-реактивных типов доволевой динамики. В психиатрической литературе есть важные доводы в пользу этого предположения. В основном они опираются на клинические факты, но с ними согласны многие исследователи. Я уже ссылался на их некоторые наблюдения, и мы их рассмотрим более подробно в первом разделе этой главы. Затем я предложу концепцию, позволяющую понять переход к шизофрении из некоторых состояний невроза.
Потеря волевого мышления и внимания
Нет серьезных сомнений в отношении важного феномена — шизофренического ослабления волевого управления мыслительным процессом, в особенности вниманием. На этот счет существует единодушное мнение; в нем сходятся как исследователи-экспериментаторы, так и врачи-клиницисты. Можно было бы добавить, что ослабление концентрации внимания, в отличие от пассивного внимания, является обычным признаком шизофренического нарушения мышления при психологическом диагностическом тестировании. Но остаются другие серьезные вопросы: является ли потеря волевого управления мышлением и вниманием вторичной по отношению к другим, быть может, более фундаментальным когнитивным процессам, или же она является основным нарушением при шизофрении, которое служит источником вторичных симптомов. И можно ли в последним случае эту потерю считать защитной реакцией, или, наоборот, она является непосредственной биологической дефицитарностью
(biological deficiency)? В этом отношении особый интерес представляет важная работа Эндрю МакГи и Джеймса Чэпмена (Andrew McGhie and Games Chapman).
Основываясь на интервью и индивидуальных сообщениях пациентов-шизофреников, Мак-Ги и Чэпмен (1961) пришли к выводу, что нарушение волевого самоуправления, включая волевое управление мышлением, является основным среди симптомов шизофрении. Однако они считали, что нарушение воли является выражением еще более фундаментального когнитивного нарушения, а именно ослаблением «селективно-задерживающего механизма внимания». Эта концепция — ранняя версия гипотезы «дефектного фильтра»
(defective-filtering hypothesis), выдвинутой экспериментаторами. Мак-Ги и Чэпмен приписали это когнитивное ослабление (так же, как это сделали экспериментаторы), причем достаточно намеренно, органическим нарушениям. Работа Мак-Ги и Чэпмена и ее экспериментальное продолжение является ключевой для нашего утверждения, и мы рассмотрим ее более подробно, но их вывод, касающийся непосредственно биохимической причины, сейчас не является исключительным. С одной стороны, проблема связана с общими отношениями между когнитивными способностями, а с другой стороны — с психодинамикой.
Хотя Мак-Ги и Чэпмен сами были психоаналитиками, они отвергали любое представление о шизофрении, основанное только на традиционных психодинамических взглядах на отдельные конфликты. То есть они отвергали идею того, что шизофренические симптомы являются «защитной реакцией, целенаправленно связанной с бессознательными конфликтами, проявляющимися в межличностных отношениях» (р. 103). В отличие от этого они настаивали, что основная проблема связана с «организацией психики» шизофреника, под которой они в основном подразумевали соответствующие биохимические процессы. Утверждение, что форму шизофренических симптомов нельзя выводить исходя из динамики отношений в семье
(family dynamics), сегодня встретит мало возражений (вероятно, их не было и у Фрейда). Другое дело, что исследователи-экспериментаторы в этой области в основном придерживались предположения, что такую дисфункцию можно отнести только к биохимии.
Концепция психодинамики Мак-Ги и Чэпмена — это традиционная психоаналитическая концепция; она ограничивается семейной динамикой отдельных конкретных детских конфликтов. Наверное, нет такой
психопатологии, ни невротической, ни психотической,
самую суть формы которой можно было бы понять исходя из такой динамики. Фактически, это старая и очень хорошо известная в психоанализе проблема; она представляет собой не что иное, как проблему так называемого выбора невроза, которая, по существу, на протяжении многих лет не находила решения в рамках традиционной психодинамики. Для понимания формы невротических симптомов, а если мы правы, то и формы симптомов шизофрении, требуется более содержательная картина динамики, в которой
формы мышления и стили действия считаются основными для психической системы регуляции. Можно сказать, что эта система регуляции, организация индивидуального характера, формирует «ментальную структуру»
(mental apparatus) в
психологическом смысле
[23]. На нее действительно могут влиять и вариации индивидуальной биологии, и вариации индивидуальной истории, но наличие психологической ментальной структуры, включающей в себя индивидуальные когнитивные формы, позволяет предположить, что когнитивная дефицитарность не обязательно обусловлена прямыми биологическими причинами.
Фактически, как мы уже видели, когнитивные процессы обязательно включаются в динамику характера, а симптомы психопатологии обязательно включают в себя некоторое ослабление когнитивной функции. Именно эта связь между психологической динамикой и когнитивной функцией и воздействие этой динамики на познание, которое проявляется в невротических состояниях, приводит нас к рассматриваемой нами гипотезе: симптомы шизофрении, хотя сами по себе не отвечают защитной цели, представляют собой продукты радикального отказа от волевого управления мышлением, и этот отказ по своей природе является защитным.
Давайте вернемся к важному проявлению когнитивной функции, о котором сообщают Мак-Ги и Чэпмен (1961). В их исследованиях один пациент за другим сообщали о своей неспособности произвольно направлять или фокусировать свое внимание. «Кажется, что мое внимание привлекает абсолютно все», — говорит один пациент. Другой пациент говорит: «Я отвлекся и забыл, что сказал» (р. 104). Еще один просто говорит: «Я не могу сконцентрироваться» (р. 104).
Видимо, все эти пациенты в основном ощущают нарушение волевого управления в форме постоянного отвлечения. Они пассивно воспринимают «все сразу». Авторы приходят к выводу, что эти пациенты больше не управляют своим вниманием «произвольно»
(at will); теперь их внимание «все больше и больше определяется… конкретными изменениями в их окружении» (McGhie and Chapman, 1961, р. 105).
Очень похожее ощущение приводится в описании других пациентов или бывших пациентов-шизофреников. Например, бывшая пациентка-шизофреник Рене, рассказывая
о своем приступе психоза, показывает, как ее внимание захватывают «конкретные изменения в ее окружении»:
«В процессе обучения, во время спокойной работы, я слышала уличный шум: звук проезжающего троллейбуса, голоса говорящих людей, ржание лошади, визг автомобильной сирены; причем каждый из этих звуков был отдельным, застывшим в воздухе, отделенным от своего источника, потерявшим свой смысл… В это время на кафедре говорил учитель, сопровождая свои слова жестами…» (Sechehaye, 1968, р. 24).
Похожее отвлечение внимания часто наблюдается в экспериментальных исследованиях шизофреников и, по существу, оказывается стабильной чертой, присутствующей даже у тех пациентов, которые во время обследования не находились в состоянии психоза (Harve et al., 1990).
Мак-Ги и Чэпмен также полагают, что неспособность произвольно направлять внимание или поддерживать его в данном направлении, которая в итоге приводит к его захвату внешними ключами, становится причиной специфического отношения шизофреников к речи. Внимание шизофреника захватывает звучание слов или их фрагментов, и он теряет свою мысль. Так, один из пациентов говорит: «Одно слово может сразу заставить меня погрузиться в трясину… Словно оно меня загипнотизировало… когда я воспринял это слово… по-другому… И не столько я его проглотил, сколько оно меня» (McGhie and Chapman, 1961, р. 109).
Матушек провел очень похожие наблюдения за вниманием, которое, что очень важно, отсутствовало в направлении цели или в фокусе, и особенно за связью такого внимания с восприятием (Matussek, 1987, р. 92–94). В условиях, по существу, стабильной окружающей обстановки Матушек установил, что шизофреник «остается захваченным»
(held captive) отдельными объектами. Данная «ригидность восприятия» проявляется в непрерывном созерцании отдельного объекта, во время которого пациент теряет себя (становится «завороженным»). При таком созерцании объект выделяется из окружающего его контекста. Пациент-шизофреник сообщает, что он видел: «…фрагменты, нескольких людей, молочный магазин, мрачный дом. Совсем правильно (потому что я не могу сказать, что все это видел) было бы сказать, что эти объекты казались иными, чем обычно. Они не находились вместе… и я видел их, как несущественные детали» (р. 92).
Продолжительный и пристальный взгляд, характерный для шизофреников, который отмечали другие клиницисты и на который в особенности обращал внимание Луис Сасс (1992, р. 47), оказывается пассивной и рассредоточенной фиксацией взгляда, при которой субъект теряется в объекте. Это значит, что он утрачивает свое ощущение отдельности от объекта и ощущение того, что смотрит на объект, хотя объект теряет свою обычную идентичность и остается лишь формой и визуальным ощущением.
Матушек отмечает, что такое ощущение иногда может быть вызвано у нормальных людей, если они в течение продолжительного времени фиксировали взгляд, хотя, по его мнению, это состояние поддерживать очень трудно. (Прилагая относительно небольшие усилия, мне самому удалось испытать на короткое время такое ощущение.) Матушек отмечает, что ощущение потерянности, «захваченное™» при созерцании объекта или части объекта может возникать у нормальных людей, находящихся в состоянии усталости. Оно также знакомо ему из его экспериментов с мескалином. Разумеется, многие другие исследователи сообщали о похожих ощущениях под воздействием мескалина или других наркотиков подобного действия.
Например, писатель Уильям С. Берроуз отметил, что, находясь под действием наркотиков, он «восемь часов кряду мог неотрывно глядеть на носок своего ботинка» (Burroughs, 1984). Несколько более поэтично Бодлер описывает свое ощущение от интоксикации, вызванной гашишем: «…время от времени личность исчезает, и объективность… достигает такой степени, что вы смешиваете себя с внешними предметами. Вот вы становитесь деревом, стонущим под напорами ветра, поющим природе свою мелодию… Теперь вы парите в небесной лазури, бесконечно раздвинувшей свои пределы…Вы более не сопротивляетесь, вас уже захватило, вы уже не владеете собою, но вы нисколько этим не огорчены. Сейчас совершенно исчезает всякое представление о времени…» (цит. по: Werner, 1968, р. 82)
[24].
Не менее часто встречаются сообщения людей, находившихся под воздействием мескалина или лизергиновой кислоты
[25], которых захватывало острое ощущение, например, яркости цвета. Некоторые такие ощущения встречаются в описаниях ранней стадии шизофрении.
Пациент Мак-Ги и Чэпмена говорит: «Теперь цвета кажутся мне ярче, почти так, словно они светятся» (1961, р. 105). Другой пациент сообщил, что ему все «шумы кажутся громче» (р. 105).
В своих воспоминаниях, которые мы цитировали ранее, Рене вспоминает, что, когда она в самом начале своего психоза входила в кабинет директора, он был «освещен ужасным электрическим светом». Она также говорит «о сияющем на солнце желтом пространстве (пшеничном поле)», и, в тревоге приблизившись к своей учительнице, она видит «ее зубы, белые и даже сияющие на свету… вскоре они приковали к себе все внимание, словно в комнате не было больше ничего, кроме ее зубов в беспощадном свете» (Sechehaye, 1968, р. 22).
Каттнинг и Дуни (Cuttning and Dunne 1989, р. 22) обнаружили, что некоторые шизофреники, которых они исследовали, сообщают о похожих ощущениях: «Многие вещи казались психоделическими. Они сияли».
Казалось бы, такое необычное ощущение, вызванное восприятием, подтверждает гипотезу «дефектного фильтра», на которую мы ссылались ранее. Но легко видеть, что сам дефектный фильтр вполне можно считать результатом нарушения или отсутствия активной целенаправленной сосредоточенности. Именно такая сосредоточенность обычно преобразует визуальные ощущения и отдельные формы в привычную реальность. Иначе говоря, эти фрагменты и ощущения подчиняются активному интересу при взгляде-на-что-то. Они служат орудием такого интереса и тратят энергию, чтобы отвлечь внимание на свое независимое существование, когда оно направлено на узнавание объектов и ситуаций.
Оказывается, у любого человека при продолжительном взгляде может истощиться нормальная установка
видения и хотя бы на короткое время может появиться более пассивная установка только
смотрения, при которой внимание задерживается на фрагментах и на доминирующих ощущениях. Такую установку вырабатывают у себя художники. Говорят, что японские художники иногда получают такое визуальное ощущение, глядя на пейзаж, перевернутый вверх ногами, как бы «видя его своими ногами», таким образом разрушая привычный контекст и объектность реальности. Но оказывается, что при нарушении нормального волевого направления внимания, а вместе с ним — активного целенаправленного взгляда-на-что-то, фрагментарные и изолированные формы и ощущения возникают безо всяких усилий.
Многие хорошо известные особенности шизофренического мышления и речи с большой степенью вероятности можно считать частью воздействия такого восприятия. Нормальные, более или менее целенаправленные мысли и обычные коммуникативные или выразительные цели речи при шизофрении не сохраняются, и тогда слабость активной цели приводит к отвлечениям в мыслях и в речи, очень похожим на отвлечения внимания и восприятия, о которых говорилось ранее. Следовательно, «свободные ассоциации» и скачкообразное мышление, при котором «подвижной состав» мыслей сходит с путей под воздействием логически нерелевантных ассоциаций, иногда основываются на альтернативном силлабическом сходстве
[26], или сходстве в звучании слов («созвучных» ассоциациях —
clang associations), которые обычно остаются незамеченными.
Блейлер приводит следующий пример: «Женщина-гебефреник хочет подписать своим именем письмо, как обычно: „Б. Граф“. Она пишет: „Гра“, а затем ей в голову приходит слово, начинающееся с „гр“; она исправляет „а“ на „о“ и добавляет двойное „с“, чтобы получилось „Гросс“, а затем дважды его повторяет… Таким образом пациентка теряется в той области ассоциаций, где отсутствует смысл…» (Rapaport, 1951, р. 591).
Блейлер, считавший свободные ассоциации основным симптомом шизофрении, пришел к выводу, что эти ассоциации появились вследствие отсутствия «представления о цели, самой важной детерминанты, определяющей направление ассоциаций» (Rapaport, 1951, р. 586). Комментируя эти замечания Блейлера, Дэвид Рапапорт добавляет, что «с точки зрения психоанализа представление о цели [также] является ключевой характеристикой вторичного процесса [реалистичного мышления]» (Rapaport, 1951, р. 586).
Я сам обнаружил, что ощущение звуков и фрагментов слова, сравнимое с описанным ранее эффектом восприятия, можно получить, пассивно повторяя слова, не преследуя цель коммуникации. Оказывается, в результате такого блуждающего внимания появляется именно то, что мы называем несвязным
(loose) или скачкообразным
(tangential) мышлением. Возможно, шизофреническое гиперосознание тела становится результатом такого же воздействия. Отсутствие целенаправленного движения и целенаправленного внимания приводит к усилению осознания физических ощущений, которые обычно остаются незамеченными.
Есть и другое наблюдение — так сказать, с другой стороны, а именно: нарушение волевого управления и организующего воздействия цели или отказ от них являются причиной прекращения процессов восприятия и речевого действия. Оказывается, что общий уровень функционирования шизофреников не только на ранних стадиях болезни, но и впоследствии, на стадиях хронической шизофрении, заметно улучшается, пусть даже это улучшение временное, если внешние обстоятельства способствуют постановке перед ними цели. Сотрудники психиатрических клиник знают много интересных эпизодов, которые случаются особенно в период, предшествующий приему медикаментов, повышающих психическую активность. Эти эпизоды связаны с пациентами, реагирующими на критические ситуации или просто на окружающие условия неожиданно нормальными высказываниями и поступками. Это снова иллюстрирует пациентка Сеше — Рене: рассказывая о своем самом раннем ужасающем ощущении нереальности, она говорит: «Тогда меня спасла именно активность. Наступил час богослужения, и… и мне нужно было встать в очередь… чтобы сделать что-то конкретное и обычное, и это мне очень помогло» (Sechehaye, 1968, р. 22).
Возможно, данная точка зрения находит такое же подтверждение в свидетельстве, что фактически неподвижных кататонических пациентов можно хотя бы на время вовлечь в активные действия, если дать им возможность поиграть в мяч (Straus and Griffith, 1955), заняться танцевальной или двигательной терапией (Jonhson, 1984). Действительно, один из исследователей (Jonhson, 1984) предполагает, что в такой ситуации игра в мяч может побудить кататонического пациента к реакции именно потому, что она «позволяет ему избегать ответственности… за волевые действия…» (р. 306). Иначе говоря, если при нарушении действия у человека появляется цель, она может способствовать развитию нормальной деятельности.
При этом другое, совершенно поразительное наблюдение Томаса Фримена (Thomas Freemen) позволяет прийти к такому же выводу. Говоря о кататонических шизофрениках, он замечает: «Все, без исключения, пациенты произносили связную, беглую и логичную речь, которая появлялась, когда они злились или находились под сильным воздействием какой-то потребности (например, голода)… Чаще всего такое „улучшение“ состояния возникало, когда пациент находился в состоянии отчуждения, невосприимчивости, в котором были блокированы речь и волевые движения. После выражения гнева пациент всегда возвращался к своему прежнему состоянию» (Freeman, 1969, р. 93). Кратковременное появление спонтанной цели, которое в таком состоянии возможно и в отсутствие самоосознания, организует мышление и речь.
Потеря реальности и полярности в отношении субъект-объект
Нельзя себе представить любое ослабление воли, в особенности такое радикальное, как у шизофреников, без соответствующего сопоставимого с этим ослаблением нарушения когнитивного отношения к внешнему миру. Замена активного и осознанного способа
присматриваться (looking-things-over) и прислушиваться к чему-то (listening to something) пассивным типом рассредоточенного
смотрения и слушания привносит с собой утрату контекстуально значимой объектности и существования внешних объектов. В крайнем случае — пассивно-рассредоточенно смотреть и слушать, позволив разным стимулам захватить внимание, — значит в них потеряться и оказаться ими «поглощенным», как выразился пациент Мак-Ги. Сообщения пациентов Мак-Ги и Чэпмена о фрагментарном перцептивном воздействии, о которых говорилось ранее, постоянно включают в себя упоминание о потере себя в ощущении или потере чувства отдельности от источника этого ощущения.
Один пациент-шизофреник выражается так: «Кажется, все проходит сквозь меня» (р. 104). Другой говорит о своем «соединении с источником звуков» (р. 105). Сообщая о своих ощущениях, третий пациент говорит, что чувствует, словно «наступила кома» (р. 109); четвертый говорит о «каком-то трансе» (р. 109). Интересно отметить, что такое ощущение напоминает введение в гипнотический транс, которое часто сопровождается пассивным созерцанием объекта, а иногда — инструкцией избегать произвольного мышления.
Вместе с тем эта вызванная пассивностью потеря полярности отношения между субъектом и объектом создает возможность одушевления объекта, когда субъект наделяет его своим собственным субъективным ощущением. Если внешний объект больше не ощущается отдельно от связанного с ним окружения, то он становится подвержен таким искажениям и изменениям. В этой связи рассмотрим еще раз сообщение Рене о приближении к ней учительницы, когда она ощущает крайнюю тревогу. Она видит «ее зубы, белые и даже сияющие на свету. Неизменно сверкая, вскоре они приковали к себе все мое внимание, словно в комнате не было больше ничего, кроме ее зубов в беспощадном свете».
Это не ощущение отдельной, внешней фигуры, человека, на которого смотрят или о котором думают, как это обычно бывает. Это ощущение беспомощно расстроенного внимания, которое было захвачено визуальным фрагментом, выхваченным из реального контекста. Утратив свою собственную реальность, этот фрагмент смог легче впитать в себя тревогу Рене и произвести на нее жуткое впечатление. Точно такой же феномен можно было наблюдать у другого человека, находящегося в остро паранойяльном, защитно-тревожном состоянии. Его внимание было приковано к одному-двум словам, услышанным по радио, может быть, даже не к слову, а к его фрагменту. Внешний контекст, придающий этим словам реалистичный смысл, для него утрачивается, а потому может быть легко наделен угрожающим для него звучанием.
В предыдущей главе я говорил о невротической потере реальности. Например, это субъективно окрашенный мир истерика, смотрящего на чернильное пятно Роршаха: «Большая летучая мышь! Она ужасна!» Такое импрессионистическое восприятие возникает вследствие подавления более осознанного критического суждения. Как уже отмечалось, нечто похожее можно легко наблюдать у одержимой личности. Такой человек изучает возможность или то, что, по его мнению, следует считать возможностью. Он не оценивает, он не может оценить эту возможность, тщательно ее рассмотреть и решить, насколько она действительно его интересует. Его добросовестное отношение к правилам запрещает давать такую оценку. Вместо этого от говорит себе, что такая возможность может больше не представиться; таким образом преувеличивается ее ценность и она становится вынужденной. В каждом из этих случаев — у истерической и одержимой личности — находится компромисс между субъектом и внешней реальностью, и внешний объект или ситуация наделяется соответствующими свойствами (в одном случае — «ужасной» опасностью, в другом — уникальной ценностью), порожденными субъективной жизнью невротической личности. Потеря полярности в отношении между субъектом и объектом — это прямой результат воздействия когнитивных защитных ограничений невротического характера.
В случае шизофрении, когда подчинение воли и когнитивные ограничения, которые являются следствием такого подчинения, становятся гораздо больше, а границы между самостью и внешним объектом — гораздо слабее, «намного меньше» становится «намного больше». Части и фрагменты внешнего мира, изъятые из окружающего их контекста, проявляются как воплощение сильной тревоги и идей.
Молодой женщине, страдающей шизофренией на ранней стадии, в спокойном, безобидном шепоте проходящих по улице людей слышится злобное шипение: «Пест! Пест!» — обращенное к ней.
Шизофреник Шребер в начале своей болезни ночью осознает «потрескивание», которое он считает «несомненно божественными чудесами» (Schreber, 1955, р. 64).
Другой пациент-шизофреник вспоминает впечатление от взгляда на медленно приближающуюся границу тени, отбрасываемой преградой, которая указывает на конец света (Matussek, 1952, р. 93).
Эти ощущения — не только результат интерпретации — мыслей, имеющих метафорический или символический смысл. Матушек особенно отмечает появление бредовых свойств, которые «ощущаются как присущие непосредственно объекту» (р. 98). Иными словами, субъективное качество ощущения шизофреника прямо сопоставимо с представлением, когда истерику летучая мышь кажется «ужасной», а одержимой личности возможность кажется обязанностью. Иное понимание качества бредового ощущения — в символическом или метафорическом смысле, то есть в обычном смысле образа, который используется для наглядного представления о понятии, — не позволило бы в достаточной мере выявить утрату объективного мира.
Если анализ шизофренической потери реальности правильный, то сама эта потеря не является защитной реакцией. Иными словами, это не защитно-мотивированный уход от реальности внешнего мира. Скорее его можно сравнить с невротической потерей реальности, с побочным результатом защитной реакции, рефлекторной уступчивости, предвосхищающей тревогу, или серьезной, глубокой потери волевого управления.
Шизофренический аффект
Мак-Ги и Чэпмен уверены, что изменения шизофренического аффекта можно считать вторичными по сравнению с первичным когнитивным нарушением, обусловленным биохимическими процессами. То есть, по их мнению, аффективные изменения являются реакциями на ощущение потери волевого когнитивного контроля и сопутствующей потери индивидуального ощущения своей «субъектности». По существу, с этой точки зрения потеря аффекта является следствием потери объекта, на котором этот аффект сфокусирован.
Общая зависимость формы аффекта от состояния когнитивной сферы, по существу, кажется вполне резонной, даже закономерной. Согласно Пиаже, когнитивная сфера создает структуру аффективной энергии (Piaget, 1981). Он наблюдал последовательность стадий аффективного развития, например, при раннем появлении стабильной индивидуальной привязанности и более позднего развития абстрактных ценностей в соответствии с когнитивным развитием ребенка от его рождения до подросткового возраста. Но мне кажется, что концепция простой зависимости формы аффекта от когнитивной функции не то чтобы является односторонней, она слишком ограниченна. И форма познания, и качество аффекта — это два аспекта отношения человека к внешнему миру. Оба они отражают общую природу этого отношения и основные типы реактивности и активности, характеризующие это отношение. Эти типы, а не только когнитивная сфера, формируют структуру для аффективной реакции.
В предыдущей главе я предположил наличие прямой связи между возвратом к доволевым типам психодинамики и деградацией качества аффекта. В качестве иллюстрации я предложил два примера пассивной реактивности: истерический и психопатический характер. Первый из них считается эмоционально «поверхностным»; второй, с более быстрой реакцией, — не только эмоционально поверхностным, но и эмоционально «нейтральным». Теперь я предлагаю экстраполировать эту связь на более глубокую пассивность шизофреника и соответствующий ей «уплощенный» аффект.
При хронической шизофрении эта пассивность проявляется столь сильно, целеустремленность и направленность мышления оказываются настолько слабыми, а само мышление в этом смысле — таким беспомощным и ошибочным, что трудно себе представить любую более-менее стабильную эмоциональную реакцию, как-то соединенную со стабильными целями и интересами, или даже эмоциональное изучение объекта. Обычные эмоциональные процессы сокращаются, причем гораздо радикальнее, чем в случае истерика или психопата. Фактически, на этом уровне пассивной реактивности следует принимать в расчет не только потерю эмоциональности, но и появление рудиментарной и отчужденной сексуальной и агрессивной реакции вместо подлинных эмоциональных реакций.
Обсуждая воздействие ослабления высшей психической функции на низшие психические функции при повреждениях коры головного мозга, Курт Гольдштейн (Kurt Goldstein) приходит к похожему заключению относительно сексуальной установки: «Установка по отношению к эротической сфере изменилась точно так же, как изменилась общая установка по отношению к внешнему миру. В той же мере как общая установка стала более привязанной к стимулу, менее независимой и менее эго-детерминированной, так и сексуальная установка стала более пассивной, менее разборчивой и меньше связанной с Эго… это различие лучше всего выражается… как деградация от уровня эротики (любовных чувств)… до уровня чистой сексуальности, которой не хватает более духовных и более тонких телесных ощущений» (Goldstein, 1939, 1963, р. 488).
Переход к шизофрении
Если верно, как кажется, что защитное избегание действия и волевого управления, которое мы наблюдаем в состояниях невроза, происходит и при шизофрении, причем оказывает более глубокое воздействие, то вопрос различий между этими двумя типами патологии становится все более очевидным. Ибо не приходится сомневаться в существовании разрыва между ними на симптоматической шкале, что часто становится чрезвычайно заметным при развитии психоза, и никакие наши прежние доводы не помогают его объяснить.
Разумеется, в состояниях невроза ослабление отношения к внешней реальности ограниченно. Это ограничение заключается не только в степени ослабления. Невротический характер развивается медленно и в процессе своего развития отвечает требованиям и следует возможностям, исходящим от внешней реальности. Патология развивается и в соответствии с необходимостью внешней адаптации, и в соответствии с внутренними требованиями. Парящий в облаках, но социально вовлеченный истерик; ригидный, но результативный исполнитель и даже импульсивная и психопатическая личность (человек действия) — все эти типы хорошо известны и в своем роде адаптивны. В шизофрении нет аналогов, которые можно рассматривать всерьез. (Развитие предвосхищающих тревогу невротических стилей, которые вместе с тем являются адаптивными, фактически предполагает, что там, где требования к адаптации являются разными, например, в различных местах и в разное время, можно было бы ожидать появления невротических симптомов в несколько иной форме, но к шизофрении это не имеет никакого отношения.) Однако наличие успешной адаптации, присущей невротическим стилям, которая столь разительно отличает их от шизофрении, имеет гораздо более важное значение, чем только мера сравнения психического здоровья: это значит, что невротическое отношение к внешней реальности, даже основанное на компромиссе, все равно остается достаточно здоровым, чтобы обеспечивать внешнюю подпитку волевого управления.
Волевое управление, то есть самоуправление согласно осознанным целям, не может действовать в отсутствие внешних целей: этого нельзя даже себе представить
[27].
Преднамеренность и воля развиваются в детстве вместе с осознанием таких целей, — чтобы получить погремушку как интересный объект, младенец должен ее узнавать, — и должны находиться в постоянной зависимости от наличия этих целей. До сих пор мы считали связь между волевым управлением и ощущением внешней реальности односторонней: ослабление ощущения внешней реальности становится следствием ограничения или потери волевого управления. Но, рассматривая шизофрению, следует учитывать и обратную связь: а именно воздействие на волевое управление утраты ясных внешних целей.
У нас есть экспериментальные данные, свидетельствующие о наличии такого воздействия, по крайней мере, в экстремальных условиях. Организация эксперимента предусматривала лишение нормальных людей обычного сенсорного контакта с внешним миром (их помещали в звуконепроницаемую комнату, надевали на них очки с полупрозрачными стеклами и т. п.), быстро вызывая симптомы, похожие на те, которые возникали в экспериментах по изучению интоксикации мескалином (Bexton et al., 1954; Heron, 1957). Эти симптомы были также чрезвычайно похожи на симптомы шизофрении. Они включали в себя галлюцинации, странные телесные ощущения («казалось, что кто-то высасывает у меня мозг через мои глаза» — Heron, р. 54) и вызывали нарушения в аффективной сфере психики (как раздражительность, так и приступы легкого веселья). Эти симптомы также включали в себя потерю волевого контроля над мышлением и вниманием, очень похожую на ту, которую ощущали обсуждаемые нами пациенты-шизофреники. В основном испытуемые сообщали, что этот эксперимент отнял у них много сил или что они не смогли сконцентрироваться. Они «перестали пытаться организовать мышление» (Bexton et al.) и «дали возможность своему рассудку плыть по течению» (Heron). В описаниях экспериментов эти феномены названы «разрушением способности систематически и продуктивно мыслить». Один из испытуемых, сообщая о своих ощущениях, похожих на те, которые мы обсуждали, сказал: «Мой рассудок просто наполнили цвета и звуки так, что я не мог им управлять» (Heron, р. 54).
Я предполагаю, что разрыв между состояниями невроза и психоза может быть результатом обратного воздействия потери волевого контроля и сопутствующего ей ослабления полярности в отношении между субъектом и объектом. В той или иной мере потеря внешней реальности, полярности субъект-объектных отношений присуща любой психопатологии. Но у некоторых людей эта потеря ясного и стабильного ощущения внешней реальности хотя и является сопутствующим результатом защитного отказа от ощущения волевого напряжения, может сама по себе достигать такого уровня, что человек лишается ощущения внешних объектов, которого требует волевое управление. Я считаю, что это происходит на начальной стадии развития шизофрении, на которой появляется чувство тревоги и даже ужаса, вызванное ощущением странности и нереальности происходящего. Впоследствии может случиться ускоренное развитие болезни в направлении крайней, то есть шизофренической, ригидности, или капитуляции воли. В соответствии с описанием Гарри Стэком Салливаном типичного приступа шизофрении, «нарушение в оценке реальности, которое на предшествующих стадиях протекало медленно, теперь существенно ускоряется» (Sullivan, 1962, р. 113).
Процесс такого типа может найти свое отражение, например, в тех случаях постепенного возрастания беспокойства, которые затем вдруг неожиданно становятся явно шизофреническими. Молодой человек, который с возрастающей настойчивостью собирал огромное количество сведений о своих коллегах и об американских университетах, чтобы продолжить свое образование и сделать карьеру, в какой-то момент теряет уверенность в этой цели, пребывает в смятении, испытывает крайнее беспокойство, сознавая, что с ним происходит что-то не то; затем у него быстро развиваются странные и грандиозные идеи. То, что было невротической, то есть навязчивой, ригидностью, при существенном внутреннем давлении и напряжении становится утратой реальности на уровне крайнего беспокойства и смятения (Салливан называет это переживание, типичное для начальной стадии шизофрении, «растерянностью» (
perplexity) — Sullivan, 1962, р. 113, ощущением, что все происходит «не так» — р. 114), и тогда появляются симптомы еще более сильной ригидности. То, что было защитным отказом от ощущения воли, при существенном ослаблении связи с внешней реальностью становится явной неспособностью к управлению волей, и эта неспособность к управлению распространяется на сферы внимания и мышления.
Этот обратимый ход развития кажется вполне совместимым с гипотезами о биологической предрасположенности или о процессе, «содержащем две переменные», выдвинутой Филиппом С. Хольцманом (Philip S. Holzman) на основе клинических физиологических и генетических данных. Хольцман полагает, что существующая неклиническая патология, представляющая собой особый тип нарушения мышления (ослабление и т. п.) и присутствующая только в умеренной степени, например, у не затронутых болезнью родственников пациентов-шизофреников, затем может обостриться до состояния шизофрении (Holzman, 1995). Я полагаю, что у некоторых людей такое обострение может быть вызвано защитным отказом от волевого ощущения.
Ригидность при паранойяльной и кататонической шизофрении
Я сделал предположение, что в ограниченном (узком) смысле шизофрению, как и непсихотические симптомы, можно рассматривать «характерологически»
(in character). Под этим имеется в виду, что симптомы шизофрении, при всем внешнем разнообразии, являются дальнейшими продуктами защитных реакций, характерных для человека, находящегося в предпсихотическом состоянии. Теперь я хочу несколько иначе, несколько более точно сформулировать эту мысль и показать, что радикальная потеря воли при шизофрении и ее симптоматические последствия можно понимать как последующие продукты воздействия отдельных доволевых типов динамики, характерных для особого предпсихотического состояния.
В качестве примера я выбрал паранойяльную и кататоническую формы шизофрении, ибо у нас есть совершенно ясная информация о типичном протекании предпсихотической стадии для этих обоих состояний. Есть важное свидетельство, что обычно у человека в состоянии, предшествующем этим двум видам психоза, наблюдается некая форма навязчиво-одержимой ригидности. Тогда моя цель заключается в том, чтобы показать, что каждое из этих состояний шизофрении можно понимать как радикальное, преимущественно управляемое тревогой усиление такого типа ригидности. Несомненно, мы не можем с любой степенью точности описать различия между типичными предпсихотическими состояниями в рамках этой грубой категоризации; мы не можем даже провести более общее различие между типом ригидности, который может привести к психозу, и более общими случаями ригидности, которые к нему не приводят. А потому процессы, которые я буду обсуждать, не обладают прогностической ценностью; данное описание и обсуждение будет слишком обобщенным и неточным, чтобы что-то предсказывать. Но даже такое общее описание этих процессов может привести, по крайней мере в ретроспективе, к пониманию развития шизофрении.
Давайте вспомним, что связь навязчиво-одержимого и паранойяльного стиля прежде всего вытекает из того факта, что любой ригидный тип самоуправления включает в себя конфликт и сопротивление воздействию на два фронта: изнутри и извне. В более стабильном случае навязчивой одержимости эта борьба, по существу, является внутренней, хотя и не полностью; человек в данном случае является упрямым. Но независимо от того, как и где должны защищаться внутренний и внешний фронт, любая нестабильность на внутреннем фронте неизбежно превращается в уязвимость на внешнем. Нужно лишь представить себе менее стабильную трансформацию навязчиво-одержимой личности, менее уверенную в том, что она является тем, кем ей «следует» быть, а, следовательно, более себя осознающую и в той же мере менее поглощенную продуктивной работой. Тогда мы получим картину уже не столько упрямства и ригидной цели, сколько усиления ригидности и защитной чувствительности. Иначе говоря, у нас возникает картина паранойяльного состояния.
Когнитивная предвзятость и последующая потеря реальности, которые всегда сопутствуют повышению такого типа чувствительности и усилению защитной реакции, становятся более ригидными, когда усиливается и ужесточается защитная реакция. Элемент внешнего мира, отвечающий защитным ожиданиям, постепенно изымается из окружающего его контекста; постепенно этот элемент, отдельно от всего, что его окружает, становится
носителем управляющего сигнала
(command notice). Иначе говоря, чем более ригидна предвзятость, тем скорее узнается этот подкрепляющий элемент, и с той же скоростью снижается степень поляризации субъект-объектного отношения. Как только такой предусмотрительный человек входит в кабинет терапевта, он сразу видит на полке, на некотором расстоянии от себя, обложку книги с названием «гипноз». В этом случае можно сказать, что предусмотрительность пациента порождает гипнотизера, который представляет для него угрозу. Так как подкрепляющий элемент становится найти все легче, то все меньше и меньше требуется от реальности, чтобы она отвечала ожиданиям, которые становятся все более фиксированными и все более настойчивыми. Мне думается, все это уже установлено и хорошо известно. Далее я предположил, что при усилении такой потери внешней реальности до определенного уровня вновь появившаяся тревога и дезориентация начинают доминировать в существующей динамике и ускоряют процесс. Когда паранойяльная защитная мобилизация и соответствующая ей когнитивная предвзятость достигают крайней степени ригидности, элементы реальности, подкрепляющие защитные ожидания, находятся так легко и быстро, что уже не воспринимаются как открытия, а просто режут глаз. Они присутствуют неизменно и постоянно.
Например, мужчина, находящийся в остром паранойяльном состоянии, испытывающий ужас от направленного против него тайного сговора, рассказывает, что угрожающие ему послания «выскакивают» на него прямо с рекламных щитов и из газет.
Скорость, с которой узнаются такие «послания», и ригидность предвзятости, которую отражает эта ригидность, свидетельствует о практически полной потере границы или полярности между самостью и внешней реальностью. Эта неотложность, это включение, словно по сигналу, фиксированной и запрограммированной идеи позволяет очень ясно понять сущность пассивно-реактивной природы когнитивной функции, которая является столь ригидно-предвзятой. В таком случае сокращенная цепь волевого управления мышлением и вниманием оказывается шизофренической.
Хорошо известно, что при паранойяльной шизофрении, в отличие от менее острых, пассивных типов шизофрении, обычно сохраняется некоторая упорядоченность мышления (Blatt and Wild, 1976). Я полагаю, что эта упорядоченность отражает следующее: как это обычно бывает, при данном типе ригидности, доминирующем посредством особенных и очень мощных идей, даже при фиксации на этих идеях по-прежнему сохраняется некоторая независимость внешнего и внутреннего отвлечения. Это обстоятельство в какой-то мере отличает этот ригидный тип шизофрении от более глубоких и в общем более пассивных форм шизофрении.
Состояния с серьезно выраженной одержимостью считаются основой
(setting), способствующей развитию не только паранойяльной, но и кататонической шизофрении. Это лишний раз напоминает нам не только о грубости нашей диагностической классификации, но и об ограниченности нашего понимания. Во всяком случае, при всей этой серьезной ограниченности связь характерных черт одержимости и некоторых типичных установок с кататонической шизофренией хорошо известна в клинической практике. Следует заметить, что эти черты и установки не только обычно выявлялись в истории пациентов, больных кататонической шизофренией, а часто становились заметными при скрытом протекании процесса шизофрении.
Например, в обзоре Дэвида Рида Джонсона (David Read Johnson) восьми клинических случаев психотерапевтического лечения больных кататонической шизофренией — все, что ему удалось найти, — у каждого из больных наблюдались черты одержимости или симптомы навязчивости. Особенно часто отмечалось наличие одержимого перфекционизма (Johnson, 1984). Так, пациент Отто Уилла (Otto Will) «бранил себя за то, что не был
достаточно совершенным» (р. 302); пациент Германа Нунберга стремился стать
«самим совершенством, выполняя комплекс физических упражнений» (р. 300); Роберт Найт (Robert Knight) описывает больного кататонической шизофренией как «перфекциониста и одержимого» (р. 300). Кроме этих особенных черт есть и другие: по описанию Сильвано Ариети, его пациент «подавлен навязчивыми сомнениями, нерешительностью» (р. 301); а сам автор обзора Джонсон находит своего пациента «совершенно скованным при необходимости принимать решение» (р. 304).
Но интересно не только само наличие этих симптомов у больных кататонической шизофренией. Сам по себе этот факт можно интерпретировать по-разному, быть может, только как остаточные формы навязчиво-одержимых защит, утративших свою силу и функцию и, следовательно, совершенно обособленных от развившегося кататонического состояния. Действительно, связь, которая раскрывается в рассказах бывших больных кататонической шизофренией, оказывается гораздо более существенной. Фактически ощущение так называемого кататонического ступора, что очень важно, оказывается прямым продолжением и усилением некоторых видов навязчивой одержимости.
Оказывается, кататоническая скованность в особенности отражает радикальное усиление одержимой неуверенности, нерешительности и предусмотрительной озабоченности. Природу этого радикального усиления можно определить более точно; она заключается в педантичности, которая по степени ригидности намного превосходит педантичность, характерную для невротичной одержимости. Именно об этой ригидной педантичности, которая выражается в перфекционизме, шла речь выше. При кататонической скованности ни одно действие — то есть ни одно намеренное действие — не может остаться непроверенным.
Рассмотрим, например, описание, сделанное Сильвано Ариети, пациента, находящегося непосредственно «в процессе развития приступа кататонической шизофрении» (Arieti, 1974, р. 318): «Он все больше и больше осознавал, что ему становится трудно действовать. Он не знал, что делать… куда смотреть, куда повернуться.
Любое движение, которое он хотел сделать, казалось ему неразрешимой проблемой, так как он не знал, следует ли ему его делать или нет… Казалось, его
подавлял страх сделать что-то не так. Поэтому он предпочитал оставаться неподвижным».
Ариети очень ясно обобщает свои наблюдения: «Пациент, у которого развивалась кататония, вообще является человеком, испытывающим крайнюю тревогу, в особенности тревогу, связанную с совершением какого-то действия… Затем тревога обобщается и переносится на каждое движение, управляемое его волей [т. е. на каждое волевое движение]» (р. 155).
У пациента Эндриса Энжиля, страдающего кататонической шизофренией, такая тревога выражается в более специфичной форме: «Малейшее движение, которое он делал, приобретало почти космический смысл. У него было чувство: стоит ему лишь поднять палец или сделать шаг, это обязательно приведет к непредвиденным важным последствиям… поэтому ему следовало часами неподвижно стоять на одном месте… Иногда… он „украдкой“ чесал шею, но при этом чувствовал себя очень виноватым, словно сделал что-то плохое» (Angyal, 1950, р. 155).
У одной такой же пациентки, пятнадцатилетней девочки, проявлялась очень похожая установка, в данном случае — в связи с более специфическим беспокойством. Она приходила в ужас, оттого что причиняет вред мухам на полу (которые были плодом ее галлюцинаций) и не позволяла ни себе, ни кому-то другому двигаться по комнате: «…она стояла в центре комнаты, пристально глядя на пол, стараясь не сдвинуться с места. Ее рот был наполнен слюной, которую она не позволяла себе ни выплюнуть, ни проглотить…» (Tahka, 1993, р. 290–291).
Можно легко заметить, что в педантичной предосторожности эти пациенты мало отличаются от других людей, страдающих одержимостью, за исключением, конечно, аномальной преувеличенности и нереальности их беспокойства. Но даже это отличие нельзя назвать резким. Ибо педантичность невротически одержимо-предосторожной тревоги и беспокойства также создает нереалистичные преувеличения. Как мы уже видели, одержимые люди под воздействием тревожной озабоченности самоконтролем часто создают себе тревожные представления о своих «импульсах». Если бы они ослабили самоконтроль, то, по их словам, они могли бы изнасиловать ребенка, броситься на машине с моста, вступать в половую связь с кем попало, сложить с себя всякую ответственность или сделать что-то еще хуже. Эти фантомы появляются не вследствие обычных суждений, а вследствие предвзятого неустанного поиска опасных и неприемлемых мыслей. Чем более точным и педантичным оказывается такой поиск, тем более крайней будет предвзятость человека и тем более ужасными становятся его «открытия».
Динамика одержимой личности также соотносится и с упоминавшимися ранее наблюдениями Ариети, что кататоническое тревожное подавление отдельного действия распространяется и обобщается на все волевые действия. Такое распространение и обобщение — не только следствие когнитивной склонности к обобщению. Одержимость тревогой тоже, как правило, обобщается, хотя и не в такой степени; это существенно с точки зрения невротической внутренней динамики. Именно ригидная педантичность, непреклонность, присущая одержимо-предосторожному беспокойству, как не совершить ошибку, стать виноватым или потерпеть неудачу, а также то, что это беспокойство ничем нельзя унять, ничто нельзя оставить без контроля, нельзя упустить ни одну, даже малейшую возможность неудачи, — все это ведет озабоченность одержимой личности от одной тревоги к следующей и ко все более и более отсроченной реализации возможностей стать виноватым.
Конечно, одержимые личности когда-то тоже испытывают общее подавление действия, нечто похожее на скованность или «паралич» (это общее
место во всех личных сообщениях), которое в крайних случаях может действительно напоминать состояние кататонического ступора. Такая скованность иногда становится результатом особенно серьезных случаев одного из самых общих симптомов одержимости — нерешительности или, опять же, проявления ригидной педантичности, которая всегда находит недостатки или в худшем случае препятствует любой попытке действовать.
Один такой мужчина с явно выраженной одержимостью, будучи пациентом психиатрической клиники открытого типа, часто вставал на ближайшей к зданию развилке дорожек и, оставаясь неподвижным, долго смотрел на происходящее. Медицинский персонал, которому он встречался по пути, иногда действительно по ошибке принимал его за кататоника. Но он не был шизофреником; он лишь мучительно выбирал путь, которым ему «следует» идти, и никак не мог выбрать.
Мы рассмотрели сходство между одержимостью и кататонией, но вместе с тем должны рассмотреть кардинальные отличия этих состояний. Только что приведенный случай поможет нам по-разному описать различие между вызванным одержимостью серьезным подавлением волевого действия и подлинной кататонической скованностью. Конечно, мы можем сказать, что случай кататонической шизофрении — это просто крайняя степень нарушения.
Очевидно, что превентивные призраки, вызванные кататоником, зачастую еще дальше от реальности, чем неестественное беспокойство одержимой личности, а потому подавление волевого действия принимает более завершенную форму. Несмотря на склонность к обобщению, присущую тревожной одержимой личности, ее нерешительность и подавление действия обычно ограничиваются отдельными случаями, когда осознание индивидуального выбора становится неизбежным, а значит, обостряется сопутствующее рефлексивное ощущение действия. Именно такая ситуация описана в только что приведенном примере. (Было отмечено, что наблюдатель испытывал серьезное недоумение — Rapoport, 1989, — когда пациенты, страдающие одержимостью, могли испытывать особые затруднения, переступая через порог. Разумеется, проблема заключается не в пороге, а в принятии решения.) Но действие, которое является рутинным либо продиктованным правилами или обстоятельствами, у одержимой личности обычно не вызывает ни тревоги, ни затруднений. С другой стороны, для кататонического шизофреника самоосознание и подавление распространяются на все действия. Это отличие отражает другое, более фундаментальное отличие: по сравнению с одержимой личностью, у кататоника
ригидность педантичности выражена значительно сильнее и достигает крайности. Как мы увидим, эта крайняя степень ригидности имеет другие симптоматические последствия. Но сначала нужно подробнее объяснить природу этой ригидности.
При ригидном самоуправлении человека внутренняя сила правил может принимать разные формы, причем эти формы могут использоваться в разной степени. Например, правила, которые ощущаются как нормы или «следует», могут все еще быть тесно связанными с реальными убеждениями и ценностями человека: великодушный человек может думать, что ему
следует быть еще более великодушным. В таком случае и множество основанных на правилах установок оставляют широкие возможности для индивидуальной интерпретации. Этот случай соответствует типичной навязчивой установке, побуждающей к постоянной результативности, но, как правило, не обозначающей ее сущность или свойства. С другой стороны, внутренние правила также могут быть слишком точными или перфекционистскими в своих требованиях, и чем более точными и перфекционистскими они являются, тем мельче становятся ячейки их сети и тем меньше действий могут избежать обусловленных ими подавления и запретов. Если мы говорим, что у кататоника ригидная педантичность имеет более крайнее выражение, чем у одержимой личности, то тем самым подразумеваем, что педантичность кататоника является гораздо более взыскательной. Самым очевидным свидетельством этой взыскательной педантичности является экстенсивность и всеобщность его запретов. Именно это имеет в виду Ариети, говоря о своем кататоническом пациенте: «Каждое действие… становится нагруженным чувством ответственности. В каждом желаемом движении приходится видеть… моральную проблему» (Arieti, 1974, р. 161).
Но воздействие такой взыскательной педантичности выходит далеко за пределы ее собственной сферы. Тщательной проверке подвергаются не только более широкий диапазон поведения и мышления. Важнее другое: так как поведение и мышление подвергаются проверке, которая становится все более и более взыскательной в своем выявлении опасных и чудовищных мыслей или возможных ужасных последствий таких мыслей или действий, данная проверка постепенно становится предвзятой и неизбежно приводит к искажению и преувеличению возможностей и последствий выявленного нарушения правил. Это, в свою очередь, имеет дальнейшие последствия. Чем более жесткой и взыскательной становится проверка и чем более подробными и формальными становятся ее оценки, тем более неотложной (как в случае паранойи) становится идентификация таких возможностей. В итоге постепенно теряется полярность в отношениях субъекта с внешним миром, и вместо обычного суждения создается другой мир, где совершается чудовищно-опасное действие с ужасными последствиями.
Вот описание Сильвано Ариети симптомов его пациентки Салли, которые она ощущала перед попаданием в кататонический ступор: «Ей казалось, что маленькие частицы, или корпускулы, падают сверху на ее тело или вниз с ее тела. Она предпочитала не двигаться, так как боялась, что ее движения приведут к падению этих частиц… такая мысль заставляла ее бояться каждого движения… Она пыталась просить родственников тоже заняться исследованием, чтобы убедить ее в том, что этих падающих частиц нет» (Arieti, 1974, р. 148).
Повторяю, я предлагаю гипотезу, в соответствии с которой такая потеря полярности в отношении между субъектом и внешней реальностью в какой-то момент вызывает дезориентацию, и тогда вновь появившаяся тревога ускоряет воздействие уже усилившейся ригидности. Но, так или иначе, такая степень потери полярности позволяет нам еще лучше отличать паралич одержимой нерешительности от кататонического паралича.
Человек, которому присуща только одержимая добросовестность, все еще ощущает сомнения в действии, нерешительность, даже периодически испытывает состояние явного паралича или откровенного подавления действия как более или менее активные и произвольные (несмотря на его собственное осознание «паралича»). В обоих случаях ограничения действий, которые часто оправдываются рационализациями, не так отличаются между собой, чтобы полностью исключать всякое ощущение действия. В случае кататонии, наконец, так и оказывается. Ощущение подавления действия в итоге становится субъективно пассивным. Например, другой кататоник, пациент Ариети, чувствовал, что он «каменеет». Он «был как каменная статуя» (Arieti, 1974). Такой тип ощущения служит еще одним подтверждением не только действия, диктуемого правилами
(rule-directed action), или скорее запрета на действие, но и правил, которые являются чрезвычайно ригидными и взыскательными.
Поскольку эти правила становятся более взыскательными, они вместе с тем становятся более отчужденными. В какой-то степени эта тенденция, правда, в существенно меньшей степени заметна и даже выражена симптоматически у навязчиво-одержимой личности. В той мере, в которой эта одержимая добросовестность становится более технически совершенной и изощренной, обычное недовольное осознание «следует» начинает принимать более явно выраженную форму симптомов; «следует» и «не следует» заменяются на «должен» и «не должен». Иными словами, как только правила ригидного самоуправления становятся более нормативными, более подверженными кратковременным нарушениям, а, следовательно, более далекими от индивидуального суждения, постепенно ощущается, что поведение человека, вытекающее из этих правил, все меньше и меньше связано с его индивидуальным выбором. Таким образом, одержимая добросовестность в какой-то мере заменяется более отчужденным ощущением навязчивости.
Вообще, проще говоря, это значит, что усиление ригидности подразумевает дальнейшее ослабление ощущения действия. В случае кататонической шизофрении это развитие зашло слишком далеко. Когда ограничения действия диктуются правилами, запреты которых оказываются столь ригидными, столь взыскательными и столь лишенными связи с индивидуальной оценкой или убеждением, в результате формируется пассивное и отчужденное ощущение воздействия этих запретов. Это ощущение продолжается не дольше, чем произвольное ограничение, но оно приводит к капитуляции воли и даже ее полному параличу.
В некоторых случаях кататонической шизофрении природа этой капитуляции находит дальнейшие симптоматические проявления. Полный отказ от волевого управления действием, в конечном счете, может иметь два альтернативных выражения: 1) состояние кататонической скованности; и 2) состояние неконтролируемого действия, то есть действия без сознательного ограничения или управления. Таким образом, в некоторых случаях состояние так называемого кататонического ступора может внезапно прерываться резкими импульсивными действиями или состояниями чрезвычайно сильного и не поддающего контролю кататонического возбуждения.
Шизоидные состояния
Хотя развитие паранойяльной и кататонической шизофрении из некоторых типов одержимости кажется более-менее ясным, нет сомнений и относительно других источников шизофрении. Наиболее очевидным является ее развитие из структуры шизоидного характера. Но по сравнению с одержимостью и другими невротическими состояниями в данном случае, к сожалению, существует лишь некое смутное представление о природе и психодинамике шизоидного характера и даже отсутствует достаточно широкое разнообразие в описании его общих симптомов. Тем не менее долгое время признавали существование такого типа характера и присущих ему определенных фундаментальных черт.
Так, Хелен Дейч (Helen Deutsch) в своей известной работе, впервые опубликованной в 30-х годах XX века, описывая шизоида, или «как-если-бы-личность», отмечает «характерную для него пассивность Эго» (Deutch, 1942, р. 316). Это описание в психиатрической литературе постепенно развивалось в нескольких направлениях. Например, по описанию Гарри Гантрипа (Harry Guntrip), такие люди апатичны, испытывают недостаток энергии, имеют установку «мне все равно»
(laissez faire attitude) (1969, р. 19) и часто ведут «пустую, безобидную, покорную и незаметную жизнь». Очень часто говорят, что в жизни «они плывут по течению». Иногда также считается, что они подвержены случайному воздействию внутреннего импульса или даже в чем-то психопатичны. Причем они считаются пассивными не только в поведенческом, но и в более широком смысле, который мы имели в виду, употребляя понятие пассивной реактивности, характеризующейся отсутствием или избеганием полноценного волевого, целеустремленного самоуправления.
Описание шизоидной личности как человека, «плывущего по течению», особенно интересно не только потому, что оно дает нам яркое качественное представление о его пассивности, но и потому, что оно предполагает некоторую связь с психопатией. Можно сказать, что «плыть в жизни по течению» — это описание более пассивной формы эксцентричной жизни, которая, как правило, является психопатической. Умеющий приспосабливаться психопат быстро реагирует на ситуацию, незамедлительно проявляя свой собственный интерес, и использует ее в своих целях. Он является пассивным в своей неотложности реагирования, с которой его интерес может быть захвачен предоставляемой ему возможностью (или провокацией); следовательно, его жизненный путь является эксцентричным. Но он проявляет активность в своем быстром преследовании этой возможности. «Плыть по течению» подразумевает отсутствие самоуправления в еще более высокой степени. Плывущий по течению шизоид вместе с тем легко отклоняется от своего курса то в одну, то в другую сторону, но, наверное, скорее под давлением обстоятельств, чем благодаря возможностям. Пожалуй, можно сказать, что такой человек пассивно ждет, что нечто само придет к нему в руки, тогда как психопат более активен в своем поиске того, что он может получить.
Отсутствие эмоций или скудность эмоциональной сферы тоже можно считать фундаментальной характерной чертой шизоидной личности. Обычно таких людей называют «черствыми» или «бесчувственными», хотя иногда они проявляют чувства, которых у них нет (именно поэтому Дейч назвала шизоидную личность «как-если-бы-личностью»). А потому такое явное отсутствие эмоциональности делает их похожими на психопатов. Если вспомнить о склонности к сентиментальности, часто присутствующей у психопатов, то, по-видимому, у шизоидной личности она явно отсутствует. Однако при этом нужно осознавать, что и пассивность шизоида, то есть отсутствие подлинного эмоционального интереса к другому человеку, оказывается у него более глубокой, чем у психопата. Вместе с тем она гораздо меньше, чем пассивность хронического шизофреника.
Хотя именно это общее отсутствие эмоций, или эмоциональная «опустошенность» (как ее иногда называют), шизоидной личности в особенности говорит о связи этого состояния с шизофренией, было отмечено сходство, существующее и в когнитивной сфере. Так, Гантрип (1969) говорит о «дереализации внешнего мира»
[28] и об ощущении, что «объекты уходят из фокуса [внимания] или становятся нереальными». В основном ослабление и в эмоциональной, и в когнитивной сфере рассматривались как свойственные шизофрении, как отражение отчуждения и отстраненности от внешнего мира, и особенно от человеческих отношений.
Но, как и в связи с шизофренией, возникает сомнение, является ли на самом деле ослабленная связь с внешним миром мотивированным уходом от него, как это предполагается, или же этот уход — результат каких-то иных процессов. Ибо, повторяю, защитный отказ от волевых действий и переход к глубоко пассивной реактивности ослабенного и ограниченного действия и к соответствующим психологическим последствиям, видимо, существует и в шизоидном состоянии, и, видимо, это позволяет нам понять его симптомы. Такой взгляд позволяет понять, что дальнейшее углубление и усугубление пассивности может привести к развитию шизофрении.
«Двойная бухгалтерия»?
Сейчас мне бы хотелось бы вернуться к интересному предположению Луиса Сасса относительно того, что шизофренический бред фактически сосуществует со способностью к реальному мышлению, формируя систему, которую Сасс называет «двойной бухгалтерией». Если такое предположение достоверно, оно кардинально повлияет на нашу концепцию шизофрении. Ибо наличие «двойной бухгалтерии» явно свидетельствует о том, что шизофрения не наносит ущерба и не разрушает обычную когнитивную сферу. Скорее, при шизофрении эта сфера продолжает существовать, но в каком-то смысле становится менее востребованной и частично замещается в сознании альтернативной системой идей.
Сасс нам напоминает о том, что «пациентка, настаивающая на том, что ее кофе отравлено спермой, спокойно его пьет, что Дева Мария или королева Англии продолжают… вести себя так же безропотно, как и другие пациенты» (Sass, 1992, р. 274). Нетрудно найти и другие подобные примеры: амбулаторный пациент-шизофреник, который заявляет, что живет, «работая, как Президент США», никогда не пропускает свои психотерапевтические сеансы в недорогой клинике. По существу, у нас есть много письменных свидетельств выздоровевших шизофреников, которые безусловно подтверждают наличие такой двойственной точки зрения.
Например, бывший пациент, больной кататонической шизофренией, с проявлениями бреда и галлюцинаций и не способный себя контролировать во время пребывания в клинике, говорит, что в течение всего этого времени у него «в голове всегда сохранялось чувство, что, в конце концов, все будет хорошо» (Angyal, 1950, р. 157).
Многие сообщения более подробны. Описывая свои ужасные ощущения в самом начале развития шизофрении, пациентка Рене говорит: «Тем не менее, я не верила, что мир должен рухнуть, в той мере, как я верила в реальные факты» (Sechehaye, 1968, р. 27).
О таком отчуждении сообщается не только в ретроспективе. Рассмотрим следующий диалог между пациентом-шизофреником, о котором упоминалось ранее, что часто ссылался на свою «президентскую работу», и его психотерапевтом
[29]:
Пациент: «Я должен вам сказать… Я думаю, что под вашей личиной скрывается множество людей».
Терапевт: «Вы сказали, что вы так думаете в отношении меня».
Пациент: «Но, конечно, я не верю, что это так. Я вижу вас прямо перед собой!»
Подобные свидетельства о наличии реалистичной точки зрения во время бреда встречаются нередко. Но ни одно из них не остается неизменным. Пациенты с шизофреническим бредом, которые выполняют в клинике вспомогательную работу, как обычные люди, часто пассивно следуют указаниям, и нельзя сказать, насчет чего у них будут появляться реалистичные суждения. По этой причине пациенты с бредом часто могут примиряться со своим положением во время бреда, например, настаивая на том, что они находятся в клинике инкогнито или оказались здесь согласно особому предписанию, обусловленному специальной миссией, которую они выполняют. Например, пациент-шизофреник Энжиля «был убежден в том, что его помещение в клинику было просто еще одним испытанием, которое он должен пройти» (Angyal, 1950, р. 154). Наконец, есть некоторые шизофреники, которые вообще не проявляют никаких признаков присутствия у них «двойной бухгалтерии», не выполняют вспомогательную работу в клинике, живут как обычные люди и могут, например, убежать из города в ужасе перед своими воображаемыми преследователями. А некоторые шизофреники даже в период приема медикаментов, повышающих психическую активность, остаются вообще безучастными. Поэтому в дальнейшем при рассмотрении «двойной бухгалтерии» мы будем обращаться к двум совершенно разным видам свидетельств. Наверное, это не должно вызывать удивления; в конечном счете, мы знаем, что существует огромное разнообразие состояний шизофрении.
В концепции «двойной бухгалтерии» содержится два предположения. Согласно первому из них, наличие бреда не отражает нарушения когнитивного процесса, а является альтернативным процессом формирования идей и альтернативного отношения к внешнему миру. Наверное, это предположение можно было бы считать тривиальным, если бы оно не подкреплялось вторым предположением. В соответствии с ним такой альтернативный процесс формирования бредовых идей, по существу, совмещается с одновременным формированием более-менее обычных суждений и реалистичного отношения к внешнему миру, по крайней мере в практической жизни.
Согласно первому предположению, бред
недостоверен в смысле обычного суждения. Это не ошибочная вера и не ложное суждение, как полагают многие психологи; бред вообще не имеет отношение к вере. По мнению Сасса, бред следует соотносить не с верой, а с отсроченным недоверием. Можно было бы в чем-то уточнить более важные понятия: бред отражает
отсроченность обычного суждения, а вместе с ним — и его субъективного содержания. Это замечание вызывает интерес и, возможно, кое-что проясняет, ибо, как я уже отмечал ранее, он несомненно характеризует случай одержимого беспокойства или сожаления.
Когда мы слышим, что человек, страдающий одержимостью, думает о том, что дверь, которую он запер, может оказаться не запертой и что замок следует проверить еще раз, мы, конечно же, понимаем, что его мысли отражают не нарушение и не искажение когнитивного процесса, а альтернативный процесс. Обычное суждение приостанавливается, может быть, на время, и во всяком случае только в отношении данной субъективной сферы. Естественно, мы полагаем, что этот человек сохраняет способность реалистично рассуждать в других областях. Фактически, в данном случае мы можем вполне ясно описать альтернативу, то есть процесс одержимого мышления, и его связь с реальностью. Мы знаем, что одержимое беспокойство («наверное, дверь все еще открыта») отражает требования предосторожности, характерные для ригиднодобросовестной установки. Требования этой установки препятствуют нормальному взгляду на внешнюю реальность. Они препятствуют функционированию нормального когнитивного процесса или, по крайней мере, опоре на него.
Хотя эта «двойная бухгалтерия» особенно ясно видна при одержимости, по существу, она характерна для всех невротических состояний. Ее основу составляет наличие внутреннего конфликта и характерологическая защитная система. Именно наличие этого конфликта и защитной системы в основном придает речи и поведению невротичных людей хорошо заметный оттенок искусственности и неестественности
[30], как, например, в случае преувеличенной боязливости истерика («Она ужасна!») или вынужденной спонтанности гипоманиакальной личности.
Защитное возвращение к доволевым типам ригидности и пассивной реактивности является ограничительной мерой и не свободно от напряжения; эти защитные типы динамики не дают целостного представления о личности. Но сама невротическая личность, как правило, не осознает расщепления между тем, как она видит себя и какой ее видят другие люди, между тем, что она думает и чувствует, и между тем,
что она считает, что она думает и чувствует. В этом смысле рассматриваемые нами процессы не так уж отличаются от настоящей «двойной бухгалтерии»; это процессы не обмана, а самообмана.
Действительно, одержимая личность говорит в отношении своего беспокойства или сожаления: «Мне думается… Наверное, у меня может быть…», тогда как в бреду человека — скажем, в бреду паранойяльной личности — выражается определенность, зачастую с проявлением эмпатии. Но определенность бреда — это особый вид определенности. Это не обычное ощущение взгляда на действительность (или ее осмысления), которое приводит к суждению. Это более неотложное и более пассивное ощущение. Это открытие, которое раскрывается внезапно, часто в результате воздействия одного намека или ключа, и никогда по-настоящему не вызывает недоумения, двусмысленного отношения или разочарования.
Продуцирующий бред пациент Энжиля, вспоминая происходившее с ним несколько дней назад, «вдруг сразу понял», что он получал специально закодированные приказы от ФБР. В другом случае, когда его на улице попросили показать дорогу, он
«вдруг понял, что эта встреча не случайна» (Angyal, 1950, р. 153).
Когнитивный процесс, который приводит к особому виду определенности, следует из описанной мной характерной динамики. В таких случаях паранойяльная мобилизация против внешней угрозы оказывается чрезвычайно быстрой, защитная установка — чрезвычайно ригидной, а предвзятость, препятствующая соразмерному взгляду на реальность, — чрезвычайно сильной. Элемент окружения или контекста, достаточный для стремительной безрассудной идеи, которая только того и ждет, связывается с ней, чтобы внешне себя выразить — принудительно и без сознательных
усилий. Одним словом, шизофренический бред становится
откровением, и его определенность — это особая определенность, присущая откровению. Наверное, лишь галлюцинация, для появления которой не нужно внешнего ключа, будет отражать еще более серьезную потерю полярности и будет возникать еще быстрее. (Этот же пациент Энжиля, вскоре после событий, о которых мы говорили, по существу, испытал слуховые галлюцинации, о которых он говорил как об «откровении».) Все это свидетельствует не только о том, что вера шизофреника в содержание своего бреда отличается от веры, присущей обычному суждению, но и о том, что она является результатом другого когнитивного процесса, отличающегося от обычного суждения. Это свидетельствует и о том, что вера в содержание бреда основывается именно на запрете обычного суждения.
То, что бред не является ложным суждением или ошибочной верой, а переживанием откровения, можно считать феноменом, который Сасс называет «двойной бухгалтерией». Ибо совершенно независимо от соответствия реальности, если бред — это не суждение, то мы не можем ожидать, что он обладает связностью, относительной стабильностью и мотивационной значимостью, которые присущи типичным суждениям. Иногда бред, как и обычные суждения, может вызвать последующие действия во внешнем мире, но это никогда не происходит регулярно. Сам по себе он может быть достаточно завершенным. Подобно одержимой озабоченности, он, в конечном счете, больше выражает отношение человека к себе, чем к внешнему миру.
Позволяется ли обычное суждение и обычное когнитивное отношение к внешнему миру, а если да, то в каких обстоятельствах и в какой мере, — будет определяться моментальными требованиями внутренней динамики. Например, если ощущение угрозы является острым, защитная мобилизация усилится и нормальное суждение будет омрачаться бредом. При снижении ощущения угрозы мобилизация в какой-то мере станет слабее, интерес к бреду снизится, внимание выйдет за пределы угрожающего ключа, и тогда появится возможность выражения нормального суждения. Такой вид колебаний когнитивного стиля мы наблюдаем и в состояниях невроза, и в состоянии психоза, особенно в психотических реакциях на ранней, острой стадии развития болезни.
Так, пациент, находящийся в остром состоянии паранойи, который начинал терапевтическую сессию с возбужденного и вселяющего ужас описания направленного против него заговора, а также угроз, адресованных ему по радио, заканчивал сессию спокойной беседой, с печальной, хотя по-прежнему загадочной улыбкой, о своем иррациональном беспокойстве. Несколько часов спустя он снова приходил в ужас от тайного заговора.
Стоит ли нам считать, что такие колебания происходят между двумя разными когнитивными системами или когнитивными типами, а не являются просто качественными изменениями в рамках одной когнитивной системы? И теория, и клиническая практика больше склоняются в пользу существования двух разных систем, каждая из которых обладает своим возбуждающим импульсом. Одна система является адаптивной, ее функция — связь с реальностью, тогда как другая система не адаптивна, и ее функция заключается только в предвосхищении тревоги. При хроническом психозе бывает, что нормальные суждения в полной или почти в полной мере, а может быть даже постоянно, исключаются внутренними требованиями и запретами. Но иногда бывает и по-другому, хотя скорее это происходит в невротических состояниях, чем в состоянии психоза. Речь идет об одновременном ощущении воздействия двух когнитивных установок: одной — более осознанной, ее влияние выражается в том, что говорится, вероятно, с эмпатической убежденностью или тревогой, в то время как другую может выдать лишь взгляд или звучание голоса.
Библиография
Abraham, Karl (1924–1953). Manic-depressive states and the pre-genital levels of the libido In
Selected Papers of Karl Abraham New York: Basic Books.
Angyal, Andras (1936). The experience of the body-self in schizophrenia.
Archives of Neurology and Psychiatry 35: 1029–1053.
Angyal, Andras (1937). Disturbances of activity in a case of schizophrenia.
Archives of Neurology and Psychiatry 38: 1047–1054.
Angyal, Andras (1950). The psychodynamic process of illness and recovery in a case of catatonic schizophrenia
Psychiatry 13: 149–165.
Arieti, Silvano (1974).
Interpretation of Schizophrenia. 2d ed. New York: Basic Books.
Austin, J. L. (1962).
How to Do Things with Words. Cambridge: Harvard University Press.
Bateson, Gregory (Ed.) (1961).
Perceval’s Narrative: A Patient’s Account of His Psychosis. Stanford: Stanford University Press.
Bexton, W. H., W. Heron, and T. H. Scott (1954). Effects of decreased variation in the sensory environment.
Canadian Psychololgy 8:2.
Blatt, Sidney J., and Cynthia M. Wild (1976).
Schizophrenia: A Developmental Analysis. New York: Academic Press.
Bleuler, Eugen (1951). The basic symptoms of schizophrenia. In David Rapaport,
Organization and Pathology of Thought. New York: Columbia University Press, 581–649.
Burroughs, William (1984).
Naked Lunch. New York: Grove Press.
Cacioppo, John T, and Gary G. Berntson (1992). Social psychological contributions to the decade of the brain: Doctrine of multilevel analysis.
American Psychologist 47: (8), 1019–1028.
Chapman, Loren J. and Jean P. Chapman (1973). Disordered thought and schizophrenia New York: Prentice-Hall.
Cloninger, C. Robert (1978). The link between hysteria and sociopathy: An integrative model of pathogenesis based on clinical, genetic and neurophysiological observations. In
Psychiatric Diagnosis: Exploration of Biological Predictors, Hagop S. Akiskal and William L. Webb (Eds.). New York: Spectrum.
Custance, John (1952).
Wisdom, Madness and Folly: The Philosophy of a Lunatic. New York: Pellegrini and Cudahy.
Cutting, John, and Francis Dunne (1989). Subjective experience of schizophrenia
Schizophrenia Bulletin, 15 (2): 217–231.
Deutsch, Helene (1942). Some forms of emotional disturbance and their relationship to schizophrenia
Psychoanalytic Quarterly 11: 301–322.
Eagle, Morris (1987).
Recent Developments in Psychoanalysis. Cambridge: Harvard University Press.
Erikson, Erik (1950).
Childhood and Society. New York: Norton.
Evdokas, Andreas (1997). An Attempt to Induce a Hypomanic-like State in Normal Subjects Through Rapid Production.
Ann Arbor, MI: VMI.
Fenichel, Otto (1941).
Problems of psychoanalytic technique. Psychoanalytic Quarterly Press, 1945.
Fenichel, Otto (1948).
The Psychoanalytic Theory of Neurosis. New York: Norton.
Fierman, Louis (Ed.) (1965). Effective Psychotherapy: The Contribution of Hellmuth Kaiser.
New York: Free Press.
Freeman, Thomas, John L. Cameron, and Andrew McGhie (1958).
Chronic Schizophrenia. New York: International Universities Press.
Freeman, Thomas (1969).
Psychopathology of the Psychoses. New York: International Universities Press.
Freeman, Thomas (1976).
Childhood Psychopathology and Adult Psychoses. New York: International Universities Press.
Freeman, Thomas (1981). Quoting Maurits Katan in the pre-psychotic phase and its reconstruction in schizophrenic and paranoiac psychoses.
International Journal of Psycho-Analysis 62: 447–453.
Freud, Anna (1937).
The Ego and the Mechanisms of Defense, London: Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis.
Freud, Sigmund (1911). Psychoanalytic notes upon an autobiographical account of a case of paranoia Standard edition 12:3. London: Hogarth Press, 1958.
Freud, Sigmund (1913). The disposition to obsessional neurosis. Standard edition, 12 London: Hogarth Press, 1958.
Freud, Sigmund (1922).
Group Psychology and the Analysis of the Ego. Standard Edition 18: 69. London: Hogarth Press, 1958.
Freud, Sigmund (1928).
The Ego and the Id. London: Hogarth Press.
Freud, Sigmund (1926/1959).
Inhibition, Symptoms, and Anxiety, Standard Edition 20:77. London: Hogarth Press.
Freud, Sigmund (1937). Analysis terminable and interminable. Standard Edition 23: 238. London: Hogarth Press.
Frith, C. D. (1979). Consciousness, information processing and schizophrenia
British Journal of Psychiatry 134: 225–235.
Frith, C. D. (1987). The positive and negative symptoms of schizophrenia reflect impairments in the perception and initiation of action.
Psychological Medicine 17: 631–648.
Frith, C. D., and D. J. Done (1988). Towards a neuropsychology of schizophrenia
British Journal of Psychiatry 153: 437–443.
Goldstein, Kurt (1939).
The Organism. Boston: Beacon, 1963.
Goldstein, Kurt, and Martin Scheerer (1941). Abstract and concrete behavior, An experimental study with special tests. In
Psychological Monographs 53:2.
Goldstein, Kurt (1944). Methodological approach to the study of schizophrenic thought disorder. In
Language and Thought in Schizophrenia,]. S. Kasanin (Ed.). New York: Norton.
Graves, Alonzo (1942).
The Eclipse of a Mind. New York: Medical Journal Press.
Green, Maurice R. (Ed.) (1964). Interpersonal Analysis: The Selected Papers of Clara M. Thompson.
New York: Basic Books.
Guntrip, Harry (1969).
Schizoid Phenomena, Object Relations and the Self. New York: International Universities Press.
Harve, Philip D., Nancy Docherty, Mark R. Serper, and Myrna Rasmussen (1990). Cognitive deficits and thought disorder: II An 8-month followup study.
Schizophrenia Bulletin 16 (1): 147–156.
Heron, J. Woodburn (1957). The pathology of boredom.
Scientific American 196(1): p. 52–56.
Hevesi, Dennis (1991).
The New York Times, 7/12/91.
Herszenhorn, David (1998).
The New York Times, 8/29/98.
Holzman, Philip S. (1995). Thought disorders and the fundamental disturbance of schizophrenia.
Schizophrenia, Alfred Benzon Symposium 38. R. Fog, J. Gerlach, R. Hemmingsen (Eds.). Muksgaard, Copenhagen, 409–417.
Hurvich, Marvin (1991). Annihilation anxiety: An introduction. In
Psychoanalytic Reflections on Current Issues, ed. H. Siegel. New York: New York University Press.
Johnson, David Read (1984). Representation of the internal world in catatonic schizophrenia
Psychiatry 47: 299–314.
Kaiser, Hellmuth (1955). The problem of responsibility in psychotherapy.
Psychiatry 18: 205–211; also in (1965)
Effective Psychotherapy: The Contribution of Hellmuth Kaiser, Louis B. Fierman (Ed.). New York: The Free Press.
Khantzian, Edward J., Kurt S. Haliday, William E. McAuliffe (1990).
Addiction and the Vulnerable Self. New York: Guilford Press.
Kohut, H. (1971).
The Psychology of Self, New York: International Universities Press.
Lakoff, Robin T. (1977). Women’s language.
Language and Style, X(4): 222–247.
LeBon, Gustave (1896).
The Crowd: A Study of the Popular Mind. London: Ernest Benn.
Lewin, Kurt (1935).
A Dynamic Theory of Personality. New York: McGraw-Hill.
Lifton, Robert Jay (1963). Thought Reform and the Psychology of Totalism: A Study of
«Brainwashing» in China.
New York: W. W. Norton.
London, Artur (1971).
The Confession. New York: Ballantine Books.
McGhie, Andrew, and James Chapman (1961). Disorders of attention and perception in early schizophrenia
British Journal of Medical Psychology 34: 103–116.
Martin, Douglas (1990–1991).
The New York Times, 9/4/91.
Matussek, Paul (1987). Studies in delusional perception. In Cutting and Shepherd (1952).
The Clinical Roots of the Schizophrenia Concept. Cambridge: Cambridge University Press.
Morice, Rodney, and Ann Delahunty (1996). Frontal/executive impairments in schizophrenia
Schizophrenia Bulletin 22 (1): 125–137.
Nunberg, Herman (1948/1961). On the catatonic attack. In
Practice and Theory of Psychoanalysis. New York: International Universities Press.
Person, Ethel (1986). Manipulativeness in entrepreneurs and psychopaths. In
Unmasking the Psychopath: Antisocial Personality and Related Syndromes. William H. (Reid, Darwin Dorr, John I. Walker, Jack W. Bonner (Eds.). New York: W. W. Norton.
Piaget, Jean (1932).
The Moral Judgment of the Child. London: Kegan Paul.
Piaget Jean (1981). Intelligence and Affectivity: Their Relationship During Child Development.
Palo Alto: Annual Reviews.
Podvoll, Edward M. (1990).
The Seduction of Madness. New York: Harper Collins.
Rapaport, David (1950). On the psychoanalytic theory of thinking.
Collected Papers of David Rapaport. Merton G. Gill (Ed.). New York: Basic Books, 1967, p. 313–328.
Rapaport, David (1951).
Organization and Pathology of Thought. New York: Columbia University Press.
Rapoport, Judith (1989). The Boy Who Couldn’t Stop Washing: The Experience and Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder.
New York: Dutton.
Reid, W. H., D. Dorr, J. Walker, and J. W. Bonner (1986).
Unmasking the Psychopath. New York: Norton.
Rosenbaum, B., and H. Sonne (1986).
The Language of Psychosis. New York: New York University Press.
Sass, Louis (1992).
Madness and Modernism. New York: Basic Books.
Sass, Louis (1994). The Paradoxes of Delusion: Wittgenstein, Schreber and the Schizophrenic Mind.
Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
Schafer, Roy (1954).
Psychoanalytic Interpretation in Rorschach Testing. New York: Grune and Stratton.
Schafer, Roy (1976).
A New Language for Psychoanalysis. New Haven, Conn.: Yale University Press.
Schreber, Daniel P. (1955).
Memoirs of My Nervous Illness. Translated by Ida MacAlpine and Richard A Hunter. London: William Dawson.
Sechehaye, Marguerite (1968).
Autobiography of a Schizophrenic Girl. New York: New American Library.
Shakow, David (1977). Segmental set: The adaptive process in schizophrenia
American Psychologist 32(2): 129–139.
Shapiro, David (1965).
Neurotic Styles. New York: Basic Books.
Shapiro, David (1981).
Autonomy and Rigid Character. New York: Basic Books.
Shapiro, David (1989).
Psychotherapy of Neurotic Character. New York: Basic Books.
Straus, E. W., and R. M. Griffith (1955). Pseudoreversibility of catatonic stupor.
American Journal of Psychiatry 111: 680–685.
Sullivan, Harry Stack (1962).
Schizophrenia as a Human Process. New York: Norton.
Tahka, Veikko (1993).
Mind and Its Treatment. Madison, Conn: International Universities Press.
Tausk, Victor (1933). On the origin of the «Influencing Machine» in schizophrenia
Psychoanalytic Quarterly 2: 519–556.
Vaillant, George E. (1975). Sociopathy as a human process: A viewpoint.
Archives of General Psychiatry 32: 178–183.
Person, Ethel (1986). Manipulativeness in entrepreneurs and psychopaths. In
Unmasking the Psychopath: Antisocial Personality and Related Syndromes. William H. Reid, Darwin Dorr, John I. Walker, Jack W. Bonner (Eds.). New York: W. W. Norton.
Piaget, Jean (1932).
The Moral Judgment of the Child. London: Kegan Paul.
Piaget Jean (1981). Intelligence and Affectivity: Their Relationship During Child Development.
Palo Alto: Annual Reviews.
Podvoll, Edward M. (1990).
The Seduction of Madness. New York: Harper Collins.
Rapaport, David (1950). On the psychoanalytic theory of thinking.
Collected Papers of David Rapaport. Merton G. Gill (Ed.). New York: Basic Books, 1967, p. 313–328.
Rapaport, David (1951).
Organization and Pathology of Thought. New York: Columbia University Press.
Rapoport, Judith (1989). The Boy Who Couldn’t Stop Washing: The Experience and Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder.
New York: Dutton.
Reid, W. H., D. Dorr, J. Walker, and J. W. Bonner (1986).
Unmasking the Psychopath. New York: Norton.
Rosenbaum, B., and H. Sonne (1986).
The Language of Psychosis. New York: New York University Press.
Sass, Louis (1992).
Madness and Modernism. New York: Basic Books.
Sass, Louis (1994). The Paradoxes of Delusion: Wittgenstein, Schreber and the Schizophrenic Mind.
Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
Schafer, Roy (1954).
Psychoanalytic Interpretation in Rorschach Testing. New York: Grune and Stratton.
Schafer, Roy (1976).
A New Language for Psychoanalysis. New Haven, Conn.: Yale University Press.
Schreber, Daniel P. (1955).
Memoirs of My Nervous Illness. Translated by Ida MacAlpine and Richard A Hunter. London: William Dawson.
Sechehaye, Marguerite (1968).
Autobiography of a Schizophrenic Girl. New York: New American Library.
Shakow, David (1977). Segmental set: The adaptive process in schizophrenia
American Psychologist 32(2): 129–139.
Shapiro, David (1965).
Neurotic Styles. New York: Basic Books.
Shapiro, David (1981).
Autonomy and Rigid Character. New York: Basic Books.
Shapiro, David (1989).
Psychotherapy of Neurotic Character. New York: Basic Books.
Straus, E. W., and R. M. Griffith (1955). Pseudoreversibility of catatonic stupor.
American Journal of Psychiatry 111: 680–685.
Sullivan, Harry Stack (1962).
Schizophrenia as a Human Process. New York: Norton.
Tahka, Veikko (1993).
Mind and Its Treatment. Madison, Conn: International Universities Press.
Tausk, Victor (1933). On the origin of the «Influencing Machine» in schizophrenia
Psychoanalytic Quarterly 2: 519–556.
Vaillant, George E. (1975). Sociopathy as a human process: A viewpoint.
Archives of General Psychiatry 32: 178–183.
Venables, P. H. (1987). Cognitive and attentional disorders in the development of schizophrenia. In
Search for the Causes of Schizophrenia. H. Hafner, W. E Gattaz, and W. Janzarik (Eds.). New York: Springer-Verlag, p. 203–213.
Waelder, Robert (1960).
Basic Theory of Psychoanalysis. New York: International Universities Press.
Werner, Heinz (1948). Comparative Psychology of Mental Development.
Chicago: Follett, 1968.
Wishnie, Howard (1977).
The Impulsive Personality. New York: Plenum Press. Wright, Lawrence (1994).
Remembering Satan. New York: Knopf.
Сноски
1
По всей видимости, речь идет о работе
The Ego and the Id (1923), не упомянутой в библиографии этой книги. См. также Фрейд 3. Я и Оно. — М.: Азбука-классика, 2007. —
Примеч. пер.
(обратно)
2
Рубен Лакмус Голдберг (Reuben Lucius Goldberg, 1883–1970) очень известен в Америке как инженер-изобретатель и художник-карикатурист. «Механизмы» Руби Голдберга, представляющие громоздкую последовательность сложнейших механических конструкций для выполнения простейшего действия, являются карикатурой на то, как это часто бывает в жизни, что самая легкая задача может быть решена необычайно сложным и запутанным путем. —
Примеч. ред.
(обратно)
3
См. также: Шапиро Д. Автономия и ригидная личность. — М.: Независимая фирма «Класс», 2009. —
Примеч. пер.
(обратно)
4
Английское слово
character — это одновременно и характер, и личность, и в то же время ни то ни другое в отдельности, если следовать квазинаучным определениям, не отвечающим современной практической психологии и психотерапии. Иногда акцент ставится на одно, иногда на другое, в зависимости от контекста. —
Примеч. пер.
(обратно)
5
Людьми движут базовые потребности; поведение человека — это попытка повлиять на мир таким образом, чтобы эти потребности удовлетворить. В результате терапия реальностью учит выбору, указывая клиентам, как удовлетворять свои потребности более адаптивным способом. Терапевт задает провокационный вопрос, предполагающий, что у пациента есть внутренний образ или некое идеальное представление желаемого, которое он может научиться распознавать и постепенно реализовывать. —
Примеч. пер.
(обратно)
6
См. также: Фрейд 3. Конечный и бесконечный анализ // Сочинения по технике лечения. — М.: МГ Менеджмент, 1998. —
Примеч. пер.
(обратно)
7
Контркатексис — рассредоточение либидо от объекта. —
Примеч. пер.
(обратно)
8
См. главу 2 моей книги: Shapiro, 1981. (Шапиро Д. Автономия и ригидная личность. — М.: Независимая фирма «Класс», 2009. —
Примеч. пер.). —
Примеч. авт.
(обратно)
9
Паранойяльное знание — цепкое, проницательное и одновременно лишенное всяких сомнений. —
Примеч. пер.
(обратно)
10
Мне говорили, что методы гипнотического воздействия, связанные с наведением транса, также, вообще говоря, включают в себя требование к пациенту избегать критических мыслей (или не допускать их). —
Примеч. авт.
(обратно)
11
Связь между этими двумя типами также отмечалась в литературе по эмпирической психологии. См.: С. Cloninger, 1978. —
Примем. авт.
(обратно)
12
Похожую критику идеи задержки в развитии см.: Morris Eagle, 1987. —
Примеч. авт.
(обратно)
13
Буквальный перевод слова
driven — «ведомый»; в данном контексте этот термин лучше всего перевести как «подверженный влечениям» или «подверженный внутренним побуждениям». —
Примеч. пер.
(обратно)
14
Фрейд уже в 1922 году в качестве такой причины называл «привычку», но, не считая эти случаи психогенными, все же продолжал искать психологическое объяснение в рамках психологической динамики (Freud, 1922, 1949). —
Примем. авт.
(обратно)
15
См. также: Лебон Г. Психология народов и масс. Кн. 2: Психология масс. — СПб.: Изд-во «Макет», 1995. —
Примеч. пер.
(обратно)
16
См. также: Фрейд 3. Психология масс и анализ человеческого «Я». — М.: ACT: Астрель, 2007. —
Примем, пер.
(обратно)
17
См. также: Фенихель О. Психоаналитическая теория неврозов. — М.: Академический проект, 2005. —
Примеч. пер.
(обратно)
18
Д-р Андреас Евдокас (Andreas Evdokas) пытался, и не без некоторого успеха, экспериментально воспроизвести такой результат у нормальных людей. Настойчиво побуждая этих людей быстро выполнить тест Роршаха с чернильными пятнами, он получил, например, такие ответы: «песчаные вихри» (
whirling dervishes), «старт космического корабля», «два человека… по-настоящему возбужденных», «прорвавшийся дым» (Edvokas, 1997). —
Примеч. авт.
(обратно)
19
См. случай навязчивого сожаления, описанный в моей книге: «Psychotherapy of Neurotic Character» (Shapiro, 1989). —
Примеч. авт.
(обратно)
20
Динамика этой «двойной бухгалтерии», во многом такая же, как и в случае состояния одержимости, чрезвычайно ясно проявляется в поразительных мемуарах Джона Персиваля, написанных более 150 лет назад, где он описывает переживание состояния психоза. Ссылаясь на свои бредовые «голоса», Персиваль пишет: «Я был парализован обычными ошибками разума, распространенными среди многих верующих… ибо мы заставляли себя говорить, что верим в то, во что мы не верим, так как считали, что сомневаться [в послании, идущем от „голосов“] греховно» (Bateson, 1961). —
Примем. авт.
(обратно)
21
Восковая гибкость (
waxy flexibility) — тип кататонии, при которой человек сохраняет позу, в которую его поместил кто-то другой. —
Примеч. пер.
(обратно)
22
«Сумбурная речь» (
word salad) — это последовательность слов, несколько напоминающая нормальную человеческую речь, которая может быть грамматически правильной или неправильной, но является бессмысленной по своему содержанию. —
Примеч. пер.
(обратно)
23
И на своих лекциях, и в частных беседах Дэвид
Рапапорт часто говорил о ментальной «структуре» именно в таком, психологическом смысле. —
Примеч. авт.
(обратно)
24
См.: «Вино и гашиш как средство для расширения человеческой личности» Шарля Бодлера. —
Примеч. пер.
(обратно)
25
Скорее всего, речь идет об ЛСД — диэтиламиде d-лизергиновой кислоты. —
Примеч. пер.
(обратно)
26
Силлабическое сходство — имеется в виду сходство слогов. —
Примеч. пер.
(обратно)
27
См. обсуждение во второй главе моей книги: Shapiro, 1981. (См. Шапиро Д. Автономия и ригидная личность. — М.: Независимая фирма «Класс», 2009. —
Примеч. пер.) —
Примеч. авт.
(обратно)
28
Дереализация — «расстройство психической деятельности, выражающееся в тягостном чувстве нереальности, призрачности, чуждости больному окружающего мира. Внешний мир воспринимается отдаленным, ненастоящим, неотчетливым, застывшим, бесцветным, силуэтным» (А. В. Снежневский). —
Примеч. пер.
(обратно)
29
Сообщение доктора Меира Экштейна (Meir Ekstein). —
Примеч. авт.
(обратно)
30
Такую искусственность Хельмут Кайзер считал «универсальным симптомом» всех невротических состояний (Fierman, 1965). —
Примеч. авт.
(обратно)
Оглавление
Выражение благодарности
Предисловие
Часть первая
Структура и динамика
Глава 1. Введение
Эго с точки зрения психоанализа
Структура и динамика сознания
Самоотчуждение и потеря воли и способности к действию
Этиология, продолжительность существования структуры и шизофрения
Глава 2. Динамика саморегуляции
Терапевтическая проблема динамики
Источник тревожности: воспоминания или личность?
Значение защиты
Когнитивная основа характерологической защиты: догматизм и паранойяльное знание[9]
Самообман
Самообман и отношение к внешней реальности
Ситуативный самообман
Расширенная система защиты
Часть вторая
Психопатология, действие и воля
Глава 3. Ограничение воли
Пассивно-реактивные и ригидные формы
Глава 4. Пассивная реактивность
Два вида спонтанности
Психопатический характер
Истерический характер
Глава 5. Ригидность
Ригидная «воля»
Ригидный характер
Ригидность навязчивой одержимости
Паранойяльная ригидность
Ригидность и пассивная реактивность
Глава 6. Подверженность влечениям и гипоманиакальность
Гипоманиакальная подверженность влечениям
Динамика
Гипомания и психопатический характер
Гипоманиакальность и навязчиво-одержимый характер
Биология
Часть третья
Неврозы и психозы
Глава 7. Неврозы и психозы
Невротическая потеря реальности
Самость и объект
Аффект
Потеря волевой управляемости и ощущения действия
Глава 8. Шизофрения
Потеря волевого мышления и внимания
Потеря реальности и полярности в отношении субъект-объект
Шизофренический аффект
Переход к шизофрении
Ригидность при паранойяльной и кататонической шизофрении
Шизоидные состояния
«Двойная бухгалтерия»?
Библиография
*** Примечания *** 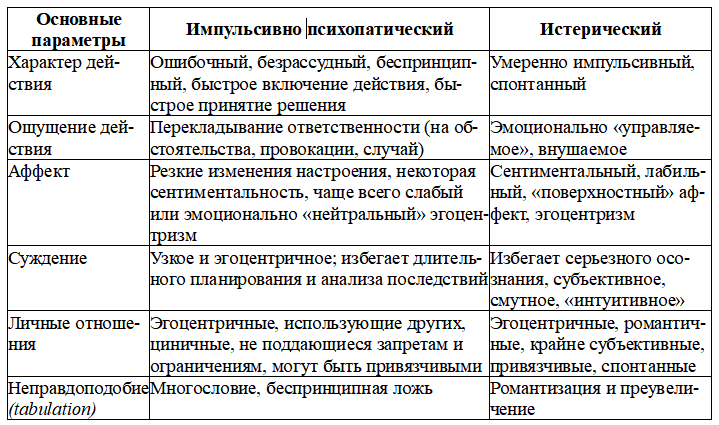 Некоторые установки и особая разновидность образа «я» придают пассивно-реактивному типу истерического характера его специфичную и хорошо известную форму. Это установки и образ «я» человека, имеющего слабое чувство личного авторитета, а потому не рискующего о нем заявить, человека, не принимающего себя всерьез и не ожидающего, даже не надеющегося на то, что его будут принимать всерьез. В основном, в силу известных социальных причин, эти черты присущи женщинам (Lakoff, 1977).
Тридцатилетняя женщина говорит о том, что не может рассказать отцу о своих политических взглядах: «Это было бы слишком резко».
Иногда такие люди испытывают робость, иногда они подвижны и привязчивы, в чем-то даже фривольны или безответственны, обладая преувеличенно детскими, безвредными манерами. Раздражаясь, такие женщины становятся «сварливыми»; нервничая, они «расстраиваются». По их мнению, ими управляют их эмоции, а их суждения — не более чем просто замечания, основанные не на логике, а на интуиции. Таким образом, они активно отказываются от возможностей серьезной рефлексии и в какой-то мере — от своих намерений и личной ответственности.
Итак, сужение диапазона действия или ослабление личной ответственности, которые выражены в этих установках и отказах, проявляются гораздо меньше, чем у психопатов. Романтическая и защитно-гиперболизированная идея истерической личности в отношении того, что ею управляют эмоции, а не мысли, ясно отражает ослабленное ощущение самоуправляемого и намеренного действия. Но по сравнению с откровенным перекладыванием ответственности психопата, когда ощущение личного участия практически отсутствует (Зачем ты его ударил? — «Он сопротивлялся»), у истерика присутствует ощущение действия, хотя и в ослабленном виде.
Это различие в утрате действия или его избегании отражается в соответствующей разнице между общими чертами или общим уровнем истерической импульсивности, с одной стороны, и безрассудным действием психопата — с другой. Истерики импульсивны, но, как правило, только в тех ситуациях, в которых последствия не имеют особого значения, как, например, женщина, которая говорит вслух все, что приходит ей в голову. Истерические личности в целом не способны к немедленным, ситуативным действиям, способным повлечь серьезные последствия. Серьезный поступок, вызывающий определенные последствия, или какое-то небрежное действие, которое психопат совершает легко, у истерика вызывает тревогу. Все происходит в точности именно так, ибо истерик не может избежать осознания, что действие имеет последствия, в той степени, в которой это получается у психопата, а потому не может избежать и чувства ответственности, которое несет в себе это осознание.
Действительно, иногда обычная истерическая оторванность от реальности (flightness) распространяется на поступок, возможные серьезные последствия которого не предполагались ранее. Когда наступают эти последствия, ответная реакция изумления может ясно показать отсутствие рефлексии и сниженное осознание действия, которое содержалось в поступке.
Так, молодая женщина, которая всего несколько месяцев спустя после свадьбы неожиданно бросила своего мужа вследствие романтического увлечения его другом, испытала потрясение, когда обманутый супруг предпринял соответствующие действия, чтобы расторгнуть их брак. Она восклицала: «Но это была просто детская шалость!»
Даже если так оно и есть, реакция этой женщины с точки зрения ее отказа от ответственности близка к точке зрения психопата, оказавшегося в соответствующих обстоятельствах и утверждающего, что ему просто не повезло.
Защитное оправдание истерического характера, связанное с особым акцентом и установкой на безвредность, детскую наивность и оторванность от жизни, относится к субъективной оценке. Запрет на формирование намеренных и серьезных целей одновременно становится запретом на получение знаний, а иногда — запретом и на сами знания. Такие люди постоянно размышляют о своих недостатках или воображаемых недостатках, о своих личных и профессиональных качествах, особенно в присутствии человека, к которому они испытывают уважение. Они переоценивают значение авторитета других людей, они внушаемы и при индивидуальном подходе легко поддаются «промыванию мозгов». Чаще всего они, наверное, ощущают себя детьми или, может быть, не совсем взрослыми («Я еще не состоялся как личность») в мире настоящих взрослых людей.
В некоторых разновидностях своей симптоматики истерический тип пассивной реактивности, видимо, очень далек от импульсивного психопатического характера. Чтобы вспомнить об их близости, нужно просто еще раз убедиться в том, что это именно так, потому что защитное ограничение действия у истерической личности оказывается не столь сильным, а потому тревога, запреты и отказ от своих способностей заметны у нее гораздо лучше.
Соответствие характерных черт истерика и психопата на соответствующих им уровнях пассивной реактивности можно легко распространить дальше. Например, эта связь сама проявляется в качестве аффекта, характерного для каждого типа. Говорят, что великий режиссер Федерико Феллини сказал, что от сентиментальности до цинизма только один шаг, и эту мысль великого режиссера нетрудно понять. Сентиментальность, которая часто служит описанием истерического аффекта (кстати, нередко и аффекта психопата), — это эмоция, которая легко пробуждается и является лабильной, и которая впоследствии остается не слишком связанной с вызвавшим ее объектом, а потому легко переносится на другие объекты. Истерический аффект часто также описывается как «поверхностный» или капризный; при этом ему придается то же значение. Можно считать, что все эти качества находятся в том самом «одном шаге» от холодной неискренности и цинизма психопата, хотя, несомненно, сам этот шаг является очень важным.
Такая эмоциональная реактивность также считается эгоцентричной. В ней присутствует тенденция к доминированию сиюминутных и ситуативных индивидуальных интересов и обстоятельств, в отличие от более абстрактных, а значит, более стабильных интересов, то есть такого вида интереса, о котором Пиаже говорит как об «аффективной децентрации» (Piaget, 1981). Этот фактор тоже можно рассматривать как «отступление» (step away) от более откровенных эгоцентричных интересов психопата, которые даже более отзывчивы на изменение нюансов оттенков и возможностей данного момента или ситуации.
Есть еще один известный аспект истерического эмоционального эгоцентризма. Такие люди наделяют других людей, а также предметы и ситуации аффективными чертами и свойствами, которыми те не обладают. Согласно их описанию, босс больше чем жизнь; учитель — это великан («Я его ненавижу!»); даже чернильное пятно Роршаха летучей мыши — оно «огромное! жуть!». Эти фигуры не воспринимаются объективно, в соответствии с присущими им качествами; они, так сказать, уже готовые творения чувств субъекта. Чернильное пятно кажется «огромным», потому что человек, который его видит, чувствует себя маленьким. Эта субъективность часто заметна в сумасбродных, а иногда в сумбурных романтических чувствах истерика. Наверное, можно сказать, что в этом «аффективном» смысле истерическая личность «использует» объект своих чувств. Если это верно, такое использование соответствовало бы эгоцентричному использованию других людей психопатом, но на более высоком, аффективном уровне.
Причина субъективности истерика связана не только с особенностями его аффективного состояния. Она связана и с его отношением к внешней реальности, и вообще с его отношением к объективной истине — так же как эгоцентризм психопата. Психопат известен не просто своей способностью лгать (все мы обладаем этой способностью), а своей способностью лгать легко и непринужденно. Психопаты очень многословны; их рассказы легко вписываются в ситуацию и подчиняются ее требованиям. Как я уже сказал, эта характерная черта — не только отражение дефицитарности сознания, но и более фундаментального ограничения интереса. Интерес психопата в немедленном исполнении своих требований и реализации своих возможностей и ситуаций затмевает ему осознание объективной реальности.
Нечто подобное можно сказать об истерической личности. Чернильное пятно летучей мыши выглядит «огромным», потому что человек, который на него смотрит, ощущает себя маленьким; но есть и другая причина. Обычно неизбежное осознание объективного существования фигуры вроде чернильного пятна ограничивает такую субъективность. Истерику не хватает объективизации. В этом случае также мгновенная субъективная реакция замещает осознание объективной реальности. И фактически истерические личности хорошо осведомлены о своих романтических преувеличениях, искажении истины, даже фальсификации, но не с целью приспособления, а на менее осознанном уровне и скорее из эмоциональных побуждений.
Нет никакой необходимости продолжать это описание дальше. Соответствие симптомов или характерных черт, несмотря на его непременное присутствие в некоторых основных характерных чертах, нельзя ожидать в каждой детали. Так как эти два состояния являются взрослыми характерологическими адаптациями тесно связанных, хотя не идентичных пассивно-реактивных типов каждый из них приобрел свои особенные, отличающие его характерные черты. Так, например, Робин Лакофф (Robin Т. Lakoff 1977) отмечал, что обычное представление истерической личности практически идентично социально сформированному образу фемининности. Такая личность явно может быть социально и даже профессионально успешной. Точно так же психопат или, по крайней мере, человек с явно выраженными психопатическими чертами в определенных обстоятельствах может оказаться симпатичным человеком, человеком действия, который вызывает восхищение своим умением быстро и часто принимать эффективные решения и явно выраженным стремлением к риску.
Некоторые установки и особая разновидность образа «я» придают пассивно-реактивному типу истерического характера его специфичную и хорошо известную форму. Это установки и образ «я» человека, имеющего слабое чувство личного авторитета, а потому не рискующего о нем заявить, человека, не принимающего себя всерьез и не ожидающего, даже не надеющегося на то, что его будут принимать всерьез. В основном, в силу известных социальных причин, эти черты присущи женщинам (Lakoff, 1977).
Тридцатилетняя женщина говорит о том, что не может рассказать отцу о своих политических взглядах: «Это было бы слишком резко».
Иногда такие люди испытывают робость, иногда они подвижны и привязчивы, в чем-то даже фривольны или безответственны, обладая преувеличенно детскими, безвредными манерами. Раздражаясь, такие женщины становятся «сварливыми»; нервничая, они «расстраиваются». По их мнению, ими управляют их эмоции, а их суждения — не более чем просто замечания, основанные не на логике, а на интуиции. Таким образом, они активно отказываются от возможностей серьезной рефлексии и в какой-то мере — от своих намерений и личной ответственности.
Итак, сужение диапазона действия или ослабление личной ответственности, которые выражены в этих установках и отказах, проявляются гораздо меньше, чем у психопатов. Романтическая и защитно-гиперболизированная идея истерической личности в отношении того, что ею управляют эмоции, а не мысли, ясно отражает ослабленное ощущение самоуправляемого и намеренного действия. Но по сравнению с откровенным перекладыванием ответственности психопата, когда ощущение личного участия практически отсутствует (Зачем ты его ударил? — «Он сопротивлялся»), у истерика присутствует ощущение действия, хотя и в ослабленном виде.
Это различие в утрате действия или его избегании отражается в соответствующей разнице между общими чертами или общим уровнем истерической импульсивности, с одной стороны, и безрассудным действием психопата — с другой. Истерики импульсивны, но, как правило, только в тех ситуациях, в которых последствия не имеют особого значения, как, например, женщина, которая говорит вслух все, что приходит ей в голову. Истерические личности в целом не способны к немедленным, ситуативным действиям, способным повлечь серьезные последствия. Серьезный поступок, вызывающий определенные последствия, или какое-то небрежное действие, которое психопат совершает легко, у истерика вызывает тревогу. Все происходит в точности именно так, ибо истерик не может избежать осознания, что действие имеет последствия, в той степени, в которой это получается у психопата, а потому не может избежать и чувства ответственности, которое несет в себе это осознание.
Действительно, иногда обычная истерическая оторванность от реальности (flightness) распространяется на поступок, возможные серьезные последствия которого не предполагались ранее. Когда наступают эти последствия, ответная реакция изумления может ясно показать отсутствие рефлексии и сниженное осознание действия, которое содержалось в поступке.
Так, молодая женщина, которая всего несколько месяцев спустя после свадьбы неожиданно бросила своего мужа вследствие романтического увлечения его другом, испытала потрясение, когда обманутый супруг предпринял соответствующие действия, чтобы расторгнуть их брак. Она восклицала: «Но это была просто детская шалость!»
Даже если так оно и есть, реакция этой женщины с точки зрения ее отказа от ответственности близка к точке зрения психопата, оказавшегося в соответствующих обстоятельствах и утверждающего, что ему просто не повезло.
Защитное оправдание истерического характера, связанное с особым акцентом и установкой на безвредность, детскую наивность и оторванность от жизни, относится к субъективной оценке. Запрет на формирование намеренных и серьезных целей одновременно становится запретом на получение знаний, а иногда — запретом и на сами знания. Такие люди постоянно размышляют о своих недостатках или воображаемых недостатках, о своих личных и профессиональных качествах, особенно в присутствии человека, к которому они испытывают уважение. Они переоценивают значение авторитета других людей, они внушаемы и при индивидуальном подходе легко поддаются «промыванию мозгов». Чаще всего они, наверное, ощущают себя детьми или, может быть, не совсем взрослыми («Я еще не состоялся как личность») в мире настоящих взрослых людей.
В некоторых разновидностях своей симптоматики истерический тип пассивной реактивности, видимо, очень далек от импульсивного психопатического характера. Чтобы вспомнить об их близости, нужно просто еще раз убедиться в том, что это именно так, потому что защитное ограничение действия у истерической личности оказывается не столь сильным, а потому тревога, запреты и отказ от своих способностей заметны у нее гораздо лучше.
Соответствие характерных черт истерика и психопата на соответствующих им уровнях пассивной реактивности можно легко распространить дальше. Например, эта связь сама проявляется в качестве аффекта, характерного для каждого типа. Говорят, что великий режиссер Федерико Феллини сказал, что от сентиментальности до цинизма только один шаг, и эту мысль великого режиссера нетрудно понять. Сентиментальность, которая часто служит описанием истерического аффекта (кстати, нередко и аффекта психопата), — это эмоция, которая легко пробуждается и является лабильной, и которая впоследствии остается не слишком связанной с вызвавшим ее объектом, а потому легко переносится на другие объекты. Истерический аффект часто также описывается как «поверхностный» или капризный; при этом ему придается то же значение. Можно считать, что все эти качества находятся в том самом «одном шаге» от холодной неискренности и цинизма психопата, хотя, несомненно, сам этот шаг является очень важным.
Такая эмоциональная реактивность также считается эгоцентричной. В ней присутствует тенденция к доминированию сиюминутных и ситуативных индивидуальных интересов и обстоятельств, в отличие от более абстрактных, а значит, более стабильных интересов, то есть такого вида интереса, о котором Пиаже говорит как об «аффективной децентрации» (Piaget, 1981). Этот фактор тоже можно рассматривать как «отступление» (step away) от более откровенных эгоцентричных интересов психопата, которые даже более отзывчивы на изменение нюансов оттенков и возможностей данного момента или ситуации.
Есть еще один известный аспект истерического эмоционального эгоцентризма. Такие люди наделяют других людей, а также предметы и ситуации аффективными чертами и свойствами, которыми те не обладают. Согласно их описанию, босс больше чем жизнь; учитель — это великан («Я его ненавижу!»); даже чернильное пятно Роршаха летучей мыши — оно «огромное! жуть!». Эти фигуры не воспринимаются объективно, в соответствии с присущими им качествами; они, так сказать, уже готовые творения чувств субъекта. Чернильное пятно кажется «огромным», потому что человек, который его видит, чувствует себя маленьким. Эта субъективность часто заметна в сумасбродных, а иногда в сумбурных романтических чувствах истерика. Наверное, можно сказать, что в этом «аффективном» смысле истерическая личность «использует» объект своих чувств. Если это верно, такое использование соответствовало бы эгоцентричному использованию других людей психопатом, но на более высоком, аффективном уровне.
Причина субъективности истерика связана не только с особенностями его аффективного состояния. Она связана и с его отношением к внешней реальности, и вообще с его отношением к объективной истине — так же как эгоцентризм психопата. Психопат известен не просто своей способностью лгать (все мы обладаем этой способностью), а своей способностью лгать легко и непринужденно. Психопаты очень многословны; их рассказы легко вписываются в ситуацию и подчиняются ее требованиям. Как я уже сказал, эта характерная черта — не только отражение дефицитарности сознания, но и более фундаментального ограничения интереса. Интерес психопата в немедленном исполнении своих требований и реализации своих возможностей и ситуаций затмевает ему осознание объективной реальности.
Нечто подобное можно сказать об истерической личности. Чернильное пятно летучей мыши выглядит «огромным», потому что человек, который на него смотрит, ощущает себя маленьким; но есть и другая причина. Обычно неизбежное осознание объективного существования фигуры вроде чернильного пятна ограничивает такую субъективность. Истерику не хватает объективизации. В этом случае также мгновенная субъективная реакция замещает осознание объективной реальности. И фактически истерические личности хорошо осведомлены о своих романтических преувеличениях, искажении истины, даже фальсификации, но не с целью приспособления, а на менее осознанном уровне и скорее из эмоциональных побуждений.
Нет никакой необходимости продолжать это описание дальше. Соответствие симптомов или характерных черт, несмотря на его непременное присутствие в некоторых основных характерных чертах, нельзя ожидать в каждой детали. Так как эти два состояния являются взрослыми характерологическими адаптациями тесно связанных, хотя не идентичных пассивно-реактивных типов каждый из них приобрел свои особенные, отличающие его характерные черты. Так, например, Робин Лакофф (Robin Т. Lakoff 1977) отмечал, что обычное представление истерической личности практически идентично социально сформированному образу фемининности. Такая личность явно может быть социально и даже профессионально успешной. Точно так же психопат или, по крайней мере, человек с явно выраженными психопатическими чертами в определенных обстоятельствах может оказаться симпатичным человеком, человеком действия, который вызывает восхищение своим умением быстро и часто принимать эффективные решения и явно выраженным стремлением к риску.
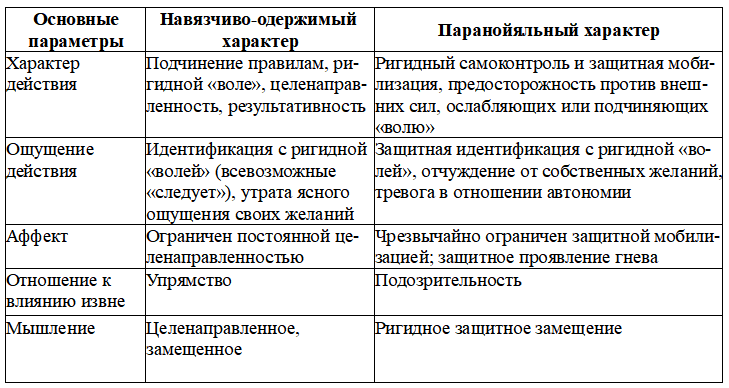 Для любой формы психопатологии в той или иной мере характерно наличие самоотчуждения. Оно явно наблюдается в попытках навязчиво-одержимого человека отождествить себя с тем, кем, по его мнению, он должен быть, и в его отказе от чувств и желаний, противоречащих его намерениям, задачам и правилам. Наиболее явно оно проявляется в его признании таких чувств и желаний в крайне ограниченной и предвзятой форме, с точки зрения их несоответствия стоящим перед ним целям, то есть только как искажения, погрешности или слабость воли, как, например, лень, «инерция» или «что-то детское внутри». При этом, пусть весьма ограниченно, человек, страдающий навязчивой одержимостью, признает наличие таких чувств и желаний. Если он не признает их полностью как собственные чувства и желания, но он, по крайней мере, переживает их как свои огрехи и свои слабости или же как свои неудачи в отношении того, кем он должен быть. Он на самом деле сокрушается из-за этих недостатков и неудач, осознает свой стыд и постоянно выражает недовольство собой, вспоминая о том, кем он должен быть.
В случае паранойяльной личности более сильный скрытый стыд и презрение к себе приводит такого человека к состоянию более или менее стабильной ригидности, к более настоятельному, но менее успешному отказу от собственной жизни. Взяв крайний случай Шребера, пациента Фрейда, на материале которого тот изучал паранойю, мы увидим, что Шребер настойчиво отрекался от своих женских сексуальных фантазий, с негодованием заявляя, что его личность «морально безупречна»; при этом у себя в воображении он представлял, что под воздействием внешних сил превратился в «женщину-шлюху» (Schreber, 1955).
В общем случае паранойяльная личность приходит просто к завышенному самомнению относительно своей силы воли и своего авторитета, к уже обсуждавшимся представлениям, к раздутой гордости, даже высокомерию, а иногда и к величию. Такая гордость граничит с крайней неуверенностью в себе, которую вполне можно ожидать у людей, пытающихся подавить свои чувства покорности и стыда. Следовательно, эти люди чрезвычайно чувствительны к проявлению пренебрежения и неуважения, к насмешкам, испытывают сильную тревогу относительно возможности унижения. Одним словом, они постоянно находятся в положении защиты. По существу, ригидности всегда в той или иной мере внутренне присуща защитная реакция.
Человек, обладающий ригидной волей, в конечном счете, воюет на два фронта: он должен охранять себя и от угрозы внешнего принуждения, и от угрозы внутреннего соблазна. Иначе говоря, ригидная личность должна избегать проявления двух видов слабости: уступок другим и уступок себе, своим желаниям и чувствам. Тогда эти две разновидности проявления слабости становятся субъективно эквивалентными; ригидная личность ощущает их почти одинаково, и озабоченность уступкой одного вида никогда не бывает без проявления в той или иной мере озабоченности другого вида. В этом, так сказать, проявляется связь между двумя фронтами; внутренняя угроза ригидной воле может, особенно в случае крайней ригидности, легко превратиться в защитное чувство внешней уязвимости. Связь между двумя видами угрозы — это поворотная точка, с которой начинается паранойяльное превращение внутреннего конфликта во внешний.
Действительно, навязчиво-одержимая личность преимущественно поглощена борьбой с самой собой, кроме того, она хорошо известна своим упрямством. По своей функции сопротивления внешнему влиянию это упрямство соответствует гиперчувствительной и подозрительной установке параноика. Но различие между этими двумя установками — невозмутимость одного и гиперчувствительность другого — отражает различие между двумя типами ригидности, особенно в их сравнительной стабильности, и позволяет отчасти распознать паранойяльную психодинамику.
Упрямство и невозмутимость навязчиво-одержимой личности — это, по существу, принципиальный отказ отвлечь внимание от своих собственных целей. В целом они подкрепляют ее явно выраженную и часто результативную целенаправленность. Такой человек сам не отвлекается от своих целей и не дает себя отвлечь другим людям. В случае паранойяльной ригидности, которая является ее более крайней формой, под воздействием более сильного и менее стабильного внутреннего напряжения, чем у навязчиво-одержимой личности, этот сравнительно невозмутимый отказ или отчуждение от внешнего влияния заменяется защитным и зачастую враждебным его ожиданием. В контексте более слабой внутренней структуры упрямство сменяется подозрительностью. Можно сказать, что подозрительность — это упрямство, которое стало вынужденным, а, следовательно, защитным.
Если усилие подавить стыд и все, что его вызывает, с демонстративным утверждением авторитета оказывается слабым, внешние обстоятельства, которые бросают вызов этому авторитету или воле, объединяются человеком в угрожающую ему опасность. К таким обстоятельствам паранойяльные личности крайне чувствительны. Любое истолкование другого человека или организации, которое может показаться им принудительным или неуважительным, все, что напоминает им «помыкание», любой намек на попрание чувства собственного достоинства, снисходительное отношение или категорический отказ, особенно если речь идет о человеке высокого статуса, которым они восхищаются, по существу, будет напоминать паранойяльной личности о ее ничтожестве, то есть станет ее унижать и вызывать у нее защитную реакцию.
Один такой мужчина, которому посоветовали на работе обращаться к начальнику «господин директор», гневно отверг это предложение, заявив, что он никогда не станет «пресмыкаться» перед руководством.
Иногда чувству собственного достоинства угрожает уже одно присутствие фигур, вызывающих восхищение. Таким образом, подобное восхищение часто сопровождается выражением недовольства или вообще отрицается, а эти фигуры часто становятся объектами, вызывающими защитное чувство гордости и враждебности.
Все это говорит о том, что защитное и враждебное отношение к внешнему миру, в особенности к определенным людям, внутренне присуще ригидному самоуправлению в своей крайней и нестабильной форме. Такая защитная реакция является основной характерной чертой паранойяльной личности, а не вторичным проявлением — результатом спроецированной агрессии, как это принято считать. Вместе с тем проявление такого типа ригидности предотвращает осознание чувства стыда и отвращения, заменяя их поиском и осознанием внешней угрозы. В этом смысле находится стабилизирующее решение для ригидности, которая иначе вызывала бы ощущение неуверенности.
Результирующая защитная реакция — это не ответная реакция на неопределенную враждебность или агрессивность. Это отношение прежде всего характеризуется соприкосновением с унижением, горечью и даже ненавистью, которые ощущает человек, находясь в подчиненном положении или испытывая стыд, но, не осознавая этого, стремится сблизиться с теми людьми, которых он считает лучше себя.
Считалось, что в паранойяльном состоянии основным защитным механизмом является проекция, хотя чтение психоаналитической литературы не проясняет ни ее психологической основы, ни ее конкретного воздействия. Действительно, феномен проекции явно непосредственно воздействует на механизм защиты. Такой тип защиты с его ожиданием угрозы содержит в себе крайнее когнитивное замещение, замещение подозрительностью. Человек, чувствующий свою уязвимость, не может позволить себе открытых или уравновешенных суждений. Он занят только поисками признаков угрозы. Сущность этой угрозы будет определяться особенностями ощущения им собственной уязвимости, а это чувство уязвимости будет определяться теми личностными аспектами, теми мыслями и чувствами, которые он отвергает. Чем более тревожным и нестабильным является состояние паранойяльной личности, тем сильнее ее защитная реакция и тем более серьезным и ригидным оказывается замещение. Свидетельства, которые соответствуют этому защитному и неузнаваемому и неосознаваемому замещению и его подкрепляют, человек будет избирательно принимать, перескакивая с одного на другое, отметая в сторону противоречащий им контекст. Таким образом, при достаточно ригидном и узком замещении неизбежно выявление угрозы унижения, оскорбления или пренебрежения, а также попытки принуждения, насмешки или какого-то иного насилия над волей (табл. 3).
Таким образом, спроецированные мысли не направляют осознание неприемлемых и отвергаемых бессознательных чувств и мотиваций; они являются отражением защитного беспокойства, которое вызывают такие чувства и мотивации. Разнообразие содержания таких мыслей ограничено именно потому, что они являются результатом защитной тревоги и замещения. Защитное беспокойство мужчины, который испытывает стыд, отражается в мыслях, что этот стыд заметен, что его унижение видят все, что это расценивается как его слабость и женоподобие. Или же у него появляются мысли о проявлении к нему пренебрежения или уроне, нанесенному его статусу или авторитету. Тревога в отношении проявления слабоволия, мягкости или соблазна «уступить» может также вызвать мысли о принуждении («Попался!») или о применении внешнего воздействия (гипноза, яда), ослабляющего или уничтожающего силу воли, или иногда эквивалентной ей физической силы. Неизбежный успех достаточно ригидного и узкого замещения в выхватывании нужных свидетельств и подтверждений и устранении их контекста часто создает ауру доверия и знаний; об этом уже говорилось ранее, в главе 2 «Динамика саморегуляции», при обсуждении спроецированных мыслей.
Для любой формы психопатологии в той или иной мере характерно наличие самоотчуждения. Оно явно наблюдается в попытках навязчиво-одержимого человека отождествить себя с тем, кем, по его мнению, он должен быть, и в его отказе от чувств и желаний, противоречащих его намерениям, задачам и правилам. Наиболее явно оно проявляется в его признании таких чувств и желаний в крайне ограниченной и предвзятой форме, с точки зрения их несоответствия стоящим перед ним целям, то есть только как искажения, погрешности или слабость воли, как, например, лень, «инерция» или «что-то детское внутри». При этом, пусть весьма ограниченно, человек, страдающий навязчивой одержимостью, признает наличие таких чувств и желаний. Если он не признает их полностью как собственные чувства и желания, но он, по крайней мере, переживает их как свои огрехи и свои слабости или же как свои неудачи в отношении того, кем он должен быть. Он на самом деле сокрушается из-за этих недостатков и неудач, осознает свой стыд и постоянно выражает недовольство собой, вспоминая о том, кем он должен быть.
В случае паранойяльной личности более сильный скрытый стыд и презрение к себе приводит такого человека к состоянию более или менее стабильной ригидности, к более настоятельному, но менее успешному отказу от собственной жизни. Взяв крайний случай Шребера, пациента Фрейда, на материале которого тот изучал паранойю, мы увидим, что Шребер настойчиво отрекался от своих женских сексуальных фантазий, с негодованием заявляя, что его личность «морально безупречна»; при этом у себя в воображении он представлял, что под воздействием внешних сил превратился в «женщину-шлюху» (Schreber, 1955).
В общем случае паранойяльная личность приходит просто к завышенному самомнению относительно своей силы воли и своего авторитета, к уже обсуждавшимся представлениям, к раздутой гордости, даже высокомерию, а иногда и к величию. Такая гордость граничит с крайней неуверенностью в себе, которую вполне можно ожидать у людей, пытающихся подавить свои чувства покорности и стыда. Следовательно, эти люди чрезвычайно чувствительны к проявлению пренебрежения и неуважения, к насмешкам, испытывают сильную тревогу относительно возможности унижения. Одним словом, они постоянно находятся в положении защиты. По существу, ригидности всегда в той или иной мере внутренне присуща защитная реакция.
Человек, обладающий ригидной волей, в конечном счете, воюет на два фронта: он должен охранять себя и от угрозы внешнего принуждения, и от угрозы внутреннего соблазна. Иначе говоря, ригидная личность должна избегать проявления двух видов слабости: уступок другим и уступок себе, своим желаниям и чувствам. Тогда эти две разновидности проявления слабости становятся субъективно эквивалентными; ригидная личность ощущает их почти одинаково, и озабоченность уступкой одного вида никогда не бывает без проявления в той или иной мере озабоченности другого вида. В этом, так сказать, проявляется связь между двумя фронтами; внутренняя угроза ригидной воле может, особенно в случае крайней ригидности, легко превратиться в защитное чувство внешней уязвимости. Связь между двумя видами угрозы — это поворотная точка, с которой начинается паранойяльное превращение внутреннего конфликта во внешний.
Действительно, навязчиво-одержимая личность преимущественно поглощена борьбой с самой собой, кроме того, она хорошо известна своим упрямством. По своей функции сопротивления внешнему влиянию это упрямство соответствует гиперчувствительной и подозрительной установке параноика. Но различие между этими двумя установками — невозмутимость одного и гиперчувствительность другого — отражает различие между двумя типами ригидности, особенно в их сравнительной стабильности, и позволяет отчасти распознать паранойяльную психодинамику.
Упрямство и невозмутимость навязчиво-одержимой личности — это, по существу, принципиальный отказ отвлечь внимание от своих собственных целей. В целом они подкрепляют ее явно выраженную и часто результативную целенаправленность. Такой человек сам не отвлекается от своих целей и не дает себя отвлечь другим людям. В случае паранойяльной ригидности, которая является ее более крайней формой, под воздействием более сильного и менее стабильного внутреннего напряжения, чем у навязчиво-одержимой личности, этот сравнительно невозмутимый отказ или отчуждение от внешнего влияния заменяется защитным и зачастую враждебным его ожиданием. В контексте более слабой внутренней структуры упрямство сменяется подозрительностью. Можно сказать, что подозрительность — это упрямство, которое стало вынужденным, а, следовательно, защитным.
Если усилие подавить стыд и все, что его вызывает, с демонстративным утверждением авторитета оказывается слабым, внешние обстоятельства, которые бросают вызов этому авторитету или воле, объединяются человеком в угрожающую ему опасность. К таким обстоятельствам паранойяльные личности крайне чувствительны. Любое истолкование другого человека или организации, которое может показаться им принудительным или неуважительным, все, что напоминает им «помыкание», любой намек на попрание чувства собственного достоинства, снисходительное отношение или категорический отказ, особенно если речь идет о человеке высокого статуса, которым они восхищаются, по существу, будет напоминать паранойяльной личности о ее ничтожестве, то есть станет ее унижать и вызывать у нее защитную реакцию.
Один такой мужчина, которому посоветовали на работе обращаться к начальнику «господин директор», гневно отверг это предложение, заявив, что он никогда не станет «пресмыкаться» перед руководством.
Иногда чувству собственного достоинства угрожает уже одно присутствие фигур, вызывающих восхищение. Таким образом, подобное восхищение часто сопровождается выражением недовольства или вообще отрицается, а эти фигуры часто становятся объектами, вызывающими защитное чувство гордости и враждебности.
Все это говорит о том, что защитное и враждебное отношение к внешнему миру, в особенности к определенным людям, внутренне присуще ригидному самоуправлению в своей крайней и нестабильной форме. Такая защитная реакция является основной характерной чертой паранойяльной личности, а не вторичным проявлением — результатом спроецированной агрессии, как это принято считать. Вместе с тем проявление такого типа ригидности предотвращает осознание чувства стыда и отвращения, заменяя их поиском и осознанием внешней угрозы. В этом смысле находится стабилизирующее решение для ригидности, которая иначе вызывала бы ощущение неуверенности.
Результирующая защитная реакция — это не ответная реакция на неопределенную враждебность или агрессивность. Это отношение прежде всего характеризуется соприкосновением с унижением, горечью и даже ненавистью, которые ощущает человек, находясь в подчиненном положении или испытывая стыд, но, не осознавая этого, стремится сблизиться с теми людьми, которых он считает лучше себя.
Считалось, что в паранойяльном состоянии основным защитным механизмом является проекция, хотя чтение психоаналитической литературы не проясняет ни ее психологической основы, ни ее конкретного воздействия. Действительно, феномен проекции явно непосредственно воздействует на механизм защиты. Такой тип защиты с его ожиданием угрозы содержит в себе крайнее когнитивное замещение, замещение подозрительностью. Человек, чувствующий свою уязвимость, не может позволить себе открытых или уравновешенных суждений. Он занят только поисками признаков угрозы. Сущность этой угрозы будет определяться особенностями ощущения им собственной уязвимости, а это чувство уязвимости будет определяться теми личностными аспектами, теми мыслями и чувствами, которые он отвергает. Чем более тревожным и нестабильным является состояние паранойяльной личности, тем сильнее ее защитная реакция и тем более серьезным и ригидным оказывается замещение. Свидетельства, которые соответствуют этому защитному и неузнаваемому и неосознаваемому замещению и его подкрепляют, человек будет избирательно принимать, перескакивая с одного на другое, отметая в сторону противоречащий им контекст. Таким образом, при достаточно ригидном и узком замещении неизбежно выявление угрозы унижения, оскорбления или пренебрежения, а также попытки принуждения, насмешки или какого-то иного насилия над волей (табл. 3).
Таким образом, спроецированные мысли не направляют осознание неприемлемых и отвергаемых бессознательных чувств и мотиваций; они являются отражением защитного беспокойства, которое вызывают такие чувства и мотивации. Разнообразие содержания таких мыслей ограничено именно потому, что они являются результатом защитной тревоги и замещения. Защитное беспокойство мужчины, который испытывает стыд, отражается в мыслях, что этот стыд заметен, что его унижение видят все, что это расценивается как его слабость и женоподобие. Или же у него появляются мысли о проявлении к нему пренебрежения или уроне, нанесенному его статусу или авторитету. Тревога в отношении проявления слабоволия, мягкости или соблазна «уступить» может также вызвать мысли о принуждении («Попался!») или о применении внешнего воздействия (гипноза, яда), ослабляющего или уничтожающего силу воли, или иногда эквивалентной ей физической силы. Неизбежный успех достаточно ригидного и узкого замещения в выхватывании нужных свидетельств и подтверждений и устранении их контекста часто создает ауру доверия и знаний; об этом уже говорилось ранее, в главе 2 «Динамика саморегуляции», при обсуждении спроецированных мыслей.
 Чем более ригидным и узким оказывается паранойяльное замещение, тем легче определить эти элементы и тем скорее появляется окончательная спроецированная идея. В крайнем случае паранойяльного бреда исчезает даже отдаленное сходство с таким активным поиском. Спроецированная идея включается так резко, что теряется все субъективное ощущение действия и все внешнее сходство с ним. Новость о событии, опасном для такого человека, услышанная им по радио, якобы является намеренным сообщением.
Мы вернемся к обсуждению этого материала в разговоре о шизофрении.
Чем более ригидным и узким оказывается паранойяльное замещение, тем легче определить эти элементы и тем скорее появляется окончательная спроецированная идея. В крайнем случае паранойяльного бреда исчезает даже отдаленное сходство с таким активным поиском. Спроецированная идея включается так резко, что теряется все субъективное ощущение действия и все внешнее сходство с ним. Новость о событии, опасном для такого человека, услышанная им по радио, якобы является намеренным сообщением.
Мы вернемся к обсуждению этого материала в разговоре о шизофрении.
 Именно эти преувеличения, характеризующие гипоманиакальное состояние, отражают появление этого состояния в результате внутреннего давления побуждений (drivenness). Но вследствие этой подверженности внутренним влечениям гипоманиакальными чертами являются не только соответствующие преувеличенные черты психопата. Эта связь более сложная. Гипоманиакальные черты, независимо от степени их соответствия психопатическим, в какой-то мере оказываются осознанными, а психопатические черты — нет. В них заметны приложенные усилия, они искусственны, постоянно поражают наблюдателей своей «фальшью» и «претенциозностью» (Fenichel, 1948), в отличие от соответствующих черт психопата.
Тогда как психопатов можно сделать весьма вовлеченными, правда, эта вовлеченность бывает конкретной и не требует слишком больших затрат, гипоманиакальные личности сами исторгают поток шуток и развлекают окружающих. Психопаты ведут себя раскованно, часто — импульсивно, иногда — безрассудно. Гипоманиакальная личность не только более импульсивна, что, конечно же, верно; но вместе с тем у нее нет сознательных сомнений, она сознательно ведет себя крайне раскованно, иногда — разнузданно («Я буду делать то, что захочу!» — Freeman, 1976, р. 38). В своей импульсивности психопат действительно бесстрашен. Гипоманиакальность — это не просто более высокая степень психопатии; она предполагает наличие программы, в которой содержится бесстрашие («Нет ничего невозможного!»). Хотя психопат является многословным, гипоманиакальная личность еще легче справляется с неожиданными мыслями и побуждениями. Она сознательно отвергает любую потребность осмыслить что-то еще раз и утверждает, что вправе поступать таким образом.
Психолог, проводящий тест Роршаха, спрашивает, почему чернильное пятно кажется «ярким и красивым»; гипоманиакальный пациент отвечает: «Потому что мне хочется, чтобы оно было таким!» (Schafer, 1954, р. 254).
Есть и другое, очень важное, но несколько проблематичное выражение гипоманиакального типа вынужденной и осознанной спонтанности. Это субъективное восприятие самой спонтанности. Несмотря на явное свидетельство того, что спонтанность гипоманиакальной личности является вынужденной и осознанной (мы это уже отмечали ранее), она воспринимает себя в какой-то мере втянутой в действие «потоком» мыслей и импульсов.
Даже Кастенс, описывая побуждающую его (driven) программу в одном месте, в другом говорит об «ощущении импульсов, исходящих откуда-то извне моего (сознательного) „я“, которым невозможно сопротивляться». Он говорит: «Я могу смотреть просто так, совершенно бессмысленно, куда это меня приведет: к импульсу или действию» (Custence, 1952, р. 36).
Согласно клиническому отчету, маниакальный пациент Грейвс в этом отношении был более категоричным и более откровенным (1942, р. 504). Он описывает, как писал статьи «без каких бы то ни было умственных усилий… независимо от темы». Это заставляло его поражаться тому, что «его разум не просто передающее устройство».
На первый взгляд, это пассивное восприятие действия подтверждает биологическую теорию маниакального и гипоманиакального состояний. Иными словами, оно дает картину гиперспонтанности, не столько побуждаемой (driven) самим человеком, сколько порожденной потоком энергии, от которой человек должен как-то отделаться.
Здесь следует запомнить, что сниженное ощущение действия является важным аспектом любой формы психопатологии: как в ее пассивно-реактивной, так и в ригидной форме. Везде, где происходит ограничение волевого процесса, существует и потеря ощущения намерения действия или самого действия, и чем больше ослабляется воля, тем более сильным будет такое субъективное ощущение.
В особенности эта утрата субъективного ощущения действия заметна у импульсивных психопатов, которые тоже «все в движении». Психопат остро чувствует возможность получения выгоды и быстро превращает ее в действие, однако он с трудом осознает наличие намерения, содержащегося в этой остроте ощущения, или даже намерений, побуждающих его к действию. Наоборот, скорее всего, он скажет нам, что ему просто представилась возможность или появилось искушение («Как только я хочу со всем этим покончить, кто-то вкладывает оружие мне в руку»), что действие, которое последовало, ожидалось, даже требовалось совершить, т. е. оно было обусловлено обстоятельствами («Он сопротивлялся») или же подчинялось какой-то внутренней силе, которой было бесполезно сопротивляться («Все произошло… из-за того стресса» — Martin, 1991; «Я был совершенно сломлен» — Hevesi, 1991).
Нужно лишь представить себе, как наступает вынужденное (driven) усиление такого вида реактивности пригипоманиакальном ощущении быстрого действия. Что касается психопата, не он сам начинает совершать намеренные действия; это ситуация «вызывает у него повышение адреналина» и включает сразу мысль и действие. Что касается гипоманиакальной личности, побуждаемой (driven) к такой быстрой и немедленной реактивности, отметающей любые сомнения, с присущим ей пропорциональным снижением осознания действия и несомненно более сильным ощущением возбуждения, «адреналин» оказывает более мощное воздействие, и ее ощущение отличается заметным едва сдерживаемым потоком «извергающихся» идей и возможностей.
Именно эти преувеличения, характеризующие гипоманиакальное состояние, отражают появление этого состояния в результате внутреннего давления побуждений (drivenness). Но вследствие этой подверженности внутренним влечениям гипоманиакальными чертами являются не только соответствующие преувеличенные черты психопата. Эта связь более сложная. Гипоманиакальные черты, независимо от степени их соответствия психопатическим, в какой-то мере оказываются осознанными, а психопатические черты — нет. В них заметны приложенные усилия, они искусственны, постоянно поражают наблюдателей своей «фальшью» и «претенциозностью» (Fenichel, 1948), в отличие от соответствующих черт психопата.
Тогда как психопатов можно сделать весьма вовлеченными, правда, эта вовлеченность бывает конкретной и не требует слишком больших затрат, гипоманиакальные личности сами исторгают поток шуток и развлекают окружающих. Психопаты ведут себя раскованно, часто — импульсивно, иногда — безрассудно. Гипоманиакальная личность не только более импульсивна, что, конечно же, верно; но вместе с тем у нее нет сознательных сомнений, она сознательно ведет себя крайне раскованно, иногда — разнузданно («Я буду делать то, что захочу!» — Freeman, 1976, р. 38). В своей импульсивности психопат действительно бесстрашен. Гипоманиакальность — это не просто более высокая степень психопатии; она предполагает наличие программы, в которой содержится бесстрашие («Нет ничего невозможного!»). Хотя психопат является многословным, гипоманиакальная личность еще легче справляется с неожиданными мыслями и побуждениями. Она сознательно отвергает любую потребность осмыслить что-то еще раз и утверждает, что вправе поступать таким образом.
Психолог, проводящий тест Роршаха, спрашивает, почему чернильное пятно кажется «ярким и красивым»; гипоманиакальный пациент отвечает: «Потому что мне хочется, чтобы оно было таким!» (Schafer, 1954, р. 254).
Есть и другое, очень важное, но несколько проблематичное выражение гипоманиакального типа вынужденной и осознанной спонтанности. Это субъективное восприятие самой спонтанности. Несмотря на явное свидетельство того, что спонтанность гипоманиакальной личности является вынужденной и осознанной (мы это уже отмечали ранее), она воспринимает себя в какой-то мере втянутой в действие «потоком» мыслей и импульсов.
Даже Кастенс, описывая побуждающую его (driven) программу в одном месте, в другом говорит об «ощущении импульсов, исходящих откуда-то извне моего (сознательного) „я“, которым невозможно сопротивляться». Он говорит: «Я могу смотреть просто так, совершенно бессмысленно, куда это меня приведет: к импульсу или действию» (Custence, 1952, р. 36).
Согласно клиническому отчету, маниакальный пациент Грейвс в этом отношении был более категоричным и более откровенным (1942, р. 504). Он описывает, как писал статьи «без каких бы то ни было умственных усилий… независимо от темы». Это заставляло его поражаться тому, что «его разум не просто передающее устройство».
На первый взгляд, это пассивное восприятие действия подтверждает биологическую теорию маниакального и гипоманиакального состояний. Иными словами, оно дает картину гиперспонтанности, не столько побуждаемой (driven) самим человеком, сколько порожденной потоком энергии, от которой человек должен как-то отделаться.
Здесь следует запомнить, что сниженное ощущение действия является важным аспектом любой формы психопатологии: как в ее пассивно-реактивной, так и в ригидной форме. Везде, где происходит ограничение волевого процесса, существует и потеря ощущения намерения действия или самого действия, и чем больше ослабляется воля, тем более сильным будет такое субъективное ощущение.
В особенности эта утрата субъективного ощущения действия заметна у импульсивных психопатов, которые тоже «все в движении». Психопат остро чувствует возможность получения выгоды и быстро превращает ее в действие, однако он с трудом осознает наличие намерения, содержащегося в этой остроте ощущения, или даже намерений, побуждающих его к действию. Наоборот, скорее всего, он скажет нам, что ему просто представилась возможность или появилось искушение («Как только я хочу со всем этим покончить, кто-то вкладывает оружие мне в руку»), что действие, которое последовало, ожидалось, даже требовалось совершить, т. е. оно было обусловлено обстоятельствами («Он сопротивлялся») или же подчинялось какой-то внутренней силе, которой было бесполезно сопротивляться («Все произошло… из-за того стресса» — Martin, 1991; «Я был совершенно сломлен» — Hevesi, 1991).
Нужно лишь представить себе, как наступает вынужденное (driven) усиление такого вида реактивности пригипоманиакальном ощущении быстрого действия. Что касается психопата, не он сам начинает совершать намеренные действия; это ситуация «вызывает у него повышение адреналина» и включает сразу мысль и действие. Что касается гипоманиакальной личности, побуждаемой (driven) к такой быстрой и немедленной реактивности, отметающей любые сомнения, с присущим ей пропорциональным снижением осознания действия и несомненно более сильным ощущением возбуждения, «адреналин» оказывает более мощное воздействие, и ее ощущение отличается заметным едва сдерживаемым потоком «извергающихся» идей и возможностей.
Последние комментарии
5 часов 29 минут назад
9 часов 45 минут назад
9 часов 54 минут назад
10 часов 10 секунд назад
10 часов 20 минут назад
10 часов 29 минут назад