Рабиндранат Тагор ИЗБРАННОЕ

 Составление и комментарии H. М. Карпович, И. Д. Серебрякова.
Вступительная статья И. Д. Серебрякова.
Оформление М. Я. Турбовского.
Составление и комментарии H. М. Карпович, И. Д. Серебрякова.
Вступительная статья И. Д. Серебрякова.
Оформление М. Я. Турбовского.
© Составление, вступительная статья. Комментарии. Оформление. Издательство «Просвещение», 1987 Он был самым выдающимся интернационалистом в Индии, верившим в международное сотрудничество и работавшим во имя его. Он принес в другие страны то, что Индия могла им дать, а в Индию то, что мир мог дать его собственному народу… Тагор был великим гуманистом Индии. Джавахарлал Неру.
Произведения Рабиндраната Тагора, как и произведения всех великих поэтов, выходят за пределы музыки слов. Художник овладел мудростью прошлого. В то же время он был одним из мудрецов нового времени, задумавшихся над проблемами, которые ставит наука, и над трудностями, с которыми сталкиваются и которые должны преодолевать различные народы, для того чтобы человечество стало единой семьей. Индира Ганди.
Произведения Р. Тагора… так полны красками, тончайшими духовными переживаниями и поистине великодушными идеями, что составляют сейчас одно из сокровищ общечеловеческой культуры. А. Луначарский.
Существует целый цикл больших повестей и социальных романов, в которых Тагор задался целью обрисовать индийское общество; и он выказал при этом удивительную независимость духа, нападая — без излишней резкости, но и без неуместной мягкости — на предрассудки своего времени и с лукавым добродушием живописуя типы крупной и средней буржуазии Бенгалии. Р. Роллан.
Устремленный в грядущее
Обнимитесь, миллионы!В 1942 году британские колониальные власти бросили в тюрьмы руководителей индийского национально-освободительного движения, в том числе Джавахарлала Неру. В годы заключения им была создана замечательная книга «Открытие Индии», в которой автор попытался охватить историю и культуру Индии во всей полноте и разнообразии. Несколько страниц своей книги он посвятил тому гениальному сыну Индии, чьи избранные произведения лежат сейчас перед читателем. Дж. Неру писал: «Он, больше чем кто-либо другой из индийцев, помог гармоническому сочетанию идеалов Востока и Запада… Он был самым выдающимся интернационалистом в Индии, верившим в международное сотрудничество и работавшим во имя его. Он принес в другие страны то, что Индия могла им дать, а в Индию то, что мир мог дать его собственному народу… Тагор был великим гуманистом Индии». Приведенные слова Дж. Неру содержат емкую, глубоко содержательную оценку грандиозной по своему размаху литературной, культурной, общественно-политической деятельности одного из величайших деятелей мировой культуры конца XIX — первой половины XX столетия Рабиндраната Тагора. Его жизнь делится рубежом XIX–XX веков на две почти равные половины, многогранное творчество отразило преобразование духовного мира индийского народа в эту сложную, насыщенную событиями мирового значения, эпоху. Он вступил в жизнь после грозных, трагических событий в истории его родины. Потерпело поражение великое национальное восстание 1857–1859 годов, народ осмыслял пути дальнейшей борьбы, на которых нужно было подняться на уровень общеиндийского, национального сознания, понимания необходимости национального единства в борьбе против британского господства. Для этого было необходимо преодолеть многое из наследия прошлого и прежде всего сковывавшие развитие кастовые и религиозно-общинные предрассудки, избавиться от религиозной и национальной розни, создать активный орган для противодействия, по словам Дж. Неру, естественному союзу английской власти с реакционерами в Индии, в котором эта власть «стала покровителем и сторонником многих вредных обычаев и практики». Обо всем этом рассказано во многих трудах по истории Индии нового и новейшего времени. Здесь же мы коснемся в основном того, как это происходило на северо-востоке Индии — в Бенгалии, поскольку это необходимо для понимания формирования творческой личности Рабиндраната Тагора. Отметим, что и его предки сыграли важную роль в развитии культуры, формировании национального самосознания и общеиндийского, и бенгальского. С самого начала установления британского господства в Индии, с середины XVIII века, постоянно вспыхивали народные восстания, оканчивавшиеся поражением. Многие из них происходили в Бенгалии, ставшей в ту пору и военно-административным центром английских колонизаторов, и основной базой их торгово-предпринимательской деятельности. Уже в начале XIX века лучшие умы тогдашней Индии стали задумываться о необходимости просвещения, преодоления с его помощью пагубных предрассудков во имя освобождения страны. Дед поэта, один из ранних индийских предпринимателей и просветителей, Дароконат Тагор (1795–1846) совершил две поездки в Европу. В русском журнале «Библиотека для чтения» в 1847 году была опубликована статья о нем. В ней, в частности, сообщалось его впечатление от того, что он видел в Европе. Подчеркивалось, что не картины, статуи и дворцы вызвали у него удивление, «а паровые машины, тоннели и железные дороги. Главная трудность произвести такие предметы у нас на родине состоит в религиозных предрассудках народа, которые надо преодолеть. В Индии человек высшего сословия считает за грех перепилить пополам кусок дерева. Как же такому человеку достигнуть мастерства в искусстве? Суеверие — важное препятствие просвещению; будем надеяться, что с течением времени эта препона устранится и Индостан снова взойдет на ту высоту образованности, на какой стоял в древние времена». Вместе со своим другом, выдающимся просветителем Рам Мохан Раем (1772–1833) Д. Тагор основал первую в Индии общественную организацию «Брахмо Самадж», одной из целей которой было преодоление подобных предрассудков. В дальнейшем это общество возглавил его сын Дебендронатх, который также пользовался в Калькутте большим общественным и моральным авторитетом, был тесно связан с выдающимися деятелями бенгальской культуры, литературы и искусства. 7 мая 1861 года в семье Дебендронатха родился четырнадцатый ребенок, которому было дано имя Рабиндранат. Первоначальное образование он получил дома и в школах, организованных по британскому образцу, с системой телесных наказаний и достаточно жесткими методами обучения. Затем юноша был отправлен в Англию, где около полутора лет слушал лекции в Лондонском университете. И на родине, и за ее пределами Рабиндранат общался с людьми разного культурного и общественного уровня, глубоко изучал родную и английскую литературу, жадно впитывал все то, что раскрывалось перед ним в древней культуре Индии, других стран и народов. Громадный импульс духовному развитию поэта дал отец, о чем сам Рабиндранат писал в «Воспоминаниях». Во-первых, отец передал ему уважение к великому прошлому Индии и стремление к преобразованию, совершенствованию жизни; во-вторых, приучил Рабиндраната к самодисциплине, к правилам здоровой и чистой жизни. Дебендронатх учил сына санскриту и английскому языку. Жаль, что Рабиндранат Тагор не сообщил подробно содержания бесед с отцом во время поездки в Гималаи. В высокогорном селении Бакрота, среди суровой величественной природы, вероятно, велись разговоры о предках, о деде Дароконате, об истории и будущем самой Индии. Поэт кратко сообщает о том, что они посетили «несколько замечательных мест», но называет лишь Амритсар и «Золотой храм», святыню сикхов, последователей учения, созданного еще в XVI веке замечательным пенджабским поэтом и мыслителем гуру Нанаком. В основе этого учения, возникшего в ходе антифеодальных движений крестьянских и торгово-ремесленных слоев населения Пенджаба, лежала тройственная формула — трудиться, делиться плодами своего труда с ближним, помнить о высшем смысле жизни. Но помимо этой дальней истории была и близкая: здесь совсем еще к тому времени недавно шла ожесточенная борьба против колонизаторов. Лишь сломив сопротивление в Пенджабе, англичане завершили покорение Индии. А что же это за «замечательные места», оставшиеся неназванными, по дороге от Калькутты до Амритсара и Бакроты? На этом пути невозможно было миновать города, бывшие центрами великого национального восстания 1857–1859 годов: Аллахабат, Лакхнау, Канпур и, конечно же, Бенарес — древнейший центр индийской культуры. Биограф Р. Тагора К. Крипа-лани пишет: «Эти четыре месяца, проведенные в обществе отца, вдали от однообразия дома и школы, стали не только самыми счастливыми днями детства, они дали ему богатейший опыт, расширили кругозор. В Калькутту он вернулся уже юношей, а не ребенком». Это путешествие состоялось в 1873-м, а 1874 год отмечен в жизни Р. Тагора первой, еще анонимной, публикацией его стихов. Первыми поэтическими опытами стали стихийно нахлынувшие на него строфы. «Как молодой олень, который всюду бьет своими свежевыросшими, еще зудящими рогами, я стал невыносимым со своей расцветающей поэзией» — так писал о своем раннем творчестве сам автор. Порывы юноши питались разными истоками. Во-первых, это была древнеиндийская классическая литература — с учителем санскрита он читал знаменитую «Шакунталу» Калидасы. Во-вторых, европейская классика: учитель бенгальского языка предложил ему перевести на родной язык стихами ни много ни мало, как «Макбета» Шекспира. В-третьих, родная бенгальская литература и народная поэзия бенгальцев, в том числе их средневековая религиозно-любовная лирика. Следует сказать, что дом Тагоров был в центре замечательного процесса, так называемого «бенгальского возрождения», сформировавшего современную бенгальскую культуру и ставшего важным фактором формирования общеиндийского патриотизма. Национальное самосознание искало путей выражения, и одним из них стала организация ежегодного культурно-политического празднества «Хинду Мела». На нем и прозвучало первое общественное выступление поэта — в феврале 1875 года юный Раби выступал с чтением своей поэмы, опубликованной в выходящей и поныне газете «Амрита базар патрика». Патриотическое настроение, нараставшее в то время среди прогрессивной общественности, привело Рабиндраната в тайное общество, основанное старшим братом поэта Джотириндранатом и другом семьи Тагора критиком, литературоведом Раджнарайоном Бошу. Оно ставило своей целью политическое освобождение Индии и строилось по примеру итальянских карбонариев. В 1877 году антианглийские настроения юного поэта вылились в сатирические стихи о пышном новогоднем празднике, устроенном вице-королем Индии лордом Литтоном в обстановке свирепствовавшего в стране голода, погубившего сотни тысяч жителей. Стихи читались на очередном «Хинду Мела». Важным фактором, способствовавшим раскрытию литературного таланта Р. Тагора, стало возникновение журнала «Бхароти», инициатором и душой которого стал старший брат поэта. Рабиндранат пробует себя в разных родах и жанрах: на страницах журнала появляются рассказ, роман, историческая драма, подражание средневековой поэзии, переводы, заметки и статьи по западной литературе, отразившие интерес юного поэта к Данте, Петрарке, Гете, Чаттертону, к ранней истории английской литературы. На страницах этого же журнала появились и «Песни Бхану Шингхо», написанные самим Рабиндранатом в духе средневековой религиозно-любовной лирики от имени вымышленного поэта XV века. В 1878 году вместе со старшим братом Шотендранатом поэт отправился в Англию. В сущности, они повторяли путь деда, с той разницей, что от Суэца до Александрии ехали поездом, по линии, которая была обязана существованием тому же деду, убедившему султана Египта проложить ее. Ведь тогда Суэцкого канала еще не существовало. В Британии Тагор столкнулся с откровенными расовыми предрассудками, но самым главным за время его пребывания в Англии оказалось то, что, по его собственным словам, поэт «с изумлением осознал, что человеческая натура везде одинакова». За семнадцать месяцев в метрополии Рабиндранат написал немало писем, печатавшихся в журнале «Бхароти» и передававших «поток первых, свежих впечатлений». Он не привез с собой престижного английского диплома, но зато вернулся домой обогащенный новым жизненным опытом, который потом многократно отразился в его художественных произведениях, в публицистике. И, видимо, самый главный итог почти полуторалетнего пребывания в Англии — сознательное обращение к творческой работе как к жизненной цели. Он отдается и собственно поэтическому творчеству, и страстной антиколониальной публицистике, пишет пьесу, обращается к музыкальной драме и создает прекрасные образцы этого жанра — «Гений Вальмики», «Роковая охота». Первая основана на предании о рождении искусства поэзии, содержащемся в «Рамаяне», и вторая сюжетно связана с этой же эпопеей. Драмы получили сценическое воплощение, причем и в той, и в другой автор играл главные роли. Подлинным рождением поэта явился цикл стихотворений «Вечерние песни». Именно в нем он осознал свою власть над формой слова и свободу в содержании, возможность открывать поэзию в прозе жизни. Опубликованный впервые в журнале «Бхароти» цикл принес высокую оценку читателей, прямую похвалу классика бенгальской литературы Бонкимчондро Чоттопад-хайя (1838–1894). Много позднее поэт оценивал цикл следующим образом: «Грусть и боль искали выражения в «Вечерних песнях», корни их были в глубине моего существа. Как сознание спящего борется с кошмарами, стараясь пробудиться, так и подавленная внутренняя суть человека сражается, чтобы освободиться от угнетающих ее воздействий и вырваться на простор. Эти «Песни» — история такой борьбы». Добавим — история, вылившаяся в высокохудожественные образы, отразившие мужественную готовность поэта стоять на стороне сил света и добра. Жизнь Р. Тагора в конце XIX века насыщена самой разнообразной деятельностью, в том числе и хозяйственной: он становится главой семьи, растит детей. И вместе с тем ничто не могло остановить «пробужденный поток» его творчества — пьесы, циклы стихов, проза, статьи по различным социальным и политическим вопросам, литературе и философии. Неиссякаемым источником вдохновения для него была любовь к жизни — справедливо заметил его биограф. В одном из стихотворений сборника «Диезы и бемоли», в котором были опубликованы переводы Гюго, Шелли, Браунинга, Суинберна, есть такое идущее от сердца восклицание:Ф. Шиллер
Ах, жить бы и жить — человеком среди людей!
Последнее солнце века горит в облаках кровавых.
Праздник сегодня злых и лукавых,
Оружье о смерти поет звеня…
Везде царит последняя беда.
Весь мир она наполнила рыданьем,
Все затопила, как водой, страданьем.
И молния средь туч — как борозда.
На дальнем бреге смолкнуть гром не хочет,
Безумец дикий вновь и вновь хохочет,
Безудержно, не ведая стыда.
Везде царит последняя беда.
Пусть грянет общий хор:
Проснитесь вы, что слали до сих пор!
Кто спину гнул столетья — распрямитесь!
Да славится великий новый век!
И. Д. Серебряков, лауреат международной премии имени Джавахарлала Неру.
ПОЭЗИЯ

Праздничное утро
Открылось утром сердце ненароком,
И влился мир в него живым потоком.
Недоуменно я следил глазами
За золотыми стрелами-лучами.
Аруны[1] показалась колесница,
И утренняя пробудилась птица,
Приветствуя зарю, защебетала,
И все вокруг еще прекрасней стало.
Как брат, мне небо крикнуло: «Приди!»
И я припал, прильнул к его груди,
Я по лучу поднялся к небу, ввысь,
Щедроты солнца в душу пролились.
Возьми меня, о солнечный поток!
Направь ладью Аруны на восток
И в океан безбрежный, голубой
Возьми меня, возьми меня с собой!
Морские волны
(Написано по случаю гибели лодок с паломниками у города Пури[2])
Во тьме, словно бред бессвязной, свои разрушенья празднуй —
О дикий ад!
То ветра свист исступленный иль крыльев миллионы
Кругом гремят?
И с морем небо мгновенно слилось, чтобы взор вселенной
Задернуть, ослепив.
То молний внезапных стрелы иль это ужасный, белый
Усмешек злобных извив?
Без сердца, без слуха и зрения проносится в опьяненье Каких-то гигантов рать —
В безумье все разрушать.
Ни цвета, ни форм, ни линий. В бездонной, черной пучине —
Смятенье, гнев.
И мечется море с криком, и бьется в хохоте диком,
Осатанев.
И шарит — где же граница, чтоб о нее раздробиться,
Где берегов черта?
Васуки[3] в грохоте, визге валы разбивает в брызги
Ударом хвоста.
Земля потонула где-то, и бурею вся планета
Потрясена.
И разрываются сети сна.
Беспамятство… Ветер. Тучи. Нет ритма, и нет созвучий —
Лишь пляска мертвеца.
Смерть ищет опять чего-то, — она забирает без счета
И без конца.
Сегодня во мгле свинцовой ей надо добычи новой.
И что же? Наугад,
Не чувствуя расстояний, какие-то люди в тумане
К смерти своей летят.
Путь их бесповоротен. Вместилось несколько сотен
Людей в ладью.
Цепляется каждый за жизнь свою!
Уже отбиваться трудно. И буря бросает судно:
«Давай! Давай!»
А вспенившееся море гремит, урагану вторя:
«Давай! Давай!»
Со всех сторон обступая, смерть кружится голубая,
От злобы побледнев.
Теперь не сдержать напора — и судно рухнет скоро:
Моря ужасен гнев.
Для бури и это шалость! Все спуталось, перемешалось —
И небо и земля…
Но рулевой — у руля.
И люди сквозь мрак и тревогу, сквозь грохот взывают к богу:
«О всеблагой!
Смилуйся, о великий!» Несутся мольбы и крики:
«Спаси! Укрой!»
Но звать и молиться поздно! Где ж солнце? Где купол звездный?
Где счастья благодать?
И лет невозвратных были? И те, кого так любили?
Здесь мачеха, а не мать!
Пучина. Удары грома. Все дико и незнакомо.
Безумье, мгла…
А призракам нет числа.
Не выдержал борт железный, проломано дно, и бездны
Раскрыта пасть.
Здесь царствует не Всевышний! Здесь мертвой природы хищной
Слепая власть!
Во тьме непроглядной звонко разносится крик ребенка.
Смятенье, дрожь…
А море словно могила: что не было или было —
Не разберешь.
Как будто ветер сердитый задул светильники чьи-то…
И в тот же час
Свет радости где-то погас.
Как в хаосе мог безглазом возникнуть свободный разум?
Ведь мертвое вещество,
Бессмысленное начало — не поняло, не осознало
Себя самого.
Откуда ж сердец единство, бестрепетность материнства?
Вот братья обнялись,
Прощаясь, тоскуя, плача… О солнечный луч горячий,
О прошлое, вернись!
Беспомощно и несмело сквозь слезы их заблестела
Надежда вновь:
Светильник зажгла любовь.
Зачем же всегда покорно мы смерти сдаемся черной?
Палач, мертвец,
Чудовище ждет слепое, чтоб все поглотить святое —
Тогда конец.
Но даже и перед смертью, дитя прижимая к сердцу,
Не отступает мать.
Ужели же все напрасно? Нет, злобная смерть не властна
Дитя у нее отнять!
Здесь — бездна и волн лавина, там — мать, защищая сына,
Стоит одна.
Кому же отнять его власть дана?
Ее бесконечна сила: ребенка загородила,
Прикрыв собой.
Но в царстве смерти — откуда любви подобное чудо
И свет такой?
В ней жизни бессмертной зерна, источник чудотворный
Неисчислимых щедрот.
К кому прикоснется эта волна тепла и света,
Тот матерь обретет.
О, что ей весь ад восставший, любовью смерть поправшей,
И грозный шквал!
Но кто ей такую любовь даровал?
Любовь и жестокость мести всегда существуют вместе, —
Сплелись, борясь.
Надежды, страхи, тревоги в одном обитают чертоге:
Повсюду связь.
И все, веселясь и плача, решают одну задачу:
Где истина, где ложь?
Природа разит с размаху, но в сердце не будет страха,
Когда к любви придешь.
А если чередованье расцвета и увяданья,
Побед, оков —
Лишь спор бесконечный двух богов?
Герой Бенгалии
За стенкою Бхулубабу[4], худея от изнеможения,
Читает громко таблицу умножения.
Здесь, в этом доме, обитель друзей просвещения.
Юный разум познанию рад.
Мы, В. A. and М. А.[5], я и старший мой брат,
Три главы прочитали подряд.
Жажда знанья в бенгальцах воскресла.
Мы читаем. Горит керосин.
Возникает в сознании много картин.
Вот Кромвель[6], воитель, герой, исполин,
Обезглавил владыку Британии.
Голова короля покатилась, как манговый плод,
Когда его палкою с дерева мальчик собьет.
Любопытство растет… Мы читаем часы напролет
Все настойчивей, все неустаннее.
За родину жертвуют люди собой,
Вступают они за религию в бой,
Расстаться готовы они с головой
Во имя возвышенного идеала.
Откинувшись в кресле, читаю я жадно.
Уютно под крышей у нас и прохладно.
Написаны книги разумно и складно.
Да, читая, узнаешь немало.
Помню я имена тех, кто в поисках знания
Во власти дерзания
Пустился в скитания…
Рожденье… Кончина… За датою дата…
Понапрасну минуты не трать!
Это все записал я в тетрадь.
Знаю: многим пришлось пострадать
За правду святую когда-то.
Ученые книги листали мы,
Своим красноречьем блистали мы,
Кажется, взрослыми стали мы…
Долой унижение! Долой подчинение!
Зубря день и ночь, за свои мы воюем права.
Большие надежды, большие слова…
Поневоле тут кругом пойдет голова,
Поневоле придешь в исступление!
Мы не глупей англичан. Страх перед ними забудь!
Мы от них отличаемся с виду чуть-чуть,
Так ведь не в этом же суть!
Мы — дети Бенгалии славной,
Мы британцам уступим едва ли.
Мы книги английские все прочитали.
Пишем к ним комментарии мы на бенгали.
Перья нам служат исправно.
«Арийцы» — Макс Мюллер[7] изрек.
И вот мы, не зная тревог,
Решили, что каждый бенгалец — герой и пророк
И что не грех нам теперь отоспаться.
Мы не допустим. обману!
Мы поднапустим туману!
Позор не признавшим величия Ману[8]!
Священный мы трогаем шнур[9] и клянем святотатца.
Что? Мы не великие? Ну-ка,
Пускай клевету опровергнет наука.
Наши предки стреляли из лука.
Или об этом не сказано в ведах[10]?
Мы громко кричим. Разве это не дело?
Доблесть арийская не оскудела.
Мы будем кричать на собраниях смело
О наших былых и грядущих победах.
В размышленье святой пребывал неустанном,
Рис на пальмовых листьях мешал он с бананом,
Мы святых уважаем, но тянет нас больше к гурманам,
Мы приспособились к веку поспешно.
Мы едим за столом, ходим мы по отелям,
Не являемся в классы по целым неделям.
Мы чистоту сохранили, к возвышенным шествуя целям,
Ибо Ману прочли (в переводе, конечно).
Сердце при чтенье Самхиты[11] восторгом объято.
Однако мы знаем: съедобны цыплята[12].
Мы, три знаменитые брата,
Нимай, Непах и Бхуто,
Соотечественников просветить захотели.
Мы волшебною палочкой знанья у каждого уха вертели.
Газеты… Собранья по тысяче раз на неделе.
Мы всему научились как будто.
Стоит услышать нам о Фермопилах[13],
И кровь, словно лампы фитиль, загорается в жилах.
Спокойными мы оставаться не в силах,
Марафон вспоминая и славу бессмертного Рима.
Разве неграмотный это поймет?
Разинет он от изумления рот,
И сердце мое разорвется вот-вот,
Жаждою славы томимо.
Им бы хоть о Гарибальди[14] прочесть!
В кресло бы тоже могли они сесть,
Могли бы бороться за национальную честь
И за успехи прогресса.
Говорили бы мы на различные темы,
Сочиняли бы дружно поэмы,
В газетах писали бы все мы,
И процветала бы пресса.
Но об этом пока и мечтать неуместно.
Литература им неинтересна.
Дата рождения Вашингтона[15] им неизвестна,
Не слыхали они о великом Мадзини[16].
А ведь Мадзини — герой!
За край он боролся родной.
Отчизна! Лицо от стыда ты закрой!
Невежественна ты и поныне.
Обложился я грудами книг
И к источнику знания жадно приник.
Я с книгами не расстаюсь ни ни миг.
Неразлучны со мною перо и бумага.
Опахало бы мне! Кровь горит.
Вдохновеньем охвачен я властным.
Насладиться хочу я прекрасным.
Стать стилистом хочу первоклассным.
Во имя всеобщего блага.
Битва при Незби…[17] Читайте о ней!
Кромвель бессмертный титанов сильней.
Не забуду о нем до кончины своей!
Книги, книги… За грудою груда…
Ну, хватит читать! Поясница болит у меня.
Эй, служанка, скорей принеси ячменя!
A-а, Нони-бабу! Здравствуй! Третьего дня
В карты я проиграл! Отыграться бы нынче не худо.
Два бигха[18] земли
Я имел два бигха, — их нет, землю забрал сосед,
не дав ничего взамен.
Раз он мне сказал: «Твой участок мал,
продай-ка его, Упен».
Я ж ему в ответ: «Конца-края нет
земле твоей, господин,
Что продам я? Бог сохранить помог
мне всего лишь клочок один».
Но уперся он: «Если ты умен,
то уступишь участок мне,
Я решил свой сад обратить в квадрат,
ширину приравнять к длине,
Не мешай, дружок!» Душу страх обжег,
и молитвенно руки сложив на груди,
Пересохшим ртом я шепнул: «Мой дом,
мой посев, раджа[19], пощади.
Тут отец и дед семь десятков лет
лили пот, земля — наша мать.
Не избыть беды тем, кто в миг нужды
может старую мать продать».
Захрипел бабу, закусил губу,
почернел лицом, словно ночь:
«Спорь, коль хватит сил, я тебя просил,
а теперь проучить не прочь!»
Пять недель прошли, и насчет земли
был составлен ложный указ:
Взял мой дом судья за долги, хоть я
не был должен на этот раз.
Жизнь голодных гнет, ненасытен тот,
у кого завелась деньга.
Что считать гроши? Ведь рука раджи
грабит нищего, как врага.
Я молил, чтоб бог мне помог, чем мог,
и мольбы мои впрок пошли,—
Появись во сне, подарил он мне
мир огромный вместо клочка земли.
И вот я — аскет, как саньяси[20], одет
пил воду из рек, где вода свята,
Тешил свой взор громадами гор,
посещал святые места.
Но ни на море синем, ни в желтой пустыне,
нигде — ни вблизи, ни вдали,
Даже во сне не случалось мне
позабыть о двух бигхах родной земли.
На рынках кричащих, в молельнях и чащах
промчались пятнадцать-шестнадцать лет,
И открылось уму, что бежать ни к чему,
ведь спасенья от памяти нет.
Привет, привет тебе, мать! Как не узнать
бенгальской земли!
Рокот Ганги[21] и воздух родной, полный ласковой тишиной,
счастье мне возвратить смогли.
Вот поле… Вот лес… Голова небес
склонилась к твоим стопам,
А в манговых рощах[22] птицы поют, надежен там прохладный приют,
приготовленный пастухам.
Деревни, как птичьи гнезда, хранят из теней сплетенный
наряд и покой,
А водоемы, что с детства знакомы,
зовут зачерпнуть прохладу рукой.
Бенгалка с кувшином идет не спеша, трепещет душа,
и глаза мокры…
Как сладко сказать земле моей: «Мать»,
встретив ласковый взор сестры.
Промчались два дня — и вокруг меня
места родные, — мой сон давнишний.
Тут все как вчера: и дом гончара,
и колесница Вишну[23].
Вот рынок, вот храм, вот склады, а там
тропа, что давно знакома,
Я еле дышал, когда добежал
бегом до родного дома.
Земля, о стыд, о позор! — Ты изменила мне, тщетно блуждает взор —
от прошлого нет следа.
Так, значит, вот какова ты, мать, может любой тебя пожелать,
и отдашься ты без стыда.
Все уважали тебя, пока была ты матерью бедняка
и жила от его трудов.
Кто смел бы дурное сказать о земле, скромно несущей в своем подоле
груз овощей и плодов?
А ныне порочною стала ты, тебя украшают листва и цветы,
твой новый наряд богат.
О горе! Постигнуть не в силах я, как ты смогла изменить себя
от головы до пят.
Я, нищим ушедший в чужие края, сюда вернулся ради тебя,
взгляни:
Я оборван… Чудовище! Ты, пока я страдал, облачалась в цветы,
улыбалась ночи и дни.
Гордишься ты милостями богача, а я так надеялся, миг улуча,
увидеть прежней тебя,
Но от минувшего нет и следа, душу мне ранит твоя красота,
я плачу, былое любя,
В те дни для хозяина-бедняка ты, как амрита[24], была сладка,
а ныне цветут цветы.
Ты ими украшена, ты весела… Но слушай, богинею ты была,
рабынею стала ты…
Словно чужой, с пустою душой
на все я смотрел в упор,
И взор мой набрел на манговый ствол,
памятный с давних пор.
Я сел у корней, а горе во мне
притихло и замерло начеку,—
Детство и мать я стал вспоминать,
чтоб разогнать тоску.
Вспомнилось, как в грозовую ночь сны прочь
отлетали от глаз:
Как спелые манговые плоды, лишь ветер, бывало, встряхнет сады,
собирал я в рассветный час,
Вокруг оглядевшись, я вспомнил пруд; из школы сбежав, мы прятались тут
когда-то очень давно,
И стало ясно до боли мне, что землю, грезившуюся во сне,
вновь увидеть не суждено.
Но ветерок промолчать не смог,
он, прилетев с пруда,
Прошумел и стих, чтоб у ног своих
я нашел два спелых плода.
Тут я понял — мать не могла не узнать
того, кто вернулся к ней,
И гнев мой поник: чем горестней миг,
тем ласковый дар ценней.
Но вдруг из кустов, не в меру суров,
садовник вылез и прямо
Пошел на меня, браня и кляня
(таких посылает Яма[25]).
Я молвил ему: «Шуметь ни к чему,
я землю отдал без спору,
А ты готов из-за двух плодов
со мною затеять ссору!»
Но крикун меня не узнал и палкой погнал
туда,
Где ласкала прохлада хозяина сада,
где он рыбу ловил у пруда.
С ним были друзья. Увидев, кто я,
закричал он: «Пробил твой час!
Околей, злодей!» Он бранился зло, а друзья еще злей
в сто раз.
Я взмолился тогда: «Два упавших плода
мне, как милостыню, подай».
Суд бабу был скор: «Ты, по сути, вор,
хоть на вид и свят, негодяй!»
И, себя губя, рассмеялся я:
«Справедлив судьбы приговор:
Раз земля моя чтит святым тебя,
то я, разумеется, — вор».
Отречение
В поздний час пожелавший отрешиться от мира сказал:
«Нынче к богу уйду я, мне дом мой обузою стал,
Кто меня колдовством у порога держал моего?»
Бог сказал ему: «Я». Человек не услышал его.
Перед ним на постели, во, сне безмятежно дыша,
Молодая жена прижимала к груди малыша.
«Кто они — порождения майи[26]?» — спросил человек.
Бог сказал ему: «Я». Ничего не слыхал человек.
Пожелавший от мира уйти встал и крикнул: «Где ты, божество?»
Бог сказал ему: «Здесь». Человек не услышал его.
Завозился ребенок, заплакал во сне, завздыхал.
Бог сказал: «Возвратись». Но никто его не услыхал.
Бог вздохнул и воскликнул: «Увы! Будь по-твоему, пусть.
Только где ты найдешь меня, если я здесь остаюсь».
Обыкновенный человек
На закате, с палкой под мышкой, с ношей на голове,
Шагает домой крестьянин вдоль берега, по траве..
Если спустя столетья, чудом, каким ни есть,
Вернувшись из царства смерти, он явится снова здесь,
В облике том же самом, с тем же самым мешком,
Растерянный, в изумленье осматриваясь кругом, —
Какие толпы народа сбегутся к нему тотчас,
Как все окружат пришельца, с него не спуская глаз,
Как жадно каждое слово. будут они ловить
О жизни его, о счастье, горестях и любви,
О доме и о соседях, о поле и о волах,
О думах его крестьянских, житейских его делах.
И повесть о нем, который не знаменит ничем,
Тогда покажется людям поэмою из поэм.
Карма[27]
Я утром звал слугу и не дозвался.
Взглянул — дверь отперта. Вода не налита.
Бродяга ночевать не возвращался:
Я без него, как на беду, одежды чистой не найду,
Готова ли еда моя — не знаю.
А время шло и шло… Ах, так! Ну хорошо,
Пускай придет — я проучу лентяя.
Когда он в середине дня пришел, приветствуя меня,
Сложив почтительно ладони,
Я зло сказал: «Тотчас прочь убирайся с глаз,
Мне лодырей не нужно в доме».
В меня уставя тупо взор, он молча выслушал укор,
Затем, помедливши с ответом,
С трудом слова произнося, сказал мне: «Девочка моя
Сегодня умерла перед рассветом».
Сказал и поспешил скорей к работе приступить своей.
Вооружившись полотенцем белым,
Он как всегда до этих пор, прилежно чистил, скреб и тер,
Пока с последним не покончил делом.
К цивилизации
Лес верни нам. Возьми свой город, полный шума и дымной мглы.
Забери свой камень, железо, поваленные стволы.
Современная цивилизация! Пожирательница души!
Возврати нам тень и прохладу в священной лесной тиши.
Эти купанья вечерние, над рекою закатный свет,
Коров пасущихся стадо, тихие песни вед,
Пригоршни зерен, травы, из коры одежды верни,
Разговор о великих истинах, что всегда мы в душе вели,
Эти дни, что мы проводили, в размышленья погружены.
Даже царские наслаждения мне в тюрьме твоей не нужны.
Я свободы хочу. Хочу я снова чувствовать, что лечу,
Чтобы снова вернулись силы в сердце мое, хочу.
Знать хочу, что разбиты оковы, цепи хочу разъять.
Вечный трепет сердца вселенной хочу ощутить опять.
Мать — Бенгалия
В добродетелях и пороках, в смене взлетов, падений, страстей,
О моя Бенгалия! Взрослыми сделай своих детей.
У колен своих материнских не держи в домах взаперти,
Пусть на все на четыре стороны разбегаются их пути.
Пусть по всей стране разбредутся, поскитаются там и тут,
Место в жизни пускай поищут и пускай его обретут.
Их, как мальчиков, не опутывай, из запретов сплетая сеть,
Пусть в страданьях учатся мужеству, пусть достойно встречают смерть.
Пусть сражаются за хорошее, против зла подымая меч.
Если любишь сынов, Бенгалия, если хочешь ты их сберечь,
Худосочных, добропорядочных, с тишиной всегдашней в крови,
Оторви от привычной жизни, от порогов прочь оторви..
Дети — семьдесят миллионов! Мать, ослепшая от любви,
Ты их вырастила бенгальцами, но не сделала их людьми.
Метафора
Когда одолеть преграды у реки не хватает сил,
Затягивает пеленою стоячую воду ил.
Когда предрассудков ветхих повсюду встает стена,
Застывшей и равнодушной делается страна.
Тропа, по которой ходят, остается торной тропой,
Не пропадет она, сорной не зарастет травой.
Кодексы мантр[28] закрыли, преградили стране пути.
Теченье остановилось. Некуда ей идти.
Женщина
Ты не только творение бога, не земли порожденье ты, —
Созидает тебя мужчина из душевной своей красоты.
Для тебя поэты, о женщина, дорогой соткали наряд,
Золотые нити метафор на одежде твоей горят.
Живописцы твой облик женский обессмертили на холсте
В небывалом еще величье, в удивительной чистоте.
Сколько всяческих благовоний, красок в дар тебе принесли,
Сколько жемчуга из пучины, сколько золота из земли.
Сколько нежных цветов оборвано для тебя в весенние дни,
Сколько истреблено букашек, чтоб окрасить твои ступни[29].
В этих сари[30] и покрывалах, свой застенчивый пряча взгляд,
Сразу ты недоступней стала и таинственнее стократ.
По-иному в огне желаний засияли твои черты.
Существо ты — наполовину, полувоображение ты.
* * *
Томился от жажды осел у пруда.
«Темна, — он кричал, негодуя, — вода!»
Быть может, вода и темна для осла, —
Она для умов просветленных светла.
* * *
Верхушка говорила с похвальбою:
«Моя обитель — небо голубое.
А ты, о корень, житель подземелья».
Но корень возмутился: «Пустомеля!
Как ты смешна мне со своею спесью:
Не я ль тебя вздымаю к поднебесью?»
* * *
Керосиновая лампа гордо заявила плошке:
«Называть себя сестрою не позволю мелкой сошке».
Но едва Луна успела в темном небе воцариться,
Низко поклонилась лампа: «Милости прошу, сестрица».
* * *
«За что, седина, ты в почете и силе?» —
Завистливо черные кудри спросили.
«Возьмите все это, — вздохнула печально
Она, — но верните мне цвет изначальный».
* * *
Хвала и хула обратились к поэту:
«Кто друг твой, кто враг твой — скажи по секрету».
«Вы обе — и это совсем не секрет —
Друзья и враги мне», — ответил поэт.
Жалкий дар
Слуга сказад: «О махарадж[31], мудрец не внял мольбам,
Он не желает посетить твой златоверхий храм.
Сегодня у дороги он нашел себе приют,
И толпы верующих с ним молитвы, богу шлют.
Волненьем, трепетом полны и радости святой,
Они земную славят пыль, а храм — почти пустой!
Как, жаждою опалена, летит к цветку пчела,
Покинув улей золотой, расправив два крыла,
Так женщин и мужчин толпа, богатый храм забыв,
Стремится к лотосу-душе. Он, лепестки раскрыв
В пыли дорожной, аромат несет людским сердцам
И одиноко божество, и пуст твой царский храм».
Обеспокоенный раджа покинул царский трон.
Он видит садху[32] на траве, в тени зеленых крон.
«Почтенный, почему отверг ты пышный храм раджи?
А славить господа в пыли достойно ли, скажи?» —
«В том пышном храме бога нет», — последовал ответ.
«Безбожник, что ты говоришь! Нет бога? Бога нет?
На драгоценном алтаре не бог изображен?
Иль в храме этом пуст алтарь и пуст священный трон?»
«Не пусто в храме, махарадж. Гордыня там и спесь.
Безмерной гордостью царя твой храм пропитан весь.
Не всеблагое божество вселилось в этот храм —
Себя ты в храме утвердил, в нем царствуешь ты сам!»
«Я двадцать лакхов[33] рупий дал, я этот храм воздвиг,
Он устремился к небесам, он облаков достиг.
Бог принял дар мой!.. — Тут раджа нахмурил грозно лик
Так отчего ж там бога нет? Ответствуй, еретик!»
Святой спокойно отвечал: «А помнишь ли ты год,
Когда пожаром разорен был бедный твой народ?
Двадцатитысячной толпой стоял он у дворца,
Он тщетно помощи просил у своего отца.
И, не добившись ничего, бездомные ушли;
Они в пещерах и лесах жилища обрели,
И запустелые дворы разрушенных домов,
Кусты, проросшие из стен, страдальцам дали кров.
Деревьев купы — их приют, обочины дорог…
За двадцать лакхов рупий ты вознес тогда чертог.
Твою кичливость, спесь твою тот храм собой являл.
Ты богу отдал этот храм, но бог тогда сказал:
«Обитель вечная моя и выше и прочней,—
Небес бескрайних синева, где тысячи огней.
Основа дома моего — Мир, Истина, Любовь,
Куда ж переселить меня тот скряга хочет вновь?
Ничтожный, слабенький гордец в бессилии своем
Не может подданным помочь, а мне он дарит дом?!»
И бог ушел под сень ветвей, отверг он пышный храм,—
Он к людям навсегда ушел, к бездомным беднякам.
Хоть пена в море и пышна, но пустота внутри.
Так полон гордостью твой храм и пуст он, — посмотри!»
«Негодный шут, — вскричал раджа и головой затряс, —
Мерзавец, убирайся вон, изыди сей же час!»
«Куда ты преданность изгнал, — ответ был мудреца,—
Туда и преданных гони от своего дворца».
Жертва
Двух мальчиков сразу постигла беда:
Не прожили года — ушли навсегда.
И снова родился у Моллики сын;
Муж умер, остался ей мальчик один,
Искали друзья утешенья слова:
Мол, в прошлом рожденье грешила вдова,[34]
И выпало Моллике вдовье житье.
Палимая тяжкого горя огнем,
При тусклом светильнике ночью и днем,
В дыму благовоний, пред ликом богов
Молила она отпущенья грехов
Былого рожденья… Покорна, смирна
И в мысли тревожные погружена,
Бродила, голодная, по деревням,
Без жертв не входила, несчастная, в храм;
Носила с землей амулет в волосах,
Собрав под ногами у брахмана прах;
Из древней «Рамаяны»[35] слушала сказ,
Саньяси домой приводила не раз,
Чтоб дом благочестием он освятил,
Чтоб сына — дитя ее — благословил.
Она унижалась пред всеми подряд,
Молила у каждого ласковый взгляд:
У птиц, у зверей, у небесных светил
Просила, чтоб сын ее маленький жил;
Волненьем и вечной тревогой полна,
Любого обидеть боялась она,
Навлечь на себя неожиданный гнев,
Невольным поступком кого-то задев.
Ребенок дорос до полутора лет
И вдруг заболел. Лихорадка и бред,
На горе вдове, охватили его,
Худеет малыш и не ест ничего,
Несчастная мать позабыла покой,
Поила ребенка священной водой,
Молилась и ночи и дни напролет,—
Недуг не проходит… Рыдая, идет
Несчастная к брахману: «Слушай, отец,
Смогу ль замолить я свой грех наконец?
Носила дары, исполняла обет,
А где же защита мне с сыном от бед!
Я все украшенья мои продала,
Великие жертвы богам принесла,
Чтоб алчность безмерную их утолить.
Возможно ль им столь ненасытными быть!
Ужель и ребенка должна я отдать?»
И брахман сказал: «О дитя, ты как мать
Усердно пеклась о ребенке своем,
Но в веке железном[36], увы, мы живем.
Нет ныне закона; нет веры такой,
Которыми славился век золотой.
Теперь не способен уже человек
На истинный подвиг — забыт он навек!
Когда добродетельный Карна[37] узнал,
Что жертвы господь от него пожелал,
Он сына зарезал. Но волей небес
В мгновение ока ребенок воскрес,
И Шиби-раджа[38] добродетельным был —
Ведь собственной плотью он Индру кормил.
Остался живым и целехоньким он.
Вот вера и стойкость ушедших времен!
Но твердость такая уже не для вас…
От матери слышал я в детстве рассказ:
Бесплодная женщина рядом жила,
Хотела ребенка — и клятву дала,
Что если когда-нибудь сына родит,
То первенца Матери-Ганге[39] вручит.
И мальчик родился… Но вскоре, увы,
Ей выпала горькая доля вдовы[40].
Исполнена верой и духом тверда,
С младенцем пошла она к Ганге тогда:
«О Мать, не забыла я клятву свою,
Дитя мое в руки твои отдаю,
Он первый, о Мать, и последний мой сын!..»
И — бросила в воду. Чудесный дельфин
С самой Бхагиратхи[41] на черной спине,
Как жемчуг искрясь, показался в волне.
Был Гангой ребенок вдове возвращен.
Вот вера и стойкость ушедших времен!»
Потупила бедная Моллика взгляд.
Себя укоряя, вернулась назад:
«Напрасно молюсь, исполняю обет,
Нет истинной веры в душе моей, нет!»
А в доме царила зловещая тишь.
В жару, в лихорадке метался малыш.
Лекарство схватила в отчаянье мать.
Пытается зубки ребенку разжать.
Но тщетно… Глазами сказавши «увы»,
Врач медленно вышел из дома вдовы.
Стемнело. Бессонный светильник дрожит,
Дыхание мальчика мать сторожит.
Но вот приоткрылись глаза его вдруг
И будто бы ищут кого-то вокруг.
«О радость моя, драгоценный ты мой!
Вот мамины руки, не бойся, родной!»
И Моллика крепко его обняла,
Чтоб хворь его тяжкая к ней перешла.
Вдруг дверь распахнулась, и ветра порыв
Ворвался, светильник ночной загасив.
И вздрогнула Моллика: там, вдалеке,
Свирепствуют волны на Ганге-реке.
«О сын мой бесценный, ты будешь здоров,
Я Матери-Ганги услышала зов.
Есть руки прохладней, дитя, и нежней,
И мягче, чем руки у мамы твоей.
Ты будешь спасен!»
Начинался прилив….
Вот Моллика, на руки сына схватив,
Бежит, освещенная полной луной,
К безлюдному гхату[42] дорогой прямой.
«О Мать! — простонал ее голос в ночи. —
Бессильны пред болью земные врачи,—
Яви состраданье и жар охлади
Больному ребенку — на нежной груди».
Горячее тельце она подняла
И — с верой — прохладной воде отдала.
Надолго застыв в ожиданье немом,
Закрыла глаза она. Тихо кругом.
И вот на дельфине, почудилось ей,
Плывет светлоликая Мать Матерей[43].
И, лотосом мокрой ладони[44] прикрыт,
Красивый ребенок смеется, шалит.
Сын к матери тянет ручонку свою…
И Моллика слышит: «Бери, отдаю!..»
И, шаря глазами по черной воде,
Несчастная шепчет: «Мать, где же он?.. Где?!»
А Ганга молчит… Отступает мираж,
И слышится хриплое: «Ты не отдашь?!»
Луна полноликая смотрит с небес.
От южного ветра колышется лес…
Гордость
Войдя, попросил он: «Взгляни на меня!»
Сказала: «Уйди!», — вид суровый храня.
Подруга, подруга, так было, поверь.
И все же за ним не захлопнулась дверь.
Поближе шагнул. Говорю: «Отойди!»
Взял за руки. «Брось, — говорю, — не серди!»
Подруга, подруга, верь, это не ложь.
В покое меня не оставил он все ж.
Приблизил лицо он вплотную ко мне,
«Фу», — сморщившись, я отвернулась к стене.
Подруга, подруга, клянусь, было так.
Он все ж не отстал, этот дерзкий чудак.
Губами щеки он коснулся моей.
Сказала я, вздрогнув:. «Ну что ты? Не смей!»
Подруга, подруга, то сон или явь?
Он все ж отступить не подумал, представь.
Гирлянду надел на меня. «Ни к чему!
Возьми ее прочь!» — я сказала ему.
Подруга, подруга, как быть мне? Беда!
Ни страха у дерзкого нет, ни стыда.
Гирлянду мою захватив не спросясь,
Ушел он. С тех пор не смыкала Я глаз.
Подруга, подруга, ах, слезы слепят,
Скажи, почему не пришел он назад?
Индия — Лакшми[45]
О ты, чарующая людей,
Ты, о земля, сияющая в блеске солнца лучей,
великая Мать матерей,
Долы, омытые Индом шумящим, ветром — лесные,
дрожащие чащи,
С Гималайскою в небо летящей снежной коронФй своей;
В небе твоем солнце взошло впервые, впервые леса
услышали вёды святые,
Впервые звучали легенды, песни живые, в домах твоих
и в лесах, в просторах полей;
Ты — вечно богатство цветущее наше, народам
дающая полную чащу,
Джамуна[46] и Ганга, нет краше, привольней,
ты — жизни нектар, молоко матерей!
Мы живем в одной деревне
В той же я живу деревне, что она.
Только в этом повезло нам — мне и ей.
Лишь зальется свистом дрозд у их жилья —
Сердце в пляс пойдет тотчас в груди моей.
Пара выращенных милою ягнят
Под ветлой у нас пасется поутру;
Если, изгородь сломав, заходят в сад,
Я, лаская, на колени их беру.
Называется деревня наша Кхонджона,
Называется речушка наша Онджона,
Как зовусь я — это здесь известно всем,
А она зовется просто — наша Ронджона.
Мы живем почти что рядом: я вон там,
Тут она, — нас разделяет только луг.
Их лесок покинув, может в рощу к нам
Рой пчелиный залететь с гуденьем вдруг.
Розы те, что в час молитв очередной
В воду с гхата их бросают богу в дар,
Прибивает к гхату нашему волной;
Зачастую из квартала их весной
Продавать несут цветы на наш базар.
Называется деревня наша Кхонджона,
Называется речушка наша Онджона,
Как зовусь я — это здесь известно всем,
А она зовется просто — наша Ронджона.
К той деревне подошли со всех сторон
Рощи манго и зеленые поля.
По весне у них на поле всходит лен,
Подымается на нашем — конопля.
Если звезды над жилищем их взошли,
То над нашим дует южный ветерок,
Если ливни гнут их пальмы до земли,
То у нас цветет кадамбовый[47] цветок.
Называется деревня наша Кхонджона,
Называется речушка наша Онджона,
Как зовусь я — это здесь известно всем,
А она зовется просто— наша Ронджона.
* * *
Где души бестрепетны, где чело
Всегда приподнято и светло;
Где всю вселенную стены оград
На узкие улицы не дробят,
На комнаты, лестницы и дворы;
Где речи свободны, сердца щедры;
Где вдохновеньям дано цвести,
Где раскрываются все пути;
Где предрассудков мертвая мгла
Порывы и чувства не оплела;
Где правду не делят, где ты один
И мыслей и радостей властелин,—
От долгого, тяжкого сна наконец
Ты Индию там разбуди, отец!
* * *
Индиец, ты гордость свою не продашь,
Пусть нагло глядит на тебя торгаш!
Он прибыл с Запада в этот край,—
Но шарфа ты светлого не снимай.
Твердо иди дорогой своей,
Не слушая лживых, пустых речей.
Сокровища, скрытые в сердце твоем,
Достойно украсят смиренный дом,
Венцом незримым оденут чело,
Владычество золота сеет зло,
Разнузданной роскоши нет границ,
Но ты не смущайся, не падай ниц!
Своей нищетою будешь богат,—
Покой и свобода дух окрылят.
* * *
Та женщина, что мне была мила,
Жила когда-то в этой деревеньке.
Тропа к озерной пристани вела,
К гнилым мосткам на шаткие ступеньки.
Названье этой дальней деревушки,
Быть может, знали жители одни.
Холодный ветер приносил с опушки
Землистый запах впасмурные дни.
Такой порой росли его порывы,
Деревья в роще наклонялись вниз.
В грязи разжиженной дождями нивы
Захлебывался зеленевший рис.
Без близкого участия подруги,
Которая в те годы там жила,
Наверное, не знал бы я в округе
Ни озера, ни рощи, ни села.
Она меня водила к храму Шивы[48],
Тонувшему в густой лесной тени.
Благодаря знакомству с ней, я живо
Запомнил деревенские плетни.
Я б озера не знал, но эту заводь
Она переплывала поперек.
Она любила в этом месте плавать,
В песке следы ее проворных ног.
Поддерживая на плечах кувшины,
Плелись крестьянки с озера с водой.
С ней у дверей здоровались мужчины,
Когда шли мимо с поля слободой.
Она жила в окраинной слободке,
Как мало изменилось все вокруг!
Под свежим ветром парусные лодки,
Как встарь, скользят по озеру на юг.
Крестьяне ждут на берегу парома
И обсуждают сельские дела.
Мне переправа не была б знакома,
Когда б она здесь рядом не жила.
Паром
Кто ты такой? Нас перевозишь ты,
О человек с парома.
Ежевечерне вижу я тебя,
Став на пороге дома,
О человек с парома.
Когда кончается базар,
Бредут на берег млад и стар,
Туда, к реке, людской волной
Моя душа влекома,
О человек с парома.
К закату, к берегу другому ты
Направил бег парома,
И песня зарождается во мне,
Неясная, как дрема,
О человек с парома.
На гладь воды гляжу в упор,
И влагой слез подернут взор.
Закатный свет ложится мне
На душу невесомо,
О человек с парома.
Твои уста сковала немота,
О человек с парома.
То, что написано в глазах твоих,
Понятно и знакомо,
О человек с парома.
Едва в глаза твои взгляну,
Я постигаю глубину.
Туда, к реке, людской волной
Моя душа влекома,
О человек с парома.
* * *
Когда страданье приведет
Меня к порогу твоему,
Ты позови его и сам
Дверь отвори ему.
Оно все бросит, чтоб взамен
Изведать рук счастливый плен;
Тропою поспешит крутой
На свет в твоем дому…
Ты позови его и сам
Дверь отвори ему.
От боли песней исхожу;
Заслушавшись ее,
Хоть на минуту выйди в ночь,
Покинь свое жилье.
Как стриж, что бурей сбит во мгле,
Та песня бьется по земле.
Навстречу горю моему
Ты поспеши во тьму,
Ах, позови его и сам
Дверь отвори ему.
Юное племя
О юное, о дерзостное племя,
Всегда в мечтах, в безумных снах;
Борясь с отжившим, обгоняешь время.
В кровавый час зари в краю родном
Пускай толкует каждый о своем,—
Все доводы презрев, в пылу хмельном,
Лети в простор, сомнений сбросив бремя!
Расти, о буйное земное племя!
Качает клетку ветер неуемный.
Но пуст наш дом, безмолвно в нем.
Все неподвижно в комнате укромной.
На жерди птица дряхлая сидит,
Опущен хвост, и плотно клюв закрыт,
Недвижная, как изваянье, спит;
В ее тюрьме остановилось время.
Расти, упорное земное племя!
Слепцы не видят, что весна в природе:
Река ревет, плотину рвет,
И волны разгулялись на свободе.
Но дремлют дети косные земли
И не хотят идти пешком в пыли,—
На ковриках сидят, в себя ушли;
Безмолвствуют, прикрыв от солнца темя.
Расти, тревожное земное племя!
Среди отставших вспыхнет возмущенье.
Лучи весны разгонят сны.
«Что за напасть!» — вскричат они в смятенье.
Их поразит удар могучий твой.
С кровати вскочат, в ярости слепой,
Вооружившись, устремятся в бой.
Сразится правда с ложью, солнце с темью.
Расти, могучее земное племя!
Алтарь богини рабства перед нами.
Но час пробьет — и он падет!
Безумье, вторгнись, все сметая в храме!
Взовьется стяг, промчится вихрь кругом,
Твой смех расколет небеса, как гром.
Разбей сосуд ошибок — все, что в нем,
Возьми себе — о радостное бремя!
Расти, земное дерзостное племя!
От мира отрешась, свободным стану!
Передо мной простор открой,
Вперед идти я буду неустанно.
Немало ждет меня преград, скорбей,
И сердце мечется в груди моей.
Дай твердость мне, сомнения развей,—
Пусть книжник в путь отправится со всеми
Расти, о вольное земное племя!
О юность вечная, всегда будь с нами!
Сбрось прах веков и ржавь оков!
Мир засевай бессмертья семенами!
В грозовых тучах ярых молний рой,
Зеленым хмелем полон мир земной,
И ты возложишь на меня весной
Гирлянду бокула[49],— уж близко время.
Расти, бессмертное земное племя!
Клич
Не сможет вспять нас повернуть
Никто и никогда.
А тех, кто преградит нам путь,
Несчастье ждет, беда.
Мы путы рвем. Вперед, вперед —
Сквозь зной, сквозь холод непогод!
А тем, кто сети нам плетет,
Самим попасть туда.
Беда их ждет, беда.
То Шивы. клич. Вдали поет
Его призывный рог.
Зовет полдневный небосвод
И тысяча дорог.
С душой сливается простор,
Лучи пьянят, и гневен взор.
А тех, кто любит сумрак нор,
Лучи страшат всегда.
Беда их ждет, беда.
Все покорим — и высь вершин,
И океан любой.
О, не робей! Ты не один,
Друзья всегда с тобой.
А тем, кого терзает страх,
Кто в одиночестве зачах,
Остаться в четырех стенах
На долгие года.
Беда их ждет, беда.
Очнется Шива. Протрубит.
Взлетит наш стяг в простор.
Преграды рухнут. Путь открыт.
Закончен давний спор.
Пусть взбитый океан кипит[50]
И нас бессмертьем одарит.
А тем, кто смерть, как бога, чтит,
Не миновать суда!
Беда их ждет, беда.
Тадж-махал[51]
Кто вдохнул в тебя жизнь,
Белый мрамор, скажи,
Кто бессмертье тебе даровал,
Тадж-Махал?
Уходя в небосвод,
Помнишь ты и земные сны.
Овевает тебя что ни год
Вздох прощальный весны.
На свиданьях в полуночный час
Видел ты влюбленных не раз.
Сколько песен и слез
В тусклом свете лилось!
Ты запомнил их навсегда.
Не сотрет их дней череда.
И года.
Властелин Шах Джахан,
Из печали разлуки
Ты жемчужину вынул,
Миру кинул
В простертые руки…
Возле белого Таджа
Не стоит уже стража,
Света десять сторон[52],
Голубой небосклон
Видит он.
И лучи при свиданье
Дарит храму восход,
А при грустном прощанье
Тихий отблеск страданья
Лунный свет придает.
Расцвела красотою
Любовь Шах Джахана,
И бесплотная память
В ней плоть обрела,
Прорвала, словно солнце, завесу тумана
И любовь Шах Джахана
Со вселенской слила.
И короной Мумтаз Бегум увенчала
Всех возлюбленных жен
На века и века,
Эта память любви. к ней короновала
И жену махараджи,
И жену бедняка.
Но душа Шах Джахана
И трон Шах Джахана
Скрыты мглою тумана.
Только белого мрамора скрыть ей невмочь.
Поколенье за поколеньем
Окружают его поклоненьем
День и ночь.
Шекспир
Когда твоя звезда зажглась над океаном,
Для Англии в тот день ты сыном стал желанным;
Сокровищем своим она тебя сочла,
Дотронувшись рукой до твоего чела.
Недолго средь ветвей она тебя качала;
Недолго на тебе лежали покрывала
Тумана в гуще трав, сверкающих росой,
В садах, где, веселясь, плясал девичий рой.
Твой гимн уже звучал, но мирно рощи спали.
Потом едва-едва пошевелились дали:
В объятиях держал тебя твой небосвод,
А ты уже сиял с полуденных высот
И озарил весь мир собой, подобно чуду.
Прошли века с тех пор. Сегодня — как повсюду —
С индийских берегов, где пальм ряды растут,
Меж трепетных ветвей тебе хвалу поют.
Раджа и его жена
Один раджа на свете жил…
В тот день раджою я наказан был
За то, что, не спросившись, в лес
Ушел и там на дерево залез,
И с высоты, совсем один,
Смотрел, как пляшет голубой павлин.
Но подо мною треснул вдруг
Сучок, и мы упали — я и сук.
Потом я взаперти сидел,
Своих любимых пирожков не ел,
В саду раджи плодов не рвал,
Увы, на празднике не побывал…
Кто наказал меня, скажи?
Кто скрыт под именем того раджи?
А у раджи жена была —
Добра, красива, честь ей и хвала…
Во всем я слушался ее…
Узнав про наказание мое,
Она взглянула на меня,
Потом, печально голову склоня,
Ушла поспешно в свой покой
И дверь закрыла крепко за собой.
Весь день не ела, не пила,
Сама на праздник тоже не пошла…
Но кара кончилась моя —
И в чьих объятьях оказался я?
Кто целовал меня в слезах,
Качал, как маленького, на руках?
Кто это был? Скажи! Скажи!
Ну, как зовут жену того раджи?
Солнце
Туч угрюмое скопленье, все в слезах, порою мглистой,
Меч подъемля, рассеки,
Воссияй, о солнце, ярче! Пусть твой лотос золотистый
Раскрывает лепестки.
Ты гремишь на звонкой вине[53], ты кудрями засверкало;
В сердце лотоса укрыто то священное начало,
Что вселенной жизнь дало.
Чуть родился я, о солнце, ты, я знаю, отмечало
Мне лобзанием чело.
И твое лобзанье душу мне наполнило до края,
Всесжигающим огнем.
Пусть твой скорбный лад раздастся, бесконечно возникая
В песнопении моем.
Пробужденная лобзаньем, закипела кровь смятенно,
Песнь безумная куда-то поплыла самозабвенно,
Исступленно поплыла,
И душа моя рыдала тяжело, неизреченно —
Боль насквозь ее прожгла.
Там души моей подобье, где костры твои зардели,
Им отвесил я поклон.
На брегах незнанья слышен звук божественной свирели —
Ею сумрак побежден;
И душа свирелью стала, начинает песня литься,
Расцвели жасмины в рощах, водопад ревет-ярится,
Блещут сполохи сквозь тьму,
И с напевами свирели необорная струится
Жизнь по телу моему.
Жизнь моя — твоей частица, и плывет ладья мелодий
По стремнинам бытия.
Улыбаясь, ты решило, что в объятия природе
Попадет моя ладья.
И душа в лучах ашшина[54] бьется, радуясь плененью,
Как на шефали[55] росинки, где дрожат, сливаясь с тенью,
Пятна солнечных лучей;
И лучи твои на волнах пляшут, пляшут, к изумленью
Очарованных очей.
Из сокровищницы света ты мне дар приносишь чудный —
Кто красу его поймет?
Что мое воображенье и души тайник подспудный
Свяжет узами тенет?
Создадут твои посланцы вязь волшебную узора.
Только альпона[56]-рисунок на земле сотрется скоро,
Станет гол вселенной дом —
Столь же быстро да промчатся смех и слезы, скорбь и ссора,
Я не буду им рабом.
Пусть они соединятся с наступлением срабона[57]
Под завесой дождевой,
В плеске листьев, в треске камня, в бубенцах
сребристых звона
Легкой влаги ключевой,
В пляске бешеной бойшакха[58], опьяненного грозою,
В час, когда веселый Васант[59] с нами делится казною,
Будто здесь он навсегда,—
А потом за окоемом все, что нам дано весною,
Исчезает без следа.
Солнце, солнце, в день осенний жизнь даешь ты переливам
На свирели золотой.
Мир взволнован смехом, плачем, всем угрюмым, всем
счастливым,
Ярким светом и росой.
Песнь моя куда стремится, как отшельница босая,
Обуянная мечтою, отрешенно отвергая
Все, что в силах дать земля?
Не к тебе ль она явилась, беззащитно заклиная,
Света яркого моля?
Песнь мою прими скорее, отвори врата чертога,
Я молю — внемли же мне!
Ей даруй покой блаженный, да сгорит ее тревога
В очищающем огне.
Прочерти пробор вечерний алой краскою заката[60]
И поставь алмазный тилак[61] песне, спетой мной когда-то,
На задумчивом челе;
Пусть сольется вечер с гимном океанского раската
В надвигающейся мгле.
Дар
Я принес тебе запястий пару.
Думал, ты обрадуешься дару.
Приложив к руке витые звенья,
Ты взглянула, но через мгновенье
Удалилась в дом и там, в забвенье,
Может быть, их бросила без дела.
Ночью я пришел, и мы простились.
На руках запястья не светились.
Ты их не надела.
Нужен ли дарителю отдарок?
Почему он помнит про подарок?
Спелый плод, упав, не возвратится,
Но разлукой ветвь не тяготится.
Ветру отдавая песню, птица
Разве это делает с оглядкой?
Кто дарить умеет во вселенной —
Дарит безраздельно, без размена,
Дарит без остатка.
Дар принять тому дано уменье,
Кто понять способен смысл даренья.
Видится ему в зерне жемчужном
Труженик, с его трудом натужным,
Что жемчужниц ловит в море южном.
А иному вынутый из створок
Жемчуг мнится легкою добычей.
Сам не дарит — не его обычай!
Дар таким не дорог.
Я с собой в разладе, в споре жарком:
Что достойно в мире стать подарком?
Нет ему названья, нету меры.
Разве белый, розовый иль серый
Жемчуг из сокровищниц Куберы[62]?
Все ничтожно для моей любимой!
Оттого взываю к сердцу милой,
Чтоб оно безделку превратило
В дар неоценимый.
Мужественная
Иль женщинам нельзя вести борьбу,
Ковать свою судьбу?
Иль там, на небе,
Решен наш жребий?
Должна ль я на краю дороги
Стоять смиренно и в тревоге
Ждать счастья на пути,
Как дара неба… Иль самой мне счастья не найти?
Хочу стремиться
За ним в погоню, как на колеснице,
Взнуздав неукротимого коня.
Я верю: ждет меня Сокровище, которое, как чудо,
Себя не пощадив, добуду.
Не робость девичья, браслетами звеня,
А мужество любви пусть поведет меня,
И смело я возьму венок мой брачный,
Не сможет сумрак тенью мрачной
Затмить счастливый миг.
Хочу я, чтоб избранник мой постиг
Во мне не робость униженья,
А гордость самоуваженья,
И перед ним тогда
Откину я покров ненужного стыда.
Мы встретимся на берегу морском,
И грохот волн обрушится, как гром,—
Чтоб небо зазвучало.
Скажу, с лица откинув покрывало:
«Навек ты мой!»
От крыльев птиц раздастся шум глухой.
На запад, обгоняя ветер,
Вдаль птицы полетят при звездном свете.
Творец, о, не лиши меня ты дара речи,
Пусть музыка души звенит во мне при встрече.
Пусть будет в высший миг и наше слово
Все высшее в нас выразить готово,
Пусть льется речь потоком
Прозрачным и глубоким,
И пусть поймет любимый
Все, что и для меня невыразимо,
Пусть из души поток словесный хлынет
И, прозвучав, в безмолвии застынет.
Фанатизм
Кто, суеверьем лютым ослеплен,
Готов убить, враждой пылает он.
Кто равнодушен к вере, все же
Благословенье примет божье.
Пред ним светильник разума горит.
Отвергнув шастры[63], он добро творит.
Вот иноверца изувер убил.
Он преступленьем веру оскорбил:
От имени Отца вселенной
Кровь сына пролил дерзновенно.
Кровавый стяг с молитвой в храм несут.
Не бога — сатану безумцы чтут!
Обиды, заблужденья старины,
Страх, муки, злоба, бредовые сны —
Все в веру внесено слепцами.
Себе темницу строят сами!
Глас времени гремит, вещая нам:
Могучий вихрь сметет проклятый хлам!..
Их вера стала каменной горой,
Оружьем грозным в распре вековой.
Забыв, что лишь в любви отрада,
Мир залили потоком яда.
В ладье вселенной тщатся дно пробить
И тонут сами. Некого винить!..
Властитель веры, чад своих спаси!
В груди заблудших ярость угаси!
Храм, кровью братьев обагренный,
Сровняй с землею в день сужденный!
Темницу веры громом в прах разбей
И знанья свет во мрак сердец пролей!
* * *
О Мать-Бенгалия! Край золотой!
Твой небосвод в душе поет свой гимн святой.
Меня пьянит весной рощ манговых цветенье.
Я твой, навеки твой!
Осенних нив убор блистает красотой.
Чарует взор сиянье зорь, узор теней.
Цветет покров твоих лугов, твоих полей.
О Мать, из уст твоих нектаром льется пенье.
Я твой, навеки твой!
Когда печальна ты — и я скорблю с тобой.
Я рос вдали от гроз, и в играх дни текли.
В моей крови — настой твоей благой земли.
Светильник ты зажжешь, когда сгустятся тени.
Я твой, навеки твой!
Я вновь бегу к тебе, в свой дом родной!
Среди холмов — стада коров.
Живет народ у тихих вод, в тени лесов.
Не знают лени мирные селенья.
Я твой, навеки твой!
Мне друг — любой пастух, и пахарь — брат родной.
* * *
Кормчий, встань у руля! Смело вдаль поплывем!
Честь тебе воздаем!
Буря рвет лоно вод, но с пути не свернем!
Честь тебе воздаем!
Плыть с тобою мы рады, не страшат нас преграды,
Кормчий с мудрым челом!
Берег дальний манит! Твердо правь кораблем!
Честь тебе воздаем!
Тех, что любят покой, не захватим с собой,
Кормчий с мудрым челом!
Все равны в этот час, все, как братья, живем!
Честь тебе воздаем!
Мы тобою ведомы! В мире всюду мы дома,
Кормчий с мудрым челом!
Свет излей из очей — бремя нам нипочем.
Честь тебе воздаем!
Мы гребем что есть сил. Взор вперед устремил
Кормчий с мудрым челом!
Жизнь и смерть — водоверть, — не скорбим ни о чем!
Честь тебе воздаем!
Не вернемся в тревоге, не попросим подмоги,
Кормчий с мудрым челом!
Мы тебя познаем и в себе и во. всем!
Честь тебе воздаем!
* * *
Пусть куются все крепче оковы, — тем скорей мы разбить их готовы,
Пусть их взор наливается кровью, — тем грозней наши сдвинуты брови,
Тем грозней наши сдвинуты брови.
Сообща надо действовать нам, — предаваться не время мечтам!
Пусть охрипнут от злобного рева, — тем скорей мы воспрянем от сна векового!
Тем скорей мы воспрянем от сна векового.
Пусть кругом все сровняют с землей, — вдвое больше построим могучей рукой!
Пусть бичуют нас в ярости новой, — тем бурней море гнева людского,
Тем бурней море гнева людского.
Бьются светлой надеждой сердца: мы отныне во власти творца!
Им недолго глумиться над нами, — в пыль повергнуто будет их знамя.
В пыль повергнуто будет их знамя.
* * *
Ужасная пора! Как душны вечера!
Томлюсь в полдневный зной, не сплю в тиши ночной.
Жестокость солнца гибельно щедра.
Здесь голубь чуть живой, от жажды сам не свой,
В иссохшей роще сетует с утра.
Я страх мой превозмог, я знал: настанет срок —
И ливнем хлынешь ты с далекой высоты
К душе, которую гнетет жара.
* * *
О бойшакх пылающий, внемли!
Пусть твой горький вздох аскета возвестит распад расцвета,
Пестрый сор сметет, кружа в пыли.
Пусть уйдут воспоминанья, отголоски песни ранней,
Дымка слез рассеется вдали.
Утомление земное одолей, разрушь
Омовеньем в жгучем зное, погруженьем в сушь.
Утомленность каждодневным истреби в пыланье гневном,
Гулом раковины грозным искупленье ниспошли,
От блаженного покоя исцели!
* * *
Из тучи — грохот барабана, могучий рокот непрестанный…
Волна глухого гула мне сердце всколыхнула,
Его биенье в громе потонуло.
Таилась боль в душе, как в бездне, — чем горестней, тем бессловесней,
Но ветер влажный пролетел, и лес протяжно зашумел,
И скорбь моя вдруг зазвучала песней.
* * *
Во двор срабона входят тучи, стремительно темнеет высь,
Прими, душа, их путь летучий, в неведомое устремись,
Лети, лети в простор бескрайний, стань соучастницею тайны,
С земным теплом, родным углом расстаться не страшись,
Пусть в сердце боль твоя пылает холодной молнии огнем,
Молись, душа, всеразрушенью, заклятьями рождая гром.
К тайнице тайн причастна будь и, с грозами свершая путь,
В рыданьях ночи светопреставления — закончись, завершись.
* * *
Приди, о буря, не щади сухих моих ветвей,
Настало время новых туч, пора иных дождей,
Пусть вихрем танца, ливнем слез блистательная ночь
Поблекший цвет минувших лет скорей отбросит прочь.
Пусть все, чему судьба — уйти, уйдет скорей, скорей!
Циновку ночью расстелю в моем дому пустом.
Сменю одежду — я продрог под плачущим дождем.
Долину залило водой, — неймется в берегах реке.
Как вздох жасмина, голос мой летит, теряясь вдалеке,
И как бы за чертою смерти проснулась жизнь в душе моей.
* * *
Дожди иссякли, зазвучал разлуки голос одинокий.
Собрать напевы срок настал, — перед тобою путь далекий.
Отгрохотал последний гром, причалил к берегу паром,—
Явился бхадро[66], не нарушив сроки.
В кадамбовом лесу желтеет пыльцы цветочной легкий слой.
Соцветья кетоки[67] забыты неугомонною пчелой.
Объяты тишиной леса, таится в воздухе роса,
И на свету от всех дождей — лишь блики, отблески, намеки.
* * *
Явилась толпа темно-синих туч, ашархом[68] ведома.
Не выходите сегодня из дома!
Потоками ливня размыта земля, затоплены рисовые поля.
А за рекой — темнота и грохот грома.
Слышишь: паромщика кто-то зовет, голос звучит незнакомо.
Уже свечерело, не будет сегодня парома.
Ветер шумит на пустом берегу, волны шумят на бегу,—
Волною волна гонима, теснима, влекома…
Уже свечерело, не будет сегодня парома.
Слышишь: корова, мычит у ворот, ей в коровник пора давно.
Еще немного, и станет темно.
Взгляни-ка, вернулись ли те, что в полях с утра, — им вернуться пора.
Пастушок позабыл о стаде — вразброд плутает оно.
Еще немного, и станет темно.
Не выходите, не выходите из дома!
Вечер спустился, в воздухе влага, истома.
Промозглая мгла на пути, по берегу скользко идти.
Взгляни, как баюкает чашу бамбука вечерняя дрема.
* * *
Солнечный луч засмеялся в объятиях туч, — дожди иссякли вдруг.
Сегодня есть у меня досуг, чудесный досуг.
В какую бы рощу пойти, не намечая пути?
Иль, может быть, убежать с детворой на пестрый луг?
Из листьев кетоки лодку слажу, цветами ее уберу,
Пущу по озеру — пусть плывет, колышась на ветру.
В лугах разыщу пастушонка, на свирели сыграю звонкой.
Валяясь в чаще, измажусь пыльцою тонкой, желтеющей вокруг.
Обыкновенная девушка
Я — девушка из онтохпура[69]. Ясно,
Что ты меня не знаешь. Я прочла
Последний твой рассказ «Гирлянда
Увянувших цветов», Шорот-Бабу[70]
Твоя остриженная героиня
На тридцать пятом годе умерла.
С пятнадцати случались с ней несчастья.
Я поняла, что вправду ты волшебник:
Ты девушке дал восторжествовать.
Я о себе скажу. Мне лет немного,
Но сердце я одно уж привлекла
И ведала к нему ответный трепет.
Но что я! Я ведь девушка как все,
А в молодости многие чаруют.
Будь добр, прошу я, напиши рассказ
О девушке совсем обыкновенной.
Она несчастна. То, что в глубине
У ней необычайного таится,
Пожалуйста, найди и покажи
Так, чтоб потом все замечали это.
Она так простодушна. Ей нужна
Не истина, а счастье. Так нетрудно
Увлечь ее! Сейчас я расскажу,
Как это все произошло со мною.
Положим, что его зовут Нореш.
Он говорил, что для него на свете
Нет никого, есть только я одна.
Я этим похвалам не смела верить,
Но и не верить тоже не могла.
И вот он в Англию уехал. Вскоре
Оттуда письма стали приходить,
Не очень, впрочем, частые. Еще бы!
Я думала — ему не до меня.
Там девушек ведь тьма, и все красивы,
И все умны и будут без ума
От моего Нореша Сена, хором
Жалея, что так долго был он скрыт
На родине от просвещенных взоров.
И вот в одном письме он написал,
Что ездил с Лиззи на море купаться,
И приводил бенгальские стихи
О вышедшей из волн небесной деве.
Потом они сидели на песке,
И к их ногам подкатывались волны,
И солнце с неба улыбалось им.
И Лиззи тихо тут ему сказала:
«Еще ты здесь, но скоро прочь уедешь,
Вот раковина вскрытая. Пролей
В нее хотя одну слезу, и будет
Жемчужины дороже мне она».
Какие вычурные выраженья!
Нореш писал, однако: «Ничего,
Что явно так слова высокопарны,
Зато они звучат так хорошо.
Цветов из золота в сплошных алмазах
Ведь тоже нет в природе, а меж тем
Искусственность цене их не мешает».
Сравненья эти из его письма
Шипами тайно в сердце мне вонзались.
Я — девушка простая и не так
Испорчена богатством, чтоб не ведать
Действительной цены вещам. Увы!
Что там ни говори, случилось это,
И не могла ему я отплатить.
Я умоляю, напиши рассказ
О девушке простой, с которой можно
Проститься издали и навсегда
Остаться в избранном кругу знакомых,
Вблизи владелицы семи машин.
Я поняла, что жизнь моя разбита,
Что мне не повезло. Однако той,
Которую ты выведешь в рассказе,
Дай посрамить врагов в отместку мне.
Я твоему перу желаю счастья.
Малати имя (так зовут меня)
Дай девушке. Меня в ней не узнают.
Малати слишком много, их не счесть
В Бенгалии, и все они простые.
Они на иностранных языках
Не говорят, а лишь умеют плакать.
Доставь Малати радость торжества..
Ведь ты умен, твое перо могуче.
Как Шакунталу[71], закали ее
В страданиях. Но сжалься надо мною.
Единственного, о котором я
Всевышнего просила, ночью лежа,
Я лишена. Прибереги его
Для героини твоего рассказа.
Пусть он пробудет в Лондоне семь лет,
Все время на экзаменах срезаясь,
Поклонницами занятый всегда.
Тем временем пускай твоя Малати
Получит званье доктора наук
В Калькуттском университете. Сделай
Ее единым росчерком пера
Великим математиком. Но этим
Не ограничься. Будь щедрей, чем бог,
И девушку свою отправь в Европу.
Пусть тамошние лучшие умы,
Правители, художники, поэты,
Пленятся, словно новою звездой,
Как женщиною ей и как ученой.
Дай прогреметь ей не в стране невежд,
А в обществе с хорошим воспитаньем,
Где наряду с английским языком
Звучат французский и немецкий. Надо,
Чтоб вкруг Малати были имена
И в честь ее готовили приемы,
Чтоб разговор струился, точно дождь,
И чтобы на потоках красноречья
Она плыла уверенней в себе,
Чем лодка с превосходными гребцами.
Изобрази, как вкруг нее жужжат:
«Зной Индии и грозы в этом взоре».
Замечу, между прочим, что в моих
Глазах, в отличье от твоей Малати,
Сквозит любовь к создателю одна
И что своими бедными глазами
Не видела я здесь ни одного
Благовоспитанного европейца.
Пускай свидетелем ее побед
Стоит Нореш, толпою оттесненный.
А что ж потом? Не стану продолжать!
Тут обрываются мои мечтанья.
Еще ты на всевышнего роптать,
Простая девушка, имела смелость?
Флейта
Узкий переулок,
Дом двухэтажный.
Внизу, за решеткой — окно,
Двери — прямо на улицу,
Стены в мутных подтеках,
Обветшалые и облупленные.
Над дверью пришпилен ярлык
С ликом Ганеши[72],
Покровителя всех начинаний.
В этой комнате я живу и плачу за нее.
Здесь же ящерица обитает,
От меня отличаясь лишь тем,
Что всегда обеспечена пищей.
Я — младший клерк в конторе.
Двадцать пять рупий — жалованье.
Столуюсь я в доме Дотто —
Даю уроки их сыну.
А вечера коротаю На вокзале — и мне
Не надо платить за свет.
Шипенье паровика,
Рев гудка,
Толкотня пассажиров,
Клики кули…
Но бьют часы —
Десять тридцать.
Домой…
Тьма. Тишина. Одиночество..
На берегу Дхалешвари, в деревне, тетка живет.
У ее деверя — дочка.
Была назначена свадьба,
Благоприятный час Был избран — но я сбежал
Именно в этот час,
Спас девушку — и себя…
Она не вошла в мой дом,
Но в душу мою вошла.
Даккское сари на ней,
На лбу, у пробора, — киноварь…
Дожди, дожди… Надо
Тратиться на трамвай.
А тут еще вычеты, вычеты…
В переулке гниют
Манго объедки, рыбьи жабры,
Дохлая кошка и прочая дрянь.
Дырявый мой зонтик похож
На жалованье, изрешеченное
Вычетами.
Одежда моя конторская —
Словно душа вишнуита[73],
Открыта для всех впечатлений.
Темная тень ненастья,
Как зверь в западню, попадает
В мою угрюмую комнату.
Кажется, небытием
По рукам и ногам я скован.
Канто-бабу живет на углу.
Тщательная прическа,
Выразительные глаза.
Он прихотлив и нежен.
Обожает игру на флейте.
И в мерзости переулка нашего
Иногда — средь ночи поникшей,
Иногда — во мгле предрассветной
Возникают внезапные звуки…
А то — на закате, вечером,
Небеса обнимая,
Вековая печаль разлуки
Вдруг запоет протяжно.
И начинает казаться
Нелепостью, бредом пьяного
Переулок этот зловонный.
И кажется — разницы нет
Меж мною, клерком Хориподом,
И падишахом Акбаром.
И в струях грустящей флейты
Влекутся к единому раю
Мой зонтик — и зонт царя[74]…
Чистый
Рамананда[77] сан высокий носит,
Молится, весь день постится строго,
Вечером тхакуру[78] носит яства,
И тогда лишь пост его закончен
И в душе его — тхакура милость.
Был когда-то в храме пышный праздник.
Прибыл сам раджа с своею рани[79],
Пандиты[80] пришли из стран далеких,
Разных сект служители явились,
Разные их украшали знаки.
Вечером, закончив омовенье,
Рамананда дар поднес тхакуру.
Но не сходит божество к святому,
И в тот день он не вкушает пищи.
Так два вечера случалось в храме,
И совсем иссохло сердце гуру[81].
И сказал он, лбом земли коснувшись:
«Чем, тхакур, перед тобой я грешен?»
Тот сказал: «В раю мой дом единый
Или в тех, пред кем мой храм закрыли?
Вот на ком мое благословенье.
С той водой, которой я коснулся,—
В жилах их течет вода святая.
Униженье их меня задело,
Все, что ты принес сюда, — нечисто».
«Но ведь нужно сохранять обычай», —
Поглядел на бога Рамананда.
Грозно очи божества сверкнули,
И сказал он: «В мир, что мною создан,
Во дворе, где все на свете — гости,
Хочешь ты теперь забор поставить
И мои владенья ограничить,—
Ну и дерзок!»
И воскликнул гуру: «Завтра утром
Стану я таким же, как другие».
И уже давно настала полночь,
Звезды в небе млели в созерцанье,
Вдруг проснулся гуру и услышал:
«Час настал, вставай, исполни клятву».
Приложив ладонь к ладони, гуру
Отвечал: «Еще ведь ночь повсюду,
Даль темна, в безмолвье дремлют птицы.
Я хочу еще дождаться утра».
Бог сказал: «За ночью ль идет утро?
Как душа проснулась и услышал
Слово божье ты — тогда и утро.
Поскорее свой обет исполни».
Рамананда вышел на дорогу,
В небесах над ним сияла Дхрува[82].
Город он прошел, прошел деревню,
У реки посередине поля
Тело мертвое чандал[83] сжигает.
И чандала обнял Рамананда.
Тот испуганно сказал: «Не надо,
Господин, мое занятье низко,
Ты меня преступником не делай».
Гуру отвечал: «Я мертв душою
И поэтому тебя не видел,
И поэтому лишь ты мне нужен,
А иначе мертвых не хоронят».
И отправился опять в дорогу.
Щебетали утренние птицы.
В блеске утреннем звезда исчезла.
Гуру видит: мусульманин сидя
Ткани ткет и песнь поет чуть слышно.
Рамананда рядом опустился
И его за плечи нежно обнял.
Тот ему промолвил, потрясенный:
«Господин, я — веры мусульманской,
Я же ткач, мое занятье низко».
Гуру отвечал: «Тебя не знал я,
И душа моя была нагая,
И была она грязна от пыли.
Ты подай мне чистую одежду,
Я оденусь, и уйдет позор мой».
Тут ученики догнали гуру
И сказали: «Что вы натворили?»
Он в ответ им: «Отыскал я бога
В месте, где он мною был потерян».
На небе уже всходило солнце
И лицо святого озаряло.
Сын человеческий
С тех пор, как в чашу смерти Иисус,
Незваных ради, привлеченных шумом,
Бессмертье положил своей души,
Уж миновало много сотен лет.
Сегодня он спустился ненадолго
Из вечного жилища в бренный мир
И увидал порок, что ранил прежде:
Надменный дротик и кинжал лукавый,
Свирепая изогнутая сабля.
Сегодня быстро лезвия их точат
Об камень, прочь отбрасывая искры,
На фабриках огромных, полных дыма.
А самая ужасная стрела
В руках убийц недавно засверкала,
И жрец на ней свое поставил имя —
Ногтями на железе нацарапал.
Тогда Христос прижал к груди ладони.
Он понял: нет конца мгновеньям смерти,
Кует наука много новых копий,
Они ему вонзаются в суставы,
И люди, что тогда его убили,
Безмолвно притаясь во мраке храма,
Сегодня вновь во множестве родились.
С амвона слышен голос их молитвы,
И так они бойцов-убийц сзывают,
Крича им: «Убивайте! Убивайте!»
Сын человеческий воскликнул в небо:
«О боже правый! Бог людей, скажи мне,
Почто, почто оставил ты меня?»
* * *
В тот древний, исступленный век,
Когда творец хулил свое творенье
И созданное рушил,
В тот день, когда утратил он терпенье,
Своею дланью грозный Океан
Тебя отторг, о Африка, от груди
Земли восточной.
Густого леса бдительная стража
Твою темницу стерегла.
Ты на досуге одиноком
Копила тайны чащ непроходимых,
Читала письмена воды, земли и неба,—
И волшебство природы
В душе незрячей мантру пробудило.
Ты, заслонив лицо уродливой личиной,
Над ужасом смеялась
И, страх стремясь преодолеть,
Ожесточала дух величественным бредом,
Обрядом-пляской разрушенья
Под барабанный гром.
Тенистая! За черным покрывалом
Не видел человеческого лика
Презренья мутный взор.
С колодками, с цепями ворвались
Ловцы людей, чьи когти крепче волчьих,
Чье низкое высокомерье глуше
Твоих для солнца недоступных джунглей.
В наряде городском белесый варвар,
Как зверь, бесстыдно алчность обнажил.
Плыл по тропам лесным беззвучный голос горя,
Пыль впитывала кровь твою и слезы.
Навеки мерзкой грязи комья
Из-под сапог бандитских — оскорбленьем
Запечатлели летопись твою.
А за морем, в ихгородах и селах,
Воскресный звон колоколов
Предвечному добру гудел хваленья,
Младенцы прыгали в руках у матерей,
И славили поэты Красоту.
Сейчас, когда в закатном небе
За горло схвачен бурей вечер тихий
И из пещер повылезло зверье,
Конец всему предвозвещая воем,
Явись, поэт, на рубеже веков
И, подойдя к порогу оскорбленной,
Скажи: «Прости!»
Пусть этим чистым словом разрешится
Твой, варвар, бред!
* * *
Забил барабан. Война!
Их шеи нагнулись, кровью глаза налились,
Зубы скрежещут.
Строй за строем
Идут принести, на трапезу мертвого пира
Свежего мяса людского.
Сперва, в храм доброго Будды[84] — вошли:
«Благослови, Всеблагой!»
Захлебнулась ревом труба,
Земля содрогнулась.
Куренья затеплились, колокола зазвонили,
Воздымились к небу молитвы…,
Всесострадающий!
Исполни просьбу молящих:
Жаждут они вопль пробудить, раздирающий душу и небо,
Под кровлями тихими узы любви разорвать,
Взвить свои флаги над тленом разгромленных сел,
В прах обратить чертоги науки,
В щебень — храм Красоты.
Вот и взыскуют благословенья доброго Будды!
Захлебнулась ревом труба,
Земля содрогнулась…
Подсчитают, сколько поляжет убитых,
Сколько тел живых изуродуют.
Каждую тысячу павших будут приветствовать
Барабанною дробью,
Хохотать — о чудовища злобы! —
Над кровавыми клочьями младенцев и матерей.
Просят, чтоб слух человеческий принял
Молитву их лживую,
Чтоб могли отравить они ядом
Дыхание мира.
Вот зачем они ждут
Благословения доброго, щедрого Будды.
Захлебнулась ревом труба,
Земля содрогнулась.
Искупление
Вверху, на небе, молний свет,
Внизу просветов нет,—
В земной ночи, что варварски черна, —
Между голодными и сытыми Война.
Пожар греха она раздула в подземелье
Цивилизации, куда упрятать
Награбленное хищники успели.
И вот землетрясенья рев
Взмыл из огня, круша препоны, —
Подножье арки триумфальной
Крошится, рушатся колонны,
Дворец, богатствами веков обремененный,
Повержен. Из проломов лезут змеи.
Качаются над прахом капюшоны,—
Жильцы расселин, недоступных взглядам,
Исходят злобою и ядом.
Но хоть страданий в мире много,
Не проклинай напрасно бога.
Пусть разрушения безумного рука
Сметет грехи твои —
Их груда велика.
Нарыв созрел,
Прорваться должен он,
Спасительная боль: пусть, злобен и силен,
Запустит когти в грудь земли
Орел громадный
И жрет, покуда не набьет
Желудок жадный.
Любому, кто слабей других, по праву силы
Хребет ломает людоед и тянет жилы,
Хрящи на яростных зубах
Хрустят, вползает в душу страх;
И кровь, текущая в пыли,
Корою покрывает грудь земли…
Но час настанет — зло сметут потоки разрушенья,
Тогда возникнет новый мир, исполненный броженья
Стихийных сил.
Смири же страх, пока тебя он не смирил.
Мы слабостей полны,
Их взращивает лень,—
Пускай испепелит скопленье хлама
Великий разрушенья день.
А там спешит толпа дрожащая во. храм.
Как много
Людей словами обольстить желает бога.
Там слабодушным благодать:
Молись, не помышляй о зле —
И мир восставишь на земле.
Монету медную скупец жалеет на молитву дать,
Завязок сотня на его куле,
Щедрот его вовек не увидать,
Он целый мир купить готов
Ценой хитросплетенных слов,—
Живет он алчностью И все же
Мечтает шастрами и мантрами
Купить благоволенье божье.
Но бог не вытерпит позора
Любви своекорыстно лживой,
И, если в нашем мире искры
Начала благостного живы,
Зажжется жертвенное пламя,
Простится каждая вина.
И новый светоч новой жизни,
Ликуя, примет новая страна.
Хиндустан[85]
Стон Хиндустана Слышу я постоянно,
С детства на запад влечет меня тихий зов:
Там судьба нашей Индии пляшет среди погребальных костров;
Издревле во все времена Исступленно плясала она.
Издавна в Агре и Дели
Кричали стервятники жадные и ножные браслеты звенели,
Там руки веков воздвигнуть сумели
Из камня, покрытого пеной резьбы,
Дворец до небес — насмешку судьбы.
Там по путям неудач и удач
Летят колесницы встречные вскачь;
И сложный, по пыли петляющий след
Рисует знаки счастья и бед.
Там армии новые, что ни час,
Обрывают неконченный древний рассказ
И переиначивают конец.
Там в каждую хижину, в каждый дворец
Разбойничьи банды заходят впотьмах,
Они порождают горе и страх,
Они меж собой воюют за власть
И пищу у нищих не брезгуют красть.
Им от огней драгоценных камней
Кажутся ночи светлее дней.
Хозяин и раб порадели о том,
Чтоб страна обратилась в игорный дом,—
Сегодня она от края до края —
Одна могила сплошная.
И тот, кто сразил, и тот, кто сражен,
Конец положили бесславью и славе прошедших времен.
У мощи былой переломаны ноги.
Прежним мечтам и виденьям верна,
Лежит в обмелевшей Джамуне она,
И речь ее еле слышна:
«Новые тени сгустились, закат угас,
Это ушедшего века последний час».
Переезд
Пора мне уезжать.
Подобен полдень раненой ноге,
Завернутой в бинты.
Брожу, брожу, задумчиво стою,
Сижу, облокотись о стол,
На лестницу гляжу.
В просторах синих стая голубей
За кругом чертит круг.
Я вижу надпись. Красный карандаш
Почти что год назад
На стенке начертал:
«Был. К сожаленью, не застал. Ушел.
Второе декабря».
Я с этой надписи всегда стирала пыль,
Сегодня же и надпись я сотру.
Вот промокательной бумаги лист,
На нем каракули, рисунки и слова,
Сложив, его кладу я в чемодан.
Не хочется мне вещи собирать,
Бездумно на полу сижу
И, опахало взяв,
Усталая, обмахиваюсь им.
Я в ящике стола
Нашла сухую розу и листы.
Гляжу и думаю. О чем?
Так, ни о чем.
Так близко Фаридпур. Там Обинаш живет.
Он предан мне,
И это очень кстати в день,
Когда мне помощь так нужна.
Его я не успела пригласить,
Он сам пришел.
Он счастлив мне помочь.
И стать носильщиком ради меня готов.
Он вмиг засучивает рукава,
Увязывает накрепко узлы.
В газету старую духи он завернул,
В чулок дырявый сунул нашатырь.
Он в чемодан кладет
Ручное зеркало, и масло для волос,
И пилку для ногтей,
И мыльницу, и щеточки, и крем.
Разбросанные сари издают
Чуть слышный аромат;
У каждого — свои и запах и судьба.
Он складывает, расправляет их,
На это он
Потратил битый час.
Он туфли оглядел
И тщательно обтер своей полой,
Подул,
Смахнул воображаемую пыль.
Картины снял с гвоздей
И фотографию одну
Он вытер рукавом.
Вдруг я заметила, как он
В карман нагрудный положил тайком
Какое-то письмо.
И улыбнулась я, вздохнув.
Ковер, подаренный семь дет назад,
Он бережно свернул
И прислонил к стене.
На сердце камень грусти лег.
С утра не причесалась я. Зачем?
Забыла сари брошкой заколоть
И за письмом письмо
Рву на клочки.
Обрывки на полу. Их подметет
Лишь ветер жаркий месяца бойшакх.
Пришел наш старый почтальон,
И новый адрес я с тоской ему пишу.
Разносчик рыбу за окном пронес,
Я вздрогнула и поняла —
Сегодня рыба ни к чему.
Автомобиль знакомо прогудел
И за угол свернул.
Одиннадцать часов.
Пустая комната.
У голых стен отсутствующий взгляд,
Глядят в ничто.
А Обинаш по лестнице сошел
С моими чемоданами к такси,
И я услышала в дверях
Его последние слова:
«Ты напиши мне как-нибудь».
И рассердилась я,
Сама не зная почему.
* * *
Скользя по ленивому потоку времен,
Мысленный взор в пустоту устремлен.
В той пустоте, нарисованы тенью сплошной,
Толпы и толпы проходят волна за волной.
Там, в прошедшем земли,
Победители мощной стопою прошли.
Прокатились патаны[86] одержимым потоком,
Пролетели моголы[87] под топот
Боевых колесниц по дорогам веков
Под победною сенью пропыленных своих бунчуков.
Я гляжу на пути пустоты.
Нет следов, не осталось черты.
Лишь извечно окрашивают небосвод
Синий рассвет и багровый заход.
И однажды по дну пустоты,
По железным путям, сквозь грохочущие мосты,
На железных колесах, в огне
Англичанин прошел по стране,
Утверждая волю свою и власть.
Но воздвигся и он, чтобы пасть.
Знаю, той же дорогой, вдали пропадая,
Удалился и он из плененного края.
Знаю, сонмища тех, кто развозит товар,
На дорогах вселенной растворятся, как пар.
Как ни гляну на землю, мимо меня,
Топоча, гомоня,
Люди, люди текут, как поток,
По истоптанным руслам дорог,
Из столетья в столетье движется неисчислимая рать,
Чтобы жить и умирать.
И нет им числа У плуга и у весла —
Тем, кто сеет зерно,
И тем, кто везет урожай на гумно,
Кто трудится в городах,
На поле и в садах.
Изломаны балдахины царей, смолк боевой барабан,
Камень победных колонн не угрожает врагам,
Кровавый белок глаза, кровавый клинок в кулаке
Плавают в детской сказке, как лодочка на реке.
Люди живут в трудах —
В разных местах, в разных краях,
Они населяют Пенджаб, Гуджарат и Бомбей.
Дни и ночи бегут,
Слышен грохот и гуд.
Днем и ночью веселье с бедой
Трубят мантру свою громоподобной трубой.
Люди трудятся в поте На обломках царств и деспотий.
* * *
Кровавые челюсти, лязгая от нетерпенья,
Грызут города и селенья,
И видно, как в дымной дали
Проносится ужас от края до края земли.
Из царства угрюмого
Ямы поток беспощадный стремится,
Старинных империй смывает границы,
И хищные страсти, как своры взбесившихся псов,
Спешат на разбойничий зов.
За много веков этих псов для своих грабежей и насилий
Охотники цивилизованные приручили,
Но звери с цепи сорвались —
Своих и чужих без разбору терзать принялись.
Пещерная дикость когтями уже не боится
Старинных традиций царапать страницы—
На их письменах запеклась
Кровавая грязь.
Наверное, гневом всевышний пылает —
Посланцев своих насылает.
И грех, что скопился за тысячи лет,
Теперь превращается в тысячи бед.
Разбиты сосуды с вином, что владык опьяняло могучих,
Осколки валяются в мусорных кучах.
Безумием люди охвачены — волю творца
Уж много веков нарушают они без конца.
В грехах погрязая
И жаждою самоубийства пылая,
Безжалостно сами себе западни
Расставляют они.
Рабы сластолюбья, что жили в чертогах богатых,
В своих же врагов превратились заклятых
И стены убежищ ломают, под грудой камней погребя
Самих же себя.
А грозная Кали[91] встает над останками жертв и злодеев,
Счастливые сны человека мгновенно развеяв,
И в грудь, исступленная, ногти вонзает свои,
И собственной крови глотает ручьи.
Когда же иссякнут греховные эти восторги
И кончится век омерзительных оргий,
Пускай человек, одолевший безумье и гнев,
Одежду смиренья надев,
Над пеплом костра, где бессчетные жертвы, сгорали,
На коврик молитвенный сядет в глубокой печали,
Чтоб в душу бесстрастно себе заглянуть —
Найти к обновлению путь.
Громов громыханье сегодня об этом пророчит:
Пушки грохочут.
* * *
Бодрствует день и ночь
время быстро бегущее,
Глянешь — нигде нет его
и неприметен след его —
бодрствует ради ждущего,
неведомого грядущего.
* * *
Светильник с пламенем страданья
пусть озарит твое нутро,—
А вдруг на дне души таится
непреходящее добро.
ПРОЗА
Возвращение кхокабабу[92]
I
Райчорону было двенадцать лет, когда он поступил в услужение к бабу. Он был из Джессора. Мальчик с длинными волосами, огромными глазами, смуглый, стройный; из касты каястха[93], как и его хозяева. Главная обязанность его заключалась в том, чтобы нянчить Онукула, годовалого сына бабу. Шло время. Ребенок вырос и поступил в школу, из школы — в колледж, из колледжа — на службу в суд. Райчорон оставался его слугой. Но вскоре в дом пришла госпожа, и теперь основные права на Онукула перешли к ней. Однако, отобрав у Райчорона старые права, она дала ему новые, которые с избытком вознаградили его за прежние: в скором времени у Онукула родился сын, и Райчорон полностью завладел им. Он с воодушевлением раскачивал его, ловко подбрасывал вверх, строил забавные гримасы, стараясь рассмешить малыша, и, не заботясь о том, получит ответ или нет, задавал ему нелепые, бессвязные вопросы, — так что малыш при одном виде Райчорона приходил в восторг. Когда ребенок начал осторожно переползать порог и, заливаясь лукавым смехом, увертываться и прятаться, если кто-нибудь хотел его поймать, Райчорон приходил в восхищение от его ума и сообразительности. Он то и дело подходил к своей госпоже и с гордостью и удивлением говорил ей: — Мать, твой сын, когда вырастет, станет судьей, будет зарабатывать пять тысяч рупий. Райчорон не представлял себе, чтобы какой-нибудь ребенок в этом возрасте мог переползать порог или совершать другие поступки, доказывающие необыкновенную сообразительность, — на такое был способен только будущий судья. Наконец мальчик начал неуверенно, покачиваясь, ходить. Более того, он стал звать мать «ма», тетку «те», а Райчорона «чонно». Райчорон всякому и каждому сообщал эти необыкновенные новости. — Вы только подумайте! — восторгался он. — Мать он зовет «ма», тетку «те», а меня «чонно»! В самом деле, откуда у ребенка такой удивительный ум? Ведь никто из взрослых никогда не проявляет столь необычайных способностей, — если бы кто-нибудь стал вдруг называть тетку «те», а мать «ма», это вызвало бы лишь сомнение относительно пригодности данного человека к должности судьи. Через некоторое время малыш взнуздал Райчорона веревкой и превратил его в лошадь. Потом заставил наряжаться борцом, и, если Райчорон не падал, побежденный, на землю, поднимался ужасный скандал. Вскоре Онукула перевели в один из районов на Падме[94]. Из Калькутты он привез сыну коляску. Надев на Нобокумара атласную рубашку, парчовую шапочку и золотые браслеты, Рай-чорон возил его в коляске гулять. Наступил сезон дождей. Голодная Падма заглатывала целые сады, деревни, поля. Заросли камыша и тамарисковые рощи затопило. От берега то и дело откалывались глыбы подмытой водой земли и с шумом падали в воду. По массе пены, стремительно проносившейся мимо, можно было судить о силе течения. Однажды к вечеру набежали облака, но ничто не предвещало дождя. Маленький капризный хозяин Райчорона ни за что не хотел сидеть дома и сам забрался в коляску. Райчорон привез мальчика к рисовым полям и остановился на берегу реки. На воде не видно было ни одной лодки, в поле — ни одного человека. Над противоположным берегом в разрывах облаков пылала заря — садилось солнце. Вдруг ребенок, указывая на что-то пальцем, сказал: — Чонно, дай! Неподалеку росло большое дерево кадамба, почти у самой его верхушки распустилось несколько цветков. Они-то и привлекли к себе жадный взор ребенка. Несколько дней тому назад Райчорон сделал ему из прутиков, на которые были нанизаны такие же цветы, маленькую повозку. Так весело было тянуть ее за веревочку! В тот день Райчорону не пришлось ходить в упряжке, — он был повышен в должности и из лошади произведен в конюхи. Райчорону не хотелось идти по грязи за цветами, и он решил отвлечь малыша. — Смотри, смотри, вон видишь, птичка! Вон она летит! Ах, уже улетела! Лети сюда, птичка, лети, лети! — без умолку говорил он, быстро толкая коляску вперед. Однако будущего судью не так-то легко было сбить с толку, особенно когда вокруг не было больше ничего интересного. История с воображаемой птичкой ему быстро надоела, и он снова вспомнил о цветах. — Ну, хорошо, ты сиди в коляске, а я сбегаю нарву тебе цветов. Только смотри не подходи к воде! С этими словами Райчорон подвернул штаны и направился к дереву. Но как только малышу запретили подходить к реке, внимание его мгновенно переключилось с цветов на воду. Река неслась мимо, плескаясь и шумя, словно гурьба непослушных детей, которые вырвались из рук какого-то огромного Райчорона и теперь со смехом бежали к запретному месту. Их дурной пример лишь подстегнул маленького человечка. Он осторожно вылез из коляски и пошел к реке, по дороге подобрал длинную соломинку и, добравшись наконец до воды, стал изображать рыболова. А могучие волны будто говорили с ним на каком-то непонятном языке и, казалось, приглашали мальчика в свои дом поиграть. Раздался всплеск. Но мало ли в сезон дождей на Падме слышится всплесков! Нарвав цветов, Райчорон сунул их за пазуху, слез с дерева и, посмеиваясь, подошел к коляске. Она была пуста! Он посмотрел вокруг — ни души. Райчорон похолодел. В глазах у него потемнело. Из груди вырвался отчаянный крик: — Мой господин! Мой дорогой маленький господин! Никто не откликнулся, не раздался шаловливый детский смех, только Падма, как и раньше, неслась мимо, плескаясь и шумя, будто это ее не касалось, будто у нее не было ни минуты времени, чтобы обращать внимание на такие обыкновенные в природе происшествия. Наступил вечер. Встревоженная хозяйка послала людей на поиски. Они пришли на берег с фонарями и тут увидели Райчорона. Как ночная буря, метался он по полю и хрипло кричал: — Бабу! Мой господин! Когда Райчорона привели домой, он упал к ногам своей госпожи и на все вопросы, плача, отвечал: — Не знаю, мать. В душе все понимали, что, кроме Падмы, винить некого, и все же людей не покидало сомнение: может, это дело цыган, которые расположились табором на краю деревни, а хозяйка даже подозревала Райчорона — уж не он ли украл ее сына? Она позвала его к себе и стала умолять: — Бери что хочешь, только верни мне моего мальчика! Однако Райчорон лишь молча в отчаянии бил себя по голове. Хозяйка прогнала его. Онукул пытался рассеять несправедливые подозрения жены, доказывая ей, что Райчорону не к чему было совершать такое преступление. — Не к чему? — отвечала жена. — Да ведь на ребенке были золотые украшения!II
Райчорон покинул своих хозяев и вернулся к себе в деревню. Детей у него до сих пор не было, да он уж и не надеялся иметь их. Но не прошло и года по его возвращении, как жена, уже пожилая женщина, неожиданно родила сына и тут же покончила счеты с этим миром. Новорожденный вызвал у Райчорона сильную злобу. «Ну конечно, он явился на свет для того, чтобы обманом захватить место маленького господина», — думал Райчорон. Радоваться рождению сына после того, как он утопил единственное дитя своего хозяина, Райчорон считал смертным грехом. И не будь у него вдовы-сестры, этот ребенок недолго прожил бы на свете. Через некоторое время этот мальчик тоже начал совершать удивительные вещи: он переползал порог и, нарушая всякие запреты, стал проявлять любознательность и незаурядный ум. Даже голос его, смех и плач очень напоминали погибшего ребенка. И когда Райчорон слышал крик сына, сердце его начинало глухо биться: ему казалось, что где-то плачет потерявшийся маленький бабу. Пхелна — так назвала ребенка сестра Райчорона — в положенное время стал называть тетку «те». Райчорона вдруг осенило: «Да ведь это маленький господин! Он не мог забыть, как я любил его, и снова родился в моем доме[95]». Тому были неопровержимые доказательства… Во-первых, он родился вскоре после возвращения Райчорона. Во-вторых, с чего бы это вдруг его жене родить в таком возрасте? И наконец, малыш ползает на четвереньках, ковыляет и падает точь-в-точь, как маленький господин, и тетку зовет «те». В общем, все признаки будущего судьи были налицо. И тут Райчорон вспомнил страшное подозрение своей госпожи. — Сердце матери чувствовало, кто украл ее сына! — с изумлением говорил он себе. Теперь он очень раскаивался, что все это время не обращал на ребенка внимания, и с этих пор целиком посвятил свою жизнь сыну. Райчорон так воспитывал Пхелну, словно тот был из благородной семьи: купил ему атласную рубашку, парчовую шапочку, переделал украшения покойной жены на браслеты для него. Он не разрешал ему играть с деревенскими детьми и сам был его единственным товарищем. Ребята при всяком — удобном случае дразнили мальчика сыном наваба[96], а соседки удивлялись безрассудству Райчорона. Когда Пхелне пришло время учиться, Райчорон распродал все, что у него было, и повез ребенка в Калькутту. Там он с большим трудом нашел себе работу и отдал Пхелну в школу. Сам он жил впроголодь, все его интересы были сосредоточены на мальчике, только бы хорошо кормить и одевать его, дать ему хорошее образование. «Дорогой мой, — думал он, — из любви ко мне ты вернулся в мой дом. Никогда не будет у тебя ни в чем недостатка!» Прошло двенадцать лет. Мальчик хорошо учился, прекрасно выглядел, большое внимание уделял своей внешности, был всегда весел и доволен. Райчорона он любил, но обращался с ним не как с отцом, потому что тот прислуживал ему, словно слуга. Райчорон скрывал от всех свое отцовство… Товарищи Пхелны по пансиону постоянно подшучивали над Райчороном, и я не могу утверждать, что в отсутствие отца Пхелна не присоединился к ним. Друзья Пхелны и сам он любили безобидного, доброго Райчорона. И все же в отношении сына к отцу чувствовалась какая-то снисходительность. Райчорон постарел. Теперь хозяева постоянно были недовольны его работой. У него уже были не те силы, он не мог работать с прежней внимательностью, все забывал. Но хозяева не желали считаться с его возрастом. Ко всему прочему у Райчорона кончались деньги, привезенные им из деревни. Теперь Пхелне приходилось терпеть некоторые лишения в питании и одежде, и он начал выражать недовольство.III
В один прекрасный день Райчорон взял у хозяина расчет и дал Пхелне немного денег. — Мне надо на несколько дней поехать в деревню, — сказал он сыну и отправился в Барашот, где Онукул-бабу служил судьей. У Онукула так и не было больше детей. Жена его до сих пор тяжело переживала потерю сына. Однажды вечером бабу отдыхал после работы, а хозяйка в это время покупала у саньяси какой-то очень дорогой корень, якобы излечивающий от бесплодия, и еще хотела купить у нею благословение. Вдруг кто-то произнес во дворе: — Пусть будет тебе удача, мать! — Кто это? — спросил бабу. — Это я, Райчорон. Райчорон подошел к хозяину и поклонился, Увидев старика, Онукул расчувствовался. Он забросал Райчорона вопросами о его теперешней жизни и наконец предложил снова поступить к нему в услужение. Райчорон грустно улыбнулся: — Я хочу поклониться госпоже. Онукул повел его во внутреннюю часть дома. Госпожа встретила старого слугу далеко не так приветливо, как ее муж. Райчорон, почтительно сложив руки, обратился к ней: — Госпожа, мать! Это я украл твоего сына. Не Падма, не кто-нибудь другой, а я, неблагодарная тварь! — Что ты говоришь? — вскричал Онукул. — Где же он? — У меня дома, послезавтра я привезу его. Наступило воскресенье, и с самого утра оба, муж и жена, нетерпеливо поглядывали на дорогу. В десять часов приехал Райчорон с Пхелной. Жена Онукула, ни о чем не спрашивая, ни о чем не думая, посадила мальчика к себе на колени и, плача и смеясь, стала гладить его руки, голову, одежду, вдыхать его запах, жадно всматриваясь в его лицо. В самом деле, мальчик был очень хорош — ни в одежде его, ни в манерах не было и намека на бедность. Выражение лица приятное, скромное, несколько застенчивое. Онукул тоже почувствовал к нему неожиданное расположение. Тем не менее, сохраняя спокойствие, он спросил Райчорона:
— У тебя есть доказательства?
— Какие доказательства могут быть в таком деле? — ответил Райчорон. — Одному лишь богу известно, что я украл твоего сына, на земле никто об этом не знает.
Подумав, Онукул решил, что теперь, когда его жена, едва увидев мальчика, воспылала к нему такой страстной любовью, не следует требовать доказательств, пусть будет так. Ведь как хорошо, если человек верит! Да и откуда Райчорону взять ребенка? Нет, не станет старый слуга его обманывать!
Поговорив с мальчиком, он узнал, что тот с детства живет с Райчороном, знает его как своего отца, но Райчорон никогда не обращался с ним как отец, скорее как слуга.
Онукул отбросил все сомнения.
— Но, Райчорон, ты не сможешь остаться у нас.
— Господин! Куда же мне идти, ведь я старик!
— Пусть останется, — вмешалась хозяйка, — пусть мой мальчик будет счастлив! Я простила его.
Но справедливый Онукул был непреклонен.
— За то, что он совершил, ему нет прощения, — заявил он.
Райчорон упал перед ним на колени.
— Это не я, это бог, — причитал он, обнимая ноги судьи.
Но попытки Райчорона свалить свой грех на бога еще больше рассердили Онукула:
— Нельзя верить тому, кто совершил такой подлый поступок.
Райчорон отпустил ноги хозяина:
— Это не я, хозяин!
— Кто же тогда?
— Моя судьба!
Подобное объяснение не могло, конечно, удовлетворить образованного человека.
— Ведь больше у меня никого нет на свете, — проговорил Райчорон.
Когда Пхелна узнал, что он сын судьи и что Райчорон столько времени оскорблял его, выдавая за своего сына, он возмутился, но все же великодушно сказал отцу:
— Отец, прости его! Пусть уезжает, но посылай ему каждый месяц немного денег.
Райчорон молча взглянул на сына, поклонился всем и ушел.
В конце месяца Онукул послал в деревню несколько рупий, но они вернулись обратно — Райчорона там не было.
1891
Тем не менее, сохраняя спокойствие, он спросил Райчорона:
— У тебя есть доказательства?
— Какие доказательства могут быть в таком деле? — ответил Райчорон. — Одному лишь богу известно, что я украл твоего сына, на земле никто об этом не знает.
Подумав, Онукул решил, что теперь, когда его жена, едва увидев мальчика, воспылала к нему такой страстной любовью, не следует требовать доказательств, пусть будет так. Ведь как хорошо, если человек верит! Да и откуда Райчорону взять ребенка? Нет, не станет старый слуга его обманывать!
Поговорив с мальчиком, он узнал, что тот с детства живет с Райчороном, знает его как своего отца, но Райчорон никогда не обращался с ним как отец, скорее как слуга.
Онукул отбросил все сомнения.
— Но, Райчорон, ты не сможешь остаться у нас.
— Господин! Куда же мне идти, ведь я старик!
— Пусть останется, — вмешалась хозяйка, — пусть мой мальчик будет счастлив! Я простила его.
Но справедливый Онукул был непреклонен.
— За то, что он совершил, ему нет прощения, — заявил он.
Райчорон упал перед ним на колени.
— Это не я, это бог, — причитал он, обнимая ноги судьи.
Но попытки Райчорона свалить свой грех на бога еще больше рассердили Онукула:
— Нельзя верить тому, кто совершил такой подлый поступок.
Райчорон отпустил ноги хозяина:
— Это не я, хозяин!
— Кто же тогда?
— Моя судьба!
Подобное объяснение не могло, конечно, удовлетворить образованного человека.
— Ведь больше у меня никого нет на свете, — проговорил Райчорон.
Когда Пхелна узнал, что он сын судьи и что Райчорон столько времени оскорблял его, выдавая за своего сына, он возмутился, но все же великодушно сказал отцу:
— Отец, прости его! Пусть уезжает, но посылай ему каждый месяц немного денег.
Райчорон молча взглянул на сына, поклонился всем и ушел.
В конце месяца Онукул послал в деревню несколько рупий, но они вернулись обратно — Райчорона там не было.
1891
Карточное королевство
I
Далеко в море есть остров. Там живут карточные Короли, Дамы, Тузы и Валеты. Живут там еще Двойки, Тройки, Девятки и даже Десятки, но они не принадлежат к избранному обществу.. Избранное общество составляют Тузы, Короли и Валеты. Девятки и Десятки — неприкасаемые[97], общаться с ними неприлично. Здесь заведены удивительные порядки. Издавна установлено, какая карта сколько стоит, в какой мере каждой из них следует оказывать почет и уважение, и все эти порядки не подлежат ни малейшему сомнению. Каждый из поколения в поколение делает то, что ему положено, по примеру своих предков. Но человеку из другой страны трудно понять, что они делают. Назвать все это только игрой было бы неверно. Вся жизнь этих существ подчинена раз навсегда установленным законам. Невидимая рука управляет ими, поэтому они и двигаются. Лица их словно застыли и никогда не меняют своего выражения. Обувь и одежду они носят такую, как во времена царя Мандхаты.[98] Никто из них никогда ни над чем не задумывается, не принимает никаких решений. Все двигаются тихо, молча. Даже падают они. бесшумно и, лежа навзничь, безо всякого интереса смотрят вверх. У них нет ни желаний, ни надежд, ни страха, нет стремления найти какой-то новый путь в жизни, нет улыбок, нет слез, нет сомнений, нет колебаний. Птица, попав в клетку, бьется в отчаянии, а у этих ярко раскрашенных фигурок нет даже стремления к свободе, стремления, которое свойственно всему живому. Но ведь когда-то в клетке сидела живая птица, клетка раскачивалась, птица билась о прутья, слышалась песня, которая вызывала воспоминания о непроходимых лесах и голубых просторах неба. Теперь же осталась только узкая клетка с железными прутьями, расположенными в строгом порядке. Улетела птица или умерла, а может быть, она живет с умершей душой, — кто знает. Вокруг — удивительная неподвижность, покой, полная безмятежность и довольство. И на дорогах, и в домах — все и везде подчинено порядку. Ни протеста, ни споров, ни стремлений, ни желаний, только будничные дела, мелкие и незначительные, да скучный отдых. Тысячью мягких белопенных ладоней море неустанно и монотонно ударяет о берег, убаюкивая весь остров. Небо, раскинувшееся, словно два голубых крыла, тоже хранит спокойствие от горизонта до горизонта. А далеко-далеко, где-то на том берегу, в серо-голубой дымке виднеется другая страна, но любовь и ненависть, споры и шум не могут долететь оттуда.II
На том далеком берегу, в той другой стране жил принц, сын изгнанной мужем рани. Здесь, вместе с матерью, проводил он свое детство. Часто погруженный в думы, юноша подолгу сидел один на берегу моря и сплетал в мечтах своих огромную сеть желаний. Забросив сеть за горизонт, он захватывал в нее все новые и новые тайны этого мира. Но почему-то его беспокойная мысль всегда возвращалась к дальнему берегу, туда, где над горизонтом вздымались голубые горы. Он хотел знать, где сказочные крылатые кони и драгоценный камень, что сверкает на лбу у дракона, где самый красивый в мире цветок, где можно найти волшебные палочки, золотую и серебряную, где спит прекрасная принцесса, которая живет за семью морями, тринадцатью реками — в неприступном дворце злого волшебника. Принц ходил в школу. После уроков сын купца рассказывал ему о путешествиях в дальние страны, а сын начальника городской стражи — о Тале и Бетале[99]. Однажды, когда тучи затянули все небо и шел дождь, принц с матерью сидел у открытых дверей своего дома и смотрел на море. — Расскажи мне о какой-нибудь далекой стране, мама, — попросил он. Мать долго рассказывала ему удивительные истории об удивительных странах, которые слышала еще в детстве… И эти истории, рассказанные под шум дождя, еще сильнее разожгли его желание отправиться в далекое путешествие. Однажды сын купца пришел к принцу и сказал: — Ну, друг, наши занятия кончились. Я отправляюсь в путешествие и пришел проститься. — Возьми меня с собой, — попросил принц. Тогда сын начальника городской стражи сказал: — А я что, один останусь? Нет, возьмите и меня с собой. Принц пошел к своей бедной матери и сказал: — Мама, разреши мне отправиться путешествовать. Я хочу найти средство, которое избавит тебя от печали. И три друга отправились в путь.III
На берегу моря стояли наготове двенадцать лодок, принадлежавших сыну купца. Друзья сели в них. Южный ветер надул паруса, и лодки понеслись, подобно сокровенным желаниям принца. На острове Драгоценных раковин они наполнили одну лодку раковинами, на Сандаловом острове — сандалом, на Коралловом острове — кораллами. Прошло четыре года. Они побывали в местах, где добывают слоновую кость, мускус, гвоздику и мускатный орех. Но когда четыре лодки были наполнены всем этим, внезапно разразилась ужасная буря. Все лодки потонули, и лишь одна, в которой плыли три друга, была выброшена на берег и там разбилась. Это был как раз тот самый остров, где жили, следуя своим неизменным законам, Тузы, Короли, Дамы и Валеты и где, согласно тем же законам, Десятки-Девятки служили им.IV
В карточном королевстве до сих пор никогда не было никаких недоразумений. Но появление на берегу неизвестных людей внесло тревогу и беспокойство. Впервые после стольких дней бездумного благополучия возник спор, к какому же классу отнести троих людей, которых однажды вечером неожиданно принесло море. Во-первых, каково их положение в обществе — Тузы ли они, Короли, Валеты или, быть может, Десятки-Девятки? А во-вторых, какой они масти: пики, трефы, червы или бубны? Не решив всех этих вопросов, нельзя было определить, как с этими людьми держаться, какую пищу они будут есть, с кем будут общаться, кто из них будет спать головой на северо-запад, кто — на юго-запад, кто — на северо-восток, а кто, пожалуй, и стоя? До сих пор в этом королевстве никогда не решались такие серьезные проблемы. Между тем изголодавшиеся путешественники ни о чем не догадывались. Они мечтали только о том, как бы поесть. Но вскоре друзья заметили, что никто не решается их накормить. Узнали они и о том, что Тузы созвали большое собрание, чтобы определить их место в обществе. И тогда уже без церемоний они сами стали добывать себе пищу. Их поведение поражало даже Двойки и Тройки. Однажды Тройка сказала: — Слушай, Двойка, какие они невоспитанные! На что Двойка ответила: — О да! Я вижу, они принадлежат к еще более низкой касте[100], чем мы с тобой. Постепенно придя в себя и утолив немного голод, три друга стали замечать, что обитатели этого острова — люди не совсем обычные. Казалось, они ничем не связаны с этим миром. Будто кто-то схватил их за тики[101], и оторвал от него. И теперь они, никак не соприкасаясь с тем, что их окружает, болтаются в воздухе. Делали они все словно по принуждению, как куклы, которых приводит в движение кукольник. Лица их не отражали ни чувств, ни мыслей, ходили они все чрезвычайно серьезные, важные, придерживаясь все время каких-то правил. Одним словом, вид у них был очень странный. Глядя на этих глубокомысленных живых мертвецов, принц однажды не выдержал и, запрокинув голову, громко расхохотался. Это проявление чувства было необычным и удивительным в безмолвном мире карточного королевства. Веселый смех был воспринят как нарушение порядка и заставил насторожиться, встревожиться и замереть всех этих аккуратных, таких рассудительных, таких серьезных людей. И они стали еще более серьезными и рассудительными. Друзья принца, совершенно обескураженные, сказали ему: — Друг, в этом безрадостном королевстве мы, пожалуй, долго не выдержим. Еще два дня, и нам придется трогать время от времени самих себя и смотреть, живы мы еще или нет. — Нет, братья, — возразил принц. — Все это очень интересно. Ведь они так похожи на людей! Мне все же хочется расшевелить их. Посмотрим, есть ли в них хоть капля жизни.V
Шли дни. Обитатели острова по-прежнему не могли подыскать такие рамки своих законов, в которые вошли бы эти три пришельца. В тех случаях, когда надо было встать, сесть, повернуть голову, лечь лицом вниз или вверх, покачать головой или повернуться, они только смеялись, не желая ничего этого делать. Они никак не хотели понять, что во всей этой строго установленной деятельности кроется глубокий смысл. И вот однажды к принцу и его друзьям пришли Тузы, Короли и Валеты. На лицах у них застыла серьезность, а голос звучал так глухо, будто они говорили в глиняный горшок: — Почему вы не подчиняетесь нашим законам? — Не желаем, — хором отвечали друзья. — Не желаем? А что значит желать? — тем же глухим безжизненным голосом спросили предводители карточного королевства. Они так и не поняли, что значит желать. Однако со временем стали понимать это. Каждый день они видели, что можно поступать так, а можно иначе, что есть одна сторона и есть другая, — эти появившиеся откуда-то из-за моря живые люди своим примером показали, что даже в рамках закона можно пользоваться безграничной свободой. Постепенно, сначала смутно и неясно, обитатели карточного королевства стали ощущать силу желания. Но как только это произошло, пошатнулись самые основы королевства. Так, едва заметно, начинают шевелиться кольца огромного удава, который медленно пробуждается от сна.VI
Дамы этого общества тоже были ко всему безразличны. Они ни на кого не смотрели и молчаливо, спокойно делали свое дело. Но как-то в весенний полдень одна из них, смущенно подняв черные ресницы, бросила робкий взгляд на принца. «Что это? — удивился принц, — я думал, что все они просто картинки, а ведь это женщина!» Отозвав в сторону своих друзей, принц сказал: — Братья, среди них есть настоящая красавица. Мне показалось, что во взгляде ее черных глаз, загоревшихся новым чувством, я увидел первую зарю вновь возникшего мира. Я долго ждал — и вот наконец вознагражден! Друзья изумленно рассмеялись. — Неужели правда, друг? С того самого дня несчастная Дама каждый день стала забывать правила поведения. Все чаще она отсутствовала там, где ей надлежало быть. Когда ей нужно было находиться рядом с Валетом, она вдруг оказывалась рядом с принцем. И Валет бесстрастно-серьезным голосом замечал: — Дама, ты ошиблась. При этих словах и без того розовое лицо червовой Дамы еще более розовело, и она опускала свой тоже бесстрастный взгляд. А принц задорно отвечал: — Она вовсе не ошиблась, с сегодняшнего дня я — Валет. Какое сияние, какая безграничная любовь струилась из расцветшего сердца женщины! Каким очарованием были полны все ее движения, и каждый взгляд выражал волнение души, от всего ее существа исходил необычайный аромат. Все пытались вернуть грешницу на путь истины, но сами тоже стали делать ошибки. Тузы часто забывали о том, что необходимо поддерживать свое положение, стерлась разница между Королями и Валетами. Перемены коснулись даже Девяток-Десяток. Каждую весну на этом древнем острове раздавалось пение кукушки[102], но в нынешнем году она запела так, как еще никогда не пела. Всегда в этих краях был слышен шум моря, но до сих пор оно покорно и скупо рассказывало о величии вечного закона. А теперь? Теперь оно бурлило и волновалось, выражая свое беспокойство игрой света и теней, восклицаниями и всплесками. Его волнение было подобно великому, как мир, не знающему преград волнению молодости, волнению, которое приносит с собой южный ветер.VII
Прошло еще какое-то время. Куда девались все Тузы, Короли и Валеты со своими довольными, сытыми, круглыми лицами? Они сидят на берегу моря, любуются небом! Некоторые не спят по ночам, а другие забывают даже поесть! На одних лицах написана зависть, на других — любовь, на третьих — волнение или сомнение. Здесь — смех, там — шум, тут — песни. Все стали интересоваться друг другом, сравнивать других с собой. Туз думал: «Король, конечно, неплохой парень, но он некрасив, а в моих движениях такая величавость, что я невольно привлекаю взгляды». Король же думал: «Туз, когда ходит, семенит и сутулится, а воображает, что все Дамы замирают от восторга, увидев его». И, иронически усмехаясь, Король смотрелся в зеркало. А Дамы начали усиленно наряжаться и сплетничать. «Умереть можно! И зачем только эта гордячка так разоделась! Стыдно смотреть даже», — говорили они и тут же начинали прихорашиваться. То здесь, то там можно было видеть, как две подруги или два приятеля о чем-то шепчутся, уединившись от остальных. У этих существ появились теперь причины для смеха, для слез или гнева; то их одолевали гордость и самомнение, то они вдруг униженно обращались к кому-нибудь с просьбой. Юноши сидели, лениво развалившись на сухих листьях или прислонившись к стволу дерева. Девушки в синих одеждах задумчиво брели по тенистым аллеям, но, завидя юношей, опускали голову и отводили глаза, делая вид, будто пришли сюда случайно, вовсе не для того, чтобы кого-то увидеть. Но вот какой-то безнадежно влюбленный юноша, вскочив, приблизился к ним, — однако не мог вымолвить ни слова и стоял смущенный. Удобный момент был упущен, девушки медленно удалились. На ветвях пели птицы, ветер трепал края одежды и локоны девушек, шелестел в листве, неумолчный шум моря еще сильнее возбуждал невысказанное желание сердца. Так однажды весной трое юных пришельцев подняли бурю нанекогда мертвых берегах.VIII
Среди бушующего океана жизни вся страна словно замерла. Только робкие взгляды, только смутные желания, которые возникают, как песчаные домики, и так же быстро разрушаются. Казалось, будто каждый сидит в углу своего дома и приносит себе жертву и с каждым днем становится все слабее и нерешительней. Только глаза их горят, да, подобно листу на ветру, трепещут губы от невысказанных слов. Однажды принц собрал всех и сказал: — Несите флейты, бейте в барабаны! Ликуйте! Червовая Дама будет выбирать себе мужа[103]! И тотчас же Девятки-Десятки заиграли на флейтах, а Двойки-Тройки стали бить в барабаны. В этом радостном возбуждении сразу были забыты и трепетный шепот, и взгляды, которыми они обменивались. Собравшись вместе на праздник, мужчины и женщины принялись разговаривать, смеяться, шутить. Сколько во всем этом было сердечности, сколько кокетливого притворства, сколько пустой, но милой болтовни! Это было подобно порыву ветра, который, поднявшись в густом лесу, создает веселую суматоху, раскачивая ветви, листья и лианы. На этом шумном празднике с самого утра звучали флейты. Какие только чувства не обуревали людей! Радость, волнение, любовь, страдания! Те, кто еще не знали любви, — полюбили, влюбленные — потеряли голову от счастья!
Червовая Дама, надев роскошный наряд, весь день просидела в отдалении, в тени деревьев. Издалека до нее доносилась музыка. Она закрыла глаза, потом открыла их — и неожиданно увидела, что перед ней сидит принц и смотрит на нее. Охваченная трепетом, она закрыла руками лицо.
Собравшись вместе на праздник, мужчины и женщины принялись разговаривать, смеяться, шутить. Сколько во всем этом было сердечности, сколько кокетливого притворства, сколько пустой, но милой болтовни! Это было подобно порыву ветра, который, поднявшись в густом лесу, создает веселую суматоху, раскачивая ветви, листья и лианы. На этом шумном празднике с самого утра звучали флейты. Какие только чувства не обуревали людей! Радость, волнение, любовь, страдания! Те, кто еще не знали любви, — полюбили, влюбленные — потеряли голову от счастья!
Червовая Дама, надев роскошный наряд, весь день просидела в отдалении, в тени деревьев. Издалека до нее доносилась музыка. Она закрыла глаза, потом открыла их — и неожиданно увидела, что перед ней сидит принц и смотрит на нее. Охваченная трепетом, она закрыла руками лицо.
IX
После этого принц весь день ходил в одиночестве. по берегу моря, вспоминая ее смущенный взгляд и лицо, стыдливо, прикрытое руками. Ночью, при свете сотен тысяч светильников, в аромате гирлянд, под звуки флейт, в окружении празднично одетых, весело смеющихся юношей, Червовая Дама с гирляндой в руках робко остановилась перед принцем и склонила голову… Она так и не осмелилась поднять на него глаза и надеть гирлянду. Тогда он сам наклонил голову, и гирлянда, выскользнув из ее рук, упала ему на шею. Все вокруг огласилось криками радости. Под приветственные возгласы жениха и невесту повели к трону, где состоялась торжественная церемония коронации.X
Несчастная, изгнанная своим мужем рани, которая жила на дальнем берегу, приплыла на золотой ладье в новое королевство своего сына. Люди-картинки, люди-карты стали настоящими живыми людьми. Теперь нет в королевстве безмятежного покоя и неизменной серьезности, как это было раньше. Жизнь наполнила новое королевство принца весельем и скорбью, любовью и ненавистью, счастьем и страданиями. Теперь там есть и хорошие и плохие люди, у них есть свои радости и печали. Теперь там все — люди. И если они порядочны — то порядочны, а если бесчестны — то бесчестны, но по собственной воле, а не в силу неизбежного закона. 1892Кабуливала[104]
Моя маленькая пятилетняя дочка Мини минуты не могла посидеть спокойно. Едва ей исполнился год, она уже научилась говорить, и с тех пор, если только не спала, была просто не в состоянии молчать. Мать часто бранила ее за это, и тогда Мини умолкала, но я не мог так поступать с ней. Молчание Мини казалось мне настолько противоестественным, что долго я его не выдерживал, поэтому со мной девочка беседовала особенно охотно. Как-то утром сел я было за семнадцатую главу моей повести. Но тут вошла Мини и начала: — Папа, наш сторож Рамдоял называет ворону — каува[105]! Он ведь ничего не знает, правда? Я хотел объяснить ей, что в разных языках все вещи называются по-разному, но она тут же стала болтать о другом. — Знаешь, папа, Бхола говорит, что на небе слон выливает из хобота воду и от этого идет дождь. И как это Бхола могла такое сказать?! Ей бы только болтать. День и ночь болтает! — И, не ожидая, пока я выскажу свое мнение на этот счет, вдруг спросила: — Папа, а кто тебе мама? «Свояченица», — хотел было я сказать, но решил не шутить. — Иди поиграй с Бхолой, Мини. Я сейчас занят. Но она не ушла, а села у моих ног, возле письменного стола, и быстро-быстро стала нараспев приговаривать «агдум-багдум»[106], похлопывая в такт по коленям. А в это время в моей семнадцатой главе Протапшинхо вместе с Канчонмалой темной ночью прыгнул в воду из высокого окна темницы. Окна моего кабинета выходили на улицу. Вдруг Мини бросила свое «агдум-багдум», подбежала к окну и закричала: — Кабуливала, эй, кабуливала! По дороге усталой походкой шел высокий афганец. Одет он был в широкое грязное платье, на голове — чалма, за плечами — мешок, а в руках — штук пять коробов с виноградом. Трудно предположить, какие мысли зародились в голове моей проказницы, когда она позвала его. Я же подумал: «Вот теперь явится это злосчастье с мешком за плечами, и моя семнадцатая глава так и останется незаконченной». Но когда афганец обернулся на зов Мини и, широко улыбаясь, направился к нашему дому, она со всех ног бросилась на женскую половину. Мини была убеждена, что в мешке у афганца можно обнаружить двух-трех таких же ребятишек, как она, стоит только немного порыться. Афганец подошел к дому и с улыбкой поклонился мне. Я подумал, что, хотя положение Протапшинхо и Канчонмалы весьма критическое, мне все же следует что-нибудь купить у человека, раз уж его позвали. Я купил у него какие-то мелочи. Потом мы немного побеседовали. Поделились своими соображениями насчет политики Абдур Рахмана[107], русских, англичан. Наконец он поднялся, собираясь уходить, и спросил: — Бабу[108], а куда убежала твоя дочка? Я решил рассеять напрасные страхи Мини и позвал ее. Но, прижимаясь ко мне, трусишка подозрительно глядела на афганца и его мешок. Рохмот достал из мешка горсть кишмиша и сухих абрикосов и протянул ей, но она не взяла угощения, еще подозрительнее посмотрела на него и крепче прижалась к моим коленям. Так состоялось их первое знакомство. Как-то утром, спустя несколько дней, я вышел по своим делам из дому. Моя дочурка сидела на скамейке возле двери и оживленно болтала о чем-то. И рядом, на земле, я увидел того афганца; он с улыбкой слушал ее, вставляя время от времени свои замечания на ломаном бенгальском языке. За весь пятилетний жизненный опыт Мини еще не случалось иметь такого терпеливого слушателя, не считая отца. Тут я заметил, что подол ее полон кишмиша и миндаля. — Зачем ты ей дал это? Больше не делай так, — сказал я афганцу и, вынув из кармана полрупии, протянул ему. Он не смутился, взял деньги и опустил их в мешок. Вернувшись домой, я увидел, что эти полрупии подняли шум на целую рупию. Мать Мини держала в руке белый блестящий кружочек и строго спрашивала девочку: — Где ты взяла эти деньги? — Кабуливала дал. — Как ты посмела их взять? Мини готова была расплакаться. — Я не брала, он сам дал. Спасая Мини от грозящей беды, я увел ее из комнаты. Оказалось, это была не вторая встреча Мини с афганцем. Все это время он приходил почти ежедневно и взятками в виде миндаля и фисташек завоевал ее маленькое жадное сердечко. Я узнал, что у них были свои забавы и шутки. Так, едва завидев Рохмота, Мини, смеясь, спрашивала его: — Кабуливала, а кабуливала, что у тебя в мешке? — Сло-он, — смешно гнусавил Рохмот. Шутка была немудреная, но обоим становилось весело. Да я и сам радовался, слушая в осенние утра простодушный смех этих двух детей — взрослого и совсем реб. енка. Было у них еще одно развлечение. Рохмот говорил Мини: — Смотри, малышка, никогда не ходи в дом свекра. В бенгальских семьях девочки с самых ранних лет приучаются к словам «дом свекра», но мы, люди до некоторой степени современные, не знакомили Мини с этим понятием. Поэтому она не могла уразуметь просьбы Рохмота. Однако не в характере девочки было молчать, когда ее о чем-нибудь спрашивали, и она, в свою очередь, интересовалась: — А ты пойдешь в дом свекра? — Я его изобью, — грозил Рохмот воображаемому свекру увесистым кулаком. И, представляя себе, в какое смешное положение попадет незнакомое ей существо, называемое свекром, Мини звонко смеялась. Осень. Чудесная пора! Цари древности в это время года отправлялись покорять мир. Мне никогда не приходилось выезжать из Калькутты, и я приучил себя мысленно бродить по вселенной. Словно узник, прикованный цепями, я постоянно тосковал по вольному миру. Стоило мне услышать название какой-нибудь страны, как я в мыслях своих переносился туда; стоило повстречать чужестранца, и в воображении моем возникала хижина у реки среди гор и лесов, рисовались картины радостной и привольной жизни.
Но я так привык ко всему, что меня окружало! Казалось, рухнет весь мой небольшой мир, если я покину свой угол. Вот и теперь беседы с афганцем, которые мы вели по утрам в моем маленьком кабинете, вполне заменяли мне путешествие. Низким раскатистым голосом на нескладном бенгальском языке рассказывал он о своей стране; и перед моими глазами, как в калейдоскопе, возникали высокие, почти неприступные горы, бурые, обожженные солнцем; меж волнами этих громад протянулась узкая пустынная дорога, медленно движется по ней караван верблюдов, купцы в тюрбанах и проводники — кто на верблюде, кто пешком, одни с копьями, у других старинные кремневые ружья.
Мать Мини боялась всего на свете. Услышит шум на улице, и уже ей кажется, что на наш дом нападают толпы пьяных бродяг. Всю жизнь (правда, не очень долгую) ей мерещились воры, разбойники, пьяницы, змеи и тигры, ядовитые насекомые, тараканы и солдаты и еще малярия, не менее опасный враг.
Тревожили мать Мини также частые посещения Рохмота. Не раз просила она меня получше присматривать за ним. Я смеялся над ее подозрениями, но она не уступала.
— Разве не похищают детей? Разве в Афганистане нет рабства? Разве не может этот великан афганец украсть ребенка?
Я соглашался с ней, но говорил, что в данном случае страхи ее совершенно напрасны. Однако убедить ее было трудно. И все же я не мог запретить Рохмоту приходить к нам.
Каждый год в середине месяца магх[109] Рохмот отправлялся на родину. К этому времени он спешил собрать все долги. У него не оставалось ни одной свободной минуты, но он никогда не забывал заглянуть к Мини. Во время этих встреч оба они принимали вид заговорщиков. Если Рохмот почему-либо не мог прийти утром, он заходил вечером. Бывало, увидишь при сумеречном освещении комнаты высоченную фигуру в длинной рубахе и широких штанах, всю увешанную мешками, и в самом деле становится не по себе. Но прибегала Мини, смеясь и крича: «Кабуливала, а кабуливала!» — начинались бесхитростные шутки, веселый смех, и на сердце у меня становилось светлее.
Однажды утром я сидел в своем кабинете за корректурой. Последние зимние дни выдались особенно холодными, стояла настоящая стужа. Через окно в комнату падали лучи солнца и ложились под стол мне на ноги. Мягкое тепло их приятно согревало.
Было около восьми часов. Почти все люди, которые еще на заре, повязав голову шарфом, вышли на утреннюю прогулку, уже вернулись домой.
Вдруг на улице послышался шум. Я посмотрел в окно и увидел, как двое стражников ведут связанного Рохмота. За ними бежала толпа любопытных ребятишек. На одежде Рохмота были следы крови, а в руках у одного из стражников — окровавленный нож. Я вышел из дому, остановил стражника и спросил, что случилось.
Сначала от него, а затем и от самого Рохмота я узнал, что наш сосед задолжал Рохмоту за рампурскую шаль, но потом отказался от своего долга. Разгорелась ссора, во время которой Рохмот всадил в лгуна нож. И вот теперь он шел и ругал лжеца на чем свет стоит.
В это время из дому выбежала Мини.
— Кабуливала, эй, кабуливала!
Мгновенно лицо Рохмота расцвело радостной улыбкой. Сегодня за плечами у него не было мешка, поэтому между ними не могло произойти обычного разговора. Мини лишь спросила:
— Ты пойдешь в дом свекра?
— Да, да. Как раз туда я и иду! — усмехнулся Рохмот.
Но ответ его не рассмешил Мини. Тогда Рохмот сказал, показывая взглядом на свои руки:
— Я бы побил свекра, да вот руки связаны.
Рохмота обвинили в убийстве и на несколько лет посадили в тюрьму.
За обычными, повседневными делами я забыл о нем и ни разу не вспомнил, что все это время Рохмот, свободный житель гор, томится за решеткой.
А поведение Мини (это приходится признать и ее отцу), непостоянной Мини, было просто позорно. Она легко забыла своего старого друга, сменив его на конюха Ноби. По чем старше она становилась, тем чаще друзей заменяли подруги. Теперь ее нельзя было увидеть даже в комнате отца. Мы отдалились друг от друга.
Осень. Чудесная пора! Цари древности в это время года отправлялись покорять мир. Мне никогда не приходилось выезжать из Калькутты, и я приучил себя мысленно бродить по вселенной. Словно узник, прикованный цепями, я постоянно тосковал по вольному миру. Стоило мне услышать название какой-нибудь страны, как я в мыслях своих переносился туда; стоило повстречать чужестранца, и в воображении моем возникала хижина у реки среди гор и лесов, рисовались картины радостной и привольной жизни.
Но я так привык ко всему, что меня окружало! Казалось, рухнет весь мой небольшой мир, если я покину свой угол. Вот и теперь беседы с афганцем, которые мы вели по утрам в моем маленьком кабинете, вполне заменяли мне путешествие. Низким раскатистым голосом на нескладном бенгальском языке рассказывал он о своей стране; и перед моими глазами, как в калейдоскопе, возникали высокие, почти неприступные горы, бурые, обожженные солнцем; меж волнами этих громад протянулась узкая пустынная дорога, медленно движется по ней караван верблюдов, купцы в тюрбанах и проводники — кто на верблюде, кто пешком, одни с копьями, у других старинные кремневые ружья.
Мать Мини боялась всего на свете. Услышит шум на улице, и уже ей кажется, что на наш дом нападают толпы пьяных бродяг. Всю жизнь (правда, не очень долгую) ей мерещились воры, разбойники, пьяницы, змеи и тигры, ядовитые насекомые, тараканы и солдаты и еще малярия, не менее опасный враг.
Тревожили мать Мини также частые посещения Рохмота. Не раз просила она меня получше присматривать за ним. Я смеялся над ее подозрениями, но она не уступала.
— Разве не похищают детей? Разве в Афганистане нет рабства? Разве не может этот великан афганец украсть ребенка?
Я соглашался с ней, но говорил, что в данном случае страхи ее совершенно напрасны. Однако убедить ее было трудно. И все же я не мог запретить Рохмоту приходить к нам.
Каждый год в середине месяца магх[109] Рохмот отправлялся на родину. К этому времени он спешил собрать все долги. У него не оставалось ни одной свободной минуты, но он никогда не забывал заглянуть к Мини. Во время этих встреч оба они принимали вид заговорщиков. Если Рохмот почему-либо не мог прийти утром, он заходил вечером. Бывало, увидишь при сумеречном освещении комнаты высоченную фигуру в длинной рубахе и широких штанах, всю увешанную мешками, и в самом деле становится не по себе. Но прибегала Мини, смеясь и крича: «Кабуливала, а кабуливала!» — начинались бесхитростные шутки, веселый смех, и на сердце у меня становилось светлее.
Однажды утром я сидел в своем кабинете за корректурой. Последние зимние дни выдались особенно холодными, стояла настоящая стужа. Через окно в комнату падали лучи солнца и ложились под стол мне на ноги. Мягкое тепло их приятно согревало.
Было около восьми часов. Почти все люди, которые еще на заре, повязав голову шарфом, вышли на утреннюю прогулку, уже вернулись домой.
Вдруг на улице послышался шум. Я посмотрел в окно и увидел, как двое стражников ведут связанного Рохмота. За ними бежала толпа любопытных ребятишек. На одежде Рохмота были следы крови, а в руках у одного из стражников — окровавленный нож. Я вышел из дому, остановил стражника и спросил, что случилось.
Сначала от него, а затем и от самого Рохмота я узнал, что наш сосед задолжал Рохмоту за рампурскую шаль, но потом отказался от своего долга. Разгорелась ссора, во время которой Рохмот всадил в лгуна нож. И вот теперь он шел и ругал лжеца на чем свет стоит.
В это время из дому выбежала Мини.
— Кабуливала, эй, кабуливала!
Мгновенно лицо Рохмота расцвело радостной улыбкой. Сегодня за плечами у него не было мешка, поэтому между ними не могло произойти обычного разговора. Мини лишь спросила:
— Ты пойдешь в дом свекра?
— Да, да. Как раз туда я и иду! — усмехнулся Рохмот.
Но ответ его не рассмешил Мини. Тогда Рохмот сказал, показывая взглядом на свои руки:
— Я бы побил свекра, да вот руки связаны.
Рохмота обвинили в убийстве и на несколько лет посадили в тюрьму.
За обычными, повседневными делами я забыл о нем и ни разу не вспомнил, что все это время Рохмот, свободный житель гор, томится за решеткой.
А поведение Мини (это приходится признать и ее отцу), непостоянной Мини, было просто позорно. Она легко забыла своего старого друга, сменив его на конюха Ноби. По чем старше она становилась, тем чаще друзей заменяли подруги. Теперь ее нельзя было увидеть даже в комнате отца. Мы отдалились друг от друга.
Минуло несколько лет. Снова наступила осень. Пришла пора выдавать Мини замуж. Свадьбу решили сыграть во время праздника Дурги[110]. Вместе с обитательницей Кайласы[111] радость моя должна была покинуть родительский дом, погрузив его во мрак, и уйти к мужу. Утро занялось прекрасное. Умытое дождями солнце сияло, как расплавленное золото. Даже грязным, облупившимся домишкам, которые теснились в переулках Калькутты, его лучи придавали особую прелесть. Уже с рассвета в доме звучала флейта. Казалось, стоны ее вырываются из моей груди. Печальная мелодия и боль предстоящей разлуки заслонили собою весь мир, так чудесно озаренный лучами осеннего солнца. Да… сегодня Мини выходит замуж. С самого утра дом был полон шума, говора, одни приходили, другие уходили. Во дворе строили навес из бамбука. Звенели люстры, которыми украшали все комнаты и веранду. Я сидел у себя в кабинете и просматривал счета, когда вошел Рохмот. Сначала я не узнал, его. Мешка за плечами не было, длинные волосы острижены, не чувствовалось в нем и былой бодрости. Только улыбка осталась прежней. — О, это ты, Рохмот? Откуда ты явился? — Вчера вечером меня выпустили из тюрьмы. Сердце мое болезненно сжалось. Я никогда раньше не видел так близко убийц, и мне не хотелось, чтобы в такой счастливый день этот человек был среди нас. — Сегодня мы все заняты, Рохмот. Мне некогда разговаривать с тобой. Он тотчас повернулся и пошел из комнаты, но в дверях остановился и нерешительно спросил: — А можно мне повидать дочку? Рохмот, очевидно, думал, что Мини все такая же, как раньше. Казалось, он даже ждал, что она сейчас вбежит с криком: «Кабуливала, эй, кабуливала!» — и все будет так, как во время их прежних веселых встреч. В память о старой дружбе он даже захватил корзинку винограда и немного кишмиша и миндаля, завернутых в бумагу. Наверно, выпросил все это у приятеля-земляка, своего-то у него ничего теперь не было. — Сегодня все в доме заняты, — повторил я. Ответ мой, видно, огорчил Рохмота. Он постоял некоторое время молча, пристально глядя на меня, и наконец произнес: — Салам[112], бабу! На душе у меня стало как-то нехорошо. Я хотел позвать его, как вдруг он сам вернулся. — Вот виноград и немного кишмиша с миндалем. Это для девочки. Отдайте ей. Я взял фрукты и хотел заплатить ему, но он схватил меня за руку. — Вы очень добры. Я всегда буду помнить это. Но не надо денег… Бабу, у меня дома такая же девочка, как у тебя… Я приносил немного сладостей твоей дочке, а думал о своей… Я не торговать приходил… Он сунул руку в складки своей широкой одежды, вытащил грязную бумажку и, бережно развернув ее, положил передо мною на стол. Я увидел отпечаток маленькой детской руки. Это была не фотография, не портрет, нет, это был просто отпечаток руки, намазанной сажей. Каждый год Рохмот приходил в Калькутту торговать сладостями и всегда носил на груди этот листок. Ему казалось, будто нежное прикосновение детской ручки согревает его страдающую душу. На глаза у меня навернулись слезы. Я забыл, что он — торговец сладостями из Кабула, а я — потомок благородного бенгальского рода. Я понял, что мы равны, что он такой же отец, как и я. Отпечаток руки маленькой жительницы гор напомнил мне о моей Мини. Я тотчас приказал позвать ее из внутренних комнат. Там запротестовали, но я ничего не хотел слушать. Одетая в красное шелковое сари, как и подобало невесте, с сандаловым знаком на лбу, Мини стыдливо подошла ко мне. Увидев ее, афганец растерялся. Он совсем иначе представлял себе их встречу после стольких лет разлуки. Наконец он улыбнулся и спросил: — Маленькая, ты идешь в дом свекра? Теперь Мини понимала значение этих слов. Она не ответила на вопрос Рохмота, как бывало раньше, а смутилась, покраснела и отвернулась. Я вспомнил первую встречу Мини с афганцем, и мне стало грустно. Когда Мини ушла, Рохмот, тяжело вздохнув, опустился на пол. Он вдруг ясно понял, что и его девочка за эти годы выросла, что и ему предстоит новая встреча и он не увидит свою дочку такой, какой оставил. Кто знает, что произошло за эти восемь лет! Мягко светило осеннее утреннее солнце. Пела флейта. Рохмот сидел здесь, в одном из переулков Калькутты, и видел перед собой пустынные горы Афганистана. Я дал ему денег. — Возвращайся домой, Рохмот, и пусть твоя радостная встреча с дочерью принесет счастье моей Мини. Мне пришлось несколько урезать расходы на празднество. Я не смог зажечь столько электрических ламп, сколько хотел, не пригласил оркестра. Женщины выражали неудовольствие. Зато праздник в моем доме был озарен светом счастья. 1892
Свет и тени
1
Вчера весь день шел дождь. Сегодня дождь прекратился, и с раннего утра бледный солнечный свет и обрывки туч словно водят вперемежку длинною кистью по полям почти зрелого раннего риса; широкое зеленое полотно то вспыхивает под прикосновением света яркою белизною, то вдруг, через мгновение, погружается в густую тень. В то время как на небесной сцене ведут игру только два актера: Облако и Солнце, выполняя каждый свою роль, — всех тех пьес, что разыгрываются попутно на сцене земли, — не счесть. Тот отрезок земной сцены, который мы избираем декорацией для нижеследующей небольшой жизненной драмы, состоит, в первом действии, из домика на краю деревенской дороги. Лишь средняя его часть сооружена из кирпичей; с боков к ней примыкают несколько комнат с глиняными стенами, а все обнесено ветхой кирпичной- оградой. Через переплет окна видно с дороги, что в комнате, на кушетке, сидит молодой человек с обнаженным туловищем; в левой руке он держит пальмовый лист, которым время от времени обмахивается, отгоняя жару и москитов, а в правой руке держит книгу, в чтение которой он глубоко погружен. Снаружи на дороге девочка, одетая в полосатое платье, ходит взад и вперед перед помянутым окошком и ест сливы, которые она вынимает одну за другою из подола платья. По выражению ее лица легко можно догадаться, что она отлично знакома с тем молодым человеком, который, сидя на кушетке, читает книгу, и что ей хочется привлечь его внимание и своим молчаливым презрением дать ему понять, что она теперь всецело занята своими сливами, а что его-то она даже и не замечает. На беду, однако, этот прилежный молодой человек близорук, и издали ее молчаливое презрение не оказывает на него никакого действия. Девочка это вскоре сообразила, и, походив некоторое время взад и вперед без всякого результата, она вынуждена была пустить в ход, вместо молчаливого презрения, косточки от слив. Когда имеешь дело с близорукими, трудно сохранять на должной высоте чувство собственного достоинства. Когда несколько твердых косточек, словно случайно брошенных, звучно ударились о деревянную дверь, молодой человек оторвался от книги и стал осматриваться вокруг. Хитрая девочка об этом догадалась и с удвоенным- вниманием принялась выбирать из своего подола спелые сливы. Прищурившись с видимым усилием, молодой человек, наконец, увидел ее, с книгою в руках подошел к окну и, улыбаясь, позвал: — Гирибала! Гирибала, не обращая на него внимания, сосредоточенно перебирала сливы, в то же время маленькими шажками удаляясь от окна. Тогда близорукому молодому человеку пришлось понять, что это — наказание за какое-то его невольное прегрешение. Он поспешно выбежал на дорогу и сказал: — Послушай, что же, сегодня мне не будет слив? Гирибала, словно не слыша, выбрала большую спелую сливу и с беззаботным видом стала ее есть. Эти сливы приносились Гирибалой из сада ее родительского дома И составляли ежедневную порцию молодого человека. Кто знает, может быть, Гирибала сегодня вдруг забыла об этом; по всему ее поведению было видно, что сегодня она принесла их только для себя. Правда, неизвестно, зачем ей нужно было в таком случае носить эти сливы с собою и демонстративно есть их перед чужими дверями. Молодой человек подошел к ней и взял ее за руку. Гирибала сначала завертелась, пытаясь высвободить руку, затем вдруг у нее брызнули слезы, сливы рассыпались по земле, и она, вырвавшись, побежала домой. К вечеру игра света и теней прекратилась; пышные белые облака сгрудились горою на горизонте. Косые лучи солнца сверкали на листьях деревьев, в зеркале пруда и на всех членах осенней Природы. Снова перед окошком ходит взад и вперед та же девочка, а внутри сидит тот же молодой человек. Но на этот раз в подоле у девочки нет слив, а молодой человек не держит в руке книгу. Впрочем, за это время произошли и еще более важные скрытые перемены. Правда, с какой именно целью она пришла именно сюда, и теперь трудно сказать. Во всяком случае, ни из чего не видно, чтобы она хотела завязать разговор с этим молодым человеком. Мало того, кажется даже, что она ищет, не пустила. ли ростка какая-либо из слив, посеянных ею утром. Тому, что сливы не пустили ростков, могло быть много причин, но одной из важнейших было, во всяком случае, то, что все эти сливы лежали теперь на кушетке около молодого человека и, в то время как девочка, поминутно наклоняясь, искала на земле чего-то, чего там и быть не могло, молодой человек, пряча улыбку, с сосредоточенным видом перебирал сливы и съедал их одну за другою. Под конец, когда несколько косточек от слив, словно случайно, упали к ногам девочки, мало того, даже ударили ее по ногам, Гирибала должна была понять, что молодой человек теперь мстит ей за ее высокомерие. Но разве это хорошо? В то время как она, пожертвовав всею гордостью своего сердечка, ищет повода отдать себя на его милость, — разве не жестоко с его стороны лишить ее этой возможности? Сообразив, однако, что он сейчас выйдет к ней, Гирибала, покраснев, пыталась бежать, но было уже поздно: молодой человек вышел и взял ее за руку. На этот раз Гирибала также попыталась — как утром — высвободить руку, но уже не плакала. Мало того, она покраснела и, вытягивая шею, со смехом пыталась спрятать лицо за спиною своего преследователя, а затем, словно подчиняясь внешней силе, вошла в дом, как пленница за железную решетку темницы. Как воздушна в небе игра Облака и Солнца, так летуча и мгновенна была игра тех двух существ на краю земли. Но и напротив: как в небе не на шутку ведется игра Облаком и Солнцем, — да то вовсе и не игра, а лишь внешне похоже на игру, — так и маленькая повесть двух неприметных жителей земли, в этот праздный осенний день, может быть сочтена за одно из бесчисленных пустых явлений мирской суеты, — но она не пуста. Тот древний великий бог, что с недвижным, сумрачным ликом движет бесконечным временем и сплетает с вечностью вечность, — схоронил в смех и слезы утра и вечера того дня семя горя и радости целой жизни. Все же беспричинная надменность Гирибалы казалась бессмысленной, и не только нам, зрителям, но и главному герою нашей маленькой драмы, упомянутому молодому человеку. Почему Гирибала сегодня сердится, а назавтра проявляет бесконечную преданность, почему она сегодня приносит положенную порцию слив, а назавтра решительно отказывается сделать это, — понять действительно нелегко. Один день она, словно собрав всю свою силу воображения, весь свой ум и способности, всячески старается доставить удовольствие своему другу, в другой же день она, собрав все свои силенки и всю свою твердость, всячески старается его уязвить. Если это ей не удается, ее настойчивость лишь удваивается, а как только это удается, ее жестокость растворяется влагою покаянных слез и уносится потоком любви.2
Все остальные жители деревни ведут интриги друг против друга, составляют партии, культивируют сахарный тростник, ложные доносы и джут; литературой и философией никто не интересуется, кроме Шошибхушона и Гирибалы. Эта дружба не вызывает сомнений или сплетен: ведь Гирибале всего десять лет, а Шошибхушон — свежеиспеченный М. А. и В. L. Живут они по соседству. Отец Гирибалы, Хоркумар, некогда был средней руки арендатором[113] в своей родной деревне. Затем он обеднел и, распродав все, принял пост наиба[114] у соседнего заминдара[115] и принялся собирать арендную плату. Вверенный ему округ включал его деревню, так что он и остался жить в месте своего рождения. Шошибхушон, получив титул магистра искусств, выдержал затем экзамен на бакалавра юриспруденции, но делом не занялся. Он ни к кому не ходил и ни с кем не разговаривал. По близорукости ему даже было трудно узнавать знакомых и приходилось прищуривать глаза, а это считается, особенно в деревне, признаком высокомерия. Если кто-либо держится одиноко в таком человеческом море, какое представляет собою Калькутта, это способно придать человеку какой-то ореол благородства, но в деревне такое поведение не расценивается иначе, как вызывающее. Отец Шошибхушона, вечно перегруженный делами, сначала не знал, что делать со своим сыном, но в конце концов решил отправить его в деревню для наблюдения за их поместьем. Деревенские жители относились к Шошибхушону насмешливо и презрительно. Тому была, кроме вышеуказанной, еще одна причина: любя покой и тишину, Шошибхушон жил холостяком, и родители, обремененные ответственностью за судьбу своих дочерей, видели в этом также проявление невыносимой надменности, которой они ему никак не могли простить.
Чем больше надоедали Шошибхушону соседи, тем более упорным домоседом он становился. Он сидел на кушетке в одной из угловых комнат дома, обложив себя переплетенными английскими книгами, и читал то, что ему в данный момент было интересно, не руководствуясь никаким сознательным планом — такова была его работа. В каком положении поместье — не его дело.
И с самого начала его пребывания в деревне всем стало известно, что единственный человек, с которым он имеет дело, это — Г ирибала.
Братья Гирибалы ходили в школу; по возвращении из школы домой они то спрашивали свою глупую сестренку, какова форма земли, то спрашивали, что больше — солнце или земля; она давала неверные ответы, а они выражали ей свое презрение и исправляли ее ошибки.
Когда Гирибале показалось, что солнце не может быть больше земли, ибо видимость противоречит этому, и она осмелилась высказать свое сомнение, ее братья с удвоенным презрением ответили:
— Вот те на! В нашей книге напечатано, а ты…
Услышав, что это напечатано в книге, Гирибала, пораженная, умолкла; ей и в голову не пришло спрашивать о дальнейших доказательствах.
Но ей страшно захотелось самой читать книги, как это делают ее братья. Иногда она садилась в своей комнате с раскрытой книгой в руках и делала вид, что читает, непрерывно перелистывая ее и бормоча что-то про себя. Черные, непонятные печатные буквы стояли, плотно сомкнув ряды, словно на карауле у входа в некий волшебный дворец, и грозно высились над их рядами воздетые, как штыки, значки для р, и, й[116]; и на все вопросы Гирибалы эти немые караульные ничего не отвечали. «Котхамала»[117] не желала рассказать ей своей сказки о тигре и гиене или лошади и осле, а «Акхенмонджори» беззвучно смотрела на нее своими страницами, словно аскет, принявший обет молчания.
Гирибала предложила своим братьям обучить ее чтению, но они об этом и слышать не хотели. Сочувствие она нашла только у Шошибхушона.
Шошибхушон был сначала столь же недоступен пониманию Гирибалы, как «Котхамала» и «Акхенмонджори». Через окно она видела, что в небольшой комнатке, выходящей на дорогу, на кушетке, вечно один, сидит молодой человек, окруженный книгами; стоя снаружи и держась за раму, она с изумлением смотрела на этого странного человека, склоненного над книгой. Сравнение числа книг убедило ее в том, что Шошибхушон знает гораздо больше, чем ее братья. Другая мысль удивляла ее еще больше: она не сомневалась в том, что Шошибхушон прочел не только «Котхамалу», но и все вообще хрестоматии, которые имеются на свете. Шошибхушон переворачивал страницы, а она, неподвижно стоя перед окном, тщетно пыталась определить границы его знаний.
Наконец даже близорукий Шошибхушон не мог не обратить внимания на эту изумленную наблюдательницу. Однажды он, открыв большую книгу в ярком переплете, сказал ей:.
— Гирибала, пойдем, я тебе покажу картинки.
Гирибала не ждала второго приглашения и бегом бросилась к нему.
Когда на следующий день Шошибхушон снова увидел, что Гирибала — на этот раз в полосатом платье — стоит у окна и с молчаливым вниманием наблюдает за процессом его чтения, он снова позвал ее к себе, и она, с развевающимися на бегу волосами, помчалась к нему по дорожке сада.
Так завязалось их знакомство. Как оно затем перешло в тесную дружбу и как Гирибала получила постоянное право входа в его комнату и постоянное место на его кушетке, посреди книжных холмов, — все это должно было бы послужить темою особого исторического исследования.
Если кто-либо держится одиноко в таком человеческом море, какое представляет собою Калькутта, это способно придать человеку какой-то ореол благородства, но в деревне такое поведение не расценивается иначе, как вызывающее. Отец Шошибхушона, вечно перегруженный делами, сначала не знал, что делать со своим сыном, но в конце концов решил отправить его в деревню для наблюдения за их поместьем. Деревенские жители относились к Шошибхушону насмешливо и презрительно. Тому была, кроме вышеуказанной, еще одна причина: любя покой и тишину, Шошибхушон жил холостяком, и родители, обремененные ответственностью за судьбу своих дочерей, видели в этом также проявление невыносимой надменности, которой они ему никак не могли простить.
Чем больше надоедали Шошибхушону соседи, тем более упорным домоседом он становился. Он сидел на кушетке в одной из угловых комнат дома, обложив себя переплетенными английскими книгами, и читал то, что ему в данный момент было интересно, не руководствуясь никаким сознательным планом — такова была его работа. В каком положении поместье — не его дело.
И с самого начала его пребывания в деревне всем стало известно, что единственный человек, с которым он имеет дело, это — Г ирибала.
Братья Гирибалы ходили в школу; по возвращении из школы домой они то спрашивали свою глупую сестренку, какова форма земли, то спрашивали, что больше — солнце или земля; она давала неверные ответы, а они выражали ей свое презрение и исправляли ее ошибки.
Когда Гирибале показалось, что солнце не может быть больше земли, ибо видимость противоречит этому, и она осмелилась высказать свое сомнение, ее братья с удвоенным презрением ответили:
— Вот те на! В нашей книге напечатано, а ты…
Услышав, что это напечатано в книге, Гирибала, пораженная, умолкла; ей и в голову не пришло спрашивать о дальнейших доказательствах.
Но ей страшно захотелось самой читать книги, как это делают ее братья. Иногда она садилась в своей комнате с раскрытой книгой в руках и делала вид, что читает, непрерывно перелистывая ее и бормоча что-то про себя. Черные, непонятные печатные буквы стояли, плотно сомкнув ряды, словно на карауле у входа в некий волшебный дворец, и грозно высились над их рядами воздетые, как штыки, значки для р, и, й[116]; и на все вопросы Гирибалы эти немые караульные ничего не отвечали. «Котхамала»[117] не желала рассказать ей своей сказки о тигре и гиене или лошади и осле, а «Акхенмонджори» беззвучно смотрела на нее своими страницами, словно аскет, принявший обет молчания.
Гирибала предложила своим братьям обучить ее чтению, но они об этом и слышать не хотели. Сочувствие она нашла только у Шошибхушона.
Шошибхушон был сначала столь же недоступен пониманию Гирибалы, как «Котхамала» и «Акхенмонджори». Через окно она видела, что в небольшой комнатке, выходящей на дорогу, на кушетке, вечно один, сидит молодой человек, окруженный книгами; стоя снаружи и держась за раму, она с изумлением смотрела на этого странного человека, склоненного над книгой. Сравнение числа книг убедило ее в том, что Шошибхушон знает гораздо больше, чем ее братья. Другая мысль удивляла ее еще больше: она не сомневалась в том, что Шошибхушон прочел не только «Котхамалу», но и все вообще хрестоматии, которые имеются на свете. Шошибхушон переворачивал страницы, а она, неподвижно стоя перед окном, тщетно пыталась определить границы его знаний.
Наконец даже близорукий Шошибхушон не мог не обратить внимания на эту изумленную наблюдательницу. Однажды он, открыв большую книгу в ярком переплете, сказал ей:.
— Гирибала, пойдем, я тебе покажу картинки.
Гирибала не ждала второго приглашения и бегом бросилась к нему.
Когда на следующий день Шошибхушон снова увидел, что Гирибала — на этот раз в полосатом платье — стоит у окна и с молчаливым вниманием наблюдает за процессом его чтения, он снова позвал ее к себе, и она, с развевающимися на бегу волосами, помчалась к нему по дорожке сада.
Так завязалось их знакомство. Как оно затем перешло в тесную дружбу и как Гирибала получила постоянное право входа в его комнату и постоянное место на его кушетке, посреди книжных холмов, — все это должно было бы послужить темою особого исторического исследования.
3
Теперь наиб собирается затеять дело против одного непокорного арендатора. Он снова стал приставать к Шошибхушону с вопросами по поводу составлявшейся им жалобы на многочисленные прегрешения помянутого арендатора. Шошибхушон, во-первых, наотрез отказался давать советы в таком деле, а сверх того даже присовокупил несколько слов, которые отнюдь не показались Хоркумару особенно лестными. Но ни одна из тяжб, затеянных Хоркумаром против арендатора, не была им выиграна. Он не сомневался ни минуты, что несчастному помогает не кто иной, как тот же Шошибхушон. Тогда он решил, что такого беспокойного субъекта надо поскорей удалить из деревни. Шошибхушон стал замечать, что на его участке бродят чужие коровы, что его соседи затевают с ним споры о границах участка, что его арендаторы отказываются ему платить и даже подают на него ложные доносы; мало того, пошли слухи о том, что его отколотят, если он вечером покажется на дороге, и что собираются поджечь его дом. Под конец миролюбивому Шошибхушону все это надоело, и он стал готовиться к отъезду в Калькутту. Почти накануне его отъезда в деревне водружена была палатка окружного судьи. Солдаты, полицейские, экономы, собаки, лошади, грумы и лакеи запрудили улицы деревни: Словно в сказке шакалы, бегающие за тигром, дети со страхом и любопытством толпились вокруг ставки сахиба. По заведенному порядку, обязанности гостеприимства падали на наиба, и он безропотно принялся поставлять сахибу кур, яйца, масло и молоко, в размерах, бесспорно, превосходивших потребности гостя. Но когда к нему утром явился лакей сахиба и приказал выдать для собаки сахиба восемь фунтов масла, наиба словно что-то ударило в голову, и он ответил лакею, что «если даже сахибов пес без всякого вреда для своего здоровья может поглотить гораздо большее количество, масла, чем наши здешние собаки, то все жировые вещества. в таком количестве едва ли принесут ему пользу». Так он масла и не дал. Лакей пошел к сахибу и заявил, что он спрашивал у наиба, где ему достать масла для собаки, и что наиб, как брамин, не желая говорить с человеком низкой касты, выгнал его при всех и даже не постеснялся непочтительно отозваться о самом сахибе. Во-первых, для сахибов нестерпима браминская гордость;[118] во-вторых, наиб осмелился оскорбить его лакея: сахиб не мог не выйти из себя. Он тотчас же приказал слуге позвать наиба. Наиб, весь дрожа от страха, бормоча имя Дурги, явился. Сахиб, стуча каблуками, вышел из палатки и грозно спросил его, выговаривая бенгальские слова, с иностранным произношением: — Ты по какой такой причине прогнал моего лакея? Хоркумар с умоляющим видом сложил ладони и сказал, что прогнать слугу сахиба он себе никогда не позволил бы, а что когда тот попросил у него восемь фунтов масла для собаки, он, во-первых, вежливо. посоветовал ему, ради блага уважаемого четвероногого, не давать ему столько, а затем все же разослал несколько человек в разные места искать масло. Сахиб спросил: — Кто послан и куда послан? Хоркумар назвал несколько имен, которые пришли ему в голову., Сахиб послал спешных гонцов разузнать, действительно ли посланы такие-то люди в такие-то и такие-то места искать масло. Наибу же он велел ждать в палатке. После полудня посланные вернулись и доложили сахибу, что за маслом никто никуда не был послан. У сахиба не оставалось сомнений в том, кто лгал и кто говорил правду. В гневе он позвал своего лакея и сказал: — Возьми-ка этого парня за ухо и гоняй его вокруг моей палатки. Тот без лишних слов выполнил в присутствии громадной толпы поручение своего господина. О событии стало тотчас же известно по всей деревне. Хоркумар, придя домой, отказался от пищи и, словно умирающий, свалился на постель. У наиба было не мало врагов среди арендаторов, — их злорадство было велико. Но когда об этом событии узнал Шошибхушон, совсем уже собравшийся было уезжать, кровь вскипела у него в жилах. Он не спал всю ночь. На следующий день, рано утром, он направился к Хоркумару. Хоркумар взял его за руку и расплакался. Шошибхушон сказал: — Подай в суд на сахиба за оскорбление, а я буду тебя защищать на суде. Подать в суд на самого сахиба! Хоркумар был сначала испуган этой мыслью, но Шошибхушон оставался непреклонным. Хоркумар просил дать ему время на размышление. Но когда он увидел, что повсюду только и говорят об его унижении и что его враги не скрывают своей радости, он уже не мог выдержать и сказал Шошибхушону: — Батюшка, я слышал, что ты вдруг почему-то решил уехать в Калькутту. Мы тебя не отпустим. Когда в деревне имеется такой человек, как ты, мы чувствуем себя гораздо увереннее. Но как бы то ни было, ты должен помочь мне смыть это невыносимое оскорбление.4
Тот самый Шошибхушон, который все время прятался от людей за неприступной оградой одиночества, явился сегодня в суд. Судья, выслушав жалобу, позвал его в свой кабинет и дружественным тоном сказал: — Шоши-бабу, не лучше ли было бы частным образом уладить все это дело? Шоши-бабу, прищурив глаза и неподвижно, близоруким взором, смотря на переплет лежавшего на столе свода законов, ответил: — Я не могу посоветовать этого моему клиенту. Он был публично оскорблен, — как же можно это дело уладить частным образом? После краткого разговора сахиб понял, что этого близорукого, скупого на слова молодого человека ему не переубедить, и сказал: — Олрайт, бабу! Ну что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Затем судья перенес день судебного разбирательства на более отдаленный срок и твердыми шагами вышел из комнаты. Между тем окружной судья писал заминдару: «Твой наиб оскорбил моих слуг и отнесся непочтительно ко мне; надеюсь, что ты примешь надлежащие меры». Заминдар, встревожившись, тотчас же вызвал к себе Хор-кумара. Наиб рассказал ему все, что произошло. Заминдар разгневался и сказал: — Когда лакей сахиба попросил у тебя масла для собаки, ты должен был, не говоря ни слова, дать ему то, что он просил. Ты что, разорился бы от этого? Хоркумар не мог отрицать, что никакого разорения от этого бы не произошло. Признав свою вину, он добавил: — Видно, планеты мне не благоприятствовали, — вот почему я так сглупил. Заминдар сказал: — А кто посоветовал тебе подать жалобу на сахиба? Хоркумар ответил: — Ваша милость, да мне и в голову не приходило подавать жалобу, но этот адвокат Шошибхушон, который живет у нас в деревне, не имеет никакой практики, и вот, этот мальчишка, самочинно, не испросив даже как следует моего согласия, и затеял всю эту кашу. Заминдар был крайне рассержен на Шошибхушона. Этот неудачливый адвокатишка готов на любую мистификацию, лишь бы добиться известности. Он приказал наибу немедленно взять обратно жалобу, чтобы как можно скорее успокоить обоих сахибов. Наиб, взяв с собой в качестве подарка сладости и фрукты, отправился к окружному судье. Он доложил сахибу, что подавать жалобу на судью — совершенно противоречит его характеру и принципам, но живущий в деревне новичок-адвокат, молокосос Шошибхушон, не уведомив его, совершил эту нахальную выходку. Сахиб выразил свое негодование по поводу поведения Шошибхушона, с наибом же обошелся весьма милостиво и сказал, что очень сожалеет, что, вспылив, «учинил ему это наказание». Сахиб недавно получил отлично на экзамене по бенгальскому языку и пользовался всяким случаем, чтобы блеснуть своим бенгальским «высоким стилем». Наиб сказал: — Родители иногда наказывают детей, иногда ласковы с ними. Никакой причины для обиды в этом нет. Одарив надлежащим образом слуг окружного судьи, Хоркумар, приободрившись, отправился с визитом к местному судье… Судья, узнав от него о поведении Шошибхушона, сказал: — А я-то был удивлен. Ведь я знал Хоркумара-бабу как благомыслящего человека. Я был уверен, что вы прежде всего уведомите меня и что мы частным образом покончим все дело. И вдруг вы подали в суд. Я своим глазам не верил. Теперь мне все понятно. — Под конец он спросил наиба, участвует ли Шоши в конгрессистском движении. Наиб, не моргнув глазом, ответил: — Участвует. Для сахибского ума судьи было очевидно, что все это — проделки Конгресса. Всюду тайные агенты Конгресса затевают подобные интриги, где только этому представляется возможность, а затем появляются крикливые статьи в газетах и правительству ставятся палки в колеса. Не имея в своих руках власти для того, чтобы прямо расправляться с подобными заговорщиками, судья мысленно осыпал упреками слабость индийского правительства. Но имя конгрессиста[119] Шошибхушона он запомнил.5
Когда на свете пышно распускаются крупные события, тогда вокруг них и маленькие события, жадно протягивая свои корни, не упускают случая заявлять о своих правах. Когда Шошибхушон принялся за хлопоты по делу Хоркумара; когда он стал наводить справки в толстых томах законов и мысленно произносить речи, репетируя в воображении перекрестный допрос свидетелей и видя уже себя перед лицом огромной толпы зрителей в открытом заседании суда; когда он, дрожа от волнения и обливаясь потом, обдумывал стратегический план предстоящего наступления, его маленькая ученица, с истрепанной книжкой и исписанной тетрадкой под мышкой, продолжала каждый день в назначенное время приходить к его дверям то с плодами, то с печеньем, то с бетелем. В первые дни она видела, что Шошибхушон сосредоточенно перелистывает страницы какой-то громадной, мрачной книги без картинок. Он имел совсем другой вид, нежели тогда, когда он просто сидел и читал книги. В другое время Шошибхушон делился с нею, хотя бы частично, всем, что он читал. Неужели в этой толстой черной книге ничего нельзя было найти для Гирибалы? Неужели все дело в том, что книга такая большая, а Гирибала такая маленькая? Сначала Гирибала, чтобы привлечь внимание своего учителя, начинала громко читать по складам свою книгу, раскачиваясь взад и вперед, но он ничего не замечал. Гирибала страшно обижалась на эту большую черную книгу. Она представлялась ей каким-то безобразным, злым человеком. Каждая ее непонятная страница, приняв вид злого человеческого лица, смотрела на нее с немым презрением за то, что она — маленькая девочка. Если бы какой-нибудь добрый вор украл эту книгу, она не побоялась бы, чтобы наградить его, выкрасть все сладости, которые стоят у мамы в шкафах. Я не вижу особой надобности сообщать читателю все те несообразные молитвы об уничтожении этой книги, с которыми Гирибала обращалась к богам и которые так и остались неуслышанными. Тогда уязвленная Гирибала решила два-три дня не ходить к учителю. Затем, с целью выяснить результат этого мероприятия, она заглянула в окно к Шошибхушону, проходя — конечно, по совершенно другому делу — по улице, на которой он жил, и увидела: черная книга исчезла, а Шошибхушон стоит один посреди комнаты, размахивает руками и, словно обращаясь к железным прутьям рамы, говорит речь на иностранном языке. Должно быть, он хотел на металле прутьев проверить, удастся ли ему растопить сердце судьи. Шошибхушон, знавший жизнь только из книг, полагал, что, как в прежние дни Демосфен, Цицерон, Берк, Шеридан и другие ораторы совершали чудеса своими речами, поражая в самое сердце несправедливость, обличая насилие и ниспровергая гордыню, так подобный подвиг возможен и в наш меркантильный век. Он живо рисовал себе, стоя в своем ветхом деревенском домишке, как он перед глазами всего мира пристыдит этого опьяненного властью англичанина и заставит его раскаяться. Смеялись ли над ним боги в небесах или проливали слезы над его речами, — вряд ли кто может сказать. Гирибалу он в тот день так и не заметил. Слив в тот день у нее с собою не было; она разочаровалась в действии косточек от слив. Мало того, когда Шошибхушон спрашивал ее с невозмутимым видом: «Гири, что же, сегодня слив не будет?», она принимала это за насмешку и, крикнув ему: «Уходи!», с рассерженным видом убегала. Сегодня ей ничего не оставалось, как изобрести какой-нибудь другой способ воздействия. Сделав вид, что она смотрит куда-то вдаль, она закричала: — Шорно, голубушка, почему ты уходишь? Погоди, я сейчас приду. Читатель может подумать, что она обратилась с этими словами к находившейся поодаль подруге, по имени Шорно, — но читательница поймет, чтоникакой Шорно там не было и что на самом деле эти слова были предназначены для совершенно других ушей. Но из этой хитрости ничего не вышло. Не то чтобы Шошибхушон ничего не слышал, но он решил, что Гирибала хочет играть, а в этот день ему было совершенно не до того, чтобы заниматься Гирибалой. В этот день он тоже занят был — оттачиванием острых стрел, предназначенных пронзить чье-то сердце. Но читатели уже догадались, что его стрелы так же не достигли цели, как стрелы Гирибалы. Косточки от слив имеют то преимущество, что, если бросить их одну за другой, четвертая или пятая наверно достигнет цели, если даже первые три-четыре не попали в нее. Но если крикнешь: «Шорно, я иду», то, сколь бы нереальна ни была эта воображаемая Шорно, оставаться на месте уже невозможно: ведь иначе окружающие неизбежно тоже станут сомневаться в самом существовании Шорно. Поэтому, когда Гирибала убедилась в бесплодности своих усилий, ей ничего не оставалось, как уйти. Но по ее походке не видно было, чтобы ее стремление соединиться с Шорной было очень велико. Она словно пыталась почувствовать спиною, следует ли кто-нибудь за ней; когда она почувствовала, что никого нет, тогда она, как утопающий хватается за соломинку, обернулась назад и, не увидев никого, не только отбросила всякую надежду, но бросила и свой ветхий «Чарупат», предварительно изорвав его на мелкие клочки. Если бы она могла вернуть ему все, чему она от него научилась, она швырнула бы это все, как пригоршню косточек, об его дверь. Она твердо решила, что раньше, чем когда-либо увидится вновь с Шошибхушоном, предварительно забудет все, что знает, и если он ее о чем-либо будет спрашивать, она не сможет отвечать ни на один вопрос. Ни на один, ни на один, ни на один! Тогда он, наконец, почувствует! У Гирибалы выступили слезы на глазах. Мысль о том, как Шошибхушон раскается, убедившись в том, что она все забыла, доставила некоторое облегчение ее измученному сердцу; но она исполнилась жалости к самой себе, подумав о той несчастной Гирибале, которая стала невеждой по вине Шошибхушона. В небе плыли осенние облака; осенью такие облака каждый день плывут по небу. Гирибала, спрятавшись за дерево на краю дороги, горько заплакала от обиды; сколько девочек каждый день проливает такие же беспричинные слезы! Что за толк в подобных слезах, вряд ли кто может сказать.6
Читателям известно уже, почему юридические изыскания и ораторские упражнения Шошибхушона оказались столь бесплодными. Жалоба, поданная на судью, взята была обратно. Хоркумар назначен был почетным судьей своего района. Надев засаленный чапкан и тюрбан, Хоркумар стал ходить в суд, не забывая при встречах с сахибами о полагающихся саламах. Над толстым черным томом законов стало сбываться проклятие Гирибалы: он изгнан был в некий темный угол и, покрытый слоями пыли, проводил время в пренебрежении и забвении. Но — увы! — где та Гирибала, которая могла обрадоваться, узнав о его судьбе! В тот день, когда Шошибхушон наконец закрыл этот том законов, он вдруг заметил, что Гирибала не приходит. Тогда он стал понемногу, с трудом, восстанавливать в своей памяти историю последних дней. Он вдруг вспомнил, как однажды на рассвете Гирибала пришла к нему со свежими, влажными цветами бакуль в подоле. При ее появлении он даже на мгновение не оторвался от книги. Видя это, она в первый момент как будто смутилась, но затем вынула воткнутую в подол иголку с ниткой и, усевшись, стала плести гирлянду. Делала она это очень медленно, и, когда кончила, было уже под вечер, ей надо было возвращаться домой, а Шошибхушон все еще не отрывался от книги. Гирибала, положив готовую гирлянду на кушетку, с грустным видом вышла из комнаты. Он вспомнил, как ее самолюбие со дня на день сказывалось все сильнее: как она потом перестала уже заходить к нему, а лишь изредка проходила по улице мимо его дома; несколько же дней тому назад она и вовсе перестала появляться. Глубоко вздохнув, Шошибхушон, словно в каком-то отчаянии, прислонился спиною к стене. Даже его книги опостылели ему, раз не было его маленькой ученицы. Он вытаскивал из груды то одну, то другую книгу, но, лениво перелистав, клал ее обратно. Он принимался писать, но вдруг бросал и в тревоге начинал смотреть в окно. Он беспокоился, не случилось ли что-нибудь с Гирибалой. Кружным путем наведя справки, он узнал, что его беспокойство было напрасно: она здорова, но не выходит теперь из дома. Ей уже подыскан жених, и скоро предстоит свадьба. На следующий день после того, как Гирибала разорвала в клочки свой «Чарупатх»[120] и усеяла его обрывками грязную деревенскую улицу, она, ранним утром, наложив в подол разных сластей, торопливо двинулась в путь. Хоркумар, всю ночь не спавший из-за жары, с самого рассвета сидел у дверей, с обнаженным туловищем, и курил. Он остановил Гирибалу: «Куда ты идешь?» Гири ответила: «К Шоши-даде». Хоркумар стал ее бранить: «Не пойдешь к Шоши-даде. Сиди дома. Девица в возрасте, скоро переселяется к свекру, а стыда не знает». С этого дня Гири-бала не выходила. Так ей и не удалось сломить его надменности. Сгущенный манговый сок, бетель и апельсины вернулись по своим местам. Идут дожди, цветы бакуль опадают; спелые гуавы висят на деревьях; птицы расклевывают зрелые сливы, усеявшие землю. Увы, того ветхого «Чарупатха» уже нет!7
В тот день, когда деревня оглашалась звуками флейт в честь свадьбы Гирибалы, Шошибхушон, не приглашенный на торжество, плыл по реке по направлению к Калькутте. С тех пор как Хоркумар взял назад из суда свою жалобу на сахиба, он возненавидел Шошибхушона. Он был убежден, что Шошибхушон его презирает; он видел тысячи признаков этого презрения в лице, в выражении глаз, во, всех манерах Шошибхушона. Все в деревне понемногу забывали об его позоре; только Шошибхушон, наверное, не забыл, и Хоркумар с тех пор боялся показаться ему на глаза. Один вид Шошибхушона' вызывал в нем мучительный приступ стыда и злобы. Хоркумар решил, что надо будет удалить Шошибхушона из деревни. Удалить из деревни такого человека, как Шошибхушон, дело нетрудное; принятые меры вскоре увенчались успехом. Однажды утром Шошибхушон погрузил на лодку ящик ç книгами и пару сундуков. Та нить, которая раньше связывала его с деревней, перерезана сегодняшней церемонией. Как крепко эта тонкая нить обвила его сердце, он до этого дня и не подозревал. Но сегодня; когда его лодка отчалила и стали скрываться из виду вершины знакомых деревьев и все глуше доносились звуки, свадебной музыки, внезапно грудь его словно переполнилась слезами, что-то сдавило горло, жилки на висках учащенно забились, и вся картина мира расплылась перед ним обманчивым миражом теней. Дул сильный противный ветер, и, хотя они плыли по течению, лодка лишь медленно подвигалась вперед. В это время на реке произошло событие, прервавшее путешествие Шошибхушона. На реке недавно' открыта была новая пароходная линия. Новенький пароход, с шумом вращая колесами и поднимая ими волны, шел вверх по реке. Управлял пароходом молодой капитан-сахиб. Среди пассажиров было несколько человек из деревни Шошибхушрна: Индийский баркас, груженный джутом, давно уже старался перегнать пароход и то нагонял его, то снова отставал. Лодочник постепенно все больше входил в азарт. Он надставил на первый парус второй, а затем над вторым — еще маленький, третий. Под напором ветра высокая мачта баркаса нагнулась вперед, а разрезаемые волны весело зажурчали в бешеной пляске вдоль бортов баркаса, помчавшегося, словно лошадь, закусившая удила. В одном месте река поворачивала. Воспользовавшись этим, баркас бросился наперерез пароходу и, наконец, обогнал его; капитан, опершись на перила, с видимым интересом наблюдал за происходящим. Когда баркас достиг предела своей скорости и на несколько локтей обогнал пароход, сахиб внезапно схватил ружье и выстрелил, целясь во, вздутый парус баркаса. В мгновение ока парус был разодран ветром в клочки, баркас перекувырнулся, а пароход исчез за поворотом реки.. Трудно сказать, чем вызван был поступок капитана. Нам, бенгальцам, трудно понять, что доставляет удовольствие англичанину. Быть может, он не мог вынести победы бенгальского баркаса в состязании; быть может, было какое-то жестокое сладострастие в зрелище большого, вздувшегося паруса, мгновенно раздираемого в клочья; быть может, было в этом какое-то дьявольское веселье: сразу оборвать игру бойкого суденышка, пустив в него несколько пуль. Но несомненно одно: англичанин был уверен, что не понесет никакого наказания за свою шутку и что как владелец баркаса, так и его команда, собственно говоря, не люди. Шошибхушон видел все, что произошло, из своей лодки… Он поспешил к месту происшествия и вытащил из воды владельца баркаса и матросов; не удалось найти лишь повара, который находился в момент крушения внутри и занят был растиранием пряностей. Переполненная река бурно неслась вперед. У Шошибхушона кровь, кипела в жилах. Правосудие движется медленно— оно подобно громоздкой железной колеснице. Оно взвешивает, собирает показания и с невозмутимым равнодушием налагает наказания; в нем не бьется живое человеческое сердце. Но Шошибхушону представлялось, что наказание так же естественно неотделимо от гнева, как выполнение — от желания или насыщение — от голода. Есть целый ряд преступлений, которые требуют от свидетеля их немедленного возмездия, уклонившегося же от него неизбежно ждет возмездие с тех небес, что таятся внутри его души. В таких случаях утешаться ссылкою на грядущее правосудие — постыдно. Но — увы! — машина правосудия, как и машина парохода, была на стороне капитана. Не знаю, имело ли это приключение еще какие-нибудь благодетельные результаты, но индийскую меланхолию Шошибхушона оно лишь укрепило. Шошибхушон вернулся со спасенными в деревню. Он послал затем несколько человек разыскивать груз джута, бывший на баркасе, и потребовал у владельца баркаса, чтобы тот подал жалобу на капитана в полицию. Лодочник наотрез отказался. Он говорил: — Баркас потонул, неужели теперь я сам себя топить буду? Во-первых, надо будет платить в полицию, затем поминутно бегать в суд, забросивши все дела, забыв о сне и еде; наконец, чем кончится дело против сахиба — один бог знает. Но когда он услышал от Шошибхушона, — что тот сам вьь ступит в качестве адвоката, возьмет на себя судебные издержки и что вполне возможно удовлетворение денежного иска, он, наконец, согласился. Но односельчане Шошибхушона, ехавшие на пароходе, отказались давать какие-либо показания. Они сказали Шошибхушону: — Да мы ведь, господин, ничего не видели. Мы были на корме парохода, и из-за шума машины и плеска волн мы даже и выстрела-то не слыхали. Шошибхушон, мысленно проклиная своих соотечественников, явился в суд и подал жалобу. В свидетелях надобности не оказалось. Капитан признал, что выстрелил из ружья. Он сказал, что увидел в небе стаю журавлей и нацелился в них. Пароход в это время шел полным ходом и как раз вошел в такое место, где река заворачивает. Следовательно, — он ничего не знает: ворона- ли была убита, или журавль, или же баркас перевернулся. В воздухе и на земле достаточно есть интересной для охотника добычи, и никто в здравом уме и твердой памяти не станет тратить выстрела, хотя бы в четверть пайсы ценою, на какую-то грязную тряпку. Сахиб был оправдан и по окончании судоговорения закурил папироску и отправился в клуб. Труп матроса, растиравшего пряности в баркасе, найден был выброшенным на берег на расстоянии девяти миль от места происшествия, а Шошибхушон с разбитым сердцем вернулся в деревню. В тот день, когда Шошибхушон вернулся, для Гирибалы снаряжена была лодка для отправки ее в дом свекра. Хотя его никто не приглашал, он побрел к берегу. Там была большая толпа, и он, отойдя в сторону, остановился у самой воды. Лодка, отчалив, проехала перед ним, и он увидел с волнением, что Гирибала, натянув гомту на лицо, сидит со склоненной головой. Она все надеялась, что перед ее отъездом ей каш нибудь еще удастся повидаться с Шошибхушоном; но теперь она не могла знать, что ее учитель так близко стоит на берегу и смотрит на нее. Она так и не подняла головы, и не посмотрела, — лишь беззвучно плакала, и по щекам ее текли слезы. Наконец, лодка, удаляясь, скрылась из виду. На воде засверкали солнечные лучи, в ветвях над головой потекла непрерывной струей песнь папии, словно не могшей излить весь свой пыл; перевозчик отчалил с первой партией своих пассажиров, женщины вышли на берег за водою, громко обсуждая отъезд Гирибалы. Шошибхушон снял очки и, вытирая слезы, вернулся в свой домик за оградой на краю дороги. Вдруг ему померещилось, словно он слышит голос Гирибалы: «Шоши-дада!» Увы! Где она? Нигде ее нет, ни в доме, ни на дороге, ни даже в деревне — лишь в его переполненном слезами сердце!8
Шошибхушон снова, собрал свои пожитки и отправился в Калькутту. Дела у него в Калькутте не-было; ехать ему туда было собственно незачем, поэтому он снова, решил поехать рекою, а не по железной дороге. В это время период дождей[121] был в самом разгаре, и Бенгалия покрылась сетью извилистых водяных потоков, больших и малых. Словно все кровеносные сосуды бенгальской почвы, переполнились, и деревья и лианы; травы, и кустарники, рисовые и джутовые поля и тростники — все расцвело в изобилии буйной юности, словно сбросив путы. Лодка Шошибхушона поплыла по этим узким, извилистым ручейкам, переполненным водою до краев. Луга, а во. многих местах и рисовые поля залиты был водою. Вода близко подступила к деревенским заборам и манговым садам, словно водные божества позаботились обвести оросительными каналами корни деревьев по всей Бенгалии. В начале путешествия солнце весело отражалось от влажной травы, и листьев, но вскоре небо затянуло тучами и полил дождь. Куда ни посмотришь, все кругом беззащитно и печально. Как коровы, во, время половодья сбиваются в кучу посреди грязного узкого двора и с жалобным взглядом терпеливо мокнут под струями дождей шрабона, так мать-Бенгалия с грустным видом терпеливо. стояла среди своей затопленной пустыни в потоках дождя. Крестьяне ходили в соломенных шляпах, женщины, ежась на холодном ветру, переходили через улицы по хозяйственным делам или, осторожно ступая по скользкому берегу, выходили за водою к реке; домохозяева сидели на крыльце и курили, а при крайней необходимости отваживались выйти, обернув кусок полотна вокруг бедер и с зонтиком над головой. Подержать зонтик над головой жены или хотя бы вообще дать ей зонтик — не принадлежит к числу славных традиций нашей то сжигаемой солнцем, то затопляемой дождями страны: Дождь не ослабевал, и Шошибхушону, наконец, все это надоело; он решил пересесть на поезд. В одном месте, при впадении одной реки в другую, он привязал лодку и вышел поискать чего-нибудь съестного. Когда хромой попадает в яму, вина не только на стороне ямы; ногу хромого вообще тянет к яме. Образцом может служить поведение Шошибхушона в этот день. В месте слияния двух рек рыбаки выставили громадную сеть, привязав ее к прибрежным бамбукам. Только с одной стороны оставался открытый проезд для лодок. Рыбаки уже давно арендовали это место и вносили за аренду причитающуюся плату. На беду, понадобилось проехать этой дорогой старшему полицейскому инспектору. Когда он подъезжал, рыбаки издали криками обратили его внимание на сеть и предупредили его о необходимости проехать боком. Но лодочник сахиба не привык считаться с какими-либо препятствиями, исходящими от людей, и направил лодку поперек, над сетью. Лодка свободно прошла было, но весло застряло и, чтобы вытащить его, потребовалась бы остановка на некоторое время. Сахиб-инспектор вышел из себя и велел причалить к берегу. Увидев его, рыбаки поспешно разбежались во все стороны. Сахиб приказал гребцам разрезать сеть, и они тотчас же разрезали на куски эту громадную сеть, стоимостью в 700–800 рупий. Отведя свой гнев на сети, сахиб приказал привести к нему рыбаков. Полицейские, не найдя виновных рыбаков, задержали первых четырех, попавшихся им под руку, и привели их к сахибу. Сложив молитвенно руки, рыбаки жалобно стали умолять сахиба, чтобы он отпустил их, говоря, что они ничего не знают. Сахиб приказал взять пленников в лодку. В это мгновение Шошибхушон, в пенсне и в рубашке, на которой он не успел застегнуть пуговицы, шлепая туфлями, запыхавшись, подбежал к лодке сахиба и дрожащим голосом сказал: — Сэр, вы не вправе были разрезать рыбачью сеть и не вправе мучить этих несчастных четырех человек. Сахиб ответил Шошибхушону нелестным замечанием на языке хинди; недослушав его, Шошибхушон спрыгнул с высокого берега в лодку, бросился на сахиба и стал колотить его, словно сумасшедший. Что произошло после этого, Шошибхушон не знал. Очнулся он в участке, и вряд ли нужно говорить, что его телесное и душевное самочувствие не показалось ему отрадным.9
Отец Шошибхушона нанял адвоката и прежде всего добился освобождения сына на поруки… Затем начались хлопоты в связи с судебным процессом. Рыбаки, которые пострадали в тот день, принадлежали к тому же округу, как и Шошибхушон, и подвластны были все одному и тому же заминдару. Они стали являться к Шошибхушону за юридическими советами. Точно так же и рыбаки, арестованные сахибом, были ему знакомы. Шоши вызвал их и сообщил им, что сошлется на них, как на свидетелей. Они страшно перепугались. Они ведь не аскеты, они люди семейные; где им искать спасения, если они поссорятся с полицией? У каждого в теле ведь только одна душа! Убыток они потерпели — это верно; но неужели нужно навлекать на себя новые убытки? Они сказали: — Господин, ты вовлек нас в беду. После долгих переговоров они согласились показать правду. Между тем Хоркумар, придя однажды в суд с обычными своими саламами, услышал от полицейского надзирателя следующие слова: — Наиб-бабу, говорят, что твои арендаторы собираются давать ложные показания против полиции. Наиб с изумлением ответил: — Неужели? Этого быть не может! Неужели эти негодяи способны на что-либо подобное! Читатели газет знают, чем кончился процесс Шошибхушона. Рыбаки все в один голос показали, что сахиб даже не прикасался к их сети, а что он только вызвал их к себе в лодку и записал их имена и адреса. Но этого мало. Несколько односельчан Шошибхушона, его знакомых, показали, что они в это время совершали свадебную поездку и находились вблизи от места происшествия. Они видели, что Шошибхушон вдруг появился и без всякой причины нанес оскорбление полицейскому инспектору. Шошибхушон признал, что вошел в лодку и нанес удар инспектору после того, как был им оскорблен, но главной причиной его поведения было то, что инспектор велел разрезать сеть и арестовал безвинных рыбаков. При этих условиях вполне естественно, что Шошибхушону был вынесен обвинительный приговор. Его оскорбительное отношение к инспектору, самочинное вторжение, оказание сопротивления законным действиям властей — это было не мало. Шошибхушон должен был, покинув свой домик и свои любимые книги, провести в тюрьме пять лет. Его отец вознамерился было подавать кассационную жалобу, но Шошибхушон этому воспротивился. Он сказал: — Я рад заключению. Железная ограда не лжет. Я попал в беду потому, что обманут был свободою вне тюрьмы. Ты думаешь, что в тюрьме плохая компания, но в тюрьме меньше лжецов и неблагодарных хотя бы уже потому, что в ней места меньше. На воле же их гораздо больше!10
Вскоре после того, как Шошибхушон заключен был в тюрьму, скончался его отец. Других близких родственников у него не было. Правда, у него был брат, работавший в Центральных Провинциях[122], но он жил там уже давно, построил себе там дом, обзавелся семьей и на родину возвращаться не собирался. Имущество, бывшее у Шошибхушона в деревне, Хоркумар при помощи разных уловок и ухищрений перевел в свою собственность. Волею судьбы Шошибхушону пришлось перенести все те страдания, которые связаны с тюремным заключением, в размерах, превышающих обычные. И все же эти пять долгих лет, наконец, истекли. Снова был день периода дождей, когда Шошибхушон, исхудавший, с пустотою в сердце, покинул стены тюрьмы. Ему возвращена была свобода, но больше у него на свете никого и ничего не было. Бездомному и одинокому Шошибхушону мир казался бесприютной пустыней. Остановившись у ворот тюрьмы, он размышлял, как ему снова завязать оборванную нить жизни; вдруг перед ним остановилась карета, запряженная парой лошадей. Из нее вышел лакей и спросил: — Ваше имя Шошибхушон-бабу? Он ответил: — Да. Лакей открыл дверцу кареты и попросил его сесть. Изумленный Шошибхушон спросил: — Куда я поеду? Тот ответил: — Наши вас приглашают к себе. Шошибхушону невыносимо становилось любопытство прохожих, начинавших останавливаться вокруг них, и он вошел в карету. «Вероятно, это ошибка, — подумал он. — Ну, что ж, куда-нибудь поеду; может быть, эта ошибка и будет предисловием к моей новой жизни». В этот день также шла в небе игра Облака и Солнца, и по сторонам дороги темно-зеленые рисовые поля, намокшие от дождя, пестрели сменою света и теней. Невдалеке от рынка стояло большое дерево, и вблизи от него группа нищенствующих паломником-вайшнавитов[123] с лютнями и барабанами, стояла перед дверьми лавки и пела:Вернись, вернись, вернись, владыка, вернись!
В мое голодное, жаждущее, горящее сердце, о друг, вернись!
О, жестокий, вернись, о мой нежный, вернись,
О прекрасный, как туча дождевая, вернись!
В мою жизнь, в мое счастье вернись, в мое вечное горе вернись!
В мое счастье и горе, в бедность и богатство вернись!
Мой давно желанный, мой давно любимый, вернись!
О, неверный, о вечный, в кольцо рук моих вернись!
На мою грудь вернись, в очи мои вернись!
В ночи и дни мои вернись, во всю жизнь мою вернись!
В мой смех вернись,
В мои слезы вернись,
В мою любовь, в мое притворство,
В мою гордость вернись!
В мою память вернись, в мою работу вернись,
В мою веру, в мое дело, в мою нежность, в мой стыд,
в мою жизнь, в мою смерть вернись!
Вернись, вернись, о, вернись!
Судья
1
Когда, после ряда превратностей судьбы, достигши 38-летнего возраста, Кхирода увидела, что муж, в доме которого она, казалось, нашла успокоение, бросил ее, как старое платье, то искать себе снова жизненный приют ради куска хлеба показалось ей невыносимо унизительным. Когда кончается молодость, наступает в жизни человека осенняя пора, исполненная глубокого мира и красоты, — созревает жатва жизни. Тогда все весенние тревоги юности теряют свой смысл. К этому времени человек заканчивает постройку своего жилья в мире, куда он пришел. Созревши в лишениях и достижениях, в счастье и горе, внутренняя личность человека приобретает устойчивость; наши стремления покидают недоступный, обманчивый мир ложных надежд и возвращаются в тесные домашние стены скупо отмеренных нам сил; тогда нас не влечет уже восторженный взор новой любви, и мы начинаем лучше ценить прежнюю. Грация и свежесть юности исчезают, но нестареющая внутренняя личность за истекшее долгое время нашла более отчетливое свое выражение в лице, в глазах; улыбка, взгляд, голос — все пронизано ею. Мы перестаем тогда надеяться на до, что нам не дано, перестаем скорбеть о тех, что нас покинули, прощаем тех, что нас обманули, научаемся любить тех, кто нам близок; мы сближаемся теснее с теми, кто остался у нас после всех бурь, мучений и разлук, и, создав себе надежное гнездо в кругу прочной, испытанной, давней дружбы, примиренно отказываемся от всяких поисков и вожделений. Но те, кто на склоне жизни обречены все еще хлопотать и заботиться о накоплении, о знакомствах, об обманчивых связях с людьми; те, кто и тогда еще не уготовили себе ложа отдыха, кому и тогда еще не зажжен вечерний светильник при возвращении домой, — те, поистине, несчастные из несчастных. В тот день, когда Кхирода, проснувшись утром, увидела, что ее супруг накануне сбежал, взяв с собою все ее драгоценности и деньги, убедилась, что ей нечем платить за квартиру и не на что купить молока мальчику, когда она подумала о том, что на тридцать девятом году она никого не может назвать своим, что у нее нет дома, где она могла бы жить и умереть; когда ей пришло в голову, что теперь ей снова, придется, отерев слезы, смазать глаза коллирием, выкрасить лаком губы и щеки и, скрывая всяческими уловками свой действие тельный возраст, весело улыбаясь, с бесконечным терпением расставлять вновь. свои сети для уловления новых сердец, — тогда Она, заперши дверь, бросилась на пол и провела весь день без еды, словно умирающая. Настал вечер; в неосвещенной комнате сгущался мрак. В это время случайно один прежний поклонник подошел к двери и стал стучаться, называя ее по Имени; Кхирода, с метлой в руке, бросилась к двери и распахнула ее, разъяренная, как тигрица, и непрошеный гость, не ожидавший такого приема, поспешил удалиться.
Мадьчик, который раньше плакал от голода и заснул, лежа под кроватью, проснулся от шума и, испуганный темнотою, еле слышным голосом, плача, стал звать: «Мама, мама».
Тогда Кхирода, крепко прижав к груди плачущего ребенка, выбежала с быстротою молнии из дома и бросилась в соседский колодец.
Услышав плеск, соседи, со светильниками в руках, сбежались к колодцу и быстро вытащили ее и ребенка, Кхирода была без сознания, а ребенок захлебнулся, и вернуть его к жизни уже не удалось.
В больнице Кхирода вскоре поправилась, но судья поместил ее в тюрьму по обвинению в убийстве ребенка.
В тот день, когда Кхирода, проснувшись утром, увидела, что ее супруг накануне сбежал, взяв с собою все ее драгоценности и деньги, убедилась, что ей нечем платить за квартиру и не на что купить молока мальчику, когда она подумала о том, что на тридцать девятом году она никого не может назвать своим, что у нее нет дома, где она могла бы жить и умереть; когда ей пришло в голову, что теперь ей снова, придется, отерев слезы, смазать глаза коллирием, выкрасить лаком губы и щеки и, скрывая всяческими уловками свой действие тельный возраст, весело улыбаясь, с бесконечным терпением расставлять вновь. свои сети для уловления новых сердец, — тогда Она, заперши дверь, бросилась на пол и провела весь день без еды, словно умирающая. Настал вечер; в неосвещенной комнате сгущался мрак. В это время случайно один прежний поклонник подошел к двери и стал стучаться, называя ее по Имени; Кхирода, с метлой в руке, бросилась к двери и распахнула ее, разъяренная, как тигрица, и непрошеный гость, не ожидавший такого приема, поспешил удалиться.
Мадьчик, который раньше плакал от голода и заснул, лежа под кроватью, проснулся от шума и, испуганный темнотою, еле слышным голосом, плача, стал звать: «Мама, мама».
Тогда Кхирода, крепко прижав к груди плачущего ребенка, выбежала с быстротою молнии из дома и бросилась в соседский колодец.
Услышав плеск, соседи, со светильниками в руках, сбежались к колодцу и быстро вытащили ее и ребенка, Кхирода была без сознания, а ребенок захлебнулся, и вернуть его к жизни уже не удалось.
В больнице Кхирода вскоре поправилась, но судья поместил ее в тюрьму по обвинению в убийстве ребенка.
2
Судью зовут Мохит Мохан Дотто. Он присудил Кхироду к повешению. Ссылаясь на тяжелое положение обвиняемой, адвокаты пытались спасти ее жизнь, но это не удалось. Судья не усматривал никаких смягчающих ее вину обстоятельств. Для этого у него были особые основания. Он, правда, называл индийских женщин богинями, но это не мешало ему питать к женскому полу сильнейшее недоверие. Он находил, что женщины в высшей степени склонны к нарушению семейных уз и что, если правосудие будет хотя в малейшей степени потакать им в этом, в обществе не останется ни одной порядочной женщины. Для того чтобы понять источник этого его убеждения, нам придется рассказать страницу из истории его молодости. Когда Мохит был на втором курсе колледжа, его внешность и манеры были очень непохожи на теперешние. Теперь у него спереди лысина, а сзади — тики[125]. Лицо его брито, и ежедневно утром он острым лезвием старательно уничтожает зародыши усов и бороды; тогда же он был 19-летним красавцем, в золотом пенсне, с усами и бородой, и причесывался на английский манер. Он очень следил за своими костюмами, не пренебрегал вином и мясом, и всем прочим, тому подобным. Недалеко от него жило одно семейство, в котором имелась девочка-вдова[126], по имени Хэмшоши. Ей было не более четырнадцати-пятнадцати лет. Когда в море вы. видите на горизонте берег, синеющий лесами, подобный сновидению, то вступать на него без всякой проверки было бы чрезмерной доверчивостью. Вдовство удалило Хэмшоши на такое расстояние от жизни, что мир стал казаться ей словно каким-то таинственным, волшебным лесом по ту сторону вод. Она не знала, как запутан и тяжел механизм этого мира, как в нем счастье и удача перемешаны со страданием и безнадежностью. Ей казалось, что жизненное странствие совершается подобно бесшумному течению прозрачной реки; ей казалось, что все дороги на этой земле открыты и легки, что весь мир за окном дышит счастьем, а безрадостное томление — удел только ее бьющегося, истомленного сердца. Как раз в то время с горизонта ее души повеял ветер юности, одевший весь мир пышною весеннею красою; лазурь небес, казалось, наполнена была биением ее сердца, а земля, как нежный красный лотос, распускала во все стороны лепестки своей благоухающей тайны. Семья состояла, кроме нее, из отца и матери и двух маленьких братьев. Братья утром, позавтракав, отправлялись в школу, а придя из школы и пообедав, направлялись в вечернюю школу в соседнем квартале готовить уроки. Отец получал небольшое жалованье, и у них не было средств нанять репетитора. В свободное от хозяйства время Хэм сидела у окна в своей безлюдной комнате и наблюдала людской поток, катившийся перед нею по улице. Она слышала громкие выкрики разносчиков, и ей думалось, как счастливы прохожие, какой завидной свободой обладают даже нищие, а разносчики с их тяжелым трудом казались ей лишь актерами на праздничной сцене людной улицы. По утрам и по вечерам под окном проходил одетый с иголочки, с выпяченной грудью, Мохит Мохан. Он казался ей счастливее и привлекательнее всех. Ей казалось, что этот гордый, прекрасно одетый, красивый юноша имеет или может иметь все, что пожелает. Как девочка играет с куклами, воображая их живыми людьми, так Хэм, украсив Мохита всеми возможными совершенствами, игрою воображения создала себе из него божество., Не раз по вечерам она видела, что его окна ярко освещены и из них доносится позванивание запястий и женское пение. Так она проводила долгую ночь у окна, наблюдая жадным взором за мелькающими в его окнах тенями. Ее наболевшее сердце неукротимо билось о грудь, словно птица о прутья клетки. Может быть, она упрекала свое самодельное божество за это веселье? Ничуть. Как огонь притягивает бабочку благодаря своему сходству со звездами, так для Хэмшоши освещенные, наполненные звуками музыки и веселья окна Мохита сливались в какое-то райское видение. Сидя глубокой ночью в одиночестве, она из этого света, теней и звуков, из томления и мечтаний своего сердца соткала в своем воображении какое-то волшебное царство, и, возведя на его трон своего кумира, сжигая перед ним, как ладан, свою юность, счастье и горе, настоящее и будущее на углях своего желания, — служила ему в этом своем безлюдном, молчаливом храме. Она не знала о том, что за этими таинственными окнами, в этом хороводе счастья царят отвращение, усталость, тоска; не знала, какой горит угрюмый, ядовитый огонь порока. Ей не было издали видно, что в этом бессонном ночном сверкании идет бессердечная, свирепая, дьявольская, смертельная игра. Так Хэм могла бы, сидя в одиночестве у своего окна и мечтая об этом призрачном рае и воображаемом своем божестве, еще долго, как во сне, проводить дни за днями; но, увы, божество смилостивилось, и рай опустился на землю. Как только рай прикоснулся к земле, он внезапно исчез, а та, что все эти дни питала его своим воображением, смешалась с земным прахом. Как на эту восторженную девочку, сидящую у окна, случайно упали блуждающие взгляды Мохита; как он написал ей за подписью Бинод Чандр, изменив свой почерк, несколько писем и под конец получил робкое, тревожное, горячее ответное письмо с большим количеством орфографических ошибок; какая затем поднялась буря внутренних борений, радости и страха, сомнений и отчаяния; как после этого словно весь мир начал вращаться вокруг нее в упоении гибели и постепенно расплывался в бесплотную тень; как, наконец, однажды вращающееся мировое колесо центробежною силою внезапно далеко отбросило ее в сторону, — всего этого мы не считаем нужным излагать здесь подробно. Однажды глубокой ночью Хэмшоши, покинув отца, мать, братьев и дом, села в экипаж вместе с Мохитом, известным ей под именем Бинода Чандра. Когда божество очутилось рядом с ней во всем своем земном обличии и со всеми своими земными аксессуарами, Хэмшоши захотелось умереть от стыда. Наконец, когда они тронулись, она плача обняла ноги Мохита и сказала: — Умоляю тебя, отпусти меня домой. Мохит, забеспокоившись, зажал ей рот, а экипаж быстро помчался вперед. Как перед умственным взором утопающего проходят в мгновение ока все события его прежней жизни, так Хэмшоши во мраке запертой кареты стала вспоминать, как каждый день утром отец дожидался ее к завтраку, как она кормила своего маленького братца после его возвращения из школы, как она по утрам приготовляла пан[127] вместе со своей матерью и как пополудни мать ее причесывала. Все уголки их квартиры, все потребности ежедневного уклада жизни — все это засветилось в ее воображении; ей казалось, что это — ее потерянный рай. Приготовление пана, причесывание, обмахивание отца веером во время еды, шалости братцев — все стало казаться ей исполненным мира, недостигаемым счастьем; она не могла понять, что могло ей быть еще нужно в мире, когда она имела все это! Она подумала о том, что теперь все девушки в семьях спят глубоким сном. Она раньше никогда не подозревала, какое счастье — спокойно спать у себя на постели в тишине ночи. Завтра рано утром женщины поднимутся и возьмутся за домашние дела; эта бессонная ночь бездомной Хэмшоши тоже будет иметь свое утро; и когда этим безрадостным утром знакомый, мирный, улыбающийся лик солнца осветит их маленький домик на краю их улицы, какие в нем поднимутся плач и возгласы боли и стыда! Сердце Хэмшоши разрывалось, и с рыданием, умоляющим голосом, она сказала: — Теперь ведь еще ночь; мать, отец и братья еще спят. Отвези меня поскорее назад! Но божество, не обращая внимания на ее слова, ввело ее в наполненный дребезжанием и стуком колес вагон 2-го класса и повезло навстречу тому раю, о котором она столько дней мечтала. Немного времени спустя божество. и рай снова уселись в вагон 2-го класса и отправились в неизвестном направлении, покинув Хэм по горло в безысходном отчаянии позора.3
Мы остановились здесь только на одном событии из истории молодости Мохита; о других мы умолчим во. избежание монотонности в нашем повествовании. В упоминании всех этих других событий, впрочем, нет и надобности. Вряд ли теперь кто-нибудь помнит еще имя Бинода Чандра. Мохит стал теперь степенен и благочестив, ежедневно справляет религиозные церемонии и сыплет цитатами из шастр; своих детей он обучает йогическим упражнениям[128], а женщин в своем доме держит взаперти во. внутренних комнатах, недоступных даже солнцу, луне и ветру. Совершив некогда ряд преступлений по отношению к женщинам, он теперь считает нужным особенно сурово, карать женские преступления против общественной морали. Через два-три дня после вынесения им смертного приговора над Кхиродой судья — большой гастроном, — выбрав себе овощей в тюремном огороде, решил навестить тюрьму: ему любопытно было посмотреть, раскаивается ли Кхирода в своем преступлении. Он вошел в помещение для арестанток. Еще издали он услышал шум и крики. Войдя в камеру, он увидел, что Кхирода затеяла ссору с надзирательницей. Мохит усмехнулся, подумав:. «Вот женская природа! Перед лицом смерти — и то не упустит случая поскандалить! Этакая еще и в царстве Ямы[129] заведет спор с его слугами». Он решил, что упреками и наставлением вызовет у нее раскаяние. Едва. успел он приблизиться к ней с этой благою целью, как Кхирода, бросившись перед ним на колени и сложив умоляюще руки, жалобным голосом сказала: — Господин судья, сделайте милость! Скажите ей, чтобы она отдала мне мое кольцо! Спросив, в чем дело, он узнал, что надзирательница случайно заметила спрятанное у Кхироды в волосах кольцо и хотела его у нее отнять. Мохит снова, усмехнулся про себя. Этой женщине сегодня еще предстоит казнь; а она не может отказаться от этой безделушки! Поистине, для женщины украшения дороже жизни. Он сказал надзирательнице: — Покажи-ка мне кольцо! Надзирательница отдала кольцо ему. Он вдруг отпрянул, словно взял в руку горящий уголь. На внутренней стороне кольца, на фоне из слоновой кости, нарисован был масляными красками миниатюрный портрет молодого человека с бородою и усами, а с наружной стороны золотыми буквами выведено было: Бинод Чандр. Тогда, подняв глаза от кольца, Мохит внимательно посмотрел на Кхироду, и перед ним всплыло залитое слезами, светящееся нежностью, пылающее стыдом лицо, виденное им двадцать четыре года тому назад: сходство несомненно! Мохит снова. взглянул на надпись, а когда он после этого медленно поднял глаза, эта падшая, преступная женщина, в сиянии маленького золотого кольца, засверкала перед ним каким-то нестерпимым блеском, как золотое изваяние богини. 1894Тетрадь
После того как Ума научилась писать, с ней просто сладу никакого не стало: в доме на всех стенах она выводила углем кривые, неровные строчки: «дождь идет», «лист дрожит». Обнаружив под подушкой у невестки «Секреты Хоридаша»[130], она написала на полях книги: «черная вода», «красный цветок». В новом астрологическом календаре, которым пользовались домашние, большинство, важных для предсказания звезд она замазала своими каракулями. В расходной книге отца, среди всяких цифр и подсчетов, Ума тоже оставила на память о себе изречение: «Кто пишет и читает, тот в карете разъезжает». До поры до времени никто не мешал ее творческим порывам, но однажды с Умой случилась большая неприятность. Старший брат ее, Гобиндолал, на вид человек весьма невзрачный, сотрудничал в газетах. После разговора с ним ни у кого из родных и знакомых не возникало иллюзий относительно его мудрости. И действительно, в этом грехе его никак нельзя было обвинить. Но зато он писал в газетах, и его мнение полностью совпадало с мнением большинства бенгальских читателей. Однажды, узнав, что в работах европейских ученых по анатомии имеются серьезные ошибки, Гобиндолал, не прибегая к помощи логики и пользуясь лишь могущественными средствами бенгальского языка, сочинил замечательную статью, в которой разгромил всех ученых. И вот в полдень, когда никого из домашних поблизости не было, Ума оставила над этой статьей такую надпись: «Гопал очень хороший мальчик, — что ему дают, то он и ест». Я не уверен, что под Гопалом она подразумевала читателей Гобиндолала, но тем не менее ярости брата не было границ. Сначала он побил Уму, а потом отнял у нее все письменные принадлежности — ничем не замечательные, но приобретенные с огромным трудом: маленький огрызок карандаша и дешевенькую ручку, вымазанную чернилами. Обиженная девочка не поняла, за что ее так строго наказали, и горько плакала, сидя на полу в углу комнаты. Насладившись местью, Гобиндолал возвратил Уме отобранные вещи. Более того,испытывая некоторое раскаяние и желая утешить девочку, он подарил ей превосходную разлинованную тетрадь. Уме было только семь лет. С тех пор она бережно хранила свою тетрадь — ночью под подушкой, а днем — на коленях. Когда ей впервые заплели маленькие косы и в сопровождении служанки отправили в деревенскую школу для девочек, кое-кто из девочек позавидовал ей, кое-кто удивился, а были и такие, что даже возмутились. В первый же год Ума старательно записала в тетради: «Все птицы кричат, значит, ночь кончилась». Сидя на полу в спальне, она писала, крепко держа тетрадь рукой, а потом громко, нараспев читала свое сочинение. Так родилось немало образцов поэзии и прозы. На второй год в тетради стали появляться и произведения на свободные темы, очень краткие, очень содержательные, но — без начала и конца. Некоторые из них стоит привести здесь. После рассказа о тигре и цапле была написана одна фраза, которую нельзя найти ни в «Котхамале»[131], ни в каком-либо другом произведении современной бенгальской литературы: «Я очень люблю Джоши». Пусть никто не думает, что я собираюсь рассказать любовную историю, Джоши — не какой-нибудь одиннадцатилетний мальчик. Это — старая служанка, которую зовут Джошода. Однако по одной этой фразе не спешите судить об отношении девочки к Джоши. Тому, кто захочет доподлинно выяснить этот вопрос, я посоветую перевернуть две страницы — там он найдет утверждение, прямо противоположное этому. И так далее! В сочинениях Умы на каждом шагу встречаются несоответствия. В одном месте вы, можете прочесть: «Я поссорилась с Хори на всю жизнь» (не с Хорихороном, а с Хоридаши, школьной подругой). Однако несколько ниже следует запись, из которой вам станет совершенно ясно, что во всей вселенной нет подруги лучше Хори. Еще через год, когда девочке исполнилось девять лет, в одно прекрасное утро в доме запела флейта. День свадьбы Умы настал. Жениха звали Перимохон, и он был помощником Гобиндола-ла в его литературных делах. Несмотря на молодость и на то, что он кое-чему учился, новые идеи совершенно не проникли в его голову. Поэтому соседи считали его в высшей степени достойным человеком. Гобиндолал пытался ему подражать, но полного успеха так и не достиг. Надев бенаресское сари и спрятав под покрывалом свое маленькое личико, Ума, рыдая, ушла в дом свекра. — Слушайся свекрови, дитя мое, — напутствовала ее мать. — Делай все по хозяйству, а главное — не читай и не пиши! А Гобиндолал добавил: — Смотри не вздумай пачкать у них стены, — там это не потерпят. И никогда не пиши в бумагах Перимохона. Сердце девочки сжалось от этих слов. Она поняла, что в доме, куда она идет, ей ничего не простят, что ей придется выслушать немало попреков, прежде чем она узнает, что такое нельзя, невозможно и недопустимо. Вечером в тот же день снова запела флейта, но сомневаюсь, понимал ли по-настоящему хоть один человек на свете, что творилось в тревожно колотившемся сердечке девчушки в бенаресском сари и драгоценностях, на лицо которой опущено покрывало. Джоши тоже ушла с Умой. Было решено, что несколько дней она пробудет вместе с девочкой в доме свекра. После долгих размышлений добрая Джоши взяла с собой и тетрадь. Эта тетрадь, исписанная кривыми, неровными буквами, — часть отцовского дома, радостное воспоминание о недолгом времени, проведенном в родной семье, коротенькая история тех дней, когда отец и мать баловали ее, — стала для Умы как бы маленькой частицей свободы, столь желанной детскому сердцу. Первые дни в доме свекра Ума ничего не писала — для этого у нее не было времени. Но спустя неделю Джоши отправилась обратно домой, и в тот же день Ума закрыла дверь в спальню, достала тетрадь из жестяной коробки и, обливаясь слезами, записала: «Джоши ушла домой, я тоже уйду к маме». Теперь она не могла переписывать целые истории из «Чарупата»[132] и «Бодходоя». Да, я думаю, и не хотела. Зато краткие изречения следовали одно за другим. За первой строчкой шла другая: «Если дада[133] возьмет меня домой, я больше никогда не буду портить его бумаги». Отец Умы хотел, чтобы время от времени девочка гостила у него, но, по слухам, этому воспротивились Гобиндолал и Перимохон. Гобиндолал заявил, что Ума должна научиться уважать своего мужа и что родительская ласка и баловство только помешают ей. Он написал по этому поводу такую прекрасную статью, пересыпав ее практическими советами и шутками, что никто из его читателей-единомышленников не усомнился в непререкаемой мудрости автора. Узнав об этом, Ума написала в своей тетради: «Дада, припадаю к твоим ногам, возьми меня в свой дом, я больше никогда не буду сердить тебя». Однажды Ума сидела у себя в комнате, плотно закрыв двери, и что-то писала в свою тетрадь. Сестра ее мужа, Тилокмонджори, девица весьма любопытная, решила: «Надо посмотреть, зачем это она закрывает дверь? Что она там делает?» Она посмотрела в дверную щелку и увидела, что Ума сидит и пишет. Тилокмонджори очень удивилась. Никогда прежде Сарасвати[134] не прокрадывалась во. внутренние покои их дома] Ее младшая сестра, по имени Конокмонджори, тоже подошла к двери и тоже стала подглядывать. За ней прибежала и самая младшая сестренка, которую звали Оноигомонджори. Приподнявшись на цыпочки и с трудом доставая до щелки, она тоже пыталась разгадать тайну закрытой двери. Ума была совершенно поглощена своим занятием, как вдруг за дверью послышался шепот трех знакомых голосов и хихиканье. Она сразу поняла, в чем дело, торопливо. сунула тетрадь в коробку и, замирая от стыда и страха, зарылась лицом в постель. Узнав об этом происшествии, Перимохон серьезно задумался. Беда, если женщина принимается за ученье! Следующим номером в доме появятся статьи и романы; и кто тогда будет заниматься домашним хозяйством? Кроме того, после глубоких размышлений он пришел к весьма поучительным выводам. Священный супружеский союз — результат соединения энергии женской и энергии мужской. Но знания ослабляют женскую энергию и приводят к тому, что в женщине начинает преобладать энергия мужская. Дальше: столкновение двух мужских энергий может вызвать взрыв, который сделает супружеский союз бессмысленным, после чего женщина неминуемо останется вдовой. Столь оригинальной теории до этого не выдвигал никто! Вечером Перимохон пришел к Уме и как следует отчитал ее. — Теперь тебе остается только заказать шамлу[135], — слегка поиронизировал он. А потом моя жена заткнет карандаш за ухо и отправится в контору! Ума не совсем понимала, о чем он говорит. Она никогда не читала статей Перимохона, поэтому чувство. юмора у нее было развито недостаточно. Но она смутилась до слез и готова. была провалиться сквозь землю. Долгое время после этого разговора Ума ничего не записывала. Но как-то осенним утром нищенка запела под ее окном песню Агомони[136]. Прижавшись лицом к решетке окна, Ума молча слушала. Она была одна, светило осеннее солнце, и ей вспомнилось детство. А тут еще песня Агомони, слушая которую Ума не могла удержаться от слез. Петь Ума не умела, но, с тех пор как она научилась читать и писать, она привыкла записывать песни. И от этого ей не было так обидно, что она не может их спеть.
Нищенка под окном пела:
Петь Ума не умела, но, с тех пор как она научилась читать и писать, она привыкла записывать песни. И от этого ей не было так обидно, что она не может их спеть.
Нищенка под окном пела:
Говорит горожанин: «О мать Умы,
Вот пришла твоя потерянная звездочка!»
Царица — вне себя от радости:
«Где Ума? Где она?»
Говорит царица сквозь слезы:
«Иди ко мне, Ума, иди, дитя мое!
Иди, я обниму тебя!»
Протянула Ума руки, обняла мать за шею
И, горько рыдая, сказала царице:
«Когда же ты возьмешь свою дочку домой?»
Голодные камни
Мы — один мой родственник и я — познакомились с ним в поезде, возвращаясь в Калькутту после праздника Пуджи, проведенного нами в странствиях по стране. По одежде мы сначала приняли его за мусульманина из западных провинций, однако его манера говорить поставила нас в тупик. Он так уверенно рассуждал буквально обо всем на свете, что казалось, будто Владыка мира, прежде чем решить что-то, обязательно советовался с ним. До сих пор мы жили в блаженном неведении относительно потрясающих событий, творящихся в мире, ничего не знали о том, что русские продвинулись далеко вперед, что англичане втайне вынашивают очень серьезные политические планы, что неурядицы среди местных раджей достигли критической точки. Но наш новый знакомый сказал с проницательной усмешкой: — На земле и в небесах есть много вещей, друг Горацио[137], о которых не сообщается в ваших газетах. Мы редко встречались с людьми не своего круга, и потому эрудиция этого человека произвела на нас потрясающее впечатление. По малейшему поводу он ссылался на научные данные, цитировал веды или вдруг начинал читать персидские стихи, а так как мы не претендовали на ученость и не обладали достаточным знанием вед и персидского языка, то наше уважение к нему все возрастало. Мой родственник, теософ, даже пришел к убеждению, что наш спутник связан с потусторонним миром, что «магические силы», или «царство, духов», или «астральные тела», или еще что-то в этом роде тайно внушают ему мысли. Самое обыкновенное замечание этого необыкновенного человека он выслушивал с восхищением и глубоким почтением и записывал, стараясь сделать это незаметно. Мне кажется, однако, что таинственная личность все заметила и была весьма довольна впечатлением, которое ей удалось произвести. Мы приехали на узловую станцию, где нам предстояла пересадка, и в ожидании поезда вошли в вокзал. Была половина одиннадцатого вечера. Нам сообщили, что на линии что-то произошло и поезд значительно опоздает. Я решил расстелить на столе одеяло и немного вздремнуть. Но в это время наш необыкновенный спутник снова. начал рассказывать очередную историю. Само собой разумеется, в ту ночь мне так и не удалось заснуть. …Когда, не поладив с администрацией, я оставил свою должность в Джунагоре и приехал на службу к низаму[138] в Хайдерабад, я был молод, здоров, и поэтому меня назначили на должность сборщика хлопкового налога в Бариче. Барич — очень красивое место. У подножья гор, среди густых лесов, извиваясь, словно искусная танцовщица, шумно и быстро течет по своему каменистому ложу река Шуста (исковерканное санскритское название Сваччхатойа). Полтораста ступеней ведут наверх к обрывистой площадке, и там, у подножья горы, одиноко стоит дворец из белого мрамора; поблизости нет никакого жилья; хлопковый рынок и сама деревня Барич отсюда далеко.
Приблизительно двести пятьдесят лет тому назад шах Махмуд Второй выстроил дворец в этом безлюдном месте для своих увеселений. Тогда в купальнях били фонтаны из розовой воды, в тихих залах, охлаждаемых водяными брызгами, на прохладных мраморных скамьях сидели молоденькие персианки, распустив перед купаньем волосы, подставляя под прозрачные струи фонтанов свои нежные, как лепестки цветов ножки: под аккомпанемент ситар[139] они пели газели о виноградниках.
Теперь эти фонтаны умолкли; не слышно больше песен; изящные ножки красавиц не ступают легко по белоснежному мрамору. Теперь этот большой и очень пустынный дом — пристанище таких, как я, томящихся в одиночестве холостяков, сборщиков налогов. Старый конторский служащий Керим Хан предостерегал меня от ночлега в этом дворце. Он сказал, что если я хочу, то могу проводить в нем хоть весь день, но ни в коем случае не оставаться на ночь. Я только рассмеялся в ответ. Слуги тоже заявили, что согласны работать здесь лишь до наступления темноты, но на ночь оставаться не будут. «Что ж, будь по-вашему», — ответил я. У этого дома была такая слава, что даже воры не решились бы войти в него ночью.
В первое время тишина, царившая в этом заброшенном мраморном дворце, угнетала меня, как ночной кошмар, и я старался по возможности не бывать там днем; возвращался поздно вечером усталый, ложился в постель и немедленно засыпал.
Но не прошло и недели, как неизъяснимое очарование этого места стало оказывать на меня свое действие. Мне трудно описать ощущение, которое я испытывал, еще труднее заставить поверить в него других, но мне казалось, что прекрасное здание — это живой организм, который медленно, но неотвратимо всасывает меня, стараясь растворить без остатка.
Вполне возможно, что этот процесс начался сразу же, как я поселился во дворце, но я отчетливо. помню день, когда я впервые почувствовал, что творится со мной.
В начале лета крупных торговых сделок не бывает, и мне было нечем занять себя. Как-то, незадолго до захода солнца, я сидел в кресле внизу, около дворцовой лестницы. Шуста обмелела, и широкая отмель у противоположного берега играла сейчас всеми оттенками закатных красок; у моих ног сверкали камешки, устилавшие дно прозрачной речки. Не было ни малейшего ветерка. Неподвижный воздух был пропитан крепким ароматом лесной базилики, мяты и аниса, доносившимся с ближайших холмов.
Но лишь только солнце скрылось за горными вершинами, над сценой дня словно опустилась большая темная завеса, — обступившие со всех сторон горы не позволяли затянуться свиданию света и мрака. Мне захотелось покататься верхом, но едва я поднялся с кресла, как на лестнице послышались шаги. Я обернулся — никого!
Решив, что это обман чувств, я снова уселся на прежнее место, и тотчас же опять послышались шаги, — казалось, вниз по лестнице бежало несколько человек. Радостное возбуждение, к которому непонятным образом примешивался страх, охватило меня. На лестнице никого не было, но мне казалось, что я вижу толпу веселых девушек, бегущих вниз по лестнице купаться к Шусте. Торжественная тишина царила в долине, на реке, в пустынном дворце, и в то же время мне казалось, что я прекрасно слышу веселый, звонкий, похожий на журчание ручейка смех купальщиц, которые, обгоняя друг друга, пробегали мимо. Они словно не замечали меня, — я был для них так же невидим, как и они для меня. Река по-прежнему оставалась спокойной, но я отчетливо представлял себе, как волнуется прозрачная вода от девичьих рук, украшенных звенящими браслетами, как плещутся и обливают друг друга девушки, как высоко в небо миллионами жемчугов взлетают брызги под ударами ног купальщиц.
Меня охватило непонятное волнение: было ли это чувство страха, или радости, или любопытства. — не знаю. Мне страстно захотелось увидеть все это воочию. Я напряженно всматривался в темноту, но ничего не видел. Мне казалось, стоит как следует прислушаться, и я пойму их разговор, но сколько я ни напрягал слух, не слышал ничего, кроме стрекотанья лесных кузнечиков. Казалось, темная, веками сотканная завеса скрывала от меня происходящее, я со страхом приподнял ее уголок и заглянул внутрь — туда, где кипела какая-то другая жизнь, но густой мрак мешал мне ее увидеть.
Вдруг сильный порыв ветра всколыхнул душный, тяжелый воздух, по спокойной поверхности реки побежали, закурчавились, словно волосы русалки, легкие волны; и утонувший в вечерней мгле лес зашумел, как бы очнувшись от дурного сна. Я не знаю, что это было — сон или явь, но внезапно невидимый мираж, отразивший кусочек давным-давно исчезнувшей жизни, растаял как дым. Призрачные создания, которые беззвучно хохоча, не касаясь мраморных ступенек, пробежали мимо меня купаться, не прошли обратно, на ходу выжимая воду из своей одежды. Подобно аромату цветка, они исчезли, подхваченные первым дуновением ветерка.
И тут на меня напал страх — не решила ли муза поэзии воспользоваться моим одиночеством и завладеть мной? Эта шаловливая богиня вознамерилась, очевидно, погубить меня — скромного труженика, зарабатывающего хлеб свой сбором хлопкового налога. Я решил, что мне необходимо хорошенько поесть, — ведь именно голодный желудок порождает все неизлечимые болезни. Я позвал повара и велел ему приготовить одно очень жирное и пряное могольское блюдо.
Наутро все происшедшее представилось мне чрезвычайно забавным. В веселом расположении духа надел я пробковый шлем, какие носят англичане, сел в коляску, взял в руки вожжи и тронул лошадей. Коляска с грохотом покатила по дороге — я отправился по своим делам. В тот день мне предстояло написать отчет о работе за три месяца, поэтому я думал вернуться поздно. Но не успел наступить вечер, как меня неудержимо потянуло домой. Почему? Я и сам не понимал, но чувствовал, что больше задерживаться нельзя, что меня ждут. Не закончив отчета, я нахлобучил шлем на голову и покатил в своей громыхающей коляске по безлюдной, мрачной дороге, огражденной с обеих сторон темными купами деревьев. Вскоре я подъехал к величественному безмолвному дворцу у подножья горы.
На первом этаже находилась огромная зала. Три ряда массивных колонн поддерживали ее расписной сводчатый потолок. Изнывая от одиночества, она день и ночь издавала горестные стоны. Сумерки только-только опустились на землю, и лампы еще не были зажжены. Толкнув дверь, я вошел в залу и тотчас почувствовал, что здесь поднялась суматоха; словно я помешал какому-то собранию и множество людей поднялось с места и разбегается кто куда: в двери, в окна, на веранду.
Не видя ничего, я стоял, охваченный смятением. Я был как в экстазе: мне чудилось, будто запахи давно исчезнувших благовоний и ароматических масел щекочут мне ноздри. Я стоял в огромной темной зале между старинными колоннами и слушал: на белый мрамор с шумом падали струи фонтанов, кто-то наигрывал на ситаре неведомую мне мелодию, звенели золотые браслеты на руках и ногах, слышались удары в медный колокол, откуда-то издалека доносилась дробь барабана, чуть дребезжали хрустальные подвески, с веранды в окна лилось пение соловья, сидящего в клетке, в саду кричала ручная цапля — все эти звуки сливались и звучали в моих ушах чудесной, неземной музыкой.
И вдруг мне начало мерещиться, что именно эта призрачная жизнь — непостижимая, недоступная разуму, сверхъестественная — и была единственной правдой на земле, а все остальное— просто игра воображения. То, что я — это я, старший сын своего покойного отца, сборщик хлопкового налога, зарабатывающий четыреста пятьдесят рупий в месяц, что на мне пробковый шлем, короткая куртка и что я езжу в коляске, — показалось мне такой смешной бессмыслицей, что я не выдержал и громко расхохотался в пустоту громадной безмолвной залы.
В это время в залу вошел мой слуга-мусульманин, неся зажженную лампу. Вполне возможно, он подумал, что я сошел с ума, не знаю, но я вдруг вспомнил, что я действительно некий «натх»[140], старший сын некоего покойного «чондро», вспомнил я также, что дело поэтов решать, могут ли где-нибудь в этом или ином мире бить несуществующие фонтаны и звучать воображаемые ситары под невидимыми пальцами. Для меня несомненно лишь то, что я собираю налог на хлопок в Бариче и зарабатываю четыреста пятьдесят рупий в месяц. Я весело рассмеялся, вспоминая странное наваждение, и уселся с газетой возле походного столика, на котором стояла керосиновая лампа.
Прочитав газету и поужинав, я лег на кровать в маленькой угловой комнате и погасил лампу. В открытое окно была видна яркая звездочка, мерцавшая высоко над темной, покрытой лесом горой Орали. С высоты тысяч миллионов миль она пристально смотрела на уважаемого господина налогового сборщика, расположившегося на скверной походной кровати. Эта мысль позабавила меня, и скоро я незаметно уснул. Не знаю, сколько времени я проспал, но вдруг проснулся, словно меня кто-то толкнул, хотя вокруг по-прежнему стояла тишина и никого постороннего в комнате не было. Звезда, упорно смотревшая на меня, скрылась за темной горой, и сейчас в комнату робко, словно извиняясь за свое самовольное вторжение, лился слабый свет ущербной луны.
Я никого не видел, но ясно чувствовал, что кто-то осторожно трясет меня. Увидев, что я проснулся, мне не сказали ни слова, но поманили за собой унизанными кольцами пальчиками.
Я потихоньку встал. Хотя в этом громадном, пустом дворце, с замирающими звуками и оживающим эхом, не было ни одной человеческой души, кроме меня, я на каждом шагу замирал от страха, словно боялся разбудить кого-то. Большая часть комнат была всегда заперта, и я никогда не бывал в них.
Затаив дыхание, бесшумно ступая, шел я в ту ночь за своей невидимой проводницей, не зная, куда я иду. Сколько узких и темных переходов, торжественных молчаливых зал, сколько тесных потайных комнат миновали мы по пути!
Но хотя моя прекрасная провожатая оставалась невидимой, воображение ярко рисовало мне ее образ. Она была уроженкой Аравии, сквозь широкие воздушные рукава просвечивали ее крепкие, красивые, гладкие руки, тончайшая вуаль ниспадала с шапочки и закрывала лицо, а за поясом торчал изогнутый нож.
Мне казалось, что сегодня на землю спустилась одна из сказочных ночей «Тысячи и одной ночи»[141], мне чудилось, что я иду по узким неосвещенным улицам спящего Багдада на какое-то свидание и что на каждом шагу меня подстерегает опасность.
Неожиданно моя спутница остановилась перед темно-синим занавесом и пальцем указала вниз. Я ничего не увидел, и тем не менее от ужаса кровь застыла у меня в жилах. Мне представилось, что на полу перед занавесом, вытянув ноги и положив на колени обнаженный меч, дремлет свирепый африканский евнух в дорогом парчовом одеянии. Моя спутница легко перешагнула через его ноги и приподняла край занавеса.
Открылась часть комнаты, устланной персидским ковром. Я не видел ту, что сидела на тахте, только две изящные ножки в расшитых золотом туфельках, выглядывавшие из шальвар цвета шафрана, небрежно покоились на розовом бархате… На столе, на голубоватом хрустальном блюде, лежали яблоки, груши, апельсины и большая гроздь винограда, приготовленные, очевидно, для приема гостя, рядом стояли две пиалы и хрустальный графин с янтарным вином. От дурманящего аромата благовонных курений кружилась голова..
В ту минуту, когда я, трепеща от страха, собрался переступить через вытянутые ноги евнуха, он вздрогнул, и его меч со звоном упал на мраморный пол.
От страшного крика я подскочил и проснулся — оказалось, что я сижу на своей походной кровати, весь в холодном поту. Узкий серп месяца казался сейчас, в слабом свете занимающегося дня, совсем бледным, как измученный бессонной ночью больной, — а сумасшедший Мегер Али бегал, как всегда, по безлюдной утренней дороге и кричал: «Отойди, отойди!»
Так внезапно закончилась первая ночь моих арабских сказок, но их оставалась еще тысяча.
Между моими днями и ночами начался страшный разлад. Усталый, принимался я утром за работу, проклиная колдовские чары, опутывавшие мои ночи, но как только приходил вечер, дневные занятия и работа начинали казаться мне мелкими, фальшивыми и смешными.
С наступлением вечера я впадал в странное состояние. Я точно переносился на сотни лет назад и становился действующим лицом каких-то неведомых событий, — пиджак и узкие брюки делались совершенно неуместными, я надевал красную бархатную феску, широкую рубашку и расшитый шелком камзол, накидывал длинный шелковый плащ, вспрыскивал цветной платок духами, бросал сигарету, брал вместо нее длинный изогнутый кальян, наполненный розовой водой, и садился в высокое кресло. Я как будто готовился к какому-то необыкновенному любовному свиданию.
Сгущалась темнота, и начиналась ночная жизнь, насыщенная чудесными происшествиями, описать которые у меня не хватает ни слов, ни умения. Мне казалось, что обрывки какой-то потрясающей романтической драмы, подхваченные порывом весеннего ветра, носятся по великолепным залам громадного дворца. Мне удавалось мельком взглянуть на некоторые из них, и в тщетной надежде соединить эти обрывки воедино, узнать эту драму я всю ночь метался из комнаты в комнату, из залы в залу.
В вихре неясных грез, среди ароматов курений, звуков ситар, в волнах воздуха, пропитанного душистой водяной пылью, словно всполох молнии, мелькал вдруг образ красавицы в широких шальварах шафранного цвета, в расшитых золотом туфлях с загнутыми кверху носками, в парче и красной шапочке с золотой бахромой, ниспадавшей на ее белый лоб.
Она сводила меня с ума. В поисках ее я каждую ночь бродил по сложному лабиринту переходов и комнат заколдованного призрачного царства, — царства снов.
Иногда вечером, когда я, стоя перед большим зеркалом, освещенным двумя свечами, одевался так же тщательно, как Шах Джахан, рядом с моим изображением вдруг возникал образ молодой персианки. Быстрый поворот головки, нетерпеливый взгляд больших черных глаз, в котором таились с трудом сдерживаемая страсть и душевная боль, слова, трепещущие на красивых пунцовых губах, исполненные грации движения, вся ее фигура, тонкая, гибкая, как лиана, — ослепительная вспышка, в которой было все: и боль, и страсть, и восторг, улыбка, быстрый взгляд, сверканье драгоценных камней и шелка — и она исчезала. Порыв ветра, приносившего с гор лесные ароматы, гасил свечи, я бросал все, с наслаждением растягивался на кровати и закрывал глаза. Мне чудилось, что вместе с дуновением ветра, вместе со всеми запахами горы Орали пустынную темноту комнат наполняют ласки, поцелуи и прикосновения нежных рук; певучие голоса шептали что-то мне на ухо, чье-то благоуханное дыхание касалось моего лба, а у лица реяли, порой касаясь его, воздушные шарфы красавиц. Затем постепенно мне начинало казаться, что какая-то неведомая змея обвивает меня своими кольцами; кольца сжимались все сильнее и сильнее, я задыхался, сознание покидало меня, и наконец я погружался в глубокий сон.
Однажды в полдень я решил проехаться верхом. Мне казалось, что кто-то умоляет меня не делать этого, но в тот день я не желал внимать никаким просьбам. Мой шлем и европейского покроя куртка висели на деревянной вешалке, я снял их и хотел было надеть, как вдруг, откуда ни возьмись, с гор налетел смерч, закружил речной песок и сухие ветки, вырвал у меня из рук одежду, подхватил ее и заплясал по комнате. В эту минуту раздался взрыв хохота. Все громче и громче звучал веселый, переливчатый смех, а потом стал удаляться в ту сторону, где садилось солнце, и наконец затих.
Я так и не поехал верхом в тот день и с тех пор больше уже никогда не надевал свою смешную европейскую куртку и шлем.
В полночь я снова сидел на кровати и прислушивался: мне казалось, что я слышу отчаянные подавленные рыдания, как будто чей-то голос, доносившийся из-под кровати, из-под пола, из каменных подвалов огромного дворца, из самой черной сырой земли, жалобно умолял: «Спаси меня, разорви оковы, глубоких снов и мучительных грез, посади меня на коня, прижми к своей груди и отвези через леса, горы и реки в свой солнечный дом! О, спаси меня!»
Кто я такой, чтобы сделать это? Как я могу спасти тебя? Кто эта гибнущая красавица, это воплощение любви и страсти, которую я должен вытащить из бешеного потока заколдованных снов? Откуда ты, создание небес? На берегу какого прохладного ручья, в тени какой финиковой рощи ты родилась? К какому кочевому племени принадлежал твой отец? Какой разбойник-бедуин оторвал тебя от груди матери, как полураскрывшийся бутон от ветки, вскочил с тобой на коня и быстрее ветра исчез в жарком мареве пустыни? В чьи владения, на какой рынок невольниц привез он тебя? Слуга какого падишаха заметил твою юную стыдливую нераспустившуюся красоту и, отсыпав пригоршню золота, увез тебя за море, посадил в позолоченный паланкин и послал в подарок своему повелителю в гарем? А дальше? Музыка саранги[142], звон браслетов, янтарное вино Шираза, сверкающее, как кинжал, огнем яда разливающееся в жилах, словно острый прищур глаз, приковывающее к месту. Какая безграничная роскошь и какое страшное рабство! С двух сторон невольницы машут опахалами, их запястья сверкают бриллиантами, у твоих ножек, обутых в расшитые жемчугом туфли, сам шахиншах[143]; у дверей с обнаженным мечом в руках, как посланец Ямы, стоит стражник абиссинец. А что было с тобой потом, цветок пустыни? Куда унесли тебя окропленные кровью волны безудержной роскоши, пенящиеся завистью и интригами? Выбросили ли они тебя на берег, где царствовала жестокая смерть, или высадили в стране еще более пышной роскоши?
Но тут сумасшедший Мегер Али снова закричал: «Отойди, отойди! Все ложь, все ложь!» Я открыл глаза и увидел, что уже утро; слуга принес мне почту, с почтительным поклоном вошел повар и осведомился, что приготовить сегодня.
Я решил: хватит! Больше здесь оставаться нельзя. И в тот же день со всеми своими пожитками перебрался в контору. Конторский служащий старик Керим Хан слегка улыбнулся при виде меня. Это меня задело, но я не сказал ни слова, и сел за работу.
По мере того как надвигался вечер, я становился все рассеяннее. Я чувствовал, что мне надо куда-то идти, что меня ждут. Проверка счетов на хлопок представлялась мне совершенно ненужным делом, и даже служба у низама казалась совсем никчемным занятием. Все, что жило настоящим, что суетилось, волновалось, добывало себе кусок хлеба, было в моих глазах незначительным, бессмысленным, нелепым.
Отбросив ручку и захлопнув бухгалтерскую книгу, я сел в коляску и уехал. С удивлением я отметил, что лошади сами остановились у ворот мраморного дворца как раз в ту минуту, как солнце скрылось за горой. Я быстро взбежал по лестнице и вошел в залу.
Все было тихо. Мрачные комнаты, казалось, сердито хмурились. Сердце мое наполнилось раскаянием, но кому высказать его, у кого просить прощения — я не знал. Безразличный ко всему на свете, бродил я по темным комнатам. Мне хотелось взять какой-нибудь музыкальный инструмент и под аккомпанемент его спеть, обращаясь к кому-то неизвестному: «О огонь! Та бабочка, которая пыталась улететь от тебя, снова вернулась, чтобы умереть. Прости ее на этот раз, опали ее крылья и прикажи своему пламени поглотить ее!»
Две слезы упали мне на лоб. Над вершиной Орали собрались грозные тучи. Темный лес и черная вода Шусты замерли в напряженном ожидании. И вот все содрогнулось: земля, вода, небо. Из далеких лесов с диким воем, ломая деревья и ощериваясь молниями, подобно безумцу, сорвавшемуся с цепи, налетел ураган. Захлопали двери в пустынных залах, и горестно застонала тишина…
Все слуги были в конторе, некому было зажечь лампу. И в этой кромешной тьме я почувствовал, что на ковре рядом с моей кроватью лежит женщина. Она судорожно рвала на себе волосы, по ее прекрасному белому лбу текла кровь, она то смеялась сухим, жестким смехом, то разражалась отчаянными, душераздирающими рыданиями, то начинала рвать на себе одежду и бить себя в обнаженную грудь. Ветер со свистом врывался в открытое окно, дождь захлестывал комнату и насквозь промочил ее одежду.
Всю ночь не утихала буря и не умолкали рыдания. С сердцем, разрывающимся от горя, бродил я по темным комнатам. Где та, которую я должен утешить? Кто она, кого постигло столь тяжелое горе? Что за причина такого безумного отчаяния?
— Отойди, отойди! — раздался крик сумасшедшего. — Все ложь, все ложь!
Уже рассвело, Мегер Али и в это страшное бурное утро, как всегда, бегал вокруг дворца, выкрикивая все те же слова, И вдруг меня осенила мысль: наверное, когда-то Мегер Али, как и я, жил во, дворце, и даже теперь, сойдя с ума, он по-прежнему находится во власти чар этого каменного чудовища и не может не являться сюда каждое утро.
Не обращая внимания на ливень, я кинулся к сумасшедшему.
— Мегер Али, о какой лжи ты говоришь?
Ничего не ответив, он оттолкнул меня и, дико завывая, стал кружить вокруг дворца, словно птица, притягиваемая неподвижным взглядом змеи. И как будто стараясь предостеречь себя, он снова и снова кричал: «Отойди, отойди! Все ложь, все ложь!»
Под проливным дождем я побежал в контору и как вихрь ворвался в комнату Керим Хана.
— Расскажи мне, что все это значит? — закричал я.
И вот что рассказал мне старик.
Когда-то этот дворец был местом, где разыгрывались страшные человеческие драмы, — здесь бушевали страсти, пламя неудовлетворенных желаний жгло сердца и в зловещем огне непрестанных наслаждений сгорали человеческие души. Сколько проклятий слышали эти стены — проклятий тех, на чью долю выпали страдания, чьи надежды были разбиты, чья страстная любовь. осталась безответной. Камни дворца впитали эти проклятия, и теперь, голодные и жаждущие, как чудовище, которому долго не давали есть, они жадно бросаются на каждого, осмелившегося приблизиться к ним. Из всех тех, кто пробыл здесь три ночи, уцелел лишь Мегер Али, но и ему пришлось поплатиться за это рассудком.
— Неужели и мне нет спасения? — спросил я.
— Спасение- есть, — ответил старик, — только достичь его нелегко. Я расскажу тебе, как это сделать, но прежде тебе надо узнать историю персидской рабыни, жившей когда-то в этом дворце наслаждений. Нет в мире истории более удивительной и более печальной…
Но тут пришли носильщики и сообщили, что поезд сейчас подойдет. Так скоро? Пока мы спешно собирали свои вещи, поезд подошел. Какой-то заспанный англичанин высунулся из окна вагона первого класса, пытаясь прочесть название станции. Увидев нашего знакомого, он тотчас же пригласил его к себе в купе. У нас были билеты во. второй класс, и мы оказались лишенными возможности выяснить, кто был наш спутник, и услышать конец этой истории.
Я предположил, что он принял нас за дураков и решил посмеяться над нами и что все, что он рассказал, чистейший вымысел от начала до конца.
Мой родственник теософ оказался другого мнения по этому вопросу, и в результате мы с ним поссорились на всю жизнь.
1895
Барич — очень красивое место. У подножья гор, среди густых лесов, извиваясь, словно искусная танцовщица, шумно и быстро течет по своему каменистому ложу река Шуста (исковерканное санскритское название Сваччхатойа). Полтораста ступеней ведут наверх к обрывистой площадке, и там, у подножья горы, одиноко стоит дворец из белого мрамора; поблизости нет никакого жилья; хлопковый рынок и сама деревня Барич отсюда далеко.
Приблизительно двести пятьдесят лет тому назад шах Махмуд Второй выстроил дворец в этом безлюдном месте для своих увеселений. Тогда в купальнях били фонтаны из розовой воды, в тихих залах, охлаждаемых водяными брызгами, на прохладных мраморных скамьях сидели молоденькие персианки, распустив перед купаньем волосы, подставляя под прозрачные струи фонтанов свои нежные, как лепестки цветов ножки: под аккомпанемент ситар[139] они пели газели о виноградниках.
Теперь эти фонтаны умолкли; не слышно больше песен; изящные ножки красавиц не ступают легко по белоснежному мрамору. Теперь этот большой и очень пустынный дом — пристанище таких, как я, томящихся в одиночестве холостяков, сборщиков налогов. Старый конторский служащий Керим Хан предостерегал меня от ночлега в этом дворце. Он сказал, что если я хочу, то могу проводить в нем хоть весь день, но ни в коем случае не оставаться на ночь. Я только рассмеялся в ответ. Слуги тоже заявили, что согласны работать здесь лишь до наступления темноты, но на ночь оставаться не будут. «Что ж, будь по-вашему», — ответил я. У этого дома была такая слава, что даже воры не решились бы войти в него ночью.
В первое время тишина, царившая в этом заброшенном мраморном дворце, угнетала меня, как ночной кошмар, и я старался по возможности не бывать там днем; возвращался поздно вечером усталый, ложился в постель и немедленно засыпал.
Но не прошло и недели, как неизъяснимое очарование этого места стало оказывать на меня свое действие. Мне трудно описать ощущение, которое я испытывал, еще труднее заставить поверить в него других, но мне казалось, что прекрасное здание — это живой организм, который медленно, но неотвратимо всасывает меня, стараясь растворить без остатка.
Вполне возможно, что этот процесс начался сразу же, как я поселился во дворце, но я отчетливо. помню день, когда я впервые почувствовал, что творится со мной.
В начале лета крупных торговых сделок не бывает, и мне было нечем занять себя. Как-то, незадолго до захода солнца, я сидел в кресле внизу, около дворцовой лестницы. Шуста обмелела, и широкая отмель у противоположного берега играла сейчас всеми оттенками закатных красок; у моих ног сверкали камешки, устилавшие дно прозрачной речки. Не было ни малейшего ветерка. Неподвижный воздух был пропитан крепким ароматом лесной базилики, мяты и аниса, доносившимся с ближайших холмов.
Но лишь только солнце скрылось за горными вершинами, над сценой дня словно опустилась большая темная завеса, — обступившие со всех сторон горы не позволяли затянуться свиданию света и мрака. Мне захотелось покататься верхом, но едва я поднялся с кресла, как на лестнице послышались шаги. Я обернулся — никого!
Решив, что это обман чувств, я снова уселся на прежнее место, и тотчас же опять послышались шаги, — казалось, вниз по лестнице бежало несколько человек. Радостное возбуждение, к которому непонятным образом примешивался страх, охватило меня. На лестнице никого не было, но мне казалось, что я вижу толпу веселых девушек, бегущих вниз по лестнице купаться к Шусте. Торжественная тишина царила в долине, на реке, в пустынном дворце, и в то же время мне казалось, что я прекрасно слышу веселый, звонкий, похожий на журчание ручейка смех купальщиц, которые, обгоняя друг друга, пробегали мимо. Они словно не замечали меня, — я был для них так же невидим, как и они для меня. Река по-прежнему оставалась спокойной, но я отчетливо представлял себе, как волнуется прозрачная вода от девичьих рук, украшенных звенящими браслетами, как плещутся и обливают друг друга девушки, как высоко в небо миллионами жемчугов взлетают брызги под ударами ног купальщиц.
Меня охватило непонятное волнение: было ли это чувство страха, или радости, или любопытства. — не знаю. Мне страстно захотелось увидеть все это воочию. Я напряженно всматривался в темноту, но ничего не видел. Мне казалось, стоит как следует прислушаться, и я пойму их разговор, но сколько я ни напрягал слух, не слышал ничего, кроме стрекотанья лесных кузнечиков. Казалось, темная, веками сотканная завеса скрывала от меня происходящее, я со страхом приподнял ее уголок и заглянул внутрь — туда, где кипела какая-то другая жизнь, но густой мрак мешал мне ее увидеть.
Вдруг сильный порыв ветра всколыхнул душный, тяжелый воздух, по спокойной поверхности реки побежали, закурчавились, словно волосы русалки, легкие волны; и утонувший в вечерней мгле лес зашумел, как бы очнувшись от дурного сна. Я не знаю, что это было — сон или явь, но внезапно невидимый мираж, отразивший кусочек давным-давно исчезнувшей жизни, растаял как дым. Призрачные создания, которые беззвучно хохоча, не касаясь мраморных ступенек, пробежали мимо меня купаться, не прошли обратно, на ходу выжимая воду из своей одежды. Подобно аромату цветка, они исчезли, подхваченные первым дуновением ветерка.
И тут на меня напал страх — не решила ли муза поэзии воспользоваться моим одиночеством и завладеть мной? Эта шаловливая богиня вознамерилась, очевидно, погубить меня — скромного труженика, зарабатывающего хлеб свой сбором хлопкового налога. Я решил, что мне необходимо хорошенько поесть, — ведь именно голодный желудок порождает все неизлечимые болезни. Я позвал повара и велел ему приготовить одно очень жирное и пряное могольское блюдо.
Наутро все происшедшее представилось мне чрезвычайно забавным. В веселом расположении духа надел я пробковый шлем, какие носят англичане, сел в коляску, взял в руки вожжи и тронул лошадей. Коляска с грохотом покатила по дороге — я отправился по своим делам. В тот день мне предстояло написать отчет о работе за три месяца, поэтому я думал вернуться поздно. Но не успел наступить вечер, как меня неудержимо потянуло домой. Почему? Я и сам не понимал, но чувствовал, что больше задерживаться нельзя, что меня ждут. Не закончив отчета, я нахлобучил шлем на голову и покатил в своей громыхающей коляске по безлюдной, мрачной дороге, огражденной с обеих сторон темными купами деревьев. Вскоре я подъехал к величественному безмолвному дворцу у подножья горы.
На первом этаже находилась огромная зала. Три ряда массивных колонн поддерживали ее расписной сводчатый потолок. Изнывая от одиночества, она день и ночь издавала горестные стоны. Сумерки только-только опустились на землю, и лампы еще не были зажжены. Толкнув дверь, я вошел в залу и тотчас почувствовал, что здесь поднялась суматоха; словно я помешал какому-то собранию и множество людей поднялось с места и разбегается кто куда: в двери, в окна, на веранду.
Не видя ничего, я стоял, охваченный смятением. Я был как в экстазе: мне чудилось, будто запахи давно исчезнувших благовоний и ароматических масел щекочут мне ноздри. Я стоял в огромной темной зале между старинными колоннами и слушал: на белый мрамор с шумом падали струи фонтанов, кто-то наигрывал на ситаре неведомую мне мелодию, звенели золотые браслеты на руках и ногах, слышались удары в медный колокол, откуда-то издалека доносилась дробь барабана, чуть дребезжали хрустальные подвески, с веранды в окна лилось пение соловья, сидящего в клетке, в саду кричала ручная цапля — все эти звуки сливались и звучали в моих ушах чудесной, неземной музыкой.
И вдруг мне начало мерещиться, что именно эта призрачная жизнь — непостижимая, недоступная разуму, сверхъестественная — и была единственной правдой на земле, а все остальное— просто игра воображения. То, что я — это я, старший сын своего покойного отца, сборщик хлопкового налога, зарабатывающий четыреста пятьдесят рупий в месяц, что на мне пробковый шлем, короткая куртка и что я езжу в коляске, — показалось мне такой смешной бессмыслицей, что я не выдержал и громко расхохотался в пустоту громадной безмолвной залы.
В это время в залу вошел мой слуга-мусульманин, неся зажженную лампу. Вполне возможно, он подумал, что я сошел с ума, не знаю, но я вдруг вспомнил, что я действительно некий «натх»[140], старший сын некоего покойного «чондро», вспомнил я также, что дело поэтов решать, могут ли где-нибудь в этом или ином мире бить несуществующие фонтаны и звучать воображаемые ситары под невидимыми пальцами. Для меня несомненно лишь то, что я собираю налог на хлопок в Бариче и зарабатываю четыреста пятьдесят рупий в месяц. Я весело рассмеялся, вспоминая странное наваждение, и уселся с газетой возле походного столика, на котором стояла керосиновая лампа.
Прочитав газету и поужинав, я лег на кровать в маленькой угловой комнате и погасил лампу. В открытое окно была видна яркая звездочка, мерцавшая высоко над темной, покрытой лесом горой Орали. С высоты тысяч миллионов миль она пристально смотрела на уважаемого господина налогового сборщика, расположившегося на скверной походной кровати. Эта мысль позабавила меня, и скоро я незаметно уснул. Не знаю, сколько времени я проспал, но вдруг проснулся, словно меня кто-то толкнул, хотя вокруг по-прежнему стояла тишина и никого постороннего в комнате не было. Звезда, упорно смотревшая на меня, скрылась за темной горой, и сейчас в комнату робко, словно извиняясь за свое самовольное вторжение, лился слабый свет ущербной луны.
Я никого не видел, но ясно чувствовал, что кто-то осторожно трясет меня. Увидев, что я проснулся, мне не сказали ни слова, но поманили за собой унизанными кольцами пальчиками.
Я потихоньку встал. Хотя в этом громадном, пустом дворце, с замирающими звуками и оживающим эхом, не было ни одной человеческой души, кроме меня, я на каждом шагу замирал от страха, словно боялся разбудить кого-то. Большая часть комнат была всегда заперта, и я никогда не бывал в них.
Затаив дыхание, бесшумно ступая, шел я в ту ночь за своей невидимой проводницей, не зная, куда я иду. Сколько узких и темных переходов, торжественных молчаливых зал, сколько тесных потайных комнат миновали мы по пути!
Но хотя моя прекрасная провожатая оставалась невидимой, воображение ярко рисовало мне ее образ. Она была уроженкой Аравии, сквозь широкие воздушные рукава просвечивали ее крепкие, красивые, гладкие руки, тончайшая вуаль ниспадала с шапочки и закрывала лицо, а за поясом торчал изогнутый нож.
Мне казалось, что сегодня на землю спустилась одна из сказочных ночей «Тысячи и одной ночи»[141], мне чудилось, что я иду по узким неосвещенным улицам спящего Багдада на какое-то свидание и что на каждом шагу меня подстерегает опасность.
Неожиданно моя спутница остановилась перед темно-синим занавесом и пальцем указала вниз. Я ничего не увидел, и тем не менее от ужаса кровь застыла у меня в жилах. Мне представилось, что на полу перед занавесом, вытянув ноги и положив на колени обнаженный меч, дремлет свирепый африканский евнух в дорогом парчовом одеянии. Моя спутница легко перешагнула через его ноги и приподняла край занавеса.
Открылась часть комнаты, устланной персидским ковром. Я не видел ту, что сидела на тахте, только две изящные ножки в расшитых золотом туфельках, выглядывавшие из шальвар цвета шафрана, небрежно покоились на розовом бархате… На столе, на голубоватом хрустальном блюде, лежали яблоки, груши, апельсины и большая гроздь винограда, приготовленные, очевидно, для приема гостя, рядом стояли две пиалы и хрустальный графин с янтарным вином. От дурманящего аромата благовонных курений кружилась голова..
В ту минуту, когда я, трепеща от страха, собрался переступить через вытянутые ноги евнуха, он вздрогнул, и его меч со звоном упал на мраморный пол.
От страшного крика я подскочил и проснулся — оказалось, что я сижу на своей походной кровати, весь в холодном поту. Узкий серп месяца казался сейчас, в слабом свете занимающегося дня, совсем бледным, как измученный бессонной ночью больной, — а сумасшедший Мегер Али бегал, как всегда, по безлюдной утренней дороге и кричал: «Отойди, отойди!»
Так внезапно закончилась первая ночь моих арабских сказок, но их оставалась еще тысяча.
Между моими днями и ночами начался страшный разлад. Усталый, принимался я утром за работу, проклиная колдовские чары, опутывавшие мои ночи, но как только приходил вечер, дневные занятия и работа начинали казаться мне мелкими, фальшивыми и смешными.
С наступлением вечера я впадал в странное состояние. Я точно переносился на сотни лет назад и становился действующим лицом каких-то неведомых событий, — пиджак и узкие брюки делались совершенно неуместными, я надевал красную бархатную феску, широкую рубашку и расшитый шелком камзол, накидывал длинный шелковый плащ, вспрыскивал цветной платок духами, бросал сигарету, брал вместо нее длинный изогнутый кальян, наполненный розовой водой, и садился в высокое кресло. Я как будто готовился к какому-то необыкновенному любовному свиданию.
Сгущалась темнота, и начиналась ночная жизнь, насыщенная чудесными происшествиями, описать которые у меня не хватает ни слов, ни умения. Мне казалось, что обрывки какой-то потрясающей романтической драмы, подхваченные порывом весеннего ветра, носятся по великолепным залам громадного дворца. Мне удавалось мельком взглянуть на некоторые из них, и в тщетной надежде соединить эти обрывки воедино, узнать эту драму я всю ночь метался из комнаты в комнату, из залы в залу.
В вихре неясных грез, среди ароматов курений, звуков ситар, в волнах воздуха, пропитанного душистой водяной пылью, словно всполох молнии, мелькал вдруг образ красавицы в широких шальварах шафранного цвета, в расшитых золотом туфлях с загнутыми кверху носками, в парче и красной шапочке с золотой бахромой, ниспадавшей на ее белый лоб.
Она сводила меня с ума. В поисках ее я каждую ночь бродил по сложному лабиринту переходов и комнат заколдованного призрачного царства, — царства снов.
Иногда вечером, когда я, стоя перед большим зеркалом, освещенным двумя свечами, одевался так же тщательно, как Шах Джахан, рядом с моим изображением вдруг возникал образ молодой персианки. Быстрый поворот головки, нетерпеливый взгляд больших черных глаз, в котором таились с трудом сдерживаемая страсть и душевная боль, слова, трепещущие на красивых пунцовых губах, исполненные грации движения, вся ее фигура, тонкая, гибкая, как лиана, — ослепительная вспышка, в которой было все: и боль, и страсть, и восторг, улыбка, быстрый взгляд, сверканье драгоценных камней и шелка — и она исчезала. Порыв ветра, приносившего с гор лесные ароматы, гасил свечи, я бросал все, с наслаждением растягивался на кровати и закрывал глаза. Мне чудилось, что вместе с дуновением ветра, вместе со всеми запахами горы Орали пустынную темноту комнат наполняют ласки, поцелуи и прикосновения нежных рук; певучие голоса шептали что-то мне на ухо, чье-то благоуханное дыхание касалось моего лба, а у лица реяли, порой касаясь его, воздушные шарфы красавиц. Затем постепенно мне начинало казаться, что какая-то неведомая змея обвивает меня своими кольцами; кольца сжимались все сильнее и сильнее, я задыхался, сознание покидало меня, и наконец я погружался в глубокий сон.
Однажды в полдень я решил проехаться верхом. Мне казалось, что кто-то умоляет меня не делать этого, но в тот день я не желал внимать никаким просьбам. Мой шлем и европейского покроя куртка висели на деревянной вешалке, я снял их и хотел было надеть, как вдруг, откуда ни возьмись, с гор налетел смерч, закружил речной песок и сухие ветки, вырвал у меня из рук одежду, подхватил ее и заплясал по комнате. В эту минуту раздался взрыв хохота. Все громче и громче звучал веселый, переливчатый смех, а потом стал удаляться в ту сторону, где садилось солнце, и наконец затих.
Я так и не поехал верхом в тот день и с тех пор больше уже никогда не надевал свою смешную европейскую куртку и шлем.
В полночь я снова сидел на кровати и прислушивался: мне казалось, что я слышу отчаянные подавленные рыдания, как будто чей-то голос, доносившийся из-под кровати, из-под пола, из каменных подвалов огромного дворца, из самой черной сырой земли, жалобно умолял: «Спаси меня, разорви оковы, глубоких снов и мучительных грез, посади меня на коня, прижми к своей груди и отвези через леса, горы и реки в свой солнечный дом! О, спаси меня!»
Кто я такой, чтобы сделать это? Как я могу спасти тебя? Кто эта гибнущая красавица, это воплощение любви и страсти, которую я должен вытащить из бешеного потока заколдованных снов? Откуда ты, создание небес? На берегу какого прохладного ручья, в тени какой финиковой рощи ты родилась? К какому кочевому племени принадлежал твой отец? Какой разбойник-бедуин оторвал тебя от груди матери, как полураскрывшийся бутон от ветки, вскочил с тобой на коня и быстрее ветра исчез в жарком мареве пустыни? В чьи владения, на какой рынок невольниц привез он тебя? Слуга какого падишаха заметил твою юную стыдливую нераспустившуюся красоту и, отсыпав пригоршню золота, увез тебя за море, посадил в позолоченный паланкин и послал в подарок своему повелителю в гарем? А дальше? Музыка саранги[142], звон браслетов, янтарное вино Шираза, сверкающее, как кинжал, огнем яда разливающееся в жилах, словно острый прищур глаз, приковывающее к месту. Какая безграничная роскошь и какое страшное рабство! С двух сторон невольницы машут опахалами, их запястья сверкают бриллиантами, у твоих ножек, обутых в расшитые жемчугом туфли, сам шахиншах[143]; у дверей с обнаженным мечом в руках, как посланец Ямы, стоит стражник абиссинец. А что было с тобой потом, цветок пустыни? Куда унесли тебя окропленные кровью волны безудержной роскоши, пенящиеся завистью и интригами? Выбросили ли они тебя на берег, где царствовала жестокая смерть, или высадили в стране еще более пышной роскоши?
Но тут сумасшедший Мегер Али снова закричал: «Отойди, отойди! Все ложь, все ложь!» Я открыл глаза и увидел, что уже утро; слуга принес мне почту, с почтительным поклоном вошел повар и осведомился, что приготовить сегодня.
Я решил: хватит! Больше здесь оставаться нельзя. И в тот же день со всеми своими пожитками перебрался в контору. Конторский служащий старик Керим Хан слегка улыбнулся при виде меня. Это меня задело, но я не сказал ни слова, и сел за работу.
По мере того как надвигался вечер, я становился все рассеяннее. Я чувствовал, что мне надо куда-то идти, что меня ждут. Проверка счетов на хлопок представлялась мне совершенно ненужным делом, и даже служба у низама казалась совсем никчемным занятием. Все, что жило настоящим, что суетилось, волновалось, добывало себе кусок хлеба, было в моих глазах незначительным, бессмысленным, нелепым.
Отбросив ручку и захлопнув бухгалтерскую книгу, я сел в коляску и уехал. С удивлением я отметил, что лошади сами остановились у ворот мраморного дворца как раз в ту минуту, как солнце скрылось за горой. Я быстро взбежал по лестнице и вошел в залу.
Все было тихо. Мрачные комнаты, казалось, сердито хмурились. Сердце мое наполнилось раскаянием, но кому высказать его, у кого просить прощения — я не знал. Безразличный ко всему на свете, бродил я по темным комнатам. Мне хотелось взять какой-нибудь музыкальный инструмент и под аккомпанемент его спеть, обращаясь к кому-то неизвестному: «О огонь! Та бабочка, которая пыталась улететь от тебя, снова вернулась, чтобы умереть. Прости ее на этот раз, опали ее крылья и прикажи своему пламени поглотить ее!»
Две слезы упали мне на лоб. Над вершиной Орали собрались грозные тучи. Темный лес и черная вода Шусты замерли в напряженном ожидании. И вот все содрогнулось: земля, вода, небо. Из далеких лесов с диким воем, ломая деревья и ощериваясь молниями, подобно безумцу, сорвавшемуся с цепи, налетел ураган. Захлопали двери в пустынных залах, и горестно застонала тишина…
Все слуги были в конторе, некому было зажечь лампу. И в этой кромешной тьме я почувствовал, что на ковре рядом с моей кроватью лежит женщина. Она судорожно рвала на себе волосы, по ее прекрасному белому лбу текла кровь, она то смеялась сухим, жестким смехом, то разражалась отчаянными, душераздирающими рыданиями, то начинала рвать на себе одежду и бить себя в обнаженную грудь. Ветер со свистом врывался в открытое окно, дождь захлестывал комнату и насквозь промочил ее одежду.
Всю ночь не утихала буря и не умолкали рыдания. С сердцем, разрывающимся от горя, бродил я по темным комнатам. Где та, которую я должен утешить? Кто она, кого постигло столь тяжелое горе? Что за причина такого безумного отчаяния?
— Отойди, отойди! — раздался крик сумасшедшего. — Все ложь, все ложь!
Уже рассвело, Мегер Али и в это страшное бурное утро, как всегда, бегал вокруг дворца, выкрикивая все те же слова, И вдруг меня осенила мысль: наверное, когда-то Мегер Али, как и я, жил во, дворце, и даже теперь, сойдя с ума, он по-прежнему находится во власти чар этого каменного чудовища и не может не являться сюда каждое утро.
Не обращая внимания на ливень, я кинулся к сумасшедшему.
— Мегер Али, о какой лжи ты говоришь?
Ничего не ответив, он оттолкнул меня и, дико завывая, стал кружить вокруг дворца, словно птица, притягиваемая неподвижным взглядом змеи. И как будто стараясь предостеречь себя, он снова и снова кричал: «Отойди, отойди! Все ложь, все ложь!»
Под проливным дождем я побежал в контору и как вихрь ворвался в комнату Керим Хана.
— Расскажи мне, что все это значит? — закричал я.
И вот что рассказал мне старик.
Когда-то этот дворец был местом, где разыгрывались страшные человеческие драмы, — здесь бушевали страсти, пламя неудовлетворенных желаний жгло сердца и в зловещем огне непрестанных наслаждений сгорали человеческие души. Сколько проклятий слышали эти стены — проклятий тех, на чью долю выпали страдания, чьи надежды были разбиты, чья страстная любовь. осталась безответной. Камни дворца впитали эти проклятия, и теперь, голодные и жаждущие, как чудовище, которому долго не давали есть, они жадно бросаются на каждого, осмелившегося приблизиться к ним. Из всех тех, кто пробыл здесь три ночи, уцелел лишь Мегер Али, но и ему пришлось поплатиться за это рассудком.
— Неужели и мне нет спасения? — спросил я.
— Спасение- есть, — ответил старик, — только достичь его нелегко. Я расскажу тебе, как это сделать, но прежде тебе надо узнать историю персидской рабыни, жившей когда-то в этом дворце наслаждений. Нет в мире истории более удивительной и более печальной…
Но тут пришли носильщики и сообщили, что поезд сейчас подойдет. Так скоро? Пока мы спешно собирали свои вещи, поезд подошел. Какой-то заспанный англичанин высунулся из окна вагона первого класса, пытаясь прочесть название станции. Увидев нашего знакомого, он тотчас же пригласил его к себе в купе. У нас были билеты во. второй класс, и мы оказались лишенными возможности выяснить, кто был наш спутник, и услышать конец этой истории.
Я предположил, что он принял нас за дураков и решил посмеяться над нами и что все, что он рассказал, чистейший вымысел от начала до конца.
Мой родственник теософ оказался другого мнения по этому вопросу, и в результате мы с ним поссорились на всю жизнь.
1895
Первый номер
Я даже не курю. Но мной владеет одна всепоглощающая страсть! Страсть к чтению, в сравнении с которой меркнут все страсти мира. Моим девизом стали строки:Он хочет жить, а не существовать.
И дома он не расстается с книгой.
 Человек, у которого любовь, к путешествиям намного превышает материальные возможности, с жадностью просматривает расписание поездов, так и я в юности, когда у меня не было денег, с упоением читал книжные каталоги. Мой дальний родственник, тесть моего брата, скупал без разбора все новинки и очень гордился тем, что и по сей день ни одна книга у него не пропала. Во всей Бенгалии, вероятно, не встретишь второго такого везучего человека. Ведь среди всех вещей, постоянно переходящих из рук в руки, как, например, деньги, жизнь, зонтик, утерянный каким-нибудь рассеянным, бенгальские книги занимают первое место.
Поэтому можно себе представить, что получить у этого счастливчика ключи от книжных шкафов было немыслимо. В детстве. я с братом ходил в гости к его тестю и чувствовал себя, как нищий во дворце, когда подолгу со слезами на глазах рассматривал запертые на ключ книжные шкафы. Из-за своей неутомимой страсти к чтению я постоянно проваливался на экзаменах в школе.
Но это дало мне одно неоспоримое преимущество… Мне не пришлось ограничиться теми устарелыми знаниями, которые давал университет. Я плыл по безбрежному океану мудрости. Ко мне ходят различного рода бакалавры и магистры[144] искусств, которые по сей день не могут выбраться из темниц викторианского века… Подобно неподвижной земле в птолемеевом мироздании, они будто навсегда пригвождены к восемнадцатому-девятнадцатому векам. Поэтому не только нынешним студентам, но и сыновьям их и внукам суждено почтительно, как во время религиозной церемонии, двигаться по замкнутому кругу знаний. Колесница их мысли, с трудом одолев Милля[145] и Бентама[146], дотащилась до Карлейля[147] и Рескина[148] и застряла в пути. Студенты обязаны слушать только лекции своих преподавателей и не имеют права даже мечтать о чем-нибудь другом.
Между тем та, чужая нам литература, в зависимость от которой мы поставили свое духовное развитие и которую неустанно пережевываем, будто жвачку, не остается неизменной, она идет в ногу с жизнью своей страны. Я, разумеется, не мог жить чужой жизнью, но старался в своем духовном развитии не отстать от нее. Я сам выучил французский, немецкий, итальянский языки, брался даже за русский. Я взял билет на экспресс современности, идущий со скоростью более шестидесяти миль в час. Поэтому я вникал глубоко в учение Хаксли[149] и Дарвина[150] и не боялся судить о Теннисоне[151], и лишь врожденная скромность удержала меня от погони за дешевой славой на страницах наших ежемесячных журналов. Я не стал рулевым в лодке, на борту которой начертаны имена Ибсена[152] и Метерлинка[153].
Мечта моя сбылась — я собрал вокруг себя тех, кто способен оценить меня. Я убедился, что и в Бенгалии есть люди, которые, учась в колледже, все же не остаются равнодушными при звуках вины Сарасвати. Сначала ко мне приходили по одному, по два человека, а потом собралась целая группа.
Второй моей страстью были разговоры, или, выражаясь высоким стилем, — дискуссии. Я внимательно следил за всеми диспутами на страницах периодических и непериодических изданий, всегда поражаясь тому, как могли они быть столь незрелыми и в то же время так устареть. Мне часто хотелось влить в эту затхлую атмосферу свободную мысль, но писать было лень. Поэтому я радовался каждому, кто выслушивал мои сокровенные мысли.
Кружок мой рос. Я жил в тихом переулке в доме номер два, но мои друзья стали называть меня «неповторимым», а кружок мой «Обществом неповторимых».
Познания членов моего кружка всегда оказывались кстати. Утром, например, один из них забегал с только что вышедшей в свет английской книжкой, заложенной в каком-нибудь месте трамвайным билетом.
За разговорами мы не замечали, как шло время. Наступали сумерки, и появлялся другой член кружка с конспектами лекций колледжа. Он просиживал до глубокой ночи и даже не думал уходить. Я говорил до изнеможения. Однажды мне пришло в голову, что хороший художественный вкус способствует не только деятельности мозга, но и красноречию. В то же время я понял, что человек, жертвующий собой ради того, чтобы утолить жажду знаний других, ставит себя в незавидное положение. В мире существуют гигантские гончарные круги знаний и человеческой мысли, на них появляются открытия, которые, будто глиняные горшки, проходят обжиг временем: одни становятся прочнее, другие рассыпаются. В какой-то поэме я прочел, что Шива. прекрасно видел, когда Дурга хмурила брови, но у Шивы, было три глаза, а у меня всего два, да и то ослабевшие от чрезмерного чтения. Приказывая жене состряпать угощение в самое неподходящее время, я не замечал, хмурила ли она брови… Но со временем она свыклась с тем, что в нашем доме неурочное бывает ко времени, а неприемлемое приемлемым. Часы для нас не существовали, а наше бедное хозяйство было открыто всем ветрам. Мои скромные средства. утекали лишь в одном направлении — в книжные лавки. Жена, пожалуй, лучше меня объяснила бы, каким таинственным образом удавалось ей сводить концы с концами, потому что наше хозяйство, как голодный пес, питалось жалкими крохами со стола моей любимой и прожорливой собачки.
Таким, как я, людям совершенно необходимо рассуждать вслух о различных научных проблемах. Но не для того, чтобы самому делать научные открытия или помогать в этом другим — нет, просто я мыслил вслух — это был мой способ усвоения нового. Будь я ученым или профессором, моя разговорчивость показалась бы чрезмерной. Тем, кто трудится в поте лица, не нужно заботиться о своем аппетите, бездельникам же приходится нагуливать аппетит. Прежде мое «Общество неповторимых» заменяла жена. Она часами тихонько слушала, как шумно я усваиваю знания. Она носила сари[154] только фабричной марки, и украшения ее не отличались ни чистотой золота, ни массивностью, зато в рассуждениях ее мужа, например, о евгенике[155], учении Менделя[156] или математической логике не было и намека на фальшь. Мой кружок лишил жену возможности слушать мои ученые разговоры, но она почему-то ни разу не пожалела об этом.
Жену мою звали Онилой. Право, не знаю, что означает это имя, верно, и тесть мой этого не знал. Но оно ласкает слух и, я думаю, полно смысла, и, что бы на этот счет ни говорили словари, мне кажется, жена моя была любимой дочерью своего отца, иначе он не дал бы ей такого имени. Когда скончалась матьОнилы, тесть мой выбрал для себя самый приятный способ окружить заботой полуторагодовалого Шороджа — вторично женился. Насколько моему тестю повезло в женитьбе, можно заключить хотя бы из того, что за два дня до своей смерти он сказал Ониле, держа ее за руку:
— Я ухожу, дорогая, ты единственный человек, кому я могу доверить Шороджа.
Не знаю точно, сколько тесть оставил своей второй жене и ее детям. Ониле же он тайно вручил семь с половиной тысяч рупий с таким наказом:
— Истрать эти деньги на образование Шороджа.
Поведение тестя немало удивило меня. Умный, практичный,
он никогда не поступал необдуманно. Я же был уверен, что самым достойным человеком, которому следовало поручить воспитание Шороджа, был я сам. Просто уму непостижимо, почему он выбрал для этой роли Онилу. Даже не будь он уверен в моей безукоризненной честности, ему и тогда следовало бы доверить мне эти деньги. Впрочем, он был всего лишь преуспевающим дельцом викторианского века и не мог в полной мере оценить меня.
Уязвленный до глубины души, я решил не заводить об этом разговора, думая, что Онила первая это сделает: ведь без моей помощи ей все равно не обойтись. Но Онила ни словом не обмолвилась, и мне показалось, что она просто робеет. И вот однажды я как бы невзначай спросил:
— Ты что-нибудь сделала для Шороджа?
— Наняла учителя, потом он ходит в школу, — ответила жена.
Я намекнул, что согласен сам заниматься с мальчиком. Как-то я пытался втолковать Ониле сущность некоторых новейших методов обучения. Онила выслушала молча. Тогда впервые у меня родилось подозрение, что жена меня не уважает. Колледж я не кончил, и, вероятно, она считает, что я не имею ни права, ни опыта давать подобные советы. Оно и понятно. Разве могла она оценить должным образом мои взгляды на происхождение и эволюцию человека или распространение радиоволн?! Возможно даже, она считала, что ученик второго класса разбирается в этом лучше меня. Еще бы! Ведь в школе учителя таскают этих олухов за уши, стараясь вбить в их тупые головы какие-то знания.
В раздражении я повторял себе, что доказывать женщине собственное превосходство. — значит отказаться от своего главного достоинства. — способности научно мыслить.
Как правило, все действия семейной драмы идут за спущенным занавесом, но в конце пятого акта занавес вдруг поднимается. В те дни я был увлечен теориями Бергсона[157] и интеллектуализмом Ибсена, обсуждал их с моими «неповторимыми» и считал, что светильник жертвенности еще не зажегся на алтаре жизни Он илы.
Однако сейчас, оглядываясь на прошлое, я отчетливо вижу, что бог — создатель, творец всего живого — целиком овладел и душой и помыслами Онилы. Ей, старшей сестре, приходилось вести с мачехой упорную борьбу за маленького брата. Земля, которую держит на себе змей Васуки из пуран[158], неподвижна.
Но мир страданий, которые тяжким бременем легли на плечи молодой женщины, вечно менялся под градом ударов. Одному лишь богу известны муки, терзавшие Онилу, ценно занятую хлопотами по дому. Во всяком случае, я ни о чем не догадывался. Я и не подозревал, сколько переживаний, отвергнутых усилий, униженной любви, тайного беспокойства живут рядом со мной под покровом молчания. Я считал, что главным в жизни Онилы стали банкеты в честь «неповторимых». Но сейчас я понял, что самым родным и близким человеком для Онилы был брат, из-за которого она столько выстрадала. Моей помощью пренебрегли, и я перестал интересоваться судьбой мальчика.
Тем временем в доме номер один по нашему переулку поселился жилец. Этот дом был построен известным калькуттским ростовщиком Удхобом Боралом. Его сыновья и внуки не пожалели сил, чтобы спустить все его состояние. Род пришел в упадок. В живых остались только две, вдовы, да и те никогда не жили в особняке, поскольку он был очень запущен. Изредка кто-нибудь снимал его для свадьбы или других празднеств. На этот раз в нем поселился помещик из Нороттомпура, раджа Шитаншумаули.
Кстати, я мог и не заметить этого неожиданного вселения. Дело в том, что, подобно Карне, родившемуся в доспехах, я появился на свет в кольчуге рассеянности, очень прочной и массивной, она служила мне надежной защитой от ругани, шума, сутолоки.
Нынешние богачи страшнее стихийных бедствий, потому что они противоестественны: У человека должно быть две руки, две ноги и одна голова… Если же число ног, рук и голов превосходит положенное, это уже не человек, а демон. Испокон века демоны стараются выскочить из своих естественных пределов и ужасным шумом и бесцеремонностью доставляют беспокойство как бренному, так и небесному миру. Не заметить их совершенно немыслимо, хотя в этом нет особой необходимости. Они-болезнь земли, их побаивается сам Индра[159].
Вскоре я понял, что Шитаншу не человек, а сущий демон. Я никогда не мог себе представить, что один человек может производить столько шума. Со своими экипажами, лошадьми и целой армией слуг он казался чудовищем о десяти головах и двадцати руках. И огонь, изрыгаемый этим чудовищем, спалил стену, отгораживающую мой научный рай от остального мира.
Первая моя встреча с Шитаншумаули произошла на углу переулка. Главное достоинство. нашего переулка заключалось в том, что там мог безнаказанно прогуливаться даже такой, как я, рассеянный человек, который ничего не замечал вокруг. Я мог идти по переулку и рассуждать сам с собой о рассказах Мередита[160], о поэзии Браунинга[161] или о стихах какого-нибудь современного бенгальского поэта, не опасаясь попасть в катастрофу. Но в тот день я внезапно услышал за спиной громкий окрик. Оглянулся и увидел пару огромных гнедых лошадей, запряженных в открытую двухместную коляску. Ее владелец сам правил, а кучер сидел рядом с ним. Бабу изо всех сил дернул вожжи. Я отпрянул к табачной лавке и спасся просто чудом. Бабу был вне себя от гнева… Еще бы! Не мог же он, беспечно правивший своей колесницей, простить столь же беспечного пешехода!
Я уже пытался объяснить подобные явления. Пешеход — человек обыкновенный, у него всего две ноги. У того, кто правит парой лошадей, их, по крайней мере, восемь, и он уже демон. Он занимает чересчур много места, отсюда и проистекают бедствия. Бог двуногого человека бессилен перед восьминогим чудом.
По законам природы я со временем должен был забыть и экипаж, и его владельца, потому что в нашем удивительном мире бывают вещи поинтересней, их и следует хранить в памяти. Но, увы, сосед производил гораздо больше шума, чем это полагается человеку обыкновенному. Так, о моем соседе, живущем в доме номер три, я при желании мог не вспоминать месяцами, но забыть хотя бы на миг о существовании соседа из первого номера было немыслимо!
По ночам его лошади, а их было около десятка, весьма немузыкально барабанили копытами по деревянному настилу конюшни, нарушая мой сон. По утрам же, когда его конюхи, а их тоже было около десяти, начинали скрести лошадей, мое доброе расположение духа бесследно улетучивалось. К тому же носильщики его паланкина были уроженцами Ориссы или Бходжпура, а привратники принадлежали к касте рыбаков Западной Бенгалии, и ни один из них не питал склонности к тихим и вежливым беседам. Таким образом, новый жилец, хоть и жил в доме совсем один, умудрялся производить шум бесчисленными способами.
Итак, новый сосед, бесспорно, был демоном. Он ни от чего не испытывал беспокойства, как сам Равана[162], которого даже не тревожил храп его собственных двадцати ноздрей. Но войдите в положение его соседа. Небесный рай прежде всего поражал красотой своих пропорций, а дьявол, нарушивший райский покой и благодать, — несоразмерностью. И вот этот дьявол, оседлав мешок с деньгами, атаковал жилище обыкновенного человека. Его лошади, можно сказать, наступают на пятки скромного пешехода, а он, видите ли, приходит еще в ярость!
Однажды вечером никто из моих «неповторимых» не зашел ко мне, и я сидел, погрузившись в чтение книги о природе морских приливов и отливов. Вдруг что-то перелетело через ограду и стукнулось о переплет моего окна. То был меморандум моего соседа — теннисный мяч. Притяжение луны, биение пульса земли, самые древние системы стихосложения мира — все разом вылетело у меня из головы. Сосед не мог быть мне ничем полезен, и в то же время невозможно было не думать о нем. Через минуту примчался, запыхавшись, старый Оджодхо, мой единственный слуга. Мне никогда не удавалось его дозваться, мой истошный крик не оказывал на него никакого действия. Он неизменно говорил, что работы много, а он один. А сейчас я стал свидетелем того, как он без лишних напоминаний схватил мяч и помчался в соседний дом. Оказалось, что за каждый доставленный мяч ему платили четыре пайсы.
Вскоре я убедился, что разбит не только мой оконный переплет— нарушено душевное равновесие моих слуг. Меня не удивляло, что с каждым днем росло презрение Оджодхо к моей ничтожной особе, но вот и председатель «Общества неповторимых» Канайлал стал тянуться к соседнему дому. И все же я был уверен в преданности Канайлала. Но вот однажды я увидел, как он, обогнав старого Оджодхо, схватил мяч и со всех ног побежал к соседу. Я понял: он ищет повода для знакомства, и я усомнился в бескорыстной дружбе, которой нас учит веданта[163]. Да, одной амритой такой сыт не будет!
Я пытался зло вышучивать первый номер, говорил, что под его богатыми одеждами скрывается духовная пустота, но это было так же безнадежно, как стремление тучи закрыть собой все небо. Однажды Канайлал заявил, что мой сосед совсем не пустой человек, он бакалавр искусств. Канайлал и сам был бакалавром, поэтому, чтобы не обидеть его, я промолчал.
Вдобавок ко всему первый номер обладал еще и музыкальными талантами. Он играл на рнете, эсрадже[164] и виолончели. Я не причисляю себя к знатокам музыки, которые презирают пение. Но мне кажется, что пение все же нельзя отнести к высокому искусству. Когда человеку не хватает слов, когда он нем, он прибегает к песне; когда человек не в состоянии мыслить, говорить разумно, он кричит. Доказательством тому служат люди, и поныне находящиеся на низшей ступени развития, — им доставляет удовольствие издавать всевозможные звуки. Но вот я стал замечать, что, по крайней мере, четверо из моих «неповторимых», стоит им услышать виолончель первого номера, уже не в состоянии сосредоточиться на новом разделе математической логики.
Как раз в то самое время, когда члены моего кружка стали тянуться к первому номеру, Онила сказала мне:
— Какой у нас беспокойный сосед! Давай переедем в другое место.
Я был несказанно рад.
— Видите, как бесхитростны женщины! — сказал я своим коллегам. — Они не способны осмыслить того, что требует доказательств, но быстро понимают очевидное.
— Такое, как, например, злой дух, появление души усопшего брахмана, величие праха от его ног, воздаяние за почитание супруга и тому подобное, — пошутил Канайлал.
— Да нет, — возразил я. — Вас ослепило великолепие первого номера, но Онилу не обманули его пышные одеяния.
Жена несколько раз заводила разговор о переезде. Я жаждал переехать, но было лень бродить по калькуттским переулкам в поисках нового дома. И вот в один прекрасный день я увидел, что Канайлал и Шобиш играют в теннис у первого номера.
Потом до меня дошли слухи, будто Джоти и Хорен посещают музыкальные вечера первого номера и снискали там всеобщее восхищение — один своей игрой на фисгармонии, другой — на барабане, а Орун — исполнением шуточных песен. Пять лет я знал этих людей, но не подозревал в них таких талантов. Я полагал, что основная страсть Оруна — сравнительное изучение религиозных систем. Где мне было догадаться, что он мастер петь шуточные песни!
Говоря откровенно, при всем моем презрении к первому номеру, в душе я завидовал ему. Не смешно ли? Я, который умел мыслить, выносить суждения, мгновенно схватывать суть явлений, решать сложнейшие проблемы, — завидовал какому-то Шитаншумаули!
По утрам первый номер гарцевал на великолепном скакуне, с какой удивительной ловкостью управлялся он с поводьями! Я, вздыхая, глядел на него, воображая и себя на таком скакуне. К сожалению, я никогда не отличался ловкостью.
Я не любитель музыки, но не раз ловил себя на том, что украдкой подсматриваю в окно Шитаншу, когда он играет на эсрадже, и восхищаюсь его искусством. Инструмент в его руках казался женщиной, которая щедро дарит все свои сокровища возлюбленному. Вещи, дома, животные, люди легче подчинялись Шитаншу, подпадая под его власть и обаяние. И я не мог не считать это свойство Шитаншу редкостным даром. Ему ничего не нужно добиваться, все дается ему без труда, словно по мановению волшебной палочки.
Когда мои «неповторимые» один за другим стали поддаваться соблазнам первого номера, я понял, что единственное средство спасти их — это переехать в другой дом. И вот однажды утром явился маклер и сообщил, что в районе Боронагора и Кашипура есть подходящий для меня дом. Вопрос был решен, и я пошел сказать жене, чтобы она готовилась к переезду. Но не нашел ее ни в кладовке, ни на кухне. Онила сидела в спальне у окна, прильнув лбом к оконной решетке. Заметив меня, она встала.
— Завтра переезжаем на новую квартиру, — сообщил я.
— Давай подождем до пятнадцатого, — неожиданно попросила Онила.
— Почему? — удивился я.
— Скоро будет известно, как Шородж сдал экзамены. Я очень волнуюсь, мне не до сборов.
Образование Шороджа было одним из многих вопросов, которые я никогда не обсуждал с женой. Итак, неожиданно для меня пришлось отложить переезд на несколько дней. За это время я узнал, что Шитаншу скоро уезжает путешествовать по Южной Индии, таким образом, тень, нависшая над вторым номером, сама собой исчезнет.
Но вдруг поднялся занавес, и начался пятый акт жизненной драмы. Накануне того памятного дня Онила ушла к мачехе и, вернувшись лишь на следующий день, заперлась у себя в комнате. Она знала, что вечером в честь полнолуния у меня соберутся «неповторимые» и надо приготовить угощение. Я постучал к ней, чтобы обо всем договориться. В ответ — ни звука.
— Ону! — крикнул я тогда.
Спустя несколько минут Онила отперла дверь.
— У тебя все готово для вечера? — спросил я.
Жена молча кивнула.
— Не забудь про пончики с рыбой и соус из чернослива, их любят все.
Выйдя из комнаты, я увидел Канайлала.
— Сегодня приходите все пораньше, Канай, — сказал я ему.
Канай удивился:
— Неужели мы соберемся сегодня?
— А почему бы и нет! — весело ответил я. — Все готово. — от книги новых рассказов Максима Горького и критических замечаний Рассела[165] на учение Бергсона до пончиков с рыбой и соуса с черносливом.
Канай остолбенело смотрел на меня.
— Не надо сегодня, «неповторимый», — помолчав, проговорил он.
В конце концов я добился от него, в чем дело. Накануне вечером мой шурин покончил с собой. Шородж провалился на экзаменах и, не снеся упреков мачехи, повесился на своем чадоре.
— Откуда ты узнал об этом? — спросил я Канайлала.
— Первый номер сообщил.
Опять он! А произошло это вот как. Узнав о несчастье, Онила не стала дожидаться экипажа, а, взяв с собой Оджодхо, вышла на улицу и по дороге в дом отца наняла извозчика. Ночью Шитаншумаули, узнав обо всем от Оджодхо, тотчас же помчался за ней, потом съездил в полицию и, взяв на себя все хлопоты, связанные с кремацией тела, оставался с Онилой до самого конца.
Взволнованный, прошел я на женскую половину дома. Я предполагал, что жена заперлась у себя в комнате. Но на этот раз она готовила соус из чернослива. на веранде перед кухней. По выражению лица Онилы я понял, что сегодя ночью рухнула вся ее жизнь.
— Почему ты мне ничего не сказала? — с укором спросил я ее.
Онила взглянула на меня и промолчала.
Я съежился от стыда, потому что, спроси она меня, «что могло это изменить», я не знал бы, что ответить. Что бы ни случилось в семье, горе или счастье, я всегда терялся.
— Брось все, Онила, — сказал я, — никто не придет.
— Почему? — спросила она, глядя на груду очищенного чернослива. — Я столько наготовила. Неужели все выбрасывать?
— Но мы не можем сегодня заниматься чем бы то ни было.
— А вы. не занимайтесь. Будьте просто моими гостями.
Слова Онилы несколько успокоили меня. «Не так уж сильно она переживает, — подумал я. — Значит, возымели свое действие мои беседы с ней».
Жена моя не могла похвастать ни способностями, ни образованностью, она далеко не все понимала, но в обаянии ей нельзя было отказать.
Вечером у нас собралось всего несколько человек. Канайлал не пришел. Не пришли все, кто играл в теннис у первого номера.
Я знал, что на рассвете Шитаншумаули уезжает и они приглашены- к нему на прощальный ужин.
Никогда еще Онила не подавала такого роскошного угощения. Будучи человеком расточительным, я все же не мог не отметить про себя, что денег была потрачена уйма.
Гости разошлись лишь в половине второго ночи. Утомленный, я отправился спать.
— Пойдем? — сказал я жене.
— Я прежде уберу посуду.
Проснулся я около восьми утра. Под очками, которые я накануне положил на маленький столик в спальне, лежал листок бумаги. На нем рукой Онилы было написано: «Я ухожу. Не ищи меня. Это бесполезно».
Я ничего не мог понять. Тут же на столике стояла жестяная шкатулка. Я открыл ее. В ней были сложены все украшения жены вплоть до браслетов (не было лишь железного браслета и браслета из ракушек). Здесь же, в шкатулке, лежала связка ключей, завернутые в бумагу рупии и мелкая монета — все, что осталось от расходов на месяц. Там же я нашел блокнотик со списком посуды и вещей, счета прачки, бакалейщика и молочника— словом, все, кроме ее адреса.
Постепенно я понял, что Онила ушла навсегда. Я обошел весь наш дом, потом дом тестя — Онила исчезла. Я никогда не задумывался над тем, что должен делать человек в моем положении. Сердце у меня разрывалось от горя. Неожиданно взгляд мой остановился на соседнем доме с плотно запертыми окнами и дверьми. У ворот, покуривая трубку, сидел сторож. Страшное подозрение обожгло душу: в то время как я весь ушел в изучение новейшей логики, старое как мир человеческое вероломство расставило сети в моей доме. О подобных явлениях я в свое время читал у таких крупных писателей, как Флобер[166], Толстой, Тургенев, и с наслаждением тщательно исследовал их суть. Но мне и не снилось, что когда-нибудь такая банальность может случиться со мной.
Когда первое потрясение прошло, я попытался поверхностно, будто незрелый философ, разобраться в случившемся. Смеясь над собой, я вспомнил день нашей свадьбы. Я думал о том, сколько пропадает напрасно надежд, усилий, чувств, сколько дней и ночей, лет прожил я слепым, совершенно не замечая, что моя жена — живое существо… А стоило мне прозреть, как все лопнуло, будто мыльный пузырь. Я так и не научился понимать то, что из века в век, преодолевая жизнь и смерть, остается неизменным.
Оказалось, что против обрушившегося на меня горя бессильна всякая философия. Во мне пробудилась моя первобытная душа и, истомленная жаждой, заметалась, рыдая. Я мерил шагами крышу, долго бродил по веранде, по опустевшему дому. Потом зашел в комнату, где так часто жена в одиночестве сидела у окна, и, словно обезумев, стал лихорадочно перебирать ее вещи. Дернул ящик у зеркала, перед которым Онила причесывалась, и оттуда вывалилась пачка писем, перевязанных алой шелковой лентой. Письма были от первого номера.
В сердце вспыхнуло пламя, я хотел сейчас же сжечь их. Но, причиняя мне невыносимые страдания, эти письма в то же время манили к себе. Я бы умер на месте, если б не прочел их.
Я перечитывал письма раз пятьдесят. Первое письмо было склеено. Онила, наверное, сначала разорвала его, а потом бережно наклеила на лист бумаги. Вот оно:
«Я не опечалюсь, если ты разорвешь это письмо, не прочитав. Мне просто нужно излить душу. Я смотрел на мир широко открытыми глазами и вот впервые, в свои тридцать два года, увидел то, что поистине достойно созерцания. С глаз моих спала пелена, словно ты прикоснулась к ним волшебной палочкой. Прозрев, я увидел тебя и понял, что ты, несравненная, самое совершенное создание тобой же созданного мира. Я уже получил то, что мне причитается, больше мне ничего не надо, хочу лишь, чтобы ты услышала мою хвалу тебе. Будь я поэтом, я не стал бы писать этого письма, а заставил бы весь мир громко повторять мои стихи, славящие тебя. Знаю, ты не ответишь, но пойми меня правильно. Не думай, что я мог бы причинить тебе страдания, и молча прими мое поклонение. Если мне достанется хоть капля твоего уважения, я буду счастлив. Я не стану называть своего имени, оно известно тебе».
Ни в одном из двадцати пяти писем я не нашел и намека на то, что Онила отвечала на них. Любой ее ответ прозвучал бы диссонансом, волшебная палочка потеряла бы свою силу, смолкли бы гимны:
Удивительно! Восемь лет провел я с Онилой бок о бок и только сейчас, прочитав письма чужого человека, понял, каким она была сокровищем. Да, я действительно был слеп. Я получил Онилу из рук жреца, но оказался не в состоянии заплатить всю цену сполна, чтобы получить ее из рук всевышнего. И потому, что для меня всегда важнее было мое «Общество неповторимых» и новейшие теории логики, я не замечал жены и не смог завоевать ее сердца. И если другой, посвятивший Ониле свою жизнь, завладел ею, кому я пойду жаловаться?!
В последнем письме Шитаншу писал:
«Я ничего не знаю о твоей жизни, но вижу, что душа твоя страдает. Это для меня огромное испытание. Мои руки, руки мужчины, не хотят оставаться в бездействии. Они стремятся вырвать тебя из-под власти неба, спасти от пустоты твоей жизни. Но боюсь, что и горе твое принадлежит только тебе. А разделить его с тобой я не вправе… Жду до рассвета. Если за это время твое небесное послание разрешит мои сомнения — на все решусь! Ураган страсти гасит светильник на нашем пути. Но я обуздаю свое сердце и буду повторять: «Будь счастлива!»
Видимо, все сомнения рассеялись, и пути этих людей сошлись. По сей день письма Шитаншумаули звучат как заклинания моей души.
Шло время, я больше не увлекался чтением. Сердцем моим владело одно мучительное желание — еще хоть раз увидеть Онилу, я ничего не мог поделать с собой. И вот я узнал, что Шитаншумаули живет в горах Майсура.
Я поехал туда, несколько раз видел Шитаншу, он прогуливался один. Онилы с ним не было. Может быть, он бросил ее, обесчестив? Не в силах оставаться в неведении, я пошел к нему Нет нужды пересказывать весь наш разговор.
— Я получил от нее одно-единственное письмо, — сказал Шитаншу. — Вот оно.
Он вынул из кармана покрытую эмалью золотую коробочку для визитных карточек, достал листок бумаги и протянул мне. «Я ухожу. Не ищи меня. Это бесполезно».
Тот же почерк, те же слова, то же число и та же половинка голубого листка, вторая половина хранится у меня.
1917
Человек, у которого любовь, к путешествиям намного превышает материальные возможности, с жадностью просматривает расписание поездов, так и я в юности, когда у меня не было денег, с упоением читал книжные каталоги. Мой дальний родственник, тесть моего брата, скупал без разбора все новинки и очень гордился тем, что и по сей день ни одна книга у него не пропала. Во всей Бенгалии, вероятно, не встретишь второго такого везучего человека. Ведь среди всех вещей, постоянно переходящих из рук в руки, как, например, деньги, жизнь, зонтик, утерянный каким-нибудь рассеянным, бенгальские книги занимают первое место.
Поэтому можно себе представить, что получить у этого счастливчика ключи от книжных шкафов было немыслимо. В детстве. я с братом ходил в гости к его тестю и чувствовал себя, как нищий во дворце, когда подолгу со слезами на глазах рассматривал запертые на ключ книжные шкафы. Из-за своей неутомимой страсти к чтению я постоянно проваливался на экзаменах в школе.
Но это дало мне одно неоспоримое преимущество… Мне не пришлось ограничиться теми устарелыми знаниями, которые давал университет. Я плыл по безбрежному океану мудрости. Ко мне ходят различного рода бакалавры и магистры[144] искусств, которые по сей день не могут выбраться из темниц викторианского века… Подобно неподвижной земле в птолемеевом мироздании, они будто навсегда пригвождены к восемнадцатому-девятнадцатому векам. Поэтому не только нынешним студентам, но и сыновьям их и внукам суждено почтительно, как во время религиозной церемонии, двигаться по замкнутому кругу знаний. Колесница их мысли, с трудом одолев Милля[145] и Бентама[146], дотащилась до Карлейля[147] и Рескина[148] и застряла в пути. Студенты обязаны слушать только лекции своих преподавателей и не имеют права даже мечтать о чем-нибудь другом.
Между тем та, чужая нам литература, в зависимость от которой мы поставили свое духовное развитие и которую неустанно пережевываем, будто жвачку, не остается неизменной, она идет в ногу с жизнью своей страны. Я, разумеется, не мог жить чужой жизнью, но старался в своем духовном развитии не отстать от нее. Я сам выучил французский, немецкий, итальянский языки, брался даже за русский. Я взял билет на экспресс современности, идущий со скоростью более шестидесяти миль в час. Поэтому я вникал глубоко в учение Хаксли[149] и Дарвина[150] и не боялся судить о Теннисоне[151], и лишь врожденная скромность удержала меня от погони за дешевой славой на страницах наших ежемесячных журналов. Я не стал рулевым в лодке, на борту которой начертаны имена Ибсена[152] и Метерлинка[153].
Мечта моя сбылась — я собрал вокруг себя тех, кто способен оценить меня. Я убедился, что и в Бенгалии есть люди, которые, учась в колледже, все же не остаются равнодушными при звуках вины Сарасвати. Сначала ко мне приходили по одному, по два человека, а потом собралась целая группа.
Второй моей страстью были разговоры, или, выражаясь высоким стилем, — дискуссии. Я внимательно следил за всеми диспутами на страницах периодических и непериодических изданий, всегда поражаясь тому, как могли они быть столь незрелыми и в то же время так устареть. Мне часто хотелось влить в эту затхлую атмосферу свободную мысль, но писать было лень. Поэтому я радовался каждому, кто выслушивал мои сокровенные мысли.
Кружок мой рос. Я жил в тихом переулке в доме номер два, но мои друзья стали называть меня «неповторимым», а кружок мой «Обществом неповторимых».
Познания членов моего кружка всегда оказывались кстати. Утром, например, один из них забегал с только что вышедшей в свет английской книжкой, заложенной в каком-нибудь месте трамвайным билетом.
За разговорами мы не замечали, как шло время. Наступали сумерки, и появлялся другой член кружка с конспектами лекций колледжа. Он просиживал до глубокой ночи и даже не думал уходить. Я говорил до изнеможения. Однажды мне пришло в голову, что хороший художественный вкус способствует не только деятельности мозга, но и красноречию. В то же время я понял, что человек, жертвующий собой ради того, чтобы утолить жажду знаний других, ставит себя в незавидное положение. В мире существуют гигантские гончарные круги знаний и человеческой мысли, на них появляются открытия, которые, будто глиняные горшки, проходят обжиг временем: одни становятся прочнее, другие рассыпаются. В какой-то поэме я прочел, что Шива. прекрасно видел, когда Дурга хмурила брови, но у Шивы, было три глаза, а у меня всего два, да и то ослабевшие от чрезмерного чтения. Приказывая жене состряпать угощение в самое неподходящее время, я не замечал, хмурила ли она брови… Но со временем она свыклась с тем, что в нашем доме неурочное бывает ко времени, а неприемлемое приемлемым. Часы для нас не существовали, а наше бедное хозяйство было открыто всем ветрам. Мои скромные средства. утекали лишь в одном направлении — в книжные лавки. Жена, пожалуй, лучше меня объяснила бы, каким таинственным образом удавалось ей сводить концы с концами, потому что наше хозяйство, как голодный пес, питалось жалкими крохами со стола моей любимой и прожорливой собачки.
Таким, как я, людям совершенно необходимо рассуждать вслух о различных научных проблемах. Но не для того, чтобы самому делать научные открытия или помогать в этом другим — нет, просто я мыслил вслух — это был мой способ усвоения нового. Будь я ученым или профессором, моя разговорчивость показалась бы чрезмерной. Тем, кто трудится в поте лица, не нужно заботиться о своем аппетите, бездельникам же приходится нагуливать аппетит. Прежде мое «Общество неповторимых» заменяла жена. Она часами тихонько слушала, как шумно я усваиваю знания. Она носила сари[154] только фабричной марки, и украшения ее не отличались ни чистотой золота, ни массивностью, зато в рассуждениях ее мужа, например, о евгенике[155], учении Менделя[156] или математической логике не было и намека на фальшь. Мой кружок лишил жену возможности слушать мои ученые разговоры, но она почему-то ни разу не пожалела об этом.
Жену мою звали Онилой. Право, не знаю, что означает это имя, верно, и тесть мой этого не знал. Но оно ласкает слух и, я думаю, полно смысла, и, что бы на этот счет ни говорили словари, мне кажется, жена моя была любимой дочерью своего отца, иначе он не дал бы ей такого имени. Когда скончалась матьОнилы, тесть мой выбрал для себя самый приятный способ окружить заботой полуторагодовалого Шороджа — вторично женился. Насколько моему тестю повезло в женитьбе, можно заключить хотя бы из того, что за два дня до своей смерти он сказал Ониле, держа ее за руку:
— Я ухожу, дорогая, ты единственный человек, кому я могу доверить Шороджа.
Не знаю точно, сколько тесть оставил своей второй жене и ее детям. Ониле же он тайно вручил семь с половиной тысяч рупий с таким наказом:
— Истрать эти деньги на образование Шороджа.
Поведение тестя немало удивило меня. Умный, практичный,
он никогда не поступал необдуманно. Я же был уверен, что самым достойным человеком, которому следовало поручить воспитание Шороджа, был я сам. Просто уму непостижимо, почему он выбрал для этой роли Онилу. Даже не будь он уверен в моей безукоризненной честности, ему и тогда следовало бы доверить мне эти деньги. Впрочем, он был всего лишь преуспевающим дельцом викторианского века и не мог в полной мере оценить меня.
Уязвленный до глубины души, я решил не заводить об этом разговора, думая, что Онила первая это сделает: ведь без моей помощи ей все равно не обойтись. Но Онила ни словом не обмолвилась, и мне показалось, что она просто робеет. И вот однажды я как бы невзначай спросил:
— Ты что-нибудь сделала для Шороджа?
— Наняла учителя, потом он ходит в школу, — ответила жена.
Я намекнул, что согласен сам заниматься с мальчиком. Как-то я пытался втолковать Ониле сущность некоторых новейших методов обучения. Онила выслушала молча. Тогда впервые у меня родилось подозрение, что жена меня не уважает. Колледж я не кончил, и, вероятно, она считает, что я не имею ни права, ни опыта давать подобные советы. Оно и понятно. Разве могла она оценить должным образом мои взгляды на происхождение и эволюцию человека или распространение радиоволн?! Возможно даже, она считала, что ученик второго класса разбирается в этом лучше меня. Еще бы! Ведь в школе учителя таскают этих олухов за уши, стараясь вбить в их тупые головы какие-то знания.
В раздражении я повторял себе, что доказывать женщине собственное превосходство. — значит отказаться от своего главного достоинства. — способности научно мыслить.
Как правило, все действия семейной драмы идут за спущенным занавесом, но в конце пятого акта занавес вдруг поднимается. В те дни я был увлечен теориями Бергсона[157] и интеллектуализмом Ибсена, обсуждал их с моими «неповторимыми» и считал, что светильник жертвенности еще не зажегся на алтаре жизни Он илы.
Однако сейчас, оглядываясь на прошлое, я отчетливо вижу, что бог — создатель, творец всего живого — целиком овладел и душой и помыслами Онилы. Ей, старшей сестре, приходилось вести с мачехой упорную борьбу за маленького брата. Земля, которую держит на себе змей Васуки из пуран[158], неподвижна.
Но мир страданий, которые тяжким бременем легли на плечи молодой женщины, вечно менялся под градом ударов. Одному лишь богу известны муки, терзавшие Онилу, ценно занятую хлопотами по дому. Во всяком случае, я ни о чем не догадывался. Я и не подозревал, сколько переживаний, отвергнутых усилий, униженной любви, тайного беспокойства живут рядом со мной под покровом молчания. Я считал, что главным в жизни Онилы стали банкеты в честь «неповторимых». Но сейчас я понял, что самым родным и близким человеком для Онилы был брат, из-за которого она столько выстрадала. Моей помощью пренебрегли, и я перестал интересоваться судьбой мальчика.
Тем временем в доме номер один по нашему переулку поселился жилец. Этот дом был построен известным калькуттским ростовщиком Удхобом Боралом. Его сыновья и внуки не пожалели сил, чтобы спустить все его состояние. Род пришел в упадок. В живых остались только две, вдовы, да и те никогда не жили в особняке, поскольку он был очень запущен. Изредка кто-нибудь снимал его для свадьбы или других празднеств. На этот раз в нем поселился помещик из Нороттомпура, раджа Шитаншумаули.
Кстати, я мог и не заметить этого неожиданного вселения. Дело в том, что, подобно Карне, родившемуся в доспехах, я появился на свет в кольчуге рассеянности, очень прочной и массивной, она служила мне надежной защитой от ругани, шума, сутолоки.
Нынешние богачи страшнее стихийных бедствий, потому что они противоестественны: У человека должно быть две руки, две ноги и одна голова… Если же число ног, рук и голов превосходит положенное, это уже не человек, а демон. Испокон века демоны стараются выскочить из своих естественных пределов и ужасным шумом и бесцеремонностью доставляют беспокойство как бренному, так и небесному миру. Не заметить их совершенно немыслимо, хотя в этом нет особой необходимости. Они-болезнь земли, их побаивается сам Индра[159].
Вскоре я понял, что Шитаншу не человек, а сущий демон. Я никогда не мог себе представить, что один человек может производить столько шума. Со своими экипажами, лошадьми и целой армией слуг он казался чудовищем о десяти головах и двадцати руках. И огонь, изрыгаемый этим чудовищем, спалил стену, отгораживающую мой научный рай от остального мира.
Первая моя встреча с Шитаншумаули произошла на углу переулка. Главное достоинство. нашего переулка заключалось в том, что там мог безнаказанно прогуливаться даже такой, как я, рассеянный человек, который ничего не замечал вокруг. Я мог идти по переулку и рассуждать сам с собой о рассказах Мередита[160], о поэзии Браунинга[161] или о стихах какого-нибудь современного бенгальского поэта, не опасаясь попасть в катастрофу. Но в тот день я внезапно услышал за спиной громкий окрик. Оглянулся и увидел пару огромных гнедых лошадей, запряженных в открытую двухместную коляску. Ее владелец сам правил, а кучер сидел рядом с ним. Бабу изо всех сил дернул вожжи. Я отпрянул к табачной лавке и спасся просто чудом. Бабу был вне себя от гнева… Еще бы! Не мог же он, беспечно правивший своей колесницей, простить столь же беспечного пешехода!
Я уже пытался объяснить подобные явления. Пешеход — человек обыкновенный, у него всего две ноги. У того, кто правит парой лошадей, их, по крайней мере, восемь, и он уже демон. Он занимает чересчур много места, отсюда и проистекают бедствия. Бог двуногого человека бессилен перед восьминогим чудом.
По законам природы я со временем должен был забыть и экипаж, и его владельца, потому что в нашем удивительном мире бывают вещи поинтересней, их и следует хранить в памяти. Но, увы, сосед производил гораздо больше шума, чем это полагается человеку обыкновенному. Так, о моем соседе, живущем в доме номер три, я при желании мог не вспоминать месяцами, но забыть хотя бы на миг о существовании соседа из первого номера было немыслимо!
По ночам его лошади, а их было около десятка, весьма немузыкально барабанили копытами по деревянному настилу конюшни, нарушая мой сон. По утрам же, когда его конюхи, а их тоже было около десяти, начинали скрести лошадей, мое доброе расположение духа бесследно улетучивалось. К тому же носильщики его паланкина были уроженцами Ориссы или Бходжпура, а привратники принадлежали к касте рыбаков Западной Бенгалии, и ни один из них не питал склонности к тихим и вежливым беседам. Таким образом, новый жилец, хоть и жил в доме совсем один, умудрялся производить шум бесчисленными способами.
Итак, новый сосед, бесспорно, был демоном. Он ни от чего не испытывал беспокойства, как сам Равана[162], которого даже не тревожил храп его собственных двадцати ноздрей. Но войдите в положение его соседа. Небесный рай прежде всего поражал красотой своих пропорций, а дьявол, нарушивший райский покой и благодать, — несоразмерностью. И вот этот дьявол, оседлав мешок с деньгами, атаковал жилище обыкновенного человека. Его лошади, можно сказать, наступают на пятки скромного пешехода, а он, видите ли, приходит еще в ярость!
Однажды вечером никто из моих «неповторимых» не зашел ко мне, и я сидел, погрузившись в чтение книги о природе морских приливов и отливов. Вдруг что-то перелетело через ограду и стукнулось о переплет моего окна. То был меморандум моего соседа — теннисный мяч. Притяжение луны, биение пульса земли, самые древние системы стихосложения мира — все разом вылетело у меня из головы. Сосед не мог быть мне ничем полезен, и в то же время невозможно было не думать о нем. Через минуту примчался, запыхавшись, старый Оджодхо, мой единственный слуга. Мне никогда не удавалось его дозваться, мой истошный крик не оказывал на него никакого действия. Он неизменно говорил, что работы много, а он один. А сейчас я стал свидетелем того, как он без лишних напоминаний схватил мяч и помчался в соседний дом. Оказалось, что за каждый доставленный мяч ему платили четыре пайсы.
Вскоре я убедился, что разбит не только мой оконный переплет— нарушено душевное равновесие моих слуг. Меня не удивляло, что с каждым днем росло презрение Оджодхо к моей ничтожной особе, но вот и председатель «Общества неповторимых» Канайлал стал тянуться к соседнему дому. И все же я был уверен в преданности Канайлала. Но вот однажды я увидел, как он, обогнав старого Оджодхо, схватил мяч и со всех ног побежал к соседу. Я понял: он ищет повода для знакомства, и я усомнился в бескорыстной дружбе, которой нас учит веданта[163]. Да, одной амритой такой сыт не будет!
Я пытался зло вышучивать первый номер, говорил, что под его богатыми одеждами скрывается духовная пустота, но это было так же безнадежно, как стремление тучи закрыть собой все небо. Однажды Канайлал заявил, что мой сосед совсем не пустой человек, он бакалавр искусств. Канайлал и сам был бакалавром, поэтому, чтобы не обидеть его, я промолчал.
Вдобавок ко всему первый номер обладал еще и музыкальными талантами. Он играл на рнете, эсрадже[164] и виолончели. Я не причисляю себя к знатокам музыки, которые презирают пение. Но мне кажется, что пение все же нельзя отнести к высокому искусству. Когда человеку не хватает слов, когда он нем, он прибегает к песне; когда человек не в состоянии мыслить, говорить разумно, он кричит. Доказательством тому служат люди, и поныне находящиеся на низшей ступени развития, — им доставляет удовольствие издавать всевозможные звуки. Но вот я стал замечать, что, по крайней мере, четверо из моих «неповторимых», стоит им услышать виолончель первого номера, уже не в состоянии сосредоточиться на новом разделе математической логики.
Как раз в то самое время, когда члены моего кружка стали тянуться к первому номеру, Онила сказала мне:
— Какой у нас беспокойный сосед! Давай переедем в другое место.
Я был несказанно рад.
— Видите, как бесхитростны женщины! — сказал я своим коллегам. — Они не способны осмыслить того, что требует доказательств, но быстро понимают очевидное.
— Такое, как, например, злой дух, появление души усопшего брахмана, величие праха от его ног, воздаяние за почитание супруга и тому подобное, — пошутил Канайлал.
— Да нет, — возразил я. — Вас ослепило великолепие первого номера, но Онилу не обманули его пышные одеяния.
Жена несколько раз заводила разговор о переезде. Я жаждал переехать, но было лень бродить по калькуттским переулкам в поисках нового дома. И вот в один прекрасный день я увидел, что Канайлал и Шобиш играют в теннис у первого номера.
Потом до меня дошли слухи, будто Джоти и Хорен посещают музыкальные вечера первого номера и снискали там всеобщее восхищение — один своей игрой на фисгармонии, другой — на барабане, а Орун — исполнением шуточных песен. Пять лет я знал этих людей, но не подозревал в них таких талантов. Я полагал, что основная страсть Оруна — сравнительное изучение религиозных систем. Где мне было догадаться, что он мастер петь шуточные песни!
Говоря откровенно, при всем моем презрении к первому номеру, в душе я завидовал ему. Не смешно ли? Я, который умел мыслить, выносить суждения, мгновенно схватывать суть явлений, решать сложнейшие проблемы, — завидовал какому-то Шитаншумаули!
По утрам первый номер гарцевал на великолепном скакуне, с какой удивительной ловкостью управлялся он с поводьями! Я, вздыхая, глядел на него, воображая и себя на таком скакуне. К сожалению, я никогда не отличался ловкостью.
Я не любитель музыки, но не раз ловил себя на том, что украдкой подсматриваю в окно Шитаншу, когда он играет на эсрадже, и восхищаюсь его искусством. Инструмент в его руках казался женщиной, которая щедро дарит все свои сокровища возлюбленному. Вещи, дома, животные, люди легче подчинялись Шитаншу, подпадая под его власть и обаяние. И я не мог не считать это свойство Шитаншу редкостным даром. Ему ничего не нужно добиваться, все дается ему без труда, словно по мановению волшебной палочки.
Когда мои «неповторимые» один за другим стали поддаваться соблазнам первого номера, я понял, что единственное средство спасти их — это переехать в другой дом. И вот однажды утром явился маклер и сообщил, что в районе Боронагора и Кашипура есть подходящий для меня дом. Вопрос был решен, и я пошел сказать жене, чтобы она готовилась к переезду. Но не нашел ее ни в кладовке, ни на кухне. Онила сидела в спальне у окна, прильнув лбом к оконной решетке. Заметив меня, она встала.
— Завтра переезжаем на новую квартиру, — сообщил я.
— Давай подождем до пятнадцатого, — неожиданно попросила Онила.
— Почему? — удивился я.
— Скоро будет известно, как Шородж сдал экзамены. Я очень волнуюсь, мне не до сборов.
Образование Шороджа было одним из многих вопросов, которые я никогда не обсуждал с женой. Итак, неожиданно для меня пришлось отложить переезд на несколько дней. За это время я узнал, что Шитаншу скоро уезжает путешествовать по Южной Индии, таким образом, тень, нависшая над вторым номером, сама собой исчезнет.
Но вдруг поднялся занавес, и начался пятый акт жизненной драмы. Накануне того памятного дня Онила ушла к мачехе и, вернувшись лишь на следующий день, заперлась у себя в комнате. Она знала, что вечером в честь полнолуния у меня соберутся «неповторимые» и надо приготовить угощение. Я постучал к ней, чтобы обо всем договориться. В ответ — ни звука.
— Ону! — крикнул я тогда.
Спустя несколько минут Онила отперла дверь.
— У тебя все готово для вечера? — спросил я.
Жена молча кивнула.
— Не забудь про пончики с рыбой и соус из чернослива, их любят все.
Выйдя из комнаты, я увидел Канайлала.
— Сегодня приходите все пораньше, Канай, — сказал я ему.
Канай удивился:
— Неужели мы соберемся сегодня?
— А почему бы и нет! — весело ответил я. — Все готово. — от книги новых рассказов Максима Горького и критических замечаний Рассела[165] на учение Бергсона до пончиков с рыбой и соуса с черносливом.
Канай остолбенело смотрел на меня.
— Не надо сегодня, «неповторимый», — помолчав, проговорил он.
В конце концов я добился от него, в чем дело. Накануне вечером мой шурин покончил с собой. Шородж провалился на экзаменах и, не снеся упреков мачехи, повесился на своем чадоре.
— Откуда ты узнал об этом? — спросил я Канайлала.
— Первый номер сообщил.
Опять он! А произошло это вот как. Узнав о несчастье, Онила не стала дожидаться экипажа, а, взяв с собой Оджодхо, вышла на улицу и по дороге в дом отца наняла извозчика. Ночью Шитаншумаули, узнав обо всем от Оджодхо, тотчас же помчался за ней, потом съездил в полицию и, взяв на себя все хлопоты, связанные с кремацией тела, оставался с Онилой до самого конца.
Взволнованный, прошел я на женскую половину дома. Я предполагал, что жена заперлась у себя в комнате. Но на этот раз она готовила соус из чернослива. на веранде перед кухней. По выражению лица Онилы я понял, что сегодя ночью рухнула вся ее жизнь.
— Почему ты мне ничего не сказала? — с укором спросил я ее.
Онила взглянула на меня и промолчала.
Я съежился от стыда, потому что, спроси она меня, «что могло это изменить», я не знал бы, что ответить. Что бы ни случилось в семье, горе или счастье, я всегда терялся.
— Брось все, Онила, — сказал я, — никто не придет.
— Почему? — спросила она, глядя на груду очищенного чернослива. — Я столько наготовила. Неужели все выбрасывать?
— Но мы не можем сегодня заниматься чем бы то ни было.
— А вы. не занимайтесь. Будьте просто моими гостями.
Слова Онилы несколько успокоили меня. «Не так уж сильно она переживает, — подумал я. — Значит, возымели свое действие мои беседы с ней».
Жена моя не могла похвастать ни способностями, ни образованностью, она далеко не все понимала, но в обаянии ей нельзя было отказать.
Вечером у нас собралось всего несколько человек. Канайлал не пришел. Не пришли все, кто играл в теннис у первого номера.
Я знал, что на рассвете Шитаншумаули уезжает и они приглашены- к нему на прощальный ужин.
Никогда еще Онила не подавала такого роскошного угощения. Будучи человеком расточительным, я все же не мог не отметить про себя, что денег была потрачена уйма.
Гости разошлись лишь в половине второго ночи. Утомленный, я отправился спать.
— Пойдем? — сказал я жене.
— Я прежде уберу посуду.
Проснулся я около восьми утра. Под очками, которые я накануне положил на маленький столик в спальне, лежал листок бумаги. На нем рукой Онилы было написано: «Я ухожу. Не ищи меня. Это бесполезно».
Я ничего не мог понять. Тут же на столике стояла жестяная шкатулка. Я открыл ее. В ней были сложены все украшения жены вплоть до браслетов (не было лишь железного браслета и браслета из ракушек). Здесь же, в шкатулке, лежала связка ключей, завернутые в бумагу рупии и мелкая монета — все, что осталось от расходов на месяц. Там же я нашел блокнотик со списком посуды и вещей, счета прачки, бакалейщика и молочника— словом, все, кроме ее адреса.
Постепенно я понял, что Онила ушла навсегда. Я обошел весь наш дом, потом дом тестя — Онила исчезла. Я никогда не задумывался над тем, что должен делать человек в моем положении. Сердце у меня разрывалось от горя. Неожиданно взгляд мой остановился на соседнем доме с плотно запертыми окнами и дверьми. У ворот, покуривая трубку, сидел сторож. Страшное подозрение обожгло душу: в то время как я весь ушел в изучение новейшей логики, старое как мир человеческое вероломство расставило сети в моей доме. О подобных явлениях я в свое время читал у таких крупных писателей, как Флобер[166], Толстой, Тургенев, и с наслаждением тщательно исследовал их суть. Но мне и не снилось, что когда-нибудь такая банальность может случиться со мной.
Когда первое потрясение прошло, я попытался поверхностно, будто незрелый философ, разобраться в случившемся. Смеясь над собой, я вспомнил день нашей свадьбы. Я думал о том, сколько пропадает напрасно надежд, усилий, чувств, сколько дней и ночей, лет прожил я слепым, совершенно не замечая, что моя жена — живое существо… А стоило мне прозреть, как все лопнуло, будто мыльный пузырь. Я так и не научился понимать то, что из века в век, преодолевая жизнь и смерть, остается неизменным.
Оказалось, что против обрушившегося на меня горя бессильна всякая философия. Во мне пробудилась моя первобытная душа и, истомленная жаждой, заметалась, рыдая. Я мерил шагами крышу, долго бродил по веранде, по опустевшему дому. Потом зашел в комнату, где так часто жена в одиночестве сидела у окна, и, словно обезумев, стал лихорадочно перебирать ее вещи. Дернул ящик у зеркала, перед которым Онила причесывалась, и оттуда вывалилась пачка писем, перевязанных алой шелковой лентой. Письма были от первого номера.
В сердце вспыхнуло пламя, я хотел сейчас же сжечь их. Но, причиняя мне невыносимые страдания, эти письма в то же время манили к себе. Я бы умер на месте, если б не прочел их.
Я перечитывал письма раз пятьдесят. Первое письмо было склеено. Онила, наверное, сначала разорвала его, а потом бережно наклеила на лист бумаги. Вот оно:
«Я не опечалюсь, если ты разорвешь это письмо, не прочитав. Мне просто нужно излить душу. Я смотрел на мир широко открытыми глазами и вот впервые, в свои тридцать два года, увидел то, что поистине достойно созерцания. С глаз моих спала пелена, словно ты прикоснулась к ним волшебной палочкой. Прозрев, я увидел тебя и понял, что ты, несравненная, самое совершенное создание тобой же созданного мира. Я уже получил то, что мне причитается, больше мне ничего не надо, хочу лишь, чтобы ты услышала мою хвалу тебе. Будь я поэтом, я не стал бы писать этого письма, а заставил бы весь мир громко повторять мои стихи, славящие тебя. Знаю, ты не ответишь, но пойми меня правильно. Не думай, что я мог бы причинить тебе страдания, и молча прими мое поклонение. Если мне достанется хоть капля твоего уважения, я буду счастлив. Я не стану называть своего имени, оно известно тебе».
Ни в одном из двадцати пяти писем я не нашел и намека на то, что Онила отвечала на них. Любой ее ответ прозвучал бы диссонансом, волшебная палочка потеряла бы свою силу, смолкли бы гимны:
Удивительно! Восемь лет провел я с Онилой бок о бок и только сейчас, прочитав письма чужого человека, понял, каким она была сокровищем. Да, я действительно был слеп. Я получил Онилу из рук жреца, но оказался не в состоянии заплатить всю цену сполна, чтобы получить ее из рук всевышнего. И потому, что для меня всегда важнее было мое «Общество неповторимых» и новейшие теории логики, я не замечал жены и не смог завоевать ее сердца. И если другой, посвятивший Ониле свою жизнь, завладел ею, кому я пойду жаловаться?!
В последнем письме Шитаншу писал:
«Я ничего не знаю о твоей жизни, но вижу, что душа твоя страдает. Это для меня огромное испытание. Мои руки, руки мужчины, не хотят оставаться в бездействии. Они стремятся вырвать тебя из-под власти неба, спасти от пустоты твоей жизни. Но боюсь, что и горе твое принадлежит только тебе. А разделить его с тобой я не вправе… Жду до рассвета. Если за это время твое небесное послание разрешит мои сомнения — на все решусь! Ураган страсти гасит светильник на нашем пути. Но я обуздаю свое сердце и буду повторять: «Будь счастлива!»
Видимо, все сомнения рассеялись, и пути этих людей сошлись. По сей день письма Шитаншумаули звучат как заклинания моей души.
Шло время, я больше не увлекался чтением. Сердцем моим владело одно мучительное желание — еще хоть раз увидеть Онилу, я ничего не мог поделать с собой. И вот я узнал, что Шитаншумаули живет в горах Майсура.
Я поехал туда, несколько раз видел Шитаншу, он прогуливался один. Онилы с ним не было. Может быть, он бросил ее, обесчестив? Не в силах оставаться в неведении, я пошел к нему Нет нужды пересказывать весь наш разговор.
— Я получил от нее одно-единственное письмо, — сказал Шитаншу. — Вот оно.
Он вынул из кармана покрытую эмалью золотую коробочку для визитных карточек, достал листок бумаги и протянул мне. «Я ухожу. Не ищи меня. Это бесполезно».
Тот же почерк, те же слова, то же число и та же половинка голубого листка, вторая половина хранится у меня.
1917
Художник
Получив диплом об окончании Майменсингхской школы, Го-винд приехал в Калькутту. Мать-вдова кое-что собрала ему на дорогу, но главным его богатством была непреклонная воля. Он решил разбогатеть во что бы то ни стало и готов был посвятить этому всю жизнь. Деньги Говинд называл не иначе, как монетой. В жизни для него имело смысл лишь то, что можно увидеть, потрогать, понюхать. О славе он и не думал. Он мечтал о самых обыкновенных монетах, потускневших и грязных, которые все больше стираются, переходя из рук в руки на каждом базаре, которые пахнут медью, являя собой первозданное воплощение Куберы, и лишают людей покоя, превращаясь в серебро и золото, ценные бумаги и векселя. По многим извилистым и грязным дорогам пришлось пройти Говинду, прежде чем он достиг надежной пристани на берегу бурного денежного потока. Таким пристанищем стала для него должность управляющего джутовой фабрики Макдугала[167], которого все звали Макдулалом. Когда двоюродный брат Говинда, Мукундо, умер, поневоле прекратив свою любимую адвокатскую деятельность, после него остались вдова, четырехлетний сын, дом в Калькутте и немного денег. Поскольку, кроме имущества, он оставил и долги, семья его жила очень скромно. Тем более предосудительным в глазах соседей выглядел тот факт, что сын Мукундо, Чунилал, ни в чем не знал отказа. Согласно завещанию Мукундо, Говинд был назначен опекуном этой семьи. С первых же дней он начал внушать своему племяннику, что самое главное в жизни — это уметь делать деньги. Основным противником Говинда в этом вопросе оказалась мать мальчика, Шоттоботи. И не то чтобы она возражала открыто, просто все ее поведение доказывало нечто прямо противоположное. С детства она увлекалась художественными поделками: из всего, что попадалось ей под руку — будь то цветы или плоды, куски ткани или бумаги, глина или тесто, листья или лепестки, — она с увлечением мастерила удивительные вещи. Из-за этого у нее было немало неприятностей. Ведь подобное увлечение ненужными с практической точки зрения вещами — словно бурный осенний разлив, исполненный стремительности, но отнюдь не пригодный для переправы полезных грузов. Случалось, что Шоттоботи запиралась в спальне и, поглощенная своим любимым занятием, забывала о приглашениях родственников. Родственники обижались, называли ее высокомерной, — а что им можно было возразить? Что касается Мукундо, то он слышал, что и подобные вещи могут быть настоящими произведениями искусства, к которому он, надо сказать, относился с благоговением. И хотя он и мысли не допускал, чтобы его жена могла создавать такие произведения, вел он себя на редкость деликатно. Он прекрасно видел, как много времени тратит Шоттоботи на свои занятия, но это не вызывало у него ничего, кроме снисходительной улыбки. И всякого, кто пытался осуждать его жену, он одергивал со всей решительностью.
В характере Мукундо была своя странность — хороший адвокат, он был очень плохим хозяином. Деньги, которые в значительном количестве поступали в дом благодаря его адвокатской деятельности, так же быстро расходились. Такое положение не слишком огорчало Мукундо — избавляясь от денег, он избавлялся от стольких забот! Сам он был человеком непритязательным — никогда не требовал особого внимания к своей персоне и никому не старался навязать свое мнение. Но когда дело касалось Шоттоботи, он не только пресекал все попытки домашних позлословить о ее занятиях, но и сам после работы нередко заходил на базар, чтобы купить ей красок, пестрого шелка или цветных карандашей. Придя домой, он тайком от жены раскладывал свои покупки на деревянном сундуке в ее спальне. Часто, взяв в руки какую-нибудь работу Шоттоботи, он восклицал: «Да это же просто замечательно!» Однажды он перевернул вверх ногами рисунок, на котором был изображен человек, и, приняв его ноги за голову птицы, воскликнул: «Эту вещь, Шоти, обязательно надо сохранить, эта цапля вышла на редкость удачно!» Шоттоботи относилась к оценкам мужа с той же снисходительностью, с какой он относился к ее занятиям, считая их милой детской забавой. Шоттоботи прекрасно понимала, что ни в какой другой бенгальской семье она не смогла бы встретить подобное понимание, ни в каком другом доме не стали бы считаться с ее увлечением. Поэтому, когда муж старательно хвалил её произведения, она от волнения едва сдерживала слезы.
И вот неожиданно счастью Шоттоботи пришел конец. Перед смертью муж рассказал ей, что их хозяйство, отягощенное немалыми долгами, можно доверить лишь практичному человеку, который способен переправиться через реку и в дырявой лодке. Вот так и оказались Шоттоботи и ее сын во власти Говинда, который с первых же дней дал понять, что главное в жизни — это деньги. В наставлениях Говинда было столько цинизма, что, слушая их, Шоттоботи была готова сгореть со стыда.
Дух корысти с каждым днем все больше проникал в жизнь их семьи. Особенно огорчало то, что разговоры на эту тему были слишком откровенными; Говинд не старался прикрыться хотя бы видимостью порядочности. Шоттоботи понимала, что такая обстановка портит мальчика, но ей ничего не оставалось, как терпеть. Люди с добрым сердцем и чувством собственного достоинства часто оказываются беззащитными, и грубому человеку ничего не стоит их обидеть.
Известно, что, для того чтобы что-то мастерить, нужен материал. Раньше все появлялось в доме без всяких просьб со стороны Шоттоботи, и потому она об этом никогда не задумывалась. Теперь же, когда все эти ненужные для остальных членов семьи вещи стали строго учитываться, ее начала мучить совесть. Чтобы купить необходимый для работы материал, она, никому не говоря, стала экономить на собственной еде. Да и работала она теперь тайком, запираясь в своей комнате. Она знала, что открыто порицать ее никто не посмеет, но ей не хотелось встречать косые взгляды ничего не понимающих в этом людей. Теперь единственным свидетелем и ценителем ее работ стал Чунилал. Постепенно он и сам пристрастился к рисованию, и вскоре оно превратилось в настоящую страсть. Скрыть это было невозможно: жертвой нового увлечения становились не только листы из тетрадей, но и стены, разноцветные пятна украшали одежду, руки и даже лицо юного художника. Немало пришлось мальчику претерпеть от дяди за то, что бог Индра забыл внушить ему и его матери уважение к деньгам.
Но чем больше старался опекун, тем теснее становилось преступное сообщество между сыном и матерью. Настоящий праздник наступал для них, когда хозяин фабрики увозил Говинда к себе за город. Они радовались, как дети! Шоттоботи лепила забавных зверушек — кошек, похожих на собак, рыб, которых трудно отличить от птиц. Хранить фигурки было опасно, и поэтому перед возвращением господина управляющего приходилось все уничтожать. Так в творчестве этих двух художников господствовали бог-создатель Брахма и бог-разрушитель Рудра, но не было пока бога-хранителя Вишну.
Увлечение живописью было у Шоттоботи в роду. Примером тому мог служить ее племянник Ронголал, племянник, который был тем не менее старше тетки. Ронголал довольно рано получил признание — получил его благодаря тому, что остряки подняли его картины на смех из-за их необычности. Когда же они поняли, что его столь непривычная манера отражает иное, чем у них, мировоззрение, они начали против него шумную кампанию. Как ни странно, эти постоянные насмешки и упреки только способствовали росту его популярности. И тогда даже те, кто копировал его произведения, включились в эту кампанию, стараясь доказать, что художник он, мол, никудышный и даже о технике живописи не имеет ни малейшего представления.
И вот однажды этот раскритикованный художник, выбрав время, когда опекуна не было дома, пришел к своей тетке в гости. Ронголалу пришлось долго стучать, но когда наконец его впустили в комнату, он увидел, что по всему полу разложены рисунки — даже ступить негде. Разобравшись, в чем дело, Ронголал воскликнул, обращаясь к мальчику:
— Наконец-то я вижу свежий талант! Ведь в этих вещах нет ничего подражательного, они свежи и неповторимы, как неповторима сама природа! Обязательно покажи мне все твои рисунки!
Но откуда их было взять! Они исчезали, как исчезают мгла и туман, когда творец хочет залить небо яркой игрою света и теней нового дня. Перед уходом Ронголал заявил своей тетке:
— Заклинаю тебя, отныне сохраняй все! Я буду приходить и забирать рисунки и твои фигурки!
Господин управляющий сегодня задержался. С самого утра августовское небо затянуто тучами, льет дождь. Мать и сын забыли о времени, некогда им следить за стрелками часов! Сегодня Чунилал начал писать пейзаж с лодкой. Так и кажется, что речные волны, как стая крокодилов, вот-вот проглотят маленькое суденышко! Даже тучи готовы помочь им и грозно нависли над лодкой. Правда, крокодилы на картинке не похожи на обычных крокодилов, тучи нельзя назвать «сочетанием дыма, света, воды и воздуха», да и лодка такова, что, будь она построена на самом деле, ни одна страховая компания не решилась бы ее застраховать. Но ведь искусство есть искусство! Если всевышний создает то, что приносит ему радость, то почему не имеет на это права наделенный богатым воображением мальчик, такой же творец в этих четырех стенах?
Они не заметили, как отворилась дверь и вошел господин управляющий.
— Это что еще такое? — услышали они грозный окрик.
Мальчик побледнел и задрожал от страха. Еще бы, ведь
теперь обнаружится причина, по которой Чунилал перепутал все даты на экзамене по истории! Безуспешно пытался он спрятать картину под своей курткой, этим он только выдал себя. Когда же Говинд вырвал картину и увидел, что на ней нарисовано, то окончательно пришел в ярость.
— Это еще хуже ошибок в хронологии! — закричал он и разорвал картину на мелкие кусочки. Чунилал разрыдался.
Услышав плач сына, Шоттоботи выбежала из молельни, где обычно проводила одиннадцатый день каждого лунного месяца[168]. Глазам ее представилась картина: Чунилал на полу, рисунок разорван в клочки, а Говинд собирает эти многочисленные доказательства преступления, чтобы выбросить их, чтобы от них не осталось и следа.
До сих пор Шоттоботи, помня о том, что Говинд стал хозяином дома по воле ее мужа, терпеливо сносила все его выходки. Но сейчас она воскликнула, дрожа от негодования:
— Зачем ты порвал картину Чунилала?
— Он что же, собирается бросить ученье? Представляю, что из него выйдет!
— Пусть лучше станет нищим, — проговорила Шоттоботи, — но пусть никогда не будет похожим на тебя! Я мать, и я хочу только одного — чтобы то богатство, которым его наградил всевышний, принесло ему больше радости, чем тебе все твои монеты!
— Не надейтесь, что я так спокойно откажусь от своих обязанностей, — отрезал Говинд. — Завтра же отправлю мальчишку в интернат, иначе он здесь совсем свихнется.
Утром Говинд ушел в контору. Дождь лил как из ведра, по улицам текли реки воды.
— Пойдем, сынок, — сказала Шоттоботи, беря сына за РУКУ-
— Куда, мама?
— Уйдем отсюда навсегда.
Когда они подошли к дому Ронголала, вода уже была им по колено. Они вошли в дом.
— Я поручаю его тебе, — сказала Шоттоботи. — Спаси его от поклонения монете!
1929
Основным противником Говинда в этом вопросе оказалась мать мальчика, Шоттоботи. И не то чтобы она возражала открыто, просто все ее поведение доказывало нечто прямо противоположное. С детства она увлекалась художественными поделками: из всего, что попадалось ей под руку — будь то цветы или плоды, куски ткани или бумаги, глина или тесто, листья или лепестки, — она с увлечением мастерила удивительные вещи. Из-за этого у нее было немало неприятностей. Ведь подобное увлечение ненужными с практической точки зрения вещами — словно бурный осенний разлив, исполненный стремительности, но отнюдь не пригодный для переправы полезных грузов. Случалось, что Шоттоботи запиралась в спальне и, поглощенная своим любимым занятием, забывала о приглашениях родственников. Родственники обижались, называли ее высокомерной, — а что им можно было возразить? Что касается Мукундо, то он слышал, что и подобные вещи могут быть настоящими произведениями искусства, к которому он, надо сказать, относился с благоговением. И хотя он и мысли не допускал, чтобы его жена могла создавать такие произведения, вел он себя на редкость деликатно. Он прекрасно видел, как много времени тратит Шоттоботи на свои занятия, но это не вызывало у него ничего, кроме снисходительной улыбки. И всякого, кто пытался осуждать его жену, он одергивал со всей решительностью.
В характере Мукундо была своя странность — хороший адвокат, он был очень плохим хозяином. Деньги, которые в значительном количестве поступали в дом благодаря его адвокатской деятельности, так же быстро расходились. Такое положение не слишком огорчало Мукундо — избавляясь от денег, он избавлялся от стольких забот! Сам он был человеком непритязательным — никогда не требовал особого внимания к своей персоне и никому не старался навязать свое мнение. Но когда дело касалось Шоттоботи, он не только пресекал все попытки домашних позлословить о ее занятиях, но и сам после работы нередко заходил на базар, чтобы купить ей красок, пестрого шелка или цветных карандашей. Придя домой, он тайком от жены раскладывал свои покупки на деревянном сундуке в ее спальне. Часто, взяв в руки какую-нибудь работу Шоттоботи, он восклицал: «Да это же просто замечательно!» Однажды он перевернул вверх ногами рисунок, на котором был изображен человек, и, приняв его ноги за голову птицы, воскликнул: «Эту вещь, Шоти, обязательно надо сохранить, эта цапля вышла на редкость удачно!» Шоттоботи относилась к оценкам мужа с той же снисходительностью, с какой он относился к ее занятиям, считая их милой детской забавой. Шоттоботи прекрасно понимала, что ни в какой другой бенгальской семье она не смогла бы встретить подобное понимание, ни в каком другом доме не стали бы считаться с ее увлечением. Поэтому, когда муж старательно хвалил её произведения, она от волнения едва сдерживала слезы.
И вот неожиданно счастью Шоттоботи пришел конец. Перед смертью муж рассказал ей, что их хозяйство, отягощенное немалыми долгами, можно доверить лишь практичному человеку, который способен переправиться через реку и в дырявой лодке. Вот так и оказались Шоттоботи и ее сын во власти Говинда, который с первых же дней дал понять, что главное в жизни — это деньги. В наставлениях Говинда было столько цинизма, что, слушая их, Шоттоботи была готова сгореть со стыда.
Дух корысти с каждым днем все больше проникал в жизнь их семьи. Особенно огорчало то, что разговоры на эту тему были слишком откровенными; Говинд не старался прикрыться хотя бы видимостью порядочности. Шоттоботи понимала, что такая обстановка портит мальчика, но ей ничего не оставалось, как терпеть. Люди с добрым сердцем и чувством собственного достоинства часто оказываются беззащитными, и грубому человеку ничего не стоит их обидеть.
Известно, что, для того чтобы что-то мастерить, нужен материал. Раньше все появлялось в доме без всяких просьб со стороны Шоттоботи, и потому она об этом никогда не задумывалась. Теперь же, когда все эти ненужные для остальных членов семьи вещи стали строго учитываться, ее начала мучить совесть. Чтобы купить необходимый для работы материал, она, никому не говоря, стала экономить на собственной еде. Да и работала она теперь тайком, запираясь в своей комнате. Она знала, что открыто порицать ее никто не посмеет, но ей не хотелось встречать косые взгляды ничего не понимающих в этом людей. Теперь единственным свидетелем и ценителем ее работ стал Чунилал. Постепенно он и сам пристрастился к рисованию, и вскоре оно превратилось в настоящую страсть. Скрыть это было невозможно: жертвой нового увлечения становились не только листы из тетрадей, но и стены, разноцветные пятна украшали одежду, руки и даже лицо юного художника. Немало пришлось мальчику претерпеть от дяди за то, что бог Индра забыл внушить ему и его матери уважение к деньгам.
Но чем больше старался опекун, тем теснее становилось преступное сообщество между сыном и матерью. Настоящий праздник наступал для них, когда хозяин фабрики увозил Говинда к себе за город. Они радовались, как дети! Шоттоботи лепила забавных зверушек — кошек, похожих на собак, рыб, которых трудно отличить от птиц. Хранить фигурки было опасно, и поэтому перед возвращением господина управляющего приходилось все уничтожать. Так в творчестве этих двух художников господствовали бог-создатель Брахма и бог-разрушитель Рудра, но не было пока бога-хранителя Вишну.
Увлечение живописью было у Шоттоботи в роду. Примером тому мог служить ее племянник Ронголал, племянник, который был тем не менее старше тетки. Ронголал довольно рано получил признание — получил его благодаря тому, что остряки подняли его картины на смех из-за их необычности. Когда же они поняли, что его столь непривычная манера отражает иное, чем у них, мировоззрение, они начали против него шумную кампанию. Как ни странно, эти постоянные насмешки и упреки только способствовали росту его популярности. И тогда даже те, кто копировал его произведения, включились в эту кампанию, стараясь доказать, что художник он, мол, никудышный и даже о технике живописи не имеет ни малейшего представления.
И вот однажды этот раскритикованный художник, выбрав время, когда опекуна не было дома, пришел к своей тетке в гости. Ронголалу пришлось долго стучать, но когда наконец его впустили в комнату, он увидел, что по всему полу разложены рисунки — даже ступить негде. Разобравшись, в чем дело, Ронголал воскликнул, обращаясь к мальчику:
— Наконец-то я вижу свежий талант! Ведь в этих вещах нет ничего подражательного, они свежи и неповторимы, как неповторима сама природа! Обязательно покажи мне все твои рисунки!
Но откуда их было взять! Они исчезали, как исчезают мгла и туман, когда творец хочет залить небо яркой игрою света и теней нового дня. Перед уходом Ронголал заявил своей тетке:
— Заклинаю тебя, отныне сохраняй все! Я буду приходить и забирать рисунки и твои фигурки!
Господин управляющий сегодня задержался. С самого утра августовское небо затянуто тучами, льет дождь. Мать и сын забыли о времени, некогда им следить за стрелками часов! Сегодня Чунилал начал писать пейзаж с лодкой. Так и кажется, что речные волны, как стая крокодилов, вот-вот проглотят маленькое суденышко! Даже тучи готовы помочь им и грозно нависли над лодкой. Правда, крокодилы на картинке не похожи на обычных крокодилов, тучи нельзя назвать «сочетанием дыма, света, воды и воздуха», да и лодка такова, что, будь она построена на самом деле, ни одна страховая компания не решилась бы ее застраховать. Но ведь искусство есть искусство! Если всевышний создает то, что приносит ему радость, то почему не имеет на это права наделенный богатым воображением мальчик, такой же творец в этих четырех стенах?
Они не заметили, как отворилась дверь и вошел господин управляющий.
— Это что еще такое? — услышали они грозный окрик.
Мальчик побледнел и задрожал от страха. Еще бы, ведь
теперь обнаружится причина, по которой Чунилал перепутал все даты на экзамене по истории! Безуспешно пытался он спрятать картину под своей курткой, этим он только выдал себя. Когда же Говинд вырвал картину и увидел, что на ней нарисовано, то окончательно пришел в ярость.
— Это еще хуже ошибок в хронологии! — закричал он и разорвал картину на мелкие кусочки. Чунилал разрыдался.
Услышав плач сына, Шоттоботи выбежала из молельни, где обычно проводила одиннадцатый день каждого лунного месяца[168]. Глазам ее представилась картина: Чунилал на полу, рисунок разорван в клочки, а Говинд собирает эти многочисленные доказательства преступления, чтобы выбросить их, чтобы от них не осталось и следа.
До сих пор Шоттоботи, помня о том, что Говинд стал хозяином дома по воле ее мужа, терпеливо сносила все его выходки. Но сейчас она воскликнула, дрожа от негодования:
— Зачем ты порвал картину Чунилала?
— Он что же, собирается бросить ученье? Представляю, что из него выйдет!
— Пусть лучше станет нищим, — проговорила Шоттоботи, — но пусть никогда не будет похожим на тебя! Я мать, и я хочу только одного — чтобы то богатство, которым его наградил всевышний, принесло ему больше радости, чем тебе все твои монеты!
— Не надейтесь, что я так спокойно откажусь от своих обязанностей, — отрезал Говинд. — Завтра же отправлю мальчишку в интернат, иначе он здесь совсем свихнется.
Утром Говинд ушел в контору. Дождь лил как из ведра, по улицам текли реки воды.
— Пойдем, сынок, — сказала Шоттоботи, беря сына за РУКУ-
— Куда, мама?
— Уйдем отсюда навсегда.
Когда они подошли к дому Ронголала, вода уже была им по колено. Они вошли в дом.
— Я поручаю его тебе, — сказала Шоттоботи. — Спаси его от поклонения монете!
1929
Незнакомка
I
Сейчас мне двадцать семь лет. Моя жизнь интересна не продолжительностью и даже не добродетелью, а одним событием, воспоминание о котором я бережно храню в памяти. Оно сыграло для меня такую же роль, какую играет пчела в жизни цветов. История моя коротка, и я тоже буду краток. Те из читателей, кто осознал, что м. алое не значит маловажное, несомненно поймут меня. Я только что сдал выпускные экзамены в колледже. Еще в детстве мой учитель имел все основания шутить надо мной, сравнивая меня то с цветком шимул[169], то с красивым, но несъедобным плодом макал, называть «прекрасным пустоцветом». Я очень обижался тогда, но с годами пришел к мысли, что, если б мне довелось начать жизнь сначала, я все же предпочел бы красивую внешность, даже при условии, что это будет вызывать насмешки учителя. Какое-то время отец мой был беден. Потом, занимаясь адвокатурой, он разбогател, однако пожить в свое удовольствие ему так и не довелось. Лишь на смертном одре он впервые вздохнул с облегчением. Когда отец умер, я был совсем маленьким. Мать одна воспитывала меня. Она выросла в бедной семье, поэтому никак не могла привыкнуть к нашему богатству, да и мне не давала забыть о нем. Меня очень баловали в детстве, и, кажется, именно поэтому я так и не стал взрослым. Даже сейчас я напоминаю младшего брата Ганеши, сидящего на коленях Аннапурны[170]. Надо сказать, что воспитывал меня дядя, хотя я был младше его всего лет на шесть. Как песок реки Пхалгу пропитан ее водой, так и дядя всецело был поглощен заботами о нашей семье. Все решал он один. И жил я очень беспечно. Отцы, у которых дочери на выданье, должны согласиться, что женихом я был завидным. Я даже не курил. Говоря откровенно, быть паинькой не составляет особого труда, вот я и был им. Я обладал завидной способностью во всем следовать советам матери, впрочем, не следовать им я был просто не в силах. Я был готов в любой момент подчиниться власти женской половины дома, а для девушки, выбирающей себе жениха, это немаловажное обстоятельство.. Многие знатные семьи выражали желание породниться с нами. Но дядя (на земле он был главным доверенным лицом бога, вершившего мою судьбу) имел на этот счет свое особое мнение. Богатые невесты его не прельщали. Пусть, решил он, девушка войдет в наш дом с покорно опущенной головой. Но в то же время деньги были его кумиром. И дядя рассудил так: отец невесты вовсе не должен слыть богачом, главное, чтобы он дал солидное приданое и в любой момент согласился оказать нашей семье услугу. К тому же он не должен обижаться, если в нашем доме ему вместо кальяна* подсунут дешевую хукку[171] из кокосового ореха. В это время в Калькутту приехал в отпуск мой друг Хориш, который работал в Канпуре. И я сразу потерял покой, потому что он сказал: — Есть одна замечательная девушка. Дело в том, что незадолго до его приезда я получил степень магистра искусств и мне предстояли бессрочные каникулы: сдавать экзамены больше не нужно, а искать работу, служить — незачем. Я не привык думать о себе, да и не хотел. Дома обо мне заботилась мать, а вне дома — дядя.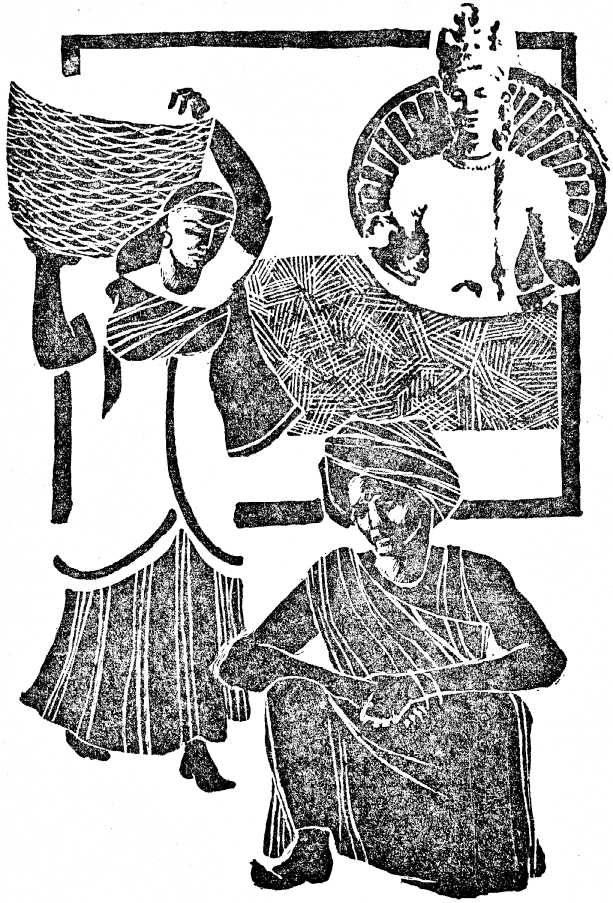 И в этой пустыне безделья возник мираж, заслонивший собою весь мир. Он возник в образе прекрасной девушки, созданной моим воображением. В небе мне чудились ее глаза, в дуновении ветерка — ее дыхание, а в шелесте листьев я ловил ее нежный шепот.
И вот, как я уже сказал, именно в это время приехал Хориш и сообщил: «Есть одна замечательная девушка…» Я задрожал, будто молодые листочки на весеннем ветру.
Хориш был человеком веселым и обладал способностью интересно рассказывать, к тому же сердце мое жаждало любви,
— Поговори с дядей, — попросил я друга.
Никто не умел развлекать так общество, как Хориш. Везде он пользовался успехом. Дядя, недолго побеседовав с ним, уже не хотел его отпускать. Разговор происходил в гостиной. Дядю интересовала не столько сама невеста, сколько дела ее отца. Оказалось, все обстоит так, как ему и хотелось. Некогда полная чаша богатства их семьи сейчас опустела, но на дне кое-что осталось. Не имея средств жить так, как того требовала честь рода, они покинули родные места и уехали на запад страны. Девушка — единственная дочь, и отец, конечно, без колебаний отдаст ей в приданое все, что осталось от былого богатства..
Дядю это вполне устраивало. Только одно его смущало — девушке уже исполнилось пятнадцать лет[172].
— Не пользуется ли их род дурной славой? — беспокоился он.
— Совсем нет, — заверил его Хориш. — Просто отец не может найти достойного жениха. Женихи сейчас очень поднялись в цене, к тому же семья их разорена. Отец ждал, ждал, а тем временем девочка выросла.
Как бы то ни было, речи Хориша возымели свое действие, и дядя смягчился.
Переговоры о свадьбе прошли без осложнений. Весь мир, простирающийся за пределами Калькутты, казался дяде частью Андаманских островов. Только однажды он по какому-то особому случаю ездил в Канагар. Будь мой дядя Ману, он не преминул бы издать закон, строжайше запрещающий переходить даже Ховрский мост.
Мне очень хотелось самому взглянуть на девушку, но о поездке я и заикнуться не посмел. Для благословения невесты решили послать моего двоюродного брата Бину. На его вкус и здравый смысл я мог вполне положиться.
— Недурна, — заявил он по возвращении. — Чистое золото!
Обычно Бину был сдержан в своих оценках. Там, где мы восклицали «превосходно», он говорил «сносно». И я понял, что мой брак не посеет вражды между богами Праджапати[173] и Камадевой[174].
И в этой пустыне безделья возник мираж, заслонивший собою весь мир. Он возник в образе прекрасной девушки, созданной моим воображением. В небе мне чудились ее глаза, в дуновении ветерка — ее дыхание, а в шелесте листьев я ловил ее нежный шепот.
И вот, как я уже сказал, именно в это время приехал Хориш и сообщил: «Есть одна замечательная девушка…» Я задрожал, будто молодые листочки на весеннем ветру.
Хориш был человеком веселым и обладал способностью интересно рассказывать, к тому же сердце мое жаждало любви,
— Поговори с дядей, — попросил я друга.
Никто не умел развлекать так общество, как Хориш. Везде он пользовался успехом. Дядя, недолго побеседовав с ним, уже не хотел его отпускать. Разговор происходил в гостиной. Дядю интересовала не столько сама невеста, сколько дела ее отца. Оказалось, все обстоит так, как ему и хотелось. Некогда полная чаша богатства их семьи сейчас опустела, но на дне кое-что осталось. Не имея средств жить так, как того требовала честь рода, они покинули родные места и уехали на запад страны. Девушка — единственная дочь, и отец, конечно, без колебаний отдаст ей в приданое все, что осталось от былого богатства..
Дядю это вполне устраивало. Только одно его смущало — девушке уже исполнилось пятнадцать лет[172].
— Не пользуется ли их род дурной славой? — беспокоился он.
— Совсем нет, — заверил его Хориш. — Просто отец не может найти достойного жениха. Женихи сейчас очень поднялись в цене, к тому же семья их разорена. Отец ждал, ждал, а тем временем девочка выросла.
Как бы то ни было, речи Хориша возымели свое действие, и дядя смягчился.
Переговоры о свадьбе прошли без осложнений. Весь мир, простирающийся за пределами Калькутты, казался дяде частью Андаманских островов. Только однажды он по какому-то особому случаю ездил в Канагар. Будь мой дядя Ману, он не преминул бы издать закон, строжайше запрещающий переходить даже Ховрский мост.
Мне очень хотелось самому взглянуть на девушку, но о поездке я и заикнуться не посмел. Для благословения невесты решили послать моего двоюродного брата Бину. На его вкус и здравый смысл я мог вполне положиться.
— Недурна, — заявил он по возвращении. — Чистое золото!
Обычно Бину был сдержан в своих оценках. Там, где мы восклицали «превосходно», он говорил «сносно». И я понял, что мой брак не посеет вражды между богами Праджапати[173] и Камадевой[174].
II
Само собой разумеется, что свадьба должна была состояться в Калькутте. Шомбхунатх-бабу, отец невесты, прибыл в Калькутту, как и обещал Хоришу, за три дня до свадьбы. Мы встретились с ним, и он меня благословил. Лет ему было сорок или чуть побольше, однако волосы у него оставались черными, лишь в усах нет-нет да и проглянет седина., Шомбхунатх-бабу сразу же обращал на себя внимание красивой внешностью. Полагаю, что и я ему понравился. Но понять, так ли это, было трудно, — Шомбхунатх-бабу был неразговорчив. Процедит несколько слов и молчит. Дядя же болтал без устали. Как бы невзначай он все время подчеркивал, что по богатству и положению мы не уступаем другим именитым семьям города. Когда дядя умолкал на мгновение, Шомбхунатх-бабу вставлял свое «угу» или «да». Будь я на месте дяди, это, несомненно охладило бы мой пыл, но дядюшку поведение гостя нисколько не смущало. Он решил, что Шомбхунатх-бабу человек робкий и вялый, что, впрочем, его очень обрадовало, так как излишнюю живость в родственниках невесты он отнюдь не считал достоинством. Когда Шомбхунатх собрался уходить, дядя небрежно простился с ним и даже не проводил его до экипажа. О приданом договорились быстро. Дядя гордился своей исключительной ловкостью. Он не оставил никакой неясности. Все было оговорено: какая часть приданого будет дана деньгами, сколько будет украшений и даже какого качества дожно быть золото. Я не принимал в этом никакого участия, понимая, что переговоры о приданом — главное, хоть и самое неприятное в свадебных приготовлениях, и зная, что дядя не даст себя надуть. Его удивительная практичность была предметом гордости нашей семьи. При любых обстоятельствах, когда речь шла об интересах нашей семьи, дядя неизменно одерживал победу — это был общепризнанный факт. Хоть мы и не нуждались в деньгах, а семья невесты находилась в стесненных обстоятельствах, все равно надо было настоять на своем, — таков был обычай нашей семьи, и до других нам дела не было. Посылку пасты из корня куркумы[175] в дом невесты обставили очень пышно. Потребовался бы специальный человек, чтобы точно сосчитать, сколько людей участвовало в шествии. Мать и дядя посмеивались, мысленно прикидывая, сколько беспокойства доставят другой стороне угощение и подарки. Наконец я отправился в дом невесты. Оркестр ипевцы-любители производили такой шум, что казалось, будто слон с ревом топчет заросли лотосов богини музыки. Я напоминал витрину ювелирного магазина. Будущий тесть должен был получить ясное представление о моей стоимости. Дяде не понравился дом, где должна была состояться брачная церемония. В саду не хватало места для всех участников шествия, да и особых приготовлений не было заметно. К тому же Шомбхунатх-бабу был холоден в обращении, не казался смущенным и, как всегда, молчал. Скандал разразился бы в самом начале, если бы не друг Шомбхунатха — адвокат, огромный, очень смуглый и лысый, с чадором, обвязанным вот круг талии. Приветственно сложив руки, запинаясь от избытка чувств, он беспрерывно кланялся и улыбался всем, начиная от музыкантов и кончая родственниками жениха. Не успел я расположиться с гостями в доме, как дядя вызвал Шомбхунатха в соседнюю комнату. Не знаю, что там произошло, но вскоре Шомбхунатх вернулся и позвал меня: — Пройдите сюда на минутку. Почти у всех людей есть свои слабости. Дядя, например, всегда боялся, как бы его не обманули. И сейчас он решил проверить, не фальшивые ли драгоценности у невесты. Ведь после свадьбы думать об этом будет поздно. Тем более, что подарки жениху и приготовления к брачной церемонии оказались весьма скромными. Поэтому дядя привел с собой ювелира. Войдя в комнату, я увидел, что дядя сидит на кушетке, а ювелир с весами и пробирным камнем расположился на полу. — Ваш дядя хочет проверить, не обманули ли его, — обратился ко мне Шомбхунатх-бабу. — Что вы. на это скажете? Я молчал, опустив голову.. — А что его спрашивать? — возмутился дядя. — Будет так, как я решил! — Это верно? — спросил отец невесты, в упор глядя на меня. — Будет, как решил ваш дядя? Вы не станете возражать? Я печально покачал головой. — Хорошо, тогда присядьте. Сейчас я сниму украшения с дочери и принесу сюда. — Онупому нечего здесь делать, — сказал дядя. — Пусть идет к гостям. — Нет, — возразил Шомбхунатх. — Пусть останется. Шомбхунатх принес завернутые в полотенце украшения и положил их на кушетку перед дядей. Это были старинные фамильные драгоценности, массивные и тяжелые, не то что современные безделушки. Взяв одну из них, ювелир сказал: — И смотреть нечего. Чистое золото. Такого сейчас ни за какие деньги не купишь. С этими словами он взял браслет с изображением головы мифического чудовища и без труда согнул его. Дядя вынул блокнот со списком обещанный за девушкой украшений. После проверки оказалось, что по ценности и весу они намного превосходят обещанное. Среди украшений были серьги. Шомбхунатх передал их ювелиру и попросил посмотреть. — Это английский сплав, в нем очень мало золота, — сказал ювелир. — Возьмите их, — обратился Шомбхунатх к дяде и отдал серьги. Эти серьги были подарком от нашей семьи невесте. Яркая краска залила лицо дяди. Ведь его не только лишили удовольствия поймать с поличным бедняка, но и самого поставили в неловкое положение. — Иди к гостям, Онупом, — приказал он мне, нахмурившись. — Погодите, — вмешался Шомбхунатх. — Я прикажу сейчас подать угощение. — А как же смотрины? — воскликнул дядя. — Не беспокойтесь. Идемте… Этот робкий человек обладал огромной силой, и дяде пришлось подчиниться. Нельзя сказать, чтобы угощение было обильным, зато блюда были превосходно приготовлены, и все остались довольны. Шомбхунатх и мне предложил поесть. — Что же это такое? — заволновался дядя. — Как может жених есть до совершения свадебного обряда? Оставив без внимания слова дяди, Шомбхунатх повернулся ко мне. — А вы. что скажете? Разве это предосудительно? И на этот раз я не посмел ослушаться дяди. — Я доставил вам много хлопот, — сказал тогда Шомбхунатх. — Мы не богаты и не сумели достойно принять вас, извините. Уже поздно, и я не хочу вас больше утруждать. Сейчас… — Сейчас мы вернемся к гостям, — поспешно сказал дядя. — Сейчас я прикажу подать вам экипаж… — Вы шутите? — Шутили вы, у меня же не было ни малейшего желания забавляться. Глаза дяди округлились от изумления, он не мог вымолвить ни слова. — Я не отдам дочь в семью, где считают, что я способен украсть драгоценности моей девочки. Ко мне Шомбхунатх, видимо, не счел нужным обратиться, потому что получил все доказательства моей полной ничтожности. Рассказывать, что произошло потом, у меня нет ни малейшего желания. Наши гости учинили разгром, побили фонари и гордо удалились. Отзвучала музыка, исчезли свадебные слюдяные фонарики, лишь звезды скупо освещали дорогу, когда я возвращался домой.III
Дома все были вне себя от гнева. — Что за надменный тип отец невесты! Ему присущи все пороки нынешнего века, никто теперь не женится на его дочери! Но Шомбхунатх не жаждал выдать дочь замуж. Пожалуй, во всей Бенгалии не сыщешь жениха, которого бы отец невесты перед самой свадьбой выгнал из дому. — По воле какой злой планеты запятнали позором такого богатого и достойного жениха, да еще в тот момент, когда гремела музыка и зажглись свадебные огни! — горестно причитали участники шествия, хлопая себя по лбу. — Свадьба не состоялась, а нас обманом заставили отведать угощений! Какая жалость, что нельзя вернуть их обратно! — Я не прощу этого оскорбления, — горячился дядя, готовый поднять скандал. — Я буду жаловаться! Но доброжелатели отговорили его от этого намерения, опасаясь, как бы мы не стали всеобщим посмешищем. Трудно передать мой гнев. Я мечтал лишь о том, чтобы неожиданный поворот судьбы заставил Шомбхунатха униженно пасть к моим ногам и чтобы я мог отвергнуть его мольбы. Но в сердце моем рядом с черным потоком ненависти струился светлый поток. Душа моя тянулась к той, незнакомой мне, девушке, и я не в силах был совладать с собой. Тогда нас разделяла только стена. Как описать мне ее, облаченную в алое сари, со знаками сандаловой пасты на лбу и краской стыда на лице? Какие чувства. переполняли тогда ее сердце? Волшебная лиана фантазии склонялась ко мне, предлагая свои весенние цветы. Ветер доносил их пряный аромат и шелест лепестков. Я уже готов был сделать один-единственный шаг к ней, как вдруг этот шаг оказался протяженностью в бесконечность. Все эти вечера я ходил к Вину домой, чтобы расспросить его о девушке. Он был не многоречив, но каждое его слово, подобно искре, воспламеняло душу. Из разговоров я понял, что девушка необыкновенно хороша. Я никогда не видел даже ее портрета и очень смутно представлял себе ее. И душа моя, будто призрак, печально вздыхая, бродила у стены брачной комнаты. От Хориша я узнал, что девушке показали мою фотографию. Вполне возможно, что я ей понравился. Сердце нашептывало мне, что моя фотография хранится у нее в шкатулке. Может быть, запершись в комнате, она открывает заветную шкатулку, склоняется над портретом и волосы двумя черными струями сбегают ей на щеки. Услышав за дверью шаги, она быстро прячет портрет в свободный конец благоухающего сари. Шли дни. Вот и год миновал. Дядя не решался больше заводить разговор о моей женитьбе. Мать решила повременить, пока все забудут о моем позоре, а затем снова попытаться женить меня. Слыхал я, что руки моей бывшей невесты добивались женихи с положением, но она поклялась никогда не выходить замуж. Душа моя наполнилась ликованием. И я погрузился в мечты. В своем воображении я видел, что девушка забывает поесть и причесаться и день ото дня худеет. Отец с тревогой наблюдает за ней. И вот однажды он застает ее плачущей в своей комнате. «Что с тобой, дорогая?» — спрашивает он. «Ничего, папа», — говорит девушка, торопливо утирая слезы. Но ведь она единственная и к тому же любимая дочь Шомбхунатха. Отец не может оставаться спокойным, когда дитя его увядает, будто во время засухи не успевший расцвести цветок. Смирившись, Шомбхунатх приходит к дверям нашего дома. Ну, а дальше? Черная ненависть, словно змея, притаилась в моей душе и, шипя, нашептывала мне: «Когда отовсюду съедутся на свадьбу гости, когда зажгутся огни, ты сбросишь с головы убор жениха и вместе с друзьями покинешь дом невесты». Но чувство, прозрачное, словно слеза, обернувшись чудесным лебедем, умоляло: «Отпусти меня, и я полечу, как некогда мчался в цветущий сад Дамаянти[176], и шепну твоей возлюбленной на ухо радостную весть». А что потом? Потом кончится темная ночь горя, хлынет живительный дождь, и лицо моей любимой расцветет. По эту сторону стены останется весь мир, а в ту заветную комнату войдет только один человек. Тут мечты мои обрывались…IV
Мне остается рассказать совсем немного. Я вез мать к святым местам, потому что дядя и на этот раз не решился переехать Ховрский мост. В дороге я вздремнул, но вагон трясло, и спал я беспокойно. На одной из станций я проснулся. Игра света и тени делала все похожим на сон. Только звезды на небе казались старыми знакомыми, а остальное, окутанное дымкой, было чужим. В тусклом свете фонарей окружающие предметы казались странными и далекими. Мать крепко спала. Купе едва освещала лампа под зеленым абажуром. Чемоданы, коробки и другие вещи, разбросанные по полу, тоже казались нереальными. И вот в этом необычном мире, в тишине этой удивительной ночи раздался голос: — Скорее сюда, в этом вагоне есть место. Мне почудилось, будто я слышу звуки песни. Чтобы понять, как сладостно звучит бенгальский язык в устах бенгальской девушки, нужно, как сейчас, забыть о времени и пространстве.. Но услышанный мною голос был каким-то особенным. Ничего подобного я никогда не слыхал! По-моему, голос в человеке самое главное. По голосу вернее, чем по лицу, можно судить о душе. Я быстро открыл окно, взглянул, но никого не увидел. На темной платформе дежурный махнул фонарем, и поезд тронулся. Я так и остался у окна. Я не знал, хороша ли собой та девушка, но сердцем чувствовал красоту ее души. Она как эта звездная ночь, окутавшая весь мир и в то же время недосягаемая. О голос незнакомки, в одно мгновение ты овладел моей душой. Ты чудо! Ты, словно цветок, появившийся из самых недр нашего бурного времени, и никакие ураганы не заставят тебя задрожать, не отнимут твоей нежности. В стуке колес я слышал песню. «Есть место, есть место», — звучало, как припев. Что есть? Какое место? Нет никакого места! Никто никого не знает! Или незнание лишь туман, иллюзия? И если разорвать его путы, знакомство станет бесконечным? Неужели еще вчера я не знал о существовании сердца, чьей непередаваемой красотой полон ты, о чарующий голос:«Есть место», — как эхо, в душе отдалось.
Сдержать не могу закипающих слез.
Спешу, тороплюсь на призыв.
Эпилог
Презрев запрещение дяди, ослушавшись мать, я приехал В Канпур. Я встретился с Колени и ее отцом. Моя покорность и мольбы смягчили сердце Шомбхунатха. Но Колени сказала: — Я не выйду замуж! — Почему? — спросил я. — Так велела мне мать… Проклятье! Неужели и у нее есть дядя! Но затем я понял: то была родина-мать. После расстроившейся свадьбы девушка дала обет посвятить свою жизнь женскому образованию. Но я не впал в отчаяние. Голос незнакомки и по сей день звучит в моем сердце, словно призыв свыше. Он позвал меня в мир. Слова «есть место», которые я услышал впервые той темной ночью, стали припевом в песне моей жизни. Тогда мне было двадцать три года, сейчас — двадцать семь. Я не перестал верить, но порвал со своим дядей. Моя мать не смогла отказаться от меня — я был ее единственным сыном. Вы думаете, я все еще надеюсь жениться на ней? Нет! Просто душой моей овладели слова «есть место» и вселяющий надежду нежный голос незнакомки. Конечно, место есть. Проходит год за годом, а я живу здесь, в Канпуре, вижусь с ней, слышу ее голос, помогаю в работе. И сердце подсказывает мне, что я завоевал место в ее жизни. О незнакомка, знакомство с тобой не имеет конца! И я доволен судьбою, я нашел свое место в этом мире. 1914Обычай
У Читрагупты[177] в списке грехов есть грехи намеренные и невольные. Невольные человек совершает незаметно для самого себя, намеренные — сознательно. Тот грех, о котором я собираюсь рассказать, именно такого рода. И прежде чем пускаться в объяснения с Читрагуптой, мне следует признаться в содеянном, тогда тяжесть вины будет меньше. Это случилось вчера, в субботу. Недалеко от нас справляли какой-то праздник. В этот день мы ехали с женой Коликой на автомобиле к Нойонмохону на чашку чая. Коликой, что означает «Бутон», жену мою назвал тесть, я тут ни при чем. Это имя ей не подходило, так как взгляды ее вполне сформировались. Во время бойкота английских тканей[178]коллеги по партии стали почтительно называть ее «Поборница истины». Меня зовут Гириндро, что значит «Гималаи». Членам партии я известен как муж Колики, и им совершенно все равно, что означает мое имя. Благодарение богу, кое-что из отцовского состояния перепало и мне, и члены партии вспоминают об этом во время сбора пожертвований. Лишь при разных натурах супругов союз их бывает прочным. Сочетание сухой земли и потоков воды всегда благодатно. Я человек слабохарактерный, а у жены, напротив, характер твердый — уж она от своего не отступится. Это, собственно, и поддерживает мир в нашей семье. Об одном только мы никак не можем договориться. Колика почему-то считает, что я не патриот. А я, сколько ни стараюсь, не могу разубедить ее в этом, тем более что мой искренний патриотизм никогда не отвечал чисто формальным требованиям ее партии. С детских лет я библиофил. Не пропускаю ни одной новинки. Даже враги не станут отрицать, что я не только скупаю книги, но и читаю их, а друзьям моим хорошо известно, что я еще люблю обсудить прочитанное. Собственно, из-за этого друзья и стали меня избегать. В конце концов, у меня остался один-единственный собеседник — Бонбихари, «Бродящий по лесу», с которым мы встречаемся по воскресеньям. Я прозвал его Конбихари — «Сидящий в углу». Бывало, мы засиживались до глубокой ночи. Это были тяжелые времена. Полиция подозревала в заговоре всякого, у кого обнаруживали «Бхагавадгиту»[179], а наши индийские патриоты считали предателем любого индийца, который брал в руки английскую книгу. Меня они называли индийцем с европейской душой. Так как цвет Сарасвати — белый[180], то редко кто из истинных патриотов в те дни поклонялся ей. Прошел даже слух, будто воды пруда, в котором расцветают ее белые лотосы, не только не погасят губительного огня, но еще сильнее разожгут его. Ни хороший пример моей жены, ни ее настоятельные требования не заставили меня надеть кхаддар[181], и вовсе не потому, что я предпочитаю элегантный костюм. Напротив, как бы сильно я ни провинился перед национальными обычаями, в излишнем щегольстве меня упрекнуть нельзя. Я могу носить грубую, даже грязную одежду. Во времена, предшествовавшие духовному перевороту Колики, у нас с ней едва не дошло до полного разрыва, и все из-за моих привычек: я покупал на китайском базаре тупоносые туфли, забывал их чистить, считал сущим несчастьем надевать носки, а панджаби[182] предпочитал носить без пиджака, причем не замечал, когда на нем отрывались пуговицы. — Послушай, — говорила жена, — мне стыдно выйти с тобой. — Что ж, — отвечал я ей, — иди одна, тебе ни к чему изображать преданную супругу. Теперь времена переменились, но судьба моя осталась прежней. Колика все так же твердит: «Мне стыдно выйти с тобой». Тогда я не признавал костюма ее прежних соратников, теперь не признаю формы ее новых друзей. В результате жена снова стыдится меня. Что поделаешь, такой уж я человек — приспосабливаться не умею и справиться с собой не могу. Но Колике нет до этого дела. Как поток старается увлечь большие камни, так и жена моя стремится каждому навязать свой вкус. И стоит ей натолкнуться на сопротивление, как она выходит из себя. Вчера, перед тем как отправиться в гости, Колика в тысячу первый раз завела разговор о кхаддаре, причем тон ее не сулил ничего хорошего. Чувство собственного достоинства не позволило мне молча снести ее упреки, и поэтому я тоже в тысячу первый раз не преминул уколоть ее (какой только глупости не совершишь из-за своего дурного характера): — Вы, женщины, закрываете данные вам богом глаза своим покрывалом, для вас главное — обычай. Вы предпочитаете поклоняться, а не мыслить. Вы бы охотно втиснули и вкусы и разум в узкие рамки обычаев. Носить кхаддар в нашей стране вошло в обычай так же, как надевать гирлянду или ставить тилак. Вот почему вы так ратуете за него. Колика так и вскипела. Служанка, находившаяся в соседней комнате, наверняка подумала, что жена ссорится со мной из-за украшений. — Видишь ли, — заявила мне Колика, — мы ничего не добьемся до тех пор, пока носить кхаддар не станет для нас таким же обычаем, как совершать омовения в Ганге. Поведение человека — это преломление его разума сквозь призму характера. Обычай же — это мысль, воплотившаяся в определенную форму. Обычай рассеивает все сомнения человека настолько, что даже во сне они не мучают его.
Это изречение Колика позаимствовала у Нойонмохона, только кавычки опустила, хотя считает, что оно — плод ее собственных раздумий.
Тот, кто сказал, что «у немого нет врагов», был, разумеется, холост, ибо мое молчание лишь подлило масла в огонь.
— Вот ты, например, устами, то есть на словах, против кастового деления, — заявила мне Колика, — но как выразил ты это на деле? Мы же, надевая белый кхаддар, тем самым как бы окрашиваем касты в один цвет, уничтожаем разницу в одежде.
Мне хотелось сказать: «Да, конечно, если я ем куриный суп, приготовленный мусульманами, то именно устами отвергаю касты, но дело в том, что в данном случае я не занимаюсь болтовней, а действую, и результат получается самый ощутимый. А ваш кхаддар — это лишь внешняя сторона проблемы, вы только прикрываете кастовые различия, а не уничтожаете их…» Но я промолчал — я ведь человек робкий. К тому же я знал: о чем бы мы с Коликой ни говорили, она все передавала — конечно, в собственной интерпретации — своим друзьям. У профессора философии Нойонмохона она вооружалась новыми доводами и потом с победным видом преподносила их мне. Глаза у нее блестели и, казалось, спрашивали: «Ну что, получил?»
Мне очень не хотелось отправляться к Нойону. Я заранее знал, что за столом будет жарко, и не столько от горячего чая, сколько от яростных споров. Ведь будут обсуждаться такие вопросы, как: место обычая и свободного разума в культуре хинди, нормы поведения и суждения, насколько благотворны наши решения по этим вопросам для страны. А тут еще на постели меня ждала новая неразрезанная книга с золотым тиснением. Мне удалось только насладиться ее видом, раскрыть коричневый переплет я так и не успел, и неудовлетворенная страсть все больше томила меня. Но пришлось ехать, ибо противиться желанию Друбборты[183] — значило навлечь на себя ураган слов, да и не только слов.
Не успели мы отъехать, как пришлось остановиться возле кондитерской толстого хиндустанца[184], известного своими отнюдь не диетическими сластями. Это тут же, за водопроводной колонкой, рядом с домом под черепичной крышей. На улице собралась толпа. Шум стоял невообразимый. Не успели наши соседи-марвары[185], захватив все необходимое для ритуала, отправиться в путь, как что-то произошло. «Наверное, поймали какого-нибудь воришку», — подумал я.
Машина, сигналя, протиснулась сквозь толпу, и тут я увидел, что избивают старика подметальщика из нашего квартала. Я спросил — за что. Оказывается, закончив работу, бедняга вымылся под колонкой, сменил одежду и, взяв ведро и сунув под мышку метлу, пошел домой. На нем была клетчатая безрукавка, мокрые волосы тщательно расчесаны. С ним был внук — мальчик лет девяти. Оба красивые, стройные. И вдруг старик кого-то нечаянно задел — в толпе это не мудрено. Тут все и началось. Мальчик плакал, просил: «Не бейте дедушку!» Старик оправдывался, умоляюще сложив руки: «Я не видел, не заметил. Простите меня». Из глаз несчастного текли слезы, бороду заливала кровь. Но его мольбы лишь распаляли гнев сторонников ненасилия.
Затеять ссору с ними я не мог, поэтому решил взять подметальщика в машину и тем самым показать, что не принадлежу к числу фанатиков. Колика догадалась о моем решении и схватила меня за руку:
— Что ты? Ведь он подметальщик.
— Ну и пусть, — ответил я, — неужели за это его надо бить?
— Он сам виноват, — не унималась жена, — мог бы идти по краю улицы, ничего бы с ним не случилось.
— Говори, что хочешь, а я возьму его в машину.
— Тогда я выйду, — заявила Колика, — не могу же я ехать с подметальщиком. Пускай бы еще с чистильщиком, это другое дело, а с подметальщиком — уволь!
— Но ты же видишь, он вымылся, он чище многих других в этой толпе, — убеждал я.
— Пускай, — стояла на своем Колика, — но он подметальщик.
Она повернулась к шоферу:
— Поезжай!
Я потерпел поражение. Я трус. Нойонмохон оправдал случившееся с социологических позиций, но я не слушал его доводов и потому не мог ему возразить.
1928
— Видишь ли, — заявила мне Колика, — мы ничего не добьемся до тех пор, пока носить кхаддар не станет для нас таким же обычаем, как совершать омовения в Ганге. Поведение человека — это преломление его разума сквозь призму характера. Обычай же — это мысль, воплотившаяся в определенную форму. Обычай рассеивает все сомнения человека настолько, что даже во сне они не мучают его.
Это изречение Колика позаимствовала у Нойонмохона, только кавычки опустила, хотя считает, что оно — плод ее собственных раздумий.
Тот, кто сказал, что «у немого нет врагов», был, разумеется, холост, ибо мое молчание лишь подлило масла в огонь.
— Вот ты, например, устами, то есть на словах, против кастового деления, — заявила мне Колика, — но как выразил ты это на деле? Мы же, надевая белый кхаддар, тем самым как бы окрашиваем касты в один цвет, уничтожаем разницу в одежде.
Мне хотелось сказать: «Да, конечно, если я ем куриный суп, приготовленный мусульманами, то именно устами отвергаю касты, но дело в том, что в данном случае я не занимаюсь болтовней, а действую, и результат получается самый ощутимый. А ваш кхаддар — это лишь внешняя сторона проблемы, вы только прикрываете кастовые различия, а не уничтожаете их…» Но я промолчал — я ведь человек робкий. К тому же я знал: о чем бы мы с Коликой ни говорили, она все передавала — конечно, в собственной интерпретации — своим друзьям. У профессора философии Нойонмохона она вооружалась новыми доводами и потом с победным видом преподносила их мне. Глаза у нее блестели и, казалось, спрашивали: «Ну что, получил?»
Мне очень не хотелось отправляться к Нойону. Я заранее знал, что за столом будет жарко, и не столько от горячего чая, сколько от яростных споров. Ведь будут обсуждаться такие вопросы, как: место обычая и свободного разума в культуре хинди, нормы поведения и суждения, насколько благотворны наши решения по этим вопросам для страны. А тут еще на постели меня ждала новая неразрезанная книга с золотым тиснением. Мне удалось только насладиться ее видом, раскрыть коричневый переплет я так и не успел, и неудовлетворенная страсть все больше томила меня. Но пришлось ехать, ибо противиться желанию Друбборты[183] — значило навлечь на себя ураган слов, да и не только слов.
Не успели мы отъехать, как пришлось остановиться возле кондитерской толстого хиндустанца[184], известного своими отнюдь не диетическими сластями. Это тут же, за водопроводной колонкой, рядом с домом под черепичной крышей. На улице собралась толпа. Шум стоял невообразимый. Не успели наши соседи-марвары[185], захватив все необходимое для ритуала, отправиться в путь, как что-то произошло. «Наверное, поймали какого-нибудь воришку», — подумал я.
Машина, сигналя, протиснулась сквозь толпу, и тут я увидел, что избивают старика подметальщика из нашего квартала. Я спросил — за что. Оказывается, закончив работу, бедняга вымылся под колонкой, сменил одежду и, взяв ведро и сунув под мышку метлу, пошел домой. На нем была клетчатая безрукавка, мокрые волосы тщательно расчесаны. С ним был внук — мальчик лет девяти. Оба красивые, стройные. И вдруг старик кого-то нечаянно задел — в толпе это не мудрено. Тут все и началось. Мальчик плакал, просил: «Не бейте дедушку!» Старик оправдывался, умоляюще сложив руки: «Я не видел, не заметил. Простите меня». Из глаз несчастного текли слезы, бороду заливала кровь. Но его мольбы лишь распаляли гнев сторонников ненасилия.
Затеять ссору с ними я не мог, поэтому решил взять подметальщика в машину и тем самым показать, что не принадлежу к числу фанатиков. Колика догадалась о моем решении и схватила меня за руку:
— Что ты? Ведь он подметальщик.
— Ну и пусть, — ответил я, — неужели за это его надо бить?
— Он сам виноват, — не унималась жена, — мог бы идти по краю улицы, ничего бы с ним не случилось.
— Говори, что хочешь, а я возьму его в машину.
— Тогда я выйду, — заявила Колика, — не могу же я ехать с подметальщиком. Пускай бы еще с чистильщиком, это другое дело, а с подметальщиком — уволь!
— Но ты же видишь, он вымылся, он чище многих других в этой толпе, — убеждал я.
— Пускай, — стояла на своем Колика, — но он подметальщик.
Она повернулась к шоферу:
— Поезжай!
Я потерпел поражение. Я трус. Нойонмохон оправдал случившееся с социологических позиций, но я не слушал его доводов и потому не мог ему возразить.
1928
Похищенное сокровище
I
Во времена, о которых повествуют эпические поэмы, жену приходилось добывать отвагой, и тот, кто ею обладал, получал не женщину, а сокровище. Я же свою жену завоевал, не обладая мужеством, только она поздно об этом узнала. Но после свадьбы я посвятил себя подвижничеству и изо дня в день расплачивался за свой обман. Мужчина обычно забывает о том, что супружеские права нужно заслуживать снова и снова. Он получает жену, словно товар на таможне, предъявив документ об уплате пошлины, и, по сути дела, ничем не отличается от стражника, который обрел власть благодаря кокарде. Супружество — песня всей жизни, припев у нее один, а мелодия изменяется с каждым куплетом. Это я узнал благодаря Шунетре. В ней скрыто все богатство любви с ее неиссякаемым величием, и весь день в доме звучит ее песня. Вернувшись как-то из конторы, я увидел, что для меня приготовлен шербет из ягод со льдом, и цвет его восхитителен. А рядом с ним на серебряной тарелочке — цветы, их аромат ощущаешь, еще не войдя в комнату. В другой раз я увидел чашку, полную сока и мякоти плода пальмиры, охлажденного в мороженице, и головку подсолнечника на блюдце. Как будто ничего особенного, но все это говорило о том, что жена изо дня в день заново ощущает мое существование. Способность ощущать новое присуща художникам, люди же обыкновенные идут проторенной тропой. У Шунетры дар любви, дар открывать все новые пути служения. Сейчас моей дочери Аруне семнадцать лет, то есть ровно столько, сколько было Шунетре, когда она вышла замуж. Сейчас Шунетре тридцать восемь, но она тщательно следит за собой. Для нее это все равно, что ежедневное жертвоприношение божеству, а божество — она сама. Шунетра любит белые шантипурские сари с черной каймой. Она безропотно принимала упреки сторонников кхаддара, не принимала только самого кхаддара, хотя ей очень нравились тонкие индийские ткани. — Меня восхищают наши ткачи, — говорила она. — Они художники и знают толк в сочетании цветов. Шунетра отлично понимает, что любой цвет особенно выигрывает на фоне белого сари. Это и дает ей возможность незаметно обновлять свой наряд. И еще она понимает, что ее наряд пробуждает в душе моей безотчетную радость. У каждого человека есть собственное «я», и все бесценное значение этой глубочайшей истины открывается в любви. В сравнении с ней фальшивая монета эгоизма ничего не стоит. Вот уже двадцать один год Шунетра приносит в дар мне сокровища любви. Каждый день на лице ее я читаю изумление. В сердце ее вселенной нахожусь я, поэтому в обычном мире я могу быть кем угодно. Любовь открывает необычное в обычном. В шастрах говорится: «Познай себя». Я с радостью познаю себя, когда другой познает меня в любви.II
Отец мой был членом правления одного известного банка, и я стал его пайщиком. Не совсем таким, которых называют «пассивными». Меня насильно впрягли в конторскую упряжку. Эта работа не устраивала меня ни физически, ни духовно. Мне хотелось стать лесничим в лесном департаменте, жить на свежем воздухе и всласть поохотиться. Отец же заботился о моей карьере. — Такое место, — говорил он, — не легко достается бенгальцу. Пришлось сдаться. К тому же, как известно, мужчина, сделавший карьеру, очень ценится женщинами. Например, муж сестры Шунетры был профессором на государственной службе, поэтому женщины в их доме так возгордились. Если бы я стал забуревшим от жизни в лесу «инспектор-сахибом», носил бы пробковый шлем и устлал бы полы в своем доме шкурами тигров и медведей, то от этого я потерял бы в весе и вместе с тем убавилась бы честь моего звания в сравнении с любым из соседей-чиновников. А это, в свою очередь, нанесло бы ущерб женскому тщеславию. Тем временем поток моей юности под влиянием неподвижной канцелярской жизни стал иссякать. Другой на моем месте смирился бы с этим, равно как и с увеличением собственного живота. Но я так не мог. Я знал, что Шунетра полюбила меня не только за мои достоинства, но и за красоту. Сплетенный творцом брачный венок, который я принес ей однажды, должен был радовать ее каждый день. Удивительно, Шунетра не старилась, я же быстро клонился к закату, росли только сбережения в банке. Дочь Аруна воскресила в моей памяти рассвет нашей любви. Утро ее юности было окрашено в цвета зари нашей жизни, и вся душа моя исполнилась восторга. В Шойлене я видел возрождение своей молодости. Та же порывистость юных лет, та же неистощимая веселость, а временами, когда разбивались его дерзкие надежды, те же тревога и уныние. Он шел тем же путем, что и я в свое время, так же, как и я, придумывал всевозможные способы привлечь на свою сторону мать Аруны, а мною не очень интересовался. Аруна чувствовала, что отец ее понимает женское сердце. Время от времени она пристраивалась на полу у моих ног и молча сидела с глазами, полными слез. Откуда они, эти слезы! В отличие от меня ее мать умела быть жестокой. Нельзя сказать, что она не разбиралась в сердечных делах дочери, но она была убеждена, что со временем все это уйдет, как утренние облака. Я был совершенно иного мнения. Если долго не есть, аппетит, разумеется, пропадет, а когда примешься за еду, то окажется, что к ней потерян всякий вкус. Утренние песни не поют в полдень. — Пусть сперва наступит возраст благоразумия и так далее и так далее, — говорят наставники. Но, увы, возрасту любви и возрасту благоразумия не суждено встретиться. Вот уже несколько дней, как начался сезон дождей. Дождливая завеса смягчила очертания каменной и деревянной Калькутты, и резкий городской шум зазвучал приглушенно, как голос, в котором дрожат слезы. Жена знала, что Аруна в моей библиотеке готовится к экзаменам. Зайдя за книгой, я увидел, что дочь тихо сидит у окна, на лице ее влажная тень, клонящегося к концу пасмурного дня. Она до сих пор не причесана, и восточный ветер роняет капельки дождя на ее распущенные волосы. Я ничего не сказал Шунетре. Я тотчас же написал Шойлену письмо, приглашая его на чай, и послал за ним машину. Шойлен приехал. Нетрудно понять, что его внезапное появление не обрадовало Шунетру. — Я не настолько силен в математике, — сказал я ему, — чтобы разобраться в современной физике, поэтому я и послал за тобой. Я хотел бы, насколько это возможно, разобраться в квантовой теории, мои знания давно уже устарели. Само собой разумеется, наши занятия продолжались недолго. Я не сомневался, что Аруна без труда разгадала мою хитрость и подумала, что ни у кого еще не было такого идеального отца. В самом начале беседы о квантовой теории зазвонил телефон. Я вскочил: — Это по важному делу. Знаете что, поиграйте пока в настольный теннис, а я вернусь тотчас же, как освобожусь. — Алло! — послышалось в телефонной трубке, — это номер двенадцать-ноль-ноль такой-то, такой-то? — Нет, — ответил я, — это номер семь-ноль-ноль такой-то, такой-то. Затем я спустился вниз и принялся читать старую газету. Когда стемнело, я зажег свет. В комнату вошла Шунетра, Лицо у нее было строгое. — Если бы метеоролог взглянул на тебя, он сообщил бы о приближении бури, — пошутил я. Шунетра не отозвалась на шутку. — Зачем ты поощряешь Шойлена? — спросила она. — Потому что человек, который к нему неравнодушен, незримо присутствует в его душе, — ответил я. — Если прервать на некоторое время их встречи, это ребячество кончится само собой. — Да разве могу я так жестоко расправиться с ребячеством? Дни идут, люди стареют, а ребячество уже никогда не возвратится. — Ты не признаешь сочетаний звезд, а я признаю. Им не суждено быть вместе. — Я не знаю закона сочетания звезд, но зато совершенно ясно, какое прекрасное сочетание представляют собой эти дети. — Ты меня не поймешь. В момент нашего рождения нам свыше предопределен спутник жизни. Если же, ослепленные чувствами, мы изберем другого, то совершим неосознанный грех. В наказание на нас посыплются несчастья и беды. — А как распознать своего спутника? — Для этого существует документ, подписанный звездами.III
Больше я не мог скрывать. Мой тесть Аджиткумар Бхоттачарджо принадлежал к знатному роду пандитов. Воспитывался он в санскритской школе. Затем приехал в Калькутту, сдал экзамен по математике и получил ученую степень. Он глубоко верил в астрологию и был большим ее знатоком. Отец его замечательно владел логикой. По его мнению, существование богов следовало поставить под сомнение. У меня были доказательства, что и мой тесть не признавал богов. И вся его вера, оставшаяся таким образом не у дел, обратилась на звезды и планеты; это был тоже своего рода фанатизм. С самого детства планеты и звезды зорко стерегли Шунетру. Я был любимцем профессора, который обучал и Шунетру, и поэтому мы с ней часто виделись. О том, что это принесло свои плоды, мне сообщили по беспроволочному телеграфу сердца. Мать Шунетры звали Бибхаботи. Она была воспитана в духе старых времен, но, благодаря общению с мужем, ум ее остался светлым и свободным от предрассудков. В отличие от мужа она не верила в звезды и признавала лишь своего бога. Как-то раз муж стал шутить над ней, и она сказала: — Ты бьешь челом перед стражей, а я почитаю самого раджу. — Ты разуверишься в нем, — ответил муж, — твой раджа, что он есть, что его нет — все равно. А вот стража с дубинками — дело другое. — Ну и пусть разуверюсь, — возразила жена, — зато я не стану кланяться страже. Мать Шунетры очень меня любила и читала в моей душе как в открытой книге. Однажды, улучив минутку, я сказал ей: — У тебя нет сына, а у меня — матери. Отдай мне свою дочь, я буду тебе вместо сына. Скажи: да, и я пойду умолять профессора. — О профессоре потом, сынок, — сказала она, — сначала принеси мне свой гороскоп. Я принес. — Не суждено, — сказала она. — Профессор не согласится. А дочь профессора — ученица своего отца. — А ее мать? — спросил я. — Обо мне говорить нечего, — ответила она. — Я знаю тебя, знаю сердце своей дочери, и у меня нет желания устремляться к звездам, чтобы узнать еще что-нибудь. Все во мне взбунтовалось. Как можно признавать столь нереальные преграды! Но ведь нереальное недоступно ударам. Как же я буду с ним бороться? Между тем Шунетру усиленно сватали. Бывало, что гороскоп жениха не вызывал возражения звезд. Но дочь упрямо твердила, что замуж не пойдет и посвятит себя служению науке.
Отец не догадался, в чем тут дело, ему пришла на память Лилавати[186]. Мать поняла и украдкой лила слезы. Кончилось тем, что однажды она сунула мне в руку какую-то бумагу и прошептала:
— Это гороскоп Шунетры. Покажи его астрологу, пусть исправит твой. Я не могу видеть, как дочь моя страдает понапрасну.
О том, что произошло потом, можно не говорить. Я освободил Шунетру из тенет гороскопа. Вытирая слезы, ее мать сказала:
— Ты сделал доброе дело, сынок.
С тех пор прошел двадцать один год.
Между тем Шунетру усиленно сватали. Бывало, что гороскоп жениха не вызывал возражения звезд. Но дочь упрямо твердила, что замуж не пойдет и посвятит себя служению науке.
Отец не догадался, в чем тут дело, ему пришла на память Лилавати[186]. Мать поняла и украдкой лила слезы. Кончилось тем, что однажды она сунула мне в руку какую-то бумагу и прошептала:
— Это гороскоп Шунетры. Покажи его астрологу, пусть исправит твой. Я не могу видеть, как дочь моя страдает понапрасну.
О том, что произошло потом, можно не говорить. Я освободил Шунетру из тенет гороскопа. Вытирая слезы, ее мать сказала:
— Ты сделал доброе дело, сынок.
С тех пор прошел двадцать один год.
IV
Ветер усилился, дождь лил не переставая. Я сказал Шунетре: — Свет режет глаза, можно, я его погашу? В темную комнату проник бледный луч уличного фонаря. Я усадил Шунетру на диван рядом с собой и сказал: — Шуни, ты думаешь, я был предназначен тебе судьбой? — Почему вдруг ты спросил об этом? Это и так ясно. — А что, если мы поженились вопреки сочетанию светил? — Да разве я не знаю, что это неправда? — Мы столько лет прожили вместе, и у тебя никогда не возникали сомнения? — Если ты будешь задавать мне пустые вопросы, я рассержусь. — Шуни, мы с тобой нередко знавали горе. Наш первый ребенок умер, когда ему было восемь месяцев. Когда я едва не погиб от тифа, скончался мой отец. Потом старший брат подделал завещание и завладел всем имуществом, и сейчас служба — моя единственная опора. Любовь твоей матери была в моей жизни путеводной звездой. После Пуджи на пути домой она погибла вместе с мужем в волнах Мегхны. Профессор, человек неопытный в делах, наделал кучу долгов, и я взял их на себя. Быть может, все эти несчастья произошли по злой воле моей звезды? Знай все заранее, ты бы не согласилась стать моей женой? Шунетра молча обняла меня. — Разве жизнь наша не доказала, что любовь сильнее всех предвестниц бед? — спросил я. — Конечно, доказала. — Представь себе, что, милостью планет, я умру раньше тебя. Разве не восполнил я при жизни и эту твою потерю? — Довольно, довольно, не говори больше ничего. — Чтобы провести с Сатьяваном[187] всего день, Савитри согласилась на вечную разлуку. И ее не страшила смерть. Шунетра промолчала. — Твоя Аруна, — продолжал я, — любит Шойлена. Достаточно знать одно это, остальное неважно. Что ты скажешь, Шунетра? Шунетра молчала. — На пути моей любви к тебе встало препятствие, — продолжал я. — Так пусть никто не верит в зловещие предсказания какой-то планеты. Я не дам зародиться сомнению, подогнав цифры их гороскопов. В этот момент на лестнице послышались шаги. Это спускался Шойлен. Шунетра быстро поднялась с дивана. — Ты что, Шойлен, — воскликнула она, — уже уходишь? — Я немного задержался, — стал оправдываться Шойлен. — У меня не было часов. Уже так поздно. — Совсем не поздно, — возразила Шунетра, — ты поужинаешь с нами. Вот что называют поощрением. В этот вечер я поведал Шунетре историю подправленного гороскопа. Она сказала: — Лучше бы ты мне об этом не рассказывал. — Почему? — Отныне я буду жить в вечном страхе. — Что же страшит тебя, вдовство? Шуни долго молчала, затем проговорила: — Нет, я не стану бояться. Если я покину тебя и уйду раньше, моя смерть будет для меня двойной смертью. 1933МИНИАТЮРЫ

Облако-вестник[188]
Мне вспоминается день нашей первой встречи.
О чем тогда пела флейта?
Она пела: «Я встретился с тем, кто был далек мне».
«Я уловил неуловимое, я задержал вечно ускользающее!»
Отчего же теперь не поет моя флейта?
Порою в залитой лунным сияньем ночи веет прохладой; я пробуждаюсь, сердце стонет; это мысль: я навеки утратил ту, что рядом со мной. Чем завершится наша разлука? Соприкоснется ли вновь ее бесконечность с моею?.. Кто она, с кем говорю всякий вечер, освободившись от дел? Она — одна из тысяч и тысяч подобных ей в мире; все в ней познано мною, все знакомо, исчерпано. Но я чувствую: что-то в ней ушло от меня, что было и должно быть моим. Обрету ли я вновь его в безбрежном потоке желаний?.. Наступит ли день, когда в сумерках праздных, напоенных благоуханьем лесного жасмина, будут снова беседовать наши сердца?
Дождь словно окутал своим покрывалом небосклон на востоке. Вспомнились мне строки поэта Удджайини[189]. И подумалось: не послать ли и мне к возлюбленной вестника? Пусть летит моя песня! Пусть пронесется над бездною нашего отчуждения! Пусть плывет моя песня против теченья времен! Пусть достигнет далекого днянашей первой встречи, дня, полного светлой тревоги, о которой тогда пела флейта, дня, пронизанного рыданьем потоков дождей, дня, овеянного ароматами несчетных весен вселенной, вздохами дремной кетоки[190] и веселыми взмахами цветущих ветвей дерева шал[191]!.. Пусть, проливаясь дождем, она шелестит в листве кокосовых пальм, осеняющих берега безлюдных озер! Пусть достигнет песня моя слуха возлюбленной в час, когда, стянув узел волос и поправив сари, она суетится у домашнего очага!..
Сегодня бескрайний небосвод склонился над смуглой землею, окутанной синею дымкой лесов, и нежно шепнул ей: — Я твой! — Да разве это возможно? — удивилась земля. — Ты безграничен, а я так мала! — Иль не видишь? — отвечал небосвод. — Стали тучи моими границами, я окружил тебя их пеленою. Смутилась земля: — Ты одет сияньем бесчисленных звезд, а в моем одеянье — ни единой искорки света!.. — Сегодня все потеряно мной — и луна, и солнце, и звезды, — и вот я приник к тебе! — Мое сердце полно слезами и дрожит при любом дуновенье, а ты неподвижен… — О нет! В глазах моих тоже слезы. Разве не видишь? Вот-вот они хлынут потоком, мрачно мое лоно — как сердце твое… И тут излилась песня слез, заполняя пространство, разделившее небо и землю, — пришел конец их разлуке… Пусть поет юный дождь вдохновенные гимны в честь обручения неба с землею, пусть прольется он и на нашу разлуку!.. Пусть все несказанное, что затаилось в сердце любимой, зазвенит, как струна вины! Пусть набросит любимая на темные пряди анчал[192], синий, как дали лесные! Пусть во взоре ее черных очей прозвучат все мелодии ливня! И да будет благословенна гирлянда бокула, вплетенная в косы любимой!.. Когда сумрак, сгустившийся в роще бамбука, задрожит от звона цикад, когда на холодном сыром ветру, затрепетав, угаснет пламя светильника, — пусть покинет возлюбленная свой мирок, так ей знакомый, и придет лесною тропой, овеянной влажным дыханием трав, в настороженную ночь моего одинокого сердца!.. 1922
Не в тот рай попал
Это был самый настоящий бездельник. Дела его не занимали, только забавы да развлечения. Налепит, бывало, на дощечку глины, набросает сверху морских ракушек, и чудится ему то стая птиц над морскими волнами, то стадо коров н$ холмистом поле, а то привидятся ему горы — по склонам их мчатся вниз бурные потоки, сбегают исхоженные людьми тропы. Родные постоянно бранили его. Он обещал оставить все эти глупости. Но… глупости не оставляли его. Иной сорванец за весь год не заглянет в книжку, а экзамены каким-то чудом сдает отлично. Так было и с нашим бездельником. Вся его жизнь прошла в бесполезных занятиях, однако после смерти, как это ни странно, его пустили на небо. Но и там, в небесных краях, богиня судьбы не оставляет человека в покое. Случилось так, что посланцы Ямы поставили на бездельнике не ту метку и отвели его в рай деловых людей. Всего в этом раю было вдоволь. Не было лишь досуга. Мужчины здесь без конца твердили: «Ох! И вздохнуть некогда». Женщины, едва повстречавшись, спешили разойтись по домам: дела ждут. «Время — деньги!» — говорили они. Только и слышалось отовсюду: «Тяжко! Сил больше нет!» И произносились эти слова с наслаждением. Даже гимн деловых людей начинался так: «Я устал, я замучен работой». Наш бедняга никак не мог найти себе места в раю деловых людей. Он как потерянный бродил по дорогам, то и дело натыкаясь на снующих прохожих. Только расстелет свой чадор и сядет отдохнуть, как слышит окрик: «Эй ты, куда сел? Не видишь: засеяно?» И так с утра до ночи: посторонись да встань! Одна молодая женщина каждый день ходила к райскому источнику по воду. Легкая, торопливая поступь ее была подобна мелодии, слетающей со струн ситара. Волосы она небрежно стягивала узлом на затылке, и упрямые локоны спадали на лоб, пытаясь заглянуть в черные звезды глаз. Райский бездельник обычно стоял поодаль, неподвижный, как дерево тамал на берегу стремительного потока. Однажды женщина встретилась с ним взглядом. И почувствовала жалость — так принцесса проникается жалостью к нищему, который стоит у нее под окном. — Я вижу, у тебя нет никакого дела, — обратилась она к бездельнику с состраданием в голосе. — Дела? Но у меня нет времени заниматься делами, — с тяжким вздохом промолвил бездельник. Женщина не поняла его. — Не хочешь ли ты помочь мне? — спросила она. — Конечно, хочу. — Чем же ты можешь помочь? — Вот если ты дашь мне один из кувшинов, в которых носишь воду, я… — Зачем тебе мой кувшин? Воду носить? — Нет, я его разрисую. — Что за глупости! — рассердилась женщина. — Нет у меня времени болтать тут с тобой! — и ушла. Но разве деловой человек устоит против бездельника? Каждый день встречались они у источника, и всякий раз бездельник твердил свое: «Дай мне кувшин, я разрисую его». И женщина уступила, дала кувшин. Бездельник стал выводить на нем пестрый узор. Когда он закончил работу, женщина взяла кувшин и залюбовалась рисунком; она поворачивала кувшин то в одну сторону, то в другую и все смотрела, смотрела. — Что значат эти линии? — спросила она наконец, подняв в изумлении брови. — Ничего, — ответил бездельник. Женщина пошла с кувшином домой, тихая и задумчивая. Там она села в укромном месте и снова стала любоваться рисунком. Ночью она не раз вставала с постели, зажигала светильник и молча рассматривала узоры. Она впервые увидела нечто, лишенное всякого смысла, значения. На другой день, когда молодая женщина направлялась к источнику, движения ее уже не были так уверенны и деловиты. Казалось, ноги ее шли-шли и вдруг задумались — и то, о чем они думали, не имело никакого смысла. А бездельник уже стоял там, немного поодаль. — Что тебе надо? — спросила в смущении женщина. — Я хотел бы сделать для тебя еще что-нибудь. — Что же? — Хочешь, я сплету из разноцветных нитей шнур для твоих волос? — Зачем? — Да так. Он сплел для ее волос шнур, яркий, красивый. И с тех пор молодая женщина каждый день подолгу сидит перед зеркалом, стараясь как можно искуснее вплести цветной шнур в свои волосы. А дела стоят, время идет.И вот в раю деловых людей зазвучали песни и полились слезы любви, надолго отрывавшие всех от работы. Это встревожило старейшин рая. Созвали совет. — В наших местах, — заявили они, — такого еще никогда не случалось. Тут посланцы Ямы признались в своем проступке: — Это мы по ошибке привели сюда не того человека. «Не-тот-человек» был призван на совет. И все поняли, какая страшная произошла ошибка, — ведь на нем был яркий тюрбан и сверкающий пояс! — Ты должен вернуться на землю, — повелел «Не-тому-чело-веку» глава старейшин. «Не-тот-человек» вздохнул облегченно, собрал свои кисти и краски и с готовностью сказал: — Так я пошел. — Постой, и я с тобой! — воскликнула молодая женщина. Глава старейшин растерялся. И не мудрено. Первый раз в раю деловых людей произошло нечто, лишенное всякого смысла. 1922
Лошадь
Работа по сотворению мира подходила уже к концу, когда гонг, призывавший обычно к отдыху, вдруг возвестил: — В голове Брахмы[193] зародилась новая мысль! Творец призвал к себе хранителя сокровищ. — Принеси-ка в мою мастерскую пять стихий[194], каждой понемногу, — хочу сотворить еще одно существо. — О владыка, — почтительно сложив руки, отвечал хранитель сокровищ, — создавая слонов и китов, змеи, львов и тигров, ты в пылу увлечения слишком щедро расточал богатства вселенной. Земли, огня и воды у нас почти не осталось; только ветра и воздуха — хоть отбавляй. Четырехликий[195] в раздумье покрутил все четыре пары своих усов. — Хорошо, давай все, что у тебя есть в кладовых. Посмотрим. На сей раз Брахма расходовал землю, огонь и воду весьма бережливо. Новой твари он не дал ни рогов, ни когтей, а зубами она могла только жевать, но не кусаться. Правда, из запасов огня он кое-что взял, поэтому сотворенное им существо могло пригодиться на поле брани, но страсти к борьбе ему не досталось. Существо это — лошадь. Говорят, что оно кладет яйца и потому считается дваждырожденным[196], хотя это неправда. Но вернемся к тому, как Брахма творил. Всемогущий все нутро своего создания накачал ветром и воздухом. И теперь душа его непрестанно стремится к свободе — лететь бы ветра быстрее, оно клятву дало преодолеть бескрайнее небо! Все — твари как твари: бегут, когда нужно, а эта мчится просто так, без всякой нужды, будто ей от самой себя хочется убежать. Она не станет ни хватать добычу, ни убивать, ей бы только мчаться и мчаться. В этом беге она то пьянеет, впадая в экстаз, то становится вялой и сонной, то снова мчится, чтобы уйти в небытие. «Так случается, — говорят мудрецы, — когда в созданной всевышним твари слишком много ветра и воздуха». Брахма был в восторге от сотворенного им существа. Всех животных он поселил в лесах и пещерах, а этому даровал поле, чтобы любоваться его стремительным бегом. По ту сторону поля жил человек. Он все прибирал и прибирал к своим рукам и скопил столько добра, что оно стало для него тяжким бременем. Увидев мчавшуюся по полю лошадь, он тут же подумал: «Эх, обуздать бы ее, как она пригодилась бы мне в хозяйстве!» И вот однажды человек расставил сети и поймал лошадь. На спину ей он водрузил седло, взнуздал и стал стегать нещадно кнутом, а в бока вонзал шпоры. Правда, иногда он мыл и чистил ее, но в поле никогда не выпускал — чтобы не убежала, а запер в четырех стенах. Никто не отнял у тигра леса, у льва — пещеры, а у лошади отобрали ее широкое поле и посадили в конюшню. О ветры и воздух, вы наделили эту тварь высоким стремленьем к свободе, но не смогли избавить ее от оков! Когда лошади стало невмоготу, она забила копытами в стену. Она изранила себе ноги, а стена… Впрочем, со стены осыпалась штукатурка… Человек не на шутку разгневался. — Какая неблагодарность! — вскричал он. — Я кормлю ее и пою, плачу конюхам, чтобы ни днем ни ночью глаз с нее не спускали. Право же, трудно ей угодить! И вот, стараясь угодить лошади, конюхи с таким рвением принялись за работу, что вскоре она уже не в силах была шевельнуться. Тогда человек сказал своим друзьям и соседям: — Готов поклясться, во всем мире не сыскать такого верного и преданного существа, как эта лошадка. — О да! — угодливо отозвались друзья и соседи. — Всегда спокойная, как вода в пруду. Такая же кроткая и мирная, как ваша вера. Да оно и понятно. Ведь лошади не было дано ни настоящих зубов, ни когтей, ни рогов, а бить копытами не то что в стену, но даже в пустоту ей строго-настрого запретили. Чтобы хоть немного отвести душу, ей только и оставалось, что ржать, задрав голову к небу. Но это нарушало покой человека, да и соседи невесть что могли подумать — ржание лошади отнюдь не выражало любви и преданности. Тогда появилось на свет множество всяких приспособлений, чтобы заткнуть лошади глотку. Но заставить лошадь совсем замолчать все же не удалось, и порой у нее вырывался сдавленный звук, подобный предсмертному хрипу. Однажды этот звук долетел до ушей Брахмы и прервал его созерцательный сон. Глянул Брахма на землю, на открытое поле. Где же его лошадь? И призвал к себе творец Яму: — Твои проделки, конечно! Это ты стащил мою лошадь? — О творец, — взмолился Яма. — Почему ты всегда подозреваешь меня? Обрати свой взор в ту сторону, где живет человек. Творец посмотрел в ту сторону, где живет человек. И что же он увидел? Крохотный клочок земли, на нем высятся каменные стены, а за ними стоит лошадь и чуть слышно, устало похрапывает. Вскипел Брахма. — Если ты не освободишь мою тварь, — грозно крикнул он человеку, — я дам ей острые, как у тигра, когти и зубы, и уж тогда она не будет служить тебе! — Неужели ты станешь поощрять кровожадность? — упрекнул его человек. — По правде сказать, твое создание недостойно свободы. Для его же блага, в ущерб себе я построил конюшню. Превосходную конюшню. — Нет, ты отпустишь ее на свободу! — упрямо твердил всевышний. — Ладно, отпущу, — согласился наконец человек. — Но не раньше чем через семь дней. Если и тогда ты скажешь, что ей больше годится поле, чем конюшня, я сдаюсь: твоя взяла. Что же, вы думаете, сделал человек? Он пустил лошадь в поле. Но крепко стреножил ее. Бедное животное стало передвигаться прыжками, нелепыми и смешными, — лягушка и та грациознее скачет. Брахма живет высоко в небе. Как лошадь ковыляла, он видел, но пут на ее ногах не разглядел, и в каком же смехотворном виде предстало пред ним его создание! Творец даже покраснел от стыда. — Да, ошибся я, видно, — пробормотал он. Человек, сложив почтительно руки, сказал: — Как повелишь мне теперь поступить с этой несчастной тварью? Если бы в твоих небесных владениях было поле, я, пожалуй, решился бы отправить ее туда. — Что ты, что ты! — всполошился Брахма. — Забирай ее, да поскорее, в свою конюшню! — О владыка, — не унимался хитрец, — для человека эта тварь — тяжкое бремя! — Так ведь на то ты и человек, чтобы принять это бремя, — ответствовал Брахма. 1922Как обучали попугая
Жил-был попугай. Глупый-преглупый. Священных книг не читал, только и знал, что трещать, прыгая с ветки на ветку. Он и понятия не имел о том, что такое правила и законы. — Не понимаю, зачем существуют такие птицы! — брюзжал раджа. — Только плоды в лесах поедают, а мы терпим убытки на нашем царском рынке. — И он отдал приказ обучить попугая всяким наукам и хорошим манерам. Обучение попугая было поручено царским племянникам. Всех пандитов страны призвали ко двору на совет. Долго обсуждали они вопрос: в чем причина невежества вышеупомянутой птицы? И решили: все дело в том, что гнездо птицы, сплетенное из травинок и соломы, уж очень убого. Прежде всего надо соорудить ей красивую клетку. Пандиты получили вознаграждение и, довольные, разошлись по домам.Золотых дел мастер стал сооружать клетку из чистого золота. Клетка вышла на славу. Посмотреть на эту диковинку стекались любопытные со всех концов света. Одни качали головой: — Зачахнут теперь науки. — Ну и пусть чахнут, — говорили другие. — Зато какая чудесная клетка. Повезло птице! Золотых дел мастер получил в награду целый мешок денег и, не чуя под собой ног от радости, поспешил домой. Наконец решили приступить к обучению птицы. — Однако для нашего дела, — прогнусавил пандит, засовывая в ноздрю табак, — потребуется немало книг. Тогда племянники раджи созвали целую армию переписчиков и посадили их за работу. Переписчики день и ночь делали копии с книг, затем копии с копий, пока не выросла целая гора рукописей. — Ну, теперь конец, — говорили те, кому довелось видеть это. — Пропали науки. Переписчики вернулись домой с подарками, которых было столько, что пришлось везти их на повозках. С тех пор их семьи не знали нужды. Драгоценная клетка доставляла племянникам уйму хлопот — то чинить ее надо, то чистить. Наблюдая, как моют, скребут и чистят клетку, люди говорили: — А ведь лучше становится. Между тем для обслуживания сего «храма наук» с каждым днем требовалось все больше мастеров и подмастерьев, а еще больше надсмотрщиков. И все, понятно, мечтали на этом руки погреть. Сказать по правде, мастера с подмастерьями и вся их родня набили сундуки всяким добром и зажили в полном довольстве в новых роскошных домах. Многого недостает в нашем мире, зато хулителей всегда вдоволь. — Клетка, — уверяли они, — все краше становится, а вот про птицу забыли. Слова эти достигли слуха раджи. Приказал ом тогда позвать племянников. — Дорогие племяннички, — сказал он, — что это я слышу? — Махараджа, — отвечали племянники, — если ты хочешь знать правду, вели позвать золотых дел мастеров, пандитов и переписчиков, вели позвать тех, кто чинил клетку, и тех, кто наблюдал за починкой. У хулителей подвело животы от голода, вот они и возводят напраслину! Раджа прекрасно все понял и… пожаловал каждому из племянников золотое ожерелье.
Обучение продолжалось с блистательным успехом. И вот однажды раджа пожелал сам в этом удостовериться. В сопровождении свиты он направился к великому святилищу знаний. Как только раджа приблизился к вратам святилища, затрубили раковины, горны и охотничьи рога, зазвучали гонги и тамтамы, загрохотали барабаны и литавры, запели флейты и дудки. Пандиты тряхнули своими косичками и, откашлявшись, заунывными голосами затянули мантры. Мастера, переписчики, надсмотрщики и несметные полчища их родни разразились приветственными кликами. — Каково, махараджа? — спросили племянники с подобострастной улыбкой. — Да, шуму немало, — согласился раджа. — Только ли шуму? Немало и смысла во всем этом. Радже все пришлось по вкусу. Выйдя из святилища знаний, он уже хотел взобраться на слона. Как вдруг к нему подскочил какой-то человек, из тех, что скрывался в толпе хулителей, и спросил: — Махараджа, а видел ли ты птицу? Раджа вздрогнул от неожиданности. — В самом деле, — спохватился он. — Птицы-то я и впрямь не видел. Он вернулся и заявил пандитам: — Хочу посмотреть, по какой системе вы обучаете попугая. Ему показали. Раджа пришел в совершенный восторг. Еще бы! Система обучения оказалась настолько значительной, что птички за ней не было даже видно. Да, пожалуй, и смотреть на нее было незачем. Раджа и так убедился, что условия для ее обучения великолепные. В клетке ни воды, ни зерна, всюду только рукописи и книги, а в клюв птицы кончиком пера запихивают вырванные из книг листы. Какие там песни, даже не пискнешь. Душераздирающая картина! Влезая на слона, раджа приказал главному трепателю ушей хорошенько надрать уши хулителю.
А между тем птица, как и подобает всякому порядочному пернатому, медленно угасала. Все идет хорошо, решили воспитатели. Но такова уж птичья натура: утренние лучи пробуждали попугая, и он начинал беззастенчиво хлопать крыльями. Не раз люди видели, как он своим слабеньким клювом пытался сломать прутья клетки. — Какая наглость! — узнав об этом, возмутился начальник городской стражи. Тогда в ведомство просвещения пригласили кузнеца. Загудел огонь в горне, загремел молот. Была изготовлена железная цепь. Птице подрезали крылья. Племянники раджи сердито надулись, и лица их стали похожи на печные горшки. — В нашем царстве птицы не только лишены здравого смысла, но даже не способны на благодарность. А пандиты, вооруженные каламом[197] и палкою, снова принялись школить птицу. Кузнец получил повышение по службе, у жены его прибавились новые золотые украшения, а начальник городской стражи за бдительность был пожалован почетной чалмой. И вот попугая не стало. Никто не заметил, как и когда это произошло. Недобрую весть распространил все тот же злополучный хулитель. — Нет больше птички, — сообщал он всем и каждому. Раджа снова призвал племянников. — Что я слышу, дорогие племянники! — Ничего особенного, махараджа, — отвечали они, не моргнув глазом. — Воспитание попугая закончилось. — Он по-прежнему прыгает? — полюбопытствовал раджа. — Что вы?! — отвечали племянники. — Все летает? — Нет. — Поет песни? — Нет, нет. — Пищит, когда ему не дают зерна? — Нет, повелитель! — А ну-ка принесите мне птицу, я сам посмотрю. Птицу принесли; за нею следовал целый кортеж — начальник городской стражи, глашатай и всадники. Раджа ткнул в птицу пальцем. Она — ни гугу. Только в животе у нее зашуршали-зашелестели листы бумаги. А под ясным небом, на весеннем ветру плавно качались ветви, и свежее дыхание молодой листвы разливалось в расцветающей роще. 1922
ДРАМАТУРГИЯ

Колесница времени[198]
Женщины на ярмарке в день шествия колесницы. Первая Послушайте-ка, сестры! Что творится! Чуть свет, когда еще и птицы спали, Умылась я в пруду у храма Кали И поспешила колесницу встретить. Но жду я битый час, А колесницы времени все нет, И грохота колес еще не слышно. Вторая Нет ни души. Весь мир как будто вымер, Что будет с нами? На сердце — тревога. Третья Торговый люд притих и озабочен. Закрыты лавки. Толпы у обочин Все ждут и ждут, Когда же наконец Появится святая колесница. Первая Сегодня шествием пройти должны Все жители страны: И брахманы-жрецы с учениками, И махараджа во главе полков, Наставник, а за ним его питомцы С божественными книгами в руках, И матери, несущие младенцев,— Младенцы выйти в путь должны впервые, Но почему же не идет никто? Вторая Глядите-ка, — молитву шепчет жрец, В отчаянии голову руками Он обхватил…Входит саньяси. Саньяси О, горе! Грядет война, пожары вспыхнут вскоре, Наступит мор. Беда нас ждет, беда! Земля пожухнет, высохнет вода. Первая женщина Беда? О чем ты говоришь, отец? В храм бога Шивы мы пришли сегодня, Сегодня праздник, выезд колесницы. Саньяси Взгляни! Ведь все богатство — у богатых, А что в нем проку? Словно плод гнилой… На ниве нищей созревает голод, Кубера, бог богатств, и тот голодный. Корзина драная в руках у Лакшми. Взгляни! Иссяк поток ее даров, Лежит земля бесплодная вокруг. Третья женщина Увы, отец. Саньяси Вас давят неоплатные долги. Чем будете расплачиваться? Нечем. Растратили вы все богатства века,— И времени недвижна колесница, Безжизненно лежат в пыли постромки. Первая женщина Увы, отец. Я вся дрожу от страха. Веревка эта схожа С раздувшеюся, сытою змеей. Саньяси Веревка эта тянет колесницу, Пока в движении — несет свободу, Недвижная же превратится в путы. Вторая женщина Мне кажется: упрямится веревка Лишь потому, что мы не чтим ее. Склонимся ж пред богинею-веревкой. Первая Сестра, ведь мы пока что не готовы К подобному обряду. Третья Об этом не было и речи даже,— Ведь ярмарка — для купли и продажи, Мы собирались поглядеть жонглеров И пляски обезьян. Пойдем скорей, пока еще не поздно, И подготовим для обряда всё. Уходят. Появляются горожане. Первый горожанин Глядите-ка, валяются постромки От колесницы времени. Когда-то За них держались разные державы, Теперь же бечева лежит в пыли, Черным-черна. Второй Не лучше ли уйти? Вот-вот она взовьется, пасть ощерит И бросится на нас. Третий Глядите. Шевельнулась. Я уйду. Первый Молчи! Еще накликаешь беду. Коль оживет она — нам всем конец. Третий Нарушатся все связи бытия, Когда бразды мы выпустим из рук, Ведь если сами двинутся колеса, Раздавит время нас. Первой Гляди-ка, брат, как брахман побледнел, Уселся в стороне и шепчет мантры. Второй Напрасный труд. Давно прошла пора, Когда жрецам повиновалось время. А ведь они и наш открыли век. Третий Я видел сам: он взялся за веревку. Но потянул назад, а не вперед. Первый А может, это — древний, верный путь, Но сбилось время с верного пути. Второй И где ты этой мудрости набрался? Первый У мудрецов. Они ведь утверждают, Что время не вперед идет — назад. Вперед его насильно тащат люди. Иначе бы оно вернулось вспять И скрылось в довременной бездне мрака. Третий Гляжу я на веревку — жуть берет. Она — как жила: бьется в ней, дрожит Горячечный, безумный пульс веков. Входит саньяси. Саньяси Беда, беда! Я слышу грозный гул. То в недрах родилось землетрясенье, Из щелей рвутся языки огня. Пылает небозем вокруг меня. Огонь кровавит небо. Уходит. Первый горожанин Неужто нет у нас в стране святого, Который бы дерзнул поднять постромки? Второй Столетие придется нам потратить, Чтоб одного святого отыскать. Что ж будет с грешниками? Их не счесть. Третий До них ли богу? — сам ты посуди. Второй Ну что ты мелешь?! В мире все грешны. Без грешников исчезнет царство божье. Святой приходит редко и случайно И прячется от нас в лесах, в пещерах. Первый Постойте! Осторожнее! Глядите, Веревка эта будто посинела. Входят женщины. Первая женщина В морскую раковину протрубите. Пока стоит на месте колесница, Замрет весь мир, Очаг остынет, птицы рис склюют. Мой средний сын работу потерял, Больна невестка. Нет конца напастям. Первый горожанин Что здесь вам нужно, женщины? Скажите, При чем здесь вы? Не ваше это дело. Домой бы лучше шли вы, к очагу. Вторая женщина Зачем? Молиться ведь и я могу. Не будь нас, брахманы бы отощали. Тебя мы молим, смилуйся, веревка! Мы жертву принесли. Эй, лейте масло И молоко. А где вода из Ганги? Здесь надобно кропить святой водою. Зажгите пять светильников[199]. Веревка! Богиня! Если ты пошевелишься, Клянусь, отрежу косы в дар тебе. Третья Я риса тридцать дней не буду есть. Сестрицы, воздадим богине честь. Первый горожанин Вот глупые! Уж лучше б честь воздали Вы богу времени, а не веревке. Первая женщина Где он — твой бог? Ведь мы его не видим, А госпожа веревка — тут как тут. О, счастье! Вот она — черна, толста, Подобие священного хвоста, Которым Хануман[200], царь обезьяний, Испепелил оплот ракшасов[201] — Ланку[202]. Пусть труп мой вымоют водой, в которой Веревку постирают! Вторая Пусть все мои браслеты перельют, Чтоб сделать наконечник для веревки. Третья О, как прекрасна госпожа веревка! Первая Прекрасна, как Джамуна! Вторая Как шелковые косы девы-нага[203]! Третья Гибка, как хобот мудрого Ганеши! От счастья даже слезы на глазах. Входит саньяси. Первая женщина Отец, хотим веревке помолиться, Но жрец молчит. Кто прочитает мантры? Саньяси Что могут мантры?! Для времени стал путь непроходим, Весь в рытвинах, в ухабах, в ямах, в кочках. Не выровняем путь — нас ждет беда. Третья женщина Такого отроду я не слыхала! Всегда подчинены верхам низы, И колесница по мосту всегда Катилась снизу вверх. Саньяси Все глубже пропасть, трещина все шире, Устои сгнили, беспорядок в мире, Толчок — и рухнет мост. Уходит. Первая женщина Помолимся же божеству дороги И богу трещин жертву принесем. А вдруг прогневаются эти боги? Ведь пропастей немало на пути. Богиня милосердная, прости! Не нас — так наших деток пожалей. Женщины уходят. Входят воины. Первый воин Веревка все лежит на прежнем месте, Растрепана, как ведьмина коса. Второй Какой позор! Сам махараджа брал Веревку в руки. Помогали мы. А оси и не скрипнули. Позор! Третий Но разве это наше дело, братья? Мы кшатрии — не буйволы, не шудры. Всегда стояли мы на колеснице, А чернь презренная ее везла. Первый горожанин Мы прокляты, мы время оскорбили. Третий воин О чем болтает этот человек?! Первый горожанин Когда-то шудры вздумали сравняться[204] С жрецами, брахманами. Наглецы! Такие же в то время были смуты, И время стало. Замерли минуты. Но Рама шудре голову отсек, И снова воцарился мир в стране. Второй Все эти шудры стали грамотеи. Попробуй книги отобрать — кричат: Что мы — не люди?! Третий Еще не то придется слышать нам! Однажды скажет чернь: пустите в храм Иль скажет: с воинами и жрецами Хотим купаться вместе. Первый Раз так, то неподвижность колесницы На благо нам, Приди она в движенье — мир погибнет Под тяжким колесом. Первый воин Читает шудра книги! О безумье! А завтра брахман будет сеять рис. Второй Ворвемся в их лачуги и докажем, Кто человек, а кто не человек. Второй горожанин Один мудрец сказал однажды радже: В наш век бессильны и мечи и шастры, Вся сила — в золоте. И царь призвал купца. Первый воин Коль сдвинут колесницу торгаши, Я утоплюсь во всем вооруженье. Второй Зря кипятишься, брат, теперь иные Настали времена. Не бог любви — стрелу торговец пустит, И тетива протяжно запоет, А если стрел не заострит купец, Им не достигнуть никогда сердец. Третий Ты прав. В наш век над всем стоит правитель За ним — купец. Царит полукупец — Полувладыка. Входит саньяси. Первый воин Отец, послушай! Почему не в силах Мы сдвинуть колесницу? Саньяси У вас в руках веревка обветшала. Все ваши стрелы ранили ее. Она едва жива, вот-вот порвется, А вы ее разите вновь и вновь. Кичитесь силой, оскорбляя время, Тиранством ослабляете его, Уйдите прочь с дороги! Исчезает. Входят торговцы. Первый торговец Проклятье! Обо что я зацепился? Второй Да это же постромки колесницы. Четвертый Страшна веревка, словно змей Васуки. Первый воин Кто эти люди? Второй У них на пальцах золотые перстни, Блеск бриллиантов так и бьет в глаза. Первый горожанин Да это ж богатеи. Первый торговец Призвал властитель одного из нас. И все надеялись: он сдвинет колесницу. Второй воин Кто это — все? О ком ты говоришь? Кто и на что надеялся, скажи? Второй торговец Все люди знают, что движенье мира Всегда подчинено рукам богатых. Первый воин Но так ли это? Показать могу я, Как меч мой движется в моих руках. Третий торговец Скажи, а кто твоей рукою движет? Первый воин Молчать, наглец! Второй торговец Ты нам велишь молчать?! Но всюду слышен голос только наш. Первый воин Ты думаешь, клинок мой не звенит? Второй торговец Звенит, послушный нашему приказу, В любой стране, на суше и на море. Первый горожанин С богатыми не стоит в спор вступать. Первый воин Ты говоришь: не стоит? Но звон оружья — лучший довод в споре. Первый горожанин Оружье можно, как и все, купить, А это значит: золото — главнее. Первый торговец Вы слышали? — отшельника призвали, Чтоб шел на помощь с берегов Нарбады[205]. Второй торговец Слыхали. Говорят, посланец раджи Пришел в пещеру, смотрит, а подвижник Лежит недвижно, ноги подогнул, Хоть звук трубы нарушил созерцанье. Колени старца одеревенели. Первый горожанин К чему же нам винить святые ноги? Не двигался он шестьдесят пять лет. Так что же он сказал? Второй торговец Сказал? Ему претила болтовня, И он давно отрезал свой язык. Первый торговец А что потом? Второй Его до колесницы нес десяток Отборных силачей. Едва он взялся За бечеву — ушли колеса в землю. Первый Хотел он колесницу подавить, Как собственную душу. Второй День голодать — и то не держат ноги, Да, видно, тяжки шестьдесят пять лет. Входят министр и богачи. Богач Зачем вы нас призвали, господин? Министр В годину бед надежда вся на вас. Богач Коль дело все в деньгах, берусь помочь. Министр Необходимо сдвинуть колесницу. Богач Во все века мы смазывали ось, Тянуть нам колесницу не пристало. Министр Попробуйте-ка силу ваших рук, Другие силы нынче бесполезны. Богач Попробуем, но я предупреждаю, Что б ни было, я умываю руки. (Обращается к окружающим.) Ну что же, пожелайте нам удачи. Все Да будет вам во всем успех и счастье! Богач А ну, счастливые, взялись! Тяните! Первый торговец Мне даже не поднять веревку эту. Богач А ну, берись, конторщик, за веревку И покажи-ка всем свою сноровку. Удачи пожелайте нам, удачи. Второй богач О господин министр! У нас у всех Окаменели руки как на грех. Все Какой позор! Воин Добро ж, мы сохранили нашу честь! Жрец И выстояла вера в испытаньях! Воин Случись в иное время это дело,— Здесь не одна бы голова слетела! Богач Вам только б людям головы рубить; А нет, чтоб поработать головою… О чем вы так задумались, министр? Министр Я вижу, тщетны все старанья наши, Не знаю, что и делать. Богач А это уж не ваше горе: время Само себе дорогу изберет. На клич его толпою соберутся Все, кто сегодня неприметен глазу,— Они-то и потянут колесницу. Припрячь-ка, счетовод, свои тетради; Запри сундук, приказчик, бога ради. Богачи уходят вместе со своими прислужниками. Появляются женщины. Первая Мы встали рано, — до сих пор не ели. А колесница-то на прежнем месте: Все оттого, что скудно благочестье. Министр Зато у вас его — хоть пруд пруди. Испробуйте же силу вашей веры! Первая Помилуй нас. Богиня милосердная — Веревка! Помилуй нас! Вторая Мне говорили: если в полдень дева, Дочь брахмана, восславит имя бога И, омовенье совершив в пруду, На расстоянье трех локтей от гхата, Достанет три пучка патшиалы[206], Потом в сырые волосы вплетет И подождет, — вот, говорят, тогда-то Богиня и воспрянет ото сна. Готово все к обряду, но сначала Чело богини смажьте краской алой. Не бойтесь! Оскорбить ее не может Касание того, кто предан ей. Первая Сама и крась. Зачем просить других? А у меня племянник захворал: Неровен час, бедняге станет худо. Третья Патшиала уже вовсю дымится, Веревка же никак не оживает, О, смилостивься, добрая богиня! Свое великодушие яви. Браслет тебе подарим в знак любви,— В нем унций сорок золота, не меньше. Исполнит наш заказ чеканщик Бени. Вторая Три года прослужу твоей рабыней И стану приносить тебе дары Три раза в день… Возьми-ка в руки опахало, Бини,— Богиня умирает от жары… Кувшин воды из Ганги принесите И глиной мне намажьте лоб, сестрицы. А вот и наша Кхеди. Рис несет. Давно пора — богиня голодна. Помилуй нас, богиня из богинь! Ты, грешных, нас вовеки не покинь! Что ж ты не машешь опахалом, Бини? Первая Что с нами будет? И подумать жутко! Богиня рассердилась не на шутку. Ведь у меня три сына на чужбине. А вдруг не возвратятся сыновья? Министр Ну, женщины, вы кончили свое? Теперь ступайте по домам — молитесь; А остальное предоставьте нам. Первая Так мы уходим, господин министр. Смотрите, чтобы не погасло пламя В патшиале, чтоб листья не опали. Женщины удаляются. Входит гонец. Гонец Я весть принес, что взбунтовались шудры. Министр Что? Что? Гонец Они бегут сюда и говорят, Что могут сдвинуть эту колесницу. Все Они не смеют в руки брать постромок. Гонец Что их удержит! Меч ваш слишком ломок. Чем вы встревожены, мой господин? Министр Я опасаюсь не прихода их — Боюсь, что улыбнется им удача. Воин Тому не быть. Как топору не плавать. Министр Когда низы становятся верхами, Об этом «смена власти» — говорят. Сменяются века, Когда выходит скрытое наружу. Воин Скажи, что делать; мы не знаем страха. Министр Напрасно, друг. Не укротят поводья Бушующую ярость половодья! Гонец Каков же ваш приказ? Министр Пустите их. Преграду смяв, себя познает сила,— Тогда ее ничем не одолеть. Гонец Вот и они. Министр Спокойней! Не теряйте головы! Входят шудры. Предводитель шудр Явились мы, чтоб сдвинуть колесницу. Министр А вы всегда и двигали ее. Предводитель Да. И всегда, простертые в пыли, Лежали под колесами ее, А ныне бог не принял этой жертвы. Министр Понятно. Пред колесами всегда Лежали вы, не поднимая глаз, Дабы случайно бога не узреть. Колеса же, казалось, были сыты. Жрец Конечно, было им не до еды, Когда кругом — безбожия плоды. Предводитель И вот воззвал всевышний к нам: «Впрягайтесь!» Жрец Но как узнали вы, что это божий глас? Предводитель Узнали, а откуда — неизвестно. Сегодня, пробудившись в ранний час, Сказали мы: «Бог призывает нас!» Деревню облетела эта весть И, пронесясь через поля и реки, Достигла дальних гор: «Бог призывает нас!» Воин Быть может, он возжаждал вашей крови? Предводитель Нет, мы нужны как тягловая сила. Жрец Бразды — для тех, кто правит этим миром. Предводитель И кто же правит миром? Уж не ты ли? Жрец Не смей дерзить! Бог проклянет тебя! Предводитель Не вы ли миром правите, министр? Министр Не надо так шутить. Мир — это вы. Он движется, послушен вашей воле. А то, что правим мы, — обман, не боле. Предводитель Мы сеем рис, а вы его едите; Мы ткем — вы прикрываете свой срам. Воин Мерзавцы! До сих пор они смиренно Твердили: «Все, что мы имеем, ваше». Теперь взгордились. Надо гнать их взашей! Министр (Обращаясь к воину.) Молчи! (Обращаясь к предводителю.) Вы, шудры, на себе несете время, Как Гаруда[207] — божественное бремя. Впрягайтесь же, беритесь за работу! А мы продолжим начатое вами. Предводитель Тяните, братья, что есть сил тяните! Министр Мой друг, следи за колесницей строго — Пусть движется накатанной дорогой. Не то она еще раздавит нас. Предводитель А мы не знаем, где она, дорога. Ходить по ней — не разрешали нам; Пусть смотрит за дорогою возничий. Смотрите-ка, над нами Затрепетало знамя! То бога знак. Прочь страх! Глядите, братья. Веревка ожила! Так в высохшее русло мчатся волны. Жрец Презренные! Они ее коснулись. Вбегают женщины. Все Не трогайте, не трогайте веревки. Вы на душу берете тяжкий грех. Сейчас начнется светопреставленье: И муж, и дети, и сестра, и брат — Погибнут, без разбора, все подряд. Уйдем отсюда. Грех смотреть на это. Уходят. Жрец Глаза закройте все! Глаза закройте! Испепелитесь вы, когда пред всеми Грозновеликое предстанет время. Воин Что слышу я: скрипенье колеса Иль это застонали небеса? Жрец Не может быть! В моих священных книгах На этот счет Нет указанья свыше. Горожанин Задвигалась! Задвигалась! Пошла! Воин Земля своим разгневанным дыханьем Всклубила пыль! О преступленье, грех! О страшный грех! Шудры Да будет славен бог великий — Время[208]. Жрец О горе! До чего пришлось дожить! Воин Вели — и мы задержим колесницу, На старости совсем сдурело время! Жрец Нет, я не дам такого повеленья. Коль бог возвысить низких пожелал, Ты лучше помолчал бы, Ронджулал. Пусть сам себя всевышний покарает. Чтоб смыть подобный грех, Сдается мне, воды не хватит в Ганге. Воин Зачем вода? Как крышки у кувшинов, Мы снимем головы низкорожденных И бога щедро окропим их кровью. Горожанин Куда вы направляетесь, министр? Министр Возьмусь-ка за бразды со всеми вместе. Воин Какой позор, бесчестье! Министр На них распространилась милость божья И это так, сомнений больше нет. Мы, помогая им, себя спасаем. Воин Мы лучше колесницу остановим, Чем встанем в ряд с презренным их сословьем. Министр Ну что ж, тогда ложитесь под колеса. Воин Они покрыты были грязной кровью — Пусть чистая теперь омоет их. Жрец Министр, скажите, что за наважденье? Несется колесница по дороге. И мир не гибнет — в страхе и тревоге. Качается она, пьяным-пьяна. Где свалится она? Воин Вы слышите отчаянные крики? О помощи взывают богачи: Богатства их раздавит колесница. Бежим же их спасать. Министр Подумай лучше о своем спасенье: Опасность угрожает оружейной. Воин Каков же ваш совет? Министр Берись за вожжи — И направляй туда, где мы спасемся. Не время размышлять. Воин А ты что посоветуешь, отец? Жрец Сперва открой намеренья свои. Воин Никто не даст хорошего совета, И я в недоуменье: За вожжи взяться — или за мечи. Отец, скажи, что делать! Не молчи! Жрец И сам я не решу: за вожжи браться, Моления ли богу возносить? Воин Конец всему! Какой ужасный гуд! Второй воин Они ли колесницу волокут, Или она толкает их, не знаю. Третий воин Казалось, будто дремлет колесница; Плелась, как вол, медлительно она. Но вот проснулась! Ну и сила в ней! Свернула с прежнего пути — и ломит Нехоженой тропою, Как дикий бык, несущий всем погибель. Второй воин А вот идет поэт. Его спросите, Пусть растолкует все. Жрец Безумцы вы! Ему ль зажечь светильни! Там, где бессильны мы, поэт еще бессильней. Он выдумщик, священных книг не знает. Входит поэт. Второй воин Поэт, что это значит, почему Ни праведник, ни раджа Не сдвинули святую колесницу? Поэт Они смотрели, головы задрав, На самый верх ее. И не смотрели вниз, Пренебрегая Веревкою, связующей людей. И вот она хвостом забила в злости И раздробит им кости. Жрец У шудр твоих — ума избыток явный. Им, видите ли, ведомы законы, Которым покоряется веревка. Поэт Быть может, и неведомы пока. Отсутствие возничего заметив, Они поймут, что могут править сами. С ликующими кликами тогда: «Да славятся орудия труда!» Они вольются в войско к Балараме[209]— И в опьяненье он всколеблет мир! Жрец Что если снова станет колесница? Тебя на помощь призовут опять. Ты дунешь — и она помчится вспять. Поэт Довольно шуток! Меня не раз на помощь призывали, Но до сих пор не мог я протесниться Сквозь толпы сильных мира — к колеснице. Жрец Как можете вы сдвинуть колесницу? Вы, виршеписцы? Поэт Не силой наших рук, а силой ритма. Сломай его — и этой силы нет. Уродство однобокое для всех Губительно. Оно, как Кумбхакарна[210], Прожорливо — и так же безобразно Все тяжестью своею подавляет. Мы за прекрасное, а вы за мощь — За мощь оружия и книг священных. Вы верите в насилие извне — Не в ритм, что возникает изнутри. Воин Поэт, ты все болтаешь языком,— А там пожар, смотри! Поэт Пожар — извечный спутник перемен. Пусть то, что тленно, превратится в тлен. Потом начнется новая эпоха. Воин И в чем, поэт, твое предназначенье? Поэт Слагать я буду песни в новом ритме. Воин Зачем они? Поэт Пускай все те, кто тянет колесницу, Идут, шагая в ногу, словно в марше. Ведь для людей, сбивающихся с ритма, И ровная дорога неровна. Шатаются они, как от вина. Входят женщины. Первая женщина Отец, что происходит в этом мире?! Как верить поучениям твоим? Напрасной оказалась наша вера. Даров не принял бог — он шудр призвал. О стыд и срам! Поэт И где же те дары? Вторая женщина Да вот они. Всевышнему в угоду Мы лили масло, молоко и воду. Дорога не подсохла до сих пор; Нога скользит, ступая по цветам. Поэт Все втоптано во прах: и вера ваша И ваши приношенья. Веревка не потерпит поношенья: Она людей между собой связует; Лишь преступленье обрывает связь. Третья женщина А как же те, чье имя грех и молвить? Поэт Бог повернулся к ним. Ведь был нарушен ритм. Одни высоко Вознесены, другие пали низко. Бог потянул. Низверг великих он — И выровнял свой трон. Первая женщина Так что же будет дальше? Поэт Придет другое Бремя — колесница Свершит, быть может, новый поворот,— Тогда опять столкнутся верх и низ. Отныне вы следите за веревкой. Из рук не выпускайте, ближе к сердцу Ее держите; И вашей верой не грязните путь! Пусть грянет общий хор: «Проснитесь вы, что спали до сих пор! Кто спину гнул столетья — распрямитесь!» Входит саньяси. Саньяси Да славится великий новый век!
1932
ПУБЛИЦИСТИКА

Статьи
Социализм
Как явствует из сообщений английских газет, европейские социалисты с каждым днем все более решительно заявляют о себе. Рано или поздно их деятельность может привести к крупной социальной революции. Поэтому небезынтересно узнать, в чем состоит суть социалистического учения. Социалисты далеки от подлинного единства взглядов, и подробно рассмотреть их воззрения — дело отнюдь не легкое. Я ограничусь пересказом общих положений, выдвинутых в книге г-на Белфорта Бакса[211]. «Либералами» в Англии называют тех, кто в недалеком прошлом стремился к исправлению некоторых общественных установлений, а также их нынешних последователей. Г-н Белфорт Бакс рассматривает в своей книге различие между либералами и социалистами. Некогда король и знать, говорит он, обладали всей полнотой власти. Движение за ограничение их власти назвали «либерализмом». Благодаря ему каждый гражданин получил право неограниченного владения материальными средствами и имуществом. Усилиями либералов была обеспечена неприкосновенность имущества каждого гражданина. Однако эта свобода привела к новой зависимости. Повсюду утверждается власть капитала. Охраняя капитал, либерализм служит интересам богачей и лишает народные массы равного права на счастье и прогресс. Социализм стремится уничтожить власть богатых и установить свободу для народных масс. Появление заводов и фабрик положило начало новому общественному перевороту, породив два класса: растущий новый класс фабрикантов и класс тех, кто на них трудится; этот последний класс состоит из бывших ремесленников. Пока производство основывалось на индивидуальном мастерстве ремесленников, они пользовались относительной самостоятельностью. Развитие фабричного производства приводит к исчезновению самостоятельности ремесленников и росту могущества богачей-фабрикантов. Социалисты хотят, чтобы производство и распределение находились в руках всего общества, а не отдельных лиц. Они заявляют, что производство и распределение материальных благ — дело всего общества. В настоящее время производство материальных благ определяется волею и интересами богатых, и поэтому народные массы не могут улучшить свое положение. Не так-то просто бороться с господством капитала. Грабитель с пистолетом в руках требует: «Кошелек или жизнь!»; фабрикант же заявляет: «Зарабатывай себе на пропитание или погибай!» Неимущий же совершенно беззащитен. Переход капитала и земли в собственность народа устранит возможность такого рода принуждения. Резко повысится и качество выполняемой работы. Представьте себе, например, что социалистическое государство поручает кому-нибудь выпекать хлеб. Если пекарь будет работать плохо, небрежно, используя недоброкачественные продукты, он не только не получит от этого никакой выгоды, но и пострадает сам вместе со всеми другими. Ведь он будет работать не ради платы или прибыли, а во имя общества. Поскольку он не заинтересован в выпечке плохого хлеба, а выпечка хорошего принесет удовлетворение и ему, и всем остальным, естественно, он будет выпекать хороший хлеб. Капиталист же стремится к удешевлению стоимости работы, ему отнюдь не свойственно бескорыстное стремление к повышению качества. Многие считают, что между богатством и свободой существует неразрывная связь. Человек, лишенный богатства, неизбежно оказывается в зависимости, и поэтому якобы стремление социалистов освободить бедняков противоречит самой природе вещей. Автор соглашается с утверждением, что свобода немыслима без богатства; потому-то и необходимо, чтобы богатство принадлежало всем, ибо только тогда свобода станет достоянием всего народа. Из сказанного вытекает, что цель социализма — свобода для всех и каждого. На это может последовать возражение: осуществление этой цели приведет к результатам, противоположным ожидаемым. Ведь именно эгоистический интерес заставляет ныне человека трудиться; этот интерес — движущая сила всей работы, выполняющейся в обществе. Если же не станет стимула к обогащению, обществу самому придется заставлять людей трудиться, и в этом случае оно вынуждено будет прибегнуть к сильному принуждению. Общество не может существовать, если каждый волен предаваться безделью. Понадобится какая-то система принуждения. Сам автор тоже считает, что мир пока еще не может обойтись без принуждения. Но при нынешнем общественном устройстве господствует слепое принуждение. При социализме же принуждение будет осуществляться в обществе разумно, обоснованно, лишь по мере необходимости и под тщательным контролем. И поскольку принуждение в социалистическом государстве не связано с чьими-либо своекорыстными интересами, можно рассчитывать, что надобность в нем будет постепенно сокращаться. Г-н Бакс говорит, что люди в первобытном обществе сообща владели имуществом, но с развитием цивилизации этому был положен конец. Каждый стал стремиться к тому, чтобы быть самому себе хозяином. Стремление к главенству обычно вызывало появление двух антагонистических классов. В результате единство общества сменялось разобщенностью. Если в прошлом вражда и соперничество проявлялись по отношению к чужим племенам, то теперь, в результате стремления к превосходству, конфликты стали разъедать общество изнутри. Таков был закономерный итог развития цивилизации. Ее главная отличительная черта — конфликт между обществом и личностью: каждый стремится обеспечить могущество прежде всего себе самому, а не обществу в целом. 1892Центр индийской культуры Отрывки
I
Вопрос, который я намереваюсь здесь обсудить, касается того, как должно быть поставлено дело образования в Индии. Вместо того чтобы держать в напряжении умы моих слушателей до самого конца, я предпочитаю сразу коротко изложить свои соображения, прежде чем перейти к подробному их рассмотрению. Каждая нация должна поддерживать огонь в своем светильнике разума, чтобы вместе со всеми другими нациями освещать мир. Народ, чей светильник разбит, лишается своего законного места на мировом празднестве. Несчастен человек, у которого нет светильника, но в тысячу раз несчастнее тот, у кого был свет, но его отняли или он сам позабыл о нем. Индия доказала, что у нее есть свой разум, что она может глубоко мыслить и чувствовать и стремиться к своему собственному решению жизненных проблем. Образование должно помочь Индии найти истину, сделать ее своей плотью и кровью, откуда бы она ни пришла, и выразить ее так, как только она это может сделать. Чтобы выполнить это предназначение, разум Индии должен прежде всего сосредоточиться и познать самого себя. Только после этого сможет он правильно воспринимать знания, судить о них и пользоваться ими в соответствии со своими собственными творческими способностями. Чтобы взять или дать, нужно соединить пальцы вместе. Точно так же необходимо объединить все разобщенные умы Индии, ибо только тогда они обретут способность к восприятию и к созиданию, только тогда вода жизни перестанет уходить сквозь щели в земле, не принося никакой пользы. Одним из важнейших факторов в образовании я считаю также вдохновляющую атмосферу творческой деятельности. Университет прежде всего должен помочь нам в приобретении конструктивных знаний. Надо собрать людей вместе и предоставить им полную свободу в их исследовательской и созидательной работе. Преподавание должно быть подобно весеннему разливу культуры, могучему и неизбежному. Образование лишь тогда естественно и благотворно, когда в его основе лежат живые и все возрастающие знании. И последнее. Наше образование должно находиться в постоянном контакте с жизнью во всех ее аспектах — экономическом, интеллектуальном, эстетическом, социальном и духовном. Наши учебные заведения должны находиться в центре внимания общества, должны быть связаны с ним живыми нитями сотрудничества во всех областях. Ибо истинное образование обязано все время сознавать органическую связь наших знаний и воспитания с окружающей действительностью.IX
Мне часто приходится слышать о том, что добиться в Индии интеллектуального единства невероятно трудно, почти невозможно, из-за наличия у нас большого числа разных языков. Но каждому народу, если он стремится к величию, приходится либо решать самостоятельно свои великие проблемы, либо заранее мириться с поражением и упадком. Все истинно великие цивилизации возникали на фундаменте преодоленных трудностей. Народам, имеющим в своем распоряжении полноводные реки, можно только позавидовать, но тем, у кого нет рек, приходится рыть колодцы, чтобы с великим трудом добывать воду из глубины земли. В таких странах пыль, конечно, доступнее воды, однако это еще не причина считать, будто пыль может заменить животворную влагу. Поэтому и нам нужно смело принять все трудности, связанные с нашим многоязычием, не забывая при этом, что иностранный язык, как и иностранная почва, хорош только для тепличных культур, но совершенно непригоден для возделывания полей жизни. Давайте же рассматривать Индию не как одну из великих европейских стран, с единым языком, а как всю многонациональную Европу со множеством народов, которые говорят на множестве различных языков. Ведь не помешало это европейцам создать единую цивилизацию, хотя она и не основывается на языковом единстве! На ранних периодах развития европейской культуры общим языком была для всех наций латынь. Это был период, когда только распускались почки культуры, когда все лепестки самовыражения были еще сжаты в один комочек. Однако совершенство духовного раскрытия вовсе не означало, что все пользовались одной колесницей литературы. Лишь когда великие народы Европы обрели каждый свой собственный язык, появилась реальная основа для создания истинного единства западных культур. При этом само различие в средствах выражения мыслей способствовало плодотворности и разнообразию обмена знаниями. В самом деле, ведь истинное единство заключается в гармоничном слиянии различий. Всякое же искусственное единообразие бессмысленно и нежизненно.XI
Одного ученика англо-национальной школы в Аллахабаде как-то спросили, что такое река. Сообразительный малыш ответил совершенно правильно. Но когда его спросили, видел ли он сам реку, несчастный ученик, живший возле места, где сливаются Ганга и Джамуна, ответил, что нет, не видел. Ему и в голову не пришло, что привычный обыденный мир, в котором он живет, может быть тем другим великим миром, из учебника географии! Когда мальчик подрастет, он, наверное, узнает, что даже его страна нашла освещение в географии и что в ней тоже есть реки. Но представьте, что он ничего не будет знать до тех пор, пока какой-нибудь иностранный путешественник не расскажет ему однажды, что он живет в огромной стране, где есть такие высокие горы, как Гималаи, и такие большие реки, как Инд, Ганга и Брахмапутра. Это будет опасным ударом для душевного равновесия нашего ученика. От привычного самоуничижения он может сразу броситься в другую крайность и начнет кричать на всех перекрестках, что остальные страны ничего, мол, не стоят, а вот его страна — истинный рай земной! Его прежнее представление о мире было ошибочно и объяснялось его невежеством. Однако новый взгляд на мир еще хуже, ибо он превратен и смешон, как всякая глупая самовлюбленность. То же самое происходит и с нашей индийской культурой. Из-за вынужденных пробелов в наших знаниях мы считаем, что у Индии нет или почти нет своей культуры. Но когда до нас доносится хотя бы отзвук похвального слова, произнесенного в честь индийской культуры каким-нибудь зарубежным мудрецом, мы теряем всякое самообладание и начинаем вопить, что другие культуры всего лишь плоды рук человеческих, а вот наша-де — божественное творение самого Брахмы! Это, в конечном счете, приводит к своеобразному запою, когда организм, привыкший к самообольщению, уже не может без него обходиться. Не следует забывать, что учение об исключительности какого-либо творения давно устарело, а мысль об особом предназначении какой-нибудь избранной нации является отрыжкой варварских веков. Пора наконец понять, что в наше время любая теория или культура, изолированная от окружающего широкого мира, никогда не может быть истинной. Только узника одиночной камеры можно считать изолированным от мира. И те, кто возвещают, будто Индия осуждена провидением на вечное интеллектуальное заключение в одиночке, отнюдь не способствуют прославлению нашей страны. Поэтому в любом случае, если мы намереваемся создать центр индийской культуры, нам следует исходить из того, что Индия обладает собственной культурой, способной обогатить все народы.XII
Некогда Китай, Иран, Египет, Греция и Рим взращивали свои культуры в относительной изоляции. Однако общее величие, присущее в той или иной мере каждой из них, выросло и достигло силы в защитной оболочке индивидуальности. Нынче начался век сотрудничества и взаимной помощи. Пора высаживать ростки, проклюнувшиеся в отдельных теплицах, под открытое небо, на поля. Чтобы установить, что стоит товар на самом деле, его надо выбросить на мировой рынок. Поэтому и мы должны готовить широкое поле для сотрудничества культур всего мира, тогда каждая из них будет отдавать и брать у другой и каждую будут изучать в ее историческом развитии. Подобное уточнение знаний путем сравнительного изучения и подобный прогресс в области интеллектуального сотрудничества будут лейтмотивом грядущего века. Мы можем гордиться нашей священной обособленностью в воображаемой безопасности нашей хижины, однако мир все равно окажется сильнее нашей хижины и, в конце концов, разрушит стены нашего убежища. Однако прежде чем сравнивать себя с другими мировыми цивилизациями или пытаться с ними сотрудничать, нам необходимо создать свою собственную культуру на основе синтеза всех индийских культур. Когда будет создан подобный центр, мы сможем без стыда и смущения смотреть в лицо Западу, сможем не склонять перед ним головы и не бояться оскорблений. Ибо из этого центра на нашей родной земле нам откроются свои пути к истине, и новые идеи устремятся оттуда в признательный мир.XIV
Разрешите мне сказать ясно и определенно, что у меня нет предубеждений против какой бы то ни было культуры из-за ее иностранного происхождения. Наоборот, я убежден, что столкновение различных культур необходимо для жизнеспособности нашего интеллекта. Считается, что многое в духе христианства противоречит не только классической европейской культуре, но и европейскому складу души. И тем не менее принесенный извне поток, противясь естественному течению европейской мысли, явился важнейшим фактором развития и обогащения европейской цивилизации — именно потому, что двигался в противоположном направлении. В самом деле, национальные языки Европы пробудились к жизни и расцвели прежде всего благодаря влиянию чужеродных идей, проникнутых восточным мироощущением и чувствами. То же самое происходит и в Индии. Европейская культура принесла нам не только свои знания, но и свой динамизм. Мы не можем усвоить ее сразу и целиком, и это ведет к бесчисленным ошибкам. Однако европейская культура пробуждает наше сознание от интеллектуальной спячки именно благодаря тому, что не совпадает с нашими традиционными представлениями. Я протестую только против искусственного положения, при котором иностранное образование стремится полностью завладеть нашим национальным сознанием и тем самым если не совсем уничтожает, то значительно убавляет наши шансы на обогащение ума с помощью новых истин. Поэтому я призываю к усилению всех национальных элементов нашей культуры вовсе не для противодействия западной культуре, а для того, чтобы мы могли по-настоящему понять и принять ее, чтобы она стала нашим хлебом насущным, а не обузой, чтобы мы перестали питаться крохами с ее стола, зазубривая тексты учебников.XV
Индийская культура разделялась на четыре потока[212] — ведический, пуранический, буддийский и джайнистский. Истоком для нее служили высшие откровения индийской мысли. Однако ни одна река не питается водами только той страны, по которой течет. Так, тибетская Брахмапутра вливается в индийскую Гангу. Равным образом и у индийской культуры есть свои притоки. В Индию, например, неоднократно приходили мусульмане со своими сокровищами знаний, своим мироощущением и своей удивительной веротерпимостью, вливаясь, подобно ручьям, в общий поток. Магометанство внесло неоценимый вклад в нашу музыку и живопись, литературу и архитектуру. Те, кто изучал жизнеописания и труды наших средневековых святых, а также великие религиозные течения, возникшие во времена мусульманского господства, знают, сколь многим мы обязаны этому иноземному притоку, неразрывно слившемуся с нашей жизнью. А потом на нас обрушился поток западной культуры, который начал размывать все дамбы и берега, захватывая в своем неудержимом стремлении все другие притоки. Если бы мы могли создать для него отдельное русло, мы бы спаслись от наводнения. В противном случае придет день, когда мы убедимся, что как ни велика была польза от такого разлива, причиненный им урон неизмеримо больше. Поэтому в нашем центре индийского образования необходимо изучать все культуры — ведическую, пураническую, буддийскую, джайнистскую, мусульманскую, сикхскую и зороастрическую. И лишь параллельно с ними — европейскую культуру, ибо только в этом случае мы сумеем ее усвоить. Река, текущая в своих берегах, принадлежит нам, но ее разлив — катастрофическое бедствие для нас. Вряд ли стоит добавлять к сказанному, что наряду с языками, в которых сосредоточены сокровища нашей древней мудрости, необходимо изучать великие языки, выражающие живой дух современной Индии, причем в систему изучения современных языков необходимо включить курс народной литературы, чтобы по-настоящему постичь психологию нашего народа и уловить направление, куда стремится подземный поток жизни. Некоторые люди настолько осовременились, что считают все наше прошлое потерянным, они утверждают, будто бы прошлое не оставило нам ничего, кроме долгов. Они отказываются верить, что снабжение армии, продвигающейся вперед, осуществляется все-таки за счет тылов. Таким скептикам нелишне напомнить, что великая эпоха Возрождения началась с того, что люди вдруг обнаружили в житнице прошлого семена бессмертных идей. Несчастен народ, не сумевший сохранить урожай прошлого, ибо, потеряв его, он потерял свое настоящее. У него нет семян для посева, н вот ему приходится нищенствовать, чтобы не умереть с голоду. И мы должны всегда помнить, что не принадлежим к числу таких обездоленных историей народов. Пришло время вскрыть сокровищницу наших предков и пустить ее богатства в оборот жизни. Пусть они помогут нам создать наше собственное будущее, ибо хватит нам собирать обноски у других народов! 1919Письма о России
Москва,
20 сентября: 1930 г.
Наконец я в России! Все, что вижу, кажется чудом. Нигде в других странах нет ничего подобного. Все совершенно иначе. Они сделали всех людей равными. Веками человеческая цивилизация покоится на простых людях; их большинство, они несут на себе всю тяжесть, им всегда не хватает времени подумать о себе, они довольствуются крохами общественных богатств; меньше всех едят, хуже всех одеваются, меньше всех образованны и при этом работают на всех; работают больше всех и больше всех унижены; мрут с голоду и глотают оскорбления, лишены элементарных жизненных благ и удобств. Они — опора цивилизации; на головах у них светильники — светло лишь тем, кто наверху, а по их телам только стекает горелое масло. Я много думал над этим, и положение казалось мне безвыходным. Если никого не будет внизу, как может кто-то быть наверху? А кому-то наверху быть необходимо, потому что иначе дальше собственного носа ничего не увидишь, а жить, чтобы просто существовать, — недостойно человека. Цивилизация — это нечто большее, чем забота о хлебе насущном. Все лучшие плоды цивилизации взращены на ниве досуга. Какая-то часть человечества должна иметь досуг. И я считал, что единственное, что можно сделать, это, по возможности, проявлять заботу о здоровье, просвещении и благополучии тех, кто вынужден трудиться на самой низкой ступени человеческого общества не только благодаря обстоятельствам, но и потому, что умственно и физически ни к чему другому не подготовлен. Но вся беда в том, что на жалости ничего прочного не построишь. Когда благодеяние — подачка, оно только развращает. Истинная взаимопомощь возможна лишь между равными. Я так и не мог придумать ничего путного, но мысль о том, что ради прогресса цивилизации большинство людей должно быть обречено на унижение и лишено всех человеческих прав, вызывала у меня отвращение. Подумай только, как раздобрела Англия на харчах голодающей Индии! А ведь многие в Англии считают, что вечно кормить их — великая миссия Индии! Какая беда, если ради процветания и возвышения Англии целый народ пребывает в рабстве! Что из того, что люди живут впроголодь и одеты в лохмотья! Правда, из сострадания у англичан все же возникла мысль немного подправить положение. Однако минуло сто лет, а мы так и не получили ни просвещения, ни здравоохранения, ни богатства! В недрах каждого общества происходит то же самое. Человек не может делать добро тому, кого он не уважает. По крайней мере, когда дело касается чьих-то кровных интересов, то тут возникает настоящее побоище. В России эту проблему стараются разрешить в самой основе. Еще не пришло время делать окончательные выводы, однако все, что я видел, не могло меня не поразить. Просвещение — самая широкая дорога к преодолению всех наших трудностей. До сих пор большинство человечества не имело доступа к образованию; что касается Индии, то она была лишена его почти полностью. Поэтому та поразительная энергия, с которой в России распространяется образование, не может не удивлять. И дело здесь не в количестве, а в глубине и в размахе. Сколько здесь проявляют заботы и стараний, чтобы ни один человек не чувствовал себя слабым и никчемным! Не говоря уже о самой России, даже среди полуцивилизованных народов Средней Азии знания распространяются с быстротой наводнения. И нет предела их безмерным усилиям, чтобы открыть этим народам путь к вершинам науки. Желающих попасть в театры — огромное множество, и все это — крестьяне и рабочие. Нигде их не оскорбляют. В тех немногих учреждениях, которые я уже успел посетить, я всюду замечал, как пробуждается в людях живой интерес и чувство собственного достоинства. О нашем народе не приходится и говорить — контраст разительный даже в сравнении с английским рабочим классом! То, что мы хотели сделать в Шриникетоне[213], они осуществляют в масштабах всей страны. Нашим людям было бы очень полезно приехать сюда поучиться. Каждый день я сравниваю то, что вижу здесь, с Индией и думаю, чего мы достигли и чего могли бы достичь. Мой американский друг, доктор Гарри Тимберс, изучает советскую систему здравоохранения и удивляется ее совершенству. Где же ты — изможденная, голодающая, несчастная и беспомощная Индия! Всего несколько лет назад здешнее население находилось совершенно в таком же положении, как и народы Индии, однако за это короткое время у них произошли удивительные перемены, а мы по горло увязли в трясине застоя. Я не могу сказать, что все у них совершенно, — серьезных просчетов немало, и когда-нибудь они приведут к затруднениям. Если говорить коротко, основная ошибка заключается в том, что их система просвещения шаблонна, а людей нельзя воспитывать по шаблону. Если теория игнорирует свойства живого ума, неизбежно приходит время, когда либо шаблон начинает трещать по всем швам, либо человеческий ум мертвеет и человек превращается в заводную куклу. Я заметил, что здесь детей делят на группы и распределяют между ними различные обязанности: одни следят за чистотой жилища, другие заботятся об имуществе и т. д., они совершенно самостоятельны, и только один взрослый наблюдает за их работой. Я всегда стремился ввести такой же порядок в Шантиникетоне[214], но дело ограничилось составлением инструкции. Произошло это, в частности, потому, что наш школьный департамент считает своей главной задачей подготовку учеников к экзаменам, а до всего остального ему мало дела: есть — хорошо, нет — тоже не беда. Мы слишком ленивы, чтобы делать что-то сверх положенного. А кроме того, нас с детства приучили действовать только по указке. Да и какой может быть толк от инструкций, если сами составители в них не верят? Для учеников такие инструкции — звук пустой. Если говорить о работе в деревне и о просвещении, то здесь я увидел примерно то, о чем сам мечтал все эти годы, но у них гораздо больше энергии, упорства и опыта в руководстве. Мне кажется, что многое зависит и от физического состояния, — измученный малярией, истощенный человек, не может работать в полную силу, В этой холодной стране люди здоровее, оттого и дело у них спорится. А о наших соотечественниках нельзя судить по их численности, ибо количество людей не равняется количеству полноценных работников.Москва,
19 сентября 1930 г.
Место действия — Россия. Сцена — дворец под Москвой. Я смотрю из окна: до самого горизонта сплошной массив леса — зеленые волны бегут одна за другой: темно-зеленая, светло-зеленая, в золоте и багрянце… Вдоль леса тянется цепь деревенских домишек. Около десяти часов; небо затянуто тучами, все замерло в ожидании грозы, и только верхушки стройных тополей раскачиваются на ветру. Гостиница, где я провел в Москве несколько дней, называется «Гранд-отель». Массивное здание производит впечатление крайней бедности, словно разорившийся наследник богатых родителей. Старинная мебель частично распродана, частично обветшала и загрязнилась, уборщицы забыли сюда дорогу. Такой же вид имеет весь город: даже среди общей запущенности заметна былая роскошь — будто золотые пуговицы на рваной рубахе или шелковое даккское дхоти[215] в заплатах. Нигде в Европе нет такой скудности, как здесь. Там из-за резких контрастов богатства и бедности роскошь бьет в глаза, а нищета остается в тени. Все жизненные неустройства, грязь, болезни, беспросветный мрак страданий и пороков прячутся за кулисами, а со стороны приезжему все кажется изящным, изысканным, нарядным. Но если все материальные блага страны разделить поровну, окажется, что на всех их далеко не достаточно. В России же нет контрастов, поэтому вместе с роскошью ушло и безобразие нищеты — осталась только нужда. Такой повсеместной бедности нет нигде, поэтому здесь она сразу бросается в глаза. Но здесь нет низов, как в других странах, — есть только народ. Улицы Москвы многолюдны, однако щеголей нет, а это значит, что праздность исчезла бесследно. Все живут своим трудом. Мне довелось побывать у доктора Петрова[216]. Он очень уважаемый здесь человек и занимает высокий пост. Дом, в котором помещается его учреждение, в прошлом принадлежал какому-то аристократу, но обстановка кабинета очень простая, никакой роскоши. Ковра на полу нет, в углу стоит плохонький столик. На всем лежит печать такой пустоты, словно в доме траур и горюющим родственникам ни до кого и ни до чего нет дела. В гостинице «Гранд-отель», где я остановился, удобства и пища отнюдь не соответствуют столь громкому названию. Но какие могут быть претензии, если все и вся в таком же положении! Я вспоминаю свое детство. Мы жили тогда куда более убого, чем они, но нас не смущало это, потому что таким был и тогдашний идеал жизни: без резких отклонений, примерно одинаковый во всех домах. Разница заключалась лишь в уровне традиционной культуры, в отношении к искусству и музыке, да еще в семейных традициях, влиявших на. нашу речь, манеры и привычки. Но если бы здешний средний человек увидел нашу пищу и познакомился с нашим бытом, он бы содрогнулся от отвращения! Кичливость богатством занесена к нам с Запада. Когда в дома наших клерков и торговцев потекли деньги, европейский комфорт сделался критерием респектабельности. Поэтому у нас до сих пор богатство ставится выше всего — происхождения, воспитания, ума и образования. Но что может быть постыднее преклонения перед богатством? Надо остерегаться, чтобы эта мерзость не проникла в плоть и кровь. В России мне больше всего понравилось полное отсутствие мерзкой кичливости богатством. Этого оказалось достаточно, чтобы в народе пробудилось чувство человеческого достоинства. Простые труженики и крестьяне, сбросив иго неравенства, распрямились и высоко подняли голову. Я смотрю на них, удивляюсь и радуюсь. Какими естественными и простыми стали отношения между людьми! Мне еще многое нужно сказать, но сейчас не мешало бы и отдохнуть. Сяду-ка я поудобнее в глубокое кресло перед окном, натяну на ноги одеяло, и, если придет сон, я не буду слишком противиться.Москва,
25 сентября 1930 г.
С тех пор как я послал вам обоим письма, прошло уже много времени, и по вашему единодушному молчанию я догадываюсь, что этим двум бумажкам на индийской почте была оказана исключительная честь[217]. Что ж, время от времени у нас и такое случается! Поэтому пишу без всякого энтузиазма. Если и на сей раз не получу ответа, буду молчать. Без ваших писем время тянется бесконечно, как тихая, безмолвная ночь. Порой мне кажется, что я уже перенесся в мир иной, где другой счет дням и минутам. Час моего возвращения на родину так безнадежно далек, как нескончаем поток падающих одежд Драупади[218], вновь и вновь набрасываемых на нее Кришной. Я утешаюсь только мыслью, что день моего возвращения придет с такой же неизбежностью, как сегодняшний. А пока — я в России, и, если бы сюда не приехал, обет моей жизни не был бы исполнен. Не знаю, хорошо или плохо то, что они здесь делают, но невольно поражаюсь их невероятной смелости! Старое опутывает мозг и душу тысячами нитей, повсюду воздвигло оно свои дворцы с бесчисленными покоями и переходами, где у каждой двери стоят неумолимые стражи, со всех столетий собирает оно несметную дань. А они вырвали его с корнем, без всякого страха, сомнений или сожалений. Старое смели с лица земли, чтобы дать место новому. В душе я восхищаюсь волшебной силой европейской науки, способной творить чудеса. Но еще больше меня восхищает грандиозность того, что я вижу здесь. Будь это только ужасное разрушение, я бы так не удивлялся, потому что это они умеют. Но я вижу, что они полны решимости построить на месте развалин новую жизнь. Им приходится торопиться, ибо весь мир им враждебен, все против них. Им нужно как можно скорей доказать, что то, к чему они стремятся, не ошибка и не обман. Десятилетие бросает вызов тысячелетиям — и уверено в победе! Экономически они еще очень слабы, но зато их духовная мощь неизмерима. Революция в России назревала уже давно. К ней долго и тщательно готовились, бессчетное количество людей, известных и неизвестных, отдавали ради нее свои жизни и терпели невыносимые муки. Предпосылки для революций существуют повсюду; но происходят революции только в определенных странах мира. Когда инфекция попадает в кровь, болезненная опухоль образуется в наиболее уязвимом месте. В России обездоленные и бесправные массы подвергались самому жестокому угнетению со стороны тех, в чьих руках сосредоточились богатство и власть. Поэтому именно в России чудовищное неравенство между угнетенными и угнетателями вызвало потрясения самих основ. Когда-то подобное же неравенство привело к Французской революции. Уже тогда угнетенные поняли, что неравенство всюду несет с собой нищету и угнетение. Вот почему во время революции по всему свету, далеко за пределы Франции, разнесся призыв к Свободе, Равенству и Братству. Но он прозвучал и смолк. Призыв русской революции тоже обращен ко всему человечеству. Сейчас в мире есть лишь один народ, который заботится не только о своих собственных интересах, но и о судьбах всего мира. Мы не знаем, вечно ли будет звучать голос России, но одно несомненно: в наш век проблемы любой нации являются частью общечеловеческих проблем, и с этим нельзя не считаться. В наш век поднялся наконец занавес над сценой всемирной истории. До сих пор где-то за кулисами, по разным углам, шли как бы отдельные репетиции, и каждая страна разучивала в уединении только свою роль. Было бы несправедливо утверждать, что между странами не было никакого общения, однако разобщенность была еще сильнее и до последнего времени искажала облик мира. Тогда мы видели только отдельные деревья, теперь же перед нами лес. Поэтому если в обществе где-либо нарушается равновесие, сегодня это отражается на всем человечестве. Столь широкое видение мира — вещь немаловажная. Однажды в Токио я спросил корейского юношу: «Что вас больше всего тревожит?» Он ответил: «Засилие капиталистов. Мы для них — источник обогащения». Тогда я сказал: «Ведь у вас мало сил: как же вы сами избавитесь от этого ига?» Он ответил: «Будущее земли принадлежит тем, кто сегодня слаб, — их объединят страдания. Те, кому сегодня принадлежат власть и богатства, могут сидеть на своих сундуках, но они никогда не смогут объединиться. Сила Кореи — в ее горе». Знаменательно, что страждущее человечество понимает сегодня, как велика его роль на мировой арене. Раньше, не сознавая своего истинного могущества, оно уповало на судьбу и терпеливо выносило все муки. Сегодня же даже самые бесправные и слабые мечтают о прекрасном царстве справедливости, где не будет ни угнетения, ни унижения. Именно поэтому угнетенные восстают сегодня по всей земле. Сильные мира сего дерзки и высокомерны. Они стараются подавить стремление угнетенных к власти, ибо это лишает их сна и покоя. Они захлопывают двери перед вестниками новых идей и затыкают им рот. На самом же деле чего им следовало бы больше всего бояться, так это страждущих, но они привыкли не замечать их, и они не боятся усугублять страдания угнетенных, когда дело идет о собственной выгоде; их сердца не сжимаются от страха, когда они выколачивают до двухсот — трехсот процентов прибыли, обрекая несчастных крестьян на голод. Ибо для них прибыль равноценна силе. Однако любые крайности в человеческом обществе таят в себе угрозу, и эту опасность еще никогда не удавалось устранять давлением извне. Не может на одном полюсе вечно расти неограниченная сила, а на другом — бесконечная слабость. Если бы сильных мира сего не опьяняло властолюбие, они больше всего боялись бы именно этого противоречия, ибо такая диспропорция противоестественна. Когда я получил из Москвы приглашение, у меня еще не было ясного представления о большевиках. Я слышал о них немало высказываний, и все они были противоречивы. Многое вызывало у меня беспокойство, ибо вначале они шли по пути применения насилия. Но я заметил, что враждебность Европы к Советской России стала ослабевать. Мое решение посетить Россию многими было встречено одобрительно. Даже многие англичане отзывались о большевиках с похвалой. Мне говорили, что в России начали поразительный эксперимент. Но были и такие, кто меня отговаривал, хотя все их опасения основывались главным образом на недостатке у русских комфорта. Мне говорили, что там нет привычной для меня пищи и удобств, что я вообще не выдержу всего этого. Кроме того, говорили, что мне будут показывать лишь то, что заранее подготовлено. Действительно, ехать в Россию в моем возрасте и с моим здоровьем было рискованно. Но я получил приглашение, и было бы просто непростительно не увидеть своими глазами свет самого яркого жертвенного пламени на алтаре истории. К тому же в моих ушах все еще звучали слова корейского юноши. Я думал: сегодня у самого порога могучей и богатой западной цивилизации Россия строит государство для всех обездоленных, презирая злобные взгляды капиталистических держав. Кому же, как не мне, поехать туда и увидеть эго? Если их цель — уничтожить силу сильных и отнять богатство у богатых, чего мне опасаться, на что сердиться? Много ли у нас-то богатства и сил? Ведь мы — самые нищие и беспомощные на земле! Если они действительно стремятся вернуть уверенность слабым, поднять их дух, нам ли их сторониться? Они могут, конечно, ошибаться, но разве их противники застрахованы от ошибок? Пора заявить во весь голос, что, если силы угнетенных не пробудятся, человечество обречено, ибо преступления сильных мира сего переходят все границы: раньше они позорили землю, а теперь оскверняют даже небо. Бесправие, насилие над угнетенными достигли предела. На одном полюсе сегодня сосредоточены все богатства и блага, а на другом — беспросветная нищета. Последнее время я часто с ужасом вспоминаю расправы в Дакке. Какая зверская жестокость, а в английских газетах об этом ни слова! Если в Англии кто-нибудь погибает в автомобильной катастрофе, об этом кричат на всех перекрестках, а жизнь и честь нашего беспомощного народа они не ставят ни во что. На какую справедливость может рассчитывать тот, кто ценится так дешево! Наши жалобы и стенания не доходят до мира: все пути перед нами закрыты. В то же время англичане владеют всеми средствами для распространения о нас любой клеветы. Сегодня положение особенно унизительно для угнетенных народов, ибо сегодня вести мгновенно облетают весь мир, и сильные нации, владеющие средствами пропаганды, могут позорить и оскорблять слабый народ. Сегодня миру внушают, что у нас, мол, индусы и мусульмане режут, убивают друг друга, а потому и т. д. и т. п. Но когда-то и в Европе случались кровавые побоища между отдельными общинами. А как они исчезли? Они исчезли лишь с распространением образования. То же самое произошло бы и в Индии, однако за все годы английского владычества с образованием повезло лишь не более чем пяти процентам населения, да и это скорее не образование, а насмешка над ним! Ничего не делая для того, чтобы устранить причину презрительного отношения к нам, мы тем самым даем людям повод презирать нас, и это — тягчайшая расплата за нашу слабость. Всестороннее образование — путь к решению большинства проблем. Но для нас этот путь закрыт, ибо «Закон и Порядок»[219] не оставили нам ни малейшей лазейки: казна опустошена! Из всех видов общественной деятельности самым важным я считаю пробуждение в людях чувства собственного достоинства. Всю свою жизнь я делал дляэтого все, что мог. Ради этого я не отвергал помощь властей, я даже рассчитывал на нее, но всем известно, чем это кончилось. Я понял, что ничего не выйдет. Над нами тяготеет страшный грех — наша слабость. Вот почему, когда я услышал, что в России народное просвещение, зародившееся почти на пустом месте, приобрело гигантский размах, я решил поехать туда во что бы то ни стало, и если мое слабое здоровье не выдержит, — будь что будет! Они в России поняли, что только образование может сделать слабого сильным, ибо от него зависит все остальное — пища, здоровье и мир в стране. Наши же «Закон и Порядок» обрекают нас на голод и духовную нищету, а ведь для поддержания их нам приходится отдавать все до последней нитки. Я — человек, выросший в атмосфере современной Индии. Долгое время я твердо верил в невозможность дать просвещение тремстам тридцати миллионам человек и никого в этом не винил, кроме нашей горькой судьбы. Когда я услышал, что здесь, в России, среди крестьян и простых тружеников просвещение распространяется с молниеносной быстротой, я подумал, что суть его заключается лишь в том, чтобы научить людей кое-как читать, писать и считать. Конечно, и это хорошо. Если бы это было в нашей стране, мы благословляли бы своих правителей. Но здесь я увидел настоящее образование, способное воспитать человека; это не простая зубрежка шпаргалок для сдачи экзаменов на степень магистра.Берлин,
28 сентября 1930 г.
…Не забывай, что революция, сбросившая царское самодержавие, произошла в 1917 году, то есть всего тринадцать лет назад! И все эти годы им приходилось преодолевать ожесточенное сопротивление как внутри, так и вне страны. И никто не помогал им в их тяжелой работе по перестройке государственной системы. Обломки отвратительного прошлого загромождали им путь. Прежде чем доплыть до берегов новой эры, им пришлось пересекать бурное море гражданской войны, в то время как Англия и Америка тайно и явно старались превратить бурю в смертоносный ураган. Денег у них мало, кредитом у иностранных торговцев они не пользуются. Из-за слабости отечественной промышленности производительность страны крайне низка. Поэтому, чтобы пройти период испытаний, им приходится продавать продукты питания. И в то же время они вынуждены полностью сохранять самую непроизводительную часть государственной машины — армию. Это неизбежно, потому что сегодня их окружают вражеские державы, чьи арсеналы переполнены до отказа. Я помню, как советское предложение о разоружении напугало миротворцев из Лиги Наций[220]! Советы не собираются вечно наращивать свои вооруженные силы, их цель иная. Поскольку они стремятся осуществить свой идеал путем создания совершенной и широкой системы просвещения и здравоохранения, путем повышения жизненного уровня масс, им прежде всего необходим прочный мир. Но ты хорошо знаешь, что заправилы Лиги Наций, сколько бы они ни кричали о мире, в душе отнюдь не хотели бы расстраивать разбойничьих замыслов. Поэтому во всех империалистических странах лес штыков растет быстрее колосьев на полях. Кроме того, нельзя забывать о том, что Россия пережила страшный голод и неизвестно, сколько людей погибло. Пережив это бедствие, они строят здание новой эры всего восемь лет! Строят, несмотря на отсутствие всякой помощи извне. Задача предстоит нелегкая — их обширное государство раскинулось на просторах Европы и Азии. Национальностей здесь даже больше, чем в Индии, различия в условиях жизни и духовном складе этих народов гораздо контрастнее. С многообразием национальностей связан целый комплекс поистине мировых проблем, хотя и в уменьшенном масштабе, но усложненных разнообразием жизненных условий. Я уже писал, что с первого взгляда Москва кажется гораздо невзрачнее других европейских столиц. В уличной толпе не видно ни одного нарядно одетого прохожего, весь город одевается буднично. А когда все в рабочих костюмах, классовые различия полностью исчезают: они видны лишь по праздникам, когда надевают все самое лучшее. Но здесь все одеваются почти одинаково. Кажется, что в городе живут одни рабочие, — куда ни взглянешь, повсюду они! Чтобы понять, как изменились рабочие и крестьяне, здесь незачем ходить по библиотекам и рыться в книгах, незачем ездить с записной книжкой по деревням и рабочим поселкам — это видно и так. Непонятно только одно: куда девались так называемые «средние классы». Отсутствие «средних классов» нисколько не смущает здешний народ: сегодня на сцену вышли те, кто веками прозябал в тени. Мое ложное представление о том, что они только-только научились читать по складам печатные тексты букваря, немедленно улетучилось. За эти годы они стали людьми. Я подумал о наших крестьянах и рабочих. И мне вспомнились чудеса волшебника из арабских сказок. Всего десять лет назад они были так же безграмотны, голодны и беспомощны, как простой народ нашей страны; их опутывали такие же суеверия и такой же слепой религиозный фанатизм. В горе и нищете они клали земные поклоны перед алтарями своего бога; они боялись мира загробного и немели перед священниками, они страшились мира земного и склонялись перед царем, купцами и помещиками; их уделом было чистить сапоги тем, кто пинал их этими же самыми сапогами. Их обычаи не менялись тысячелетиями, их телеги, прялки и маслобойки были прадедовских времен, и любая попытка что-либо усовершенствовать грозила вызвать бунт. Призрак прошлого до сих пор сидит на шее нашего трехсотмиллионного народа, закрывая ему глаза руками, — с ними было то же самое. Как же мне, несчастному индийцу, не удивляться, когда я вижу, что они всего за несколько лет сдвинули гору тупого невежества. Правда, у них в эти годы не было нашего хваленого «Закона и Порядка»! Я уже писал, что мне не пришлось далеко ходить или уподобляться нашим школьным инспекторам, проверяющим правописание слов, чтобы познакомиться с их системой народного образования. Как-то вечером я посетил Центральный дом крестьянина. Это такое место, где крестьяне могут за небольшую плату останавливаться на несколько дней, когда приезжают в город. Я беседовал с ними. Если бы такие беседы были возможны с нашими крестьянами, у меня нашлось бы что ответить Комиссии Саймона[221]! Я понял, в сущности, одно: у нас могло быть все, а нет ничего, зато есть «Закон и Порядок»! Кое-кто усиленно старается нас опорочить, раздувая слухи о наших религиозных столкновениях. Здесь тоже происходили омерзительные варварские столкновения между иудеями и христианами, но благодаря просвещению и административным мерам этому решительно положен конец. С тех пор как я здесь, меня не оставляет мысль, что Комиссии Саймона, прежде чем ехать в Индию, не мешало бы побывать в России!Берлин,
1 октября 1930 г.
…Молодая женщина с Кавказа сказала переводчице: «Скажите поэту, — мы, жители закавказских республик, особенно благодарны Октябрьской революции потому, что она принесла нам настоящую свободу и счастье. Мы начали строить новую жизнь, но мы очень хорошо понимаем все трудности и готовы принести любые жертвы. Скажите поэту, что многочисленные народы Советского Союза хотят передать через него свое искреннее сочувствие индийскому народу. Скажите ему, что, если бы было можно, я бы оставила дом, родных и детей и уехала помогать его соотечественникам». Среди присутствующих был один человек с монгольскими чертами лица. Когда я спросил о нем, мне сказали, что это сын киргизского крестьянина, приехавший в Москву изучать текстильное производство. Через три года он станет инженером и вернется в свою республику: после революции там построили большую фабрику, на которой он будет работать. Не забывай, что людям различных национальностей предоставляют здесь такие неограниченные возможности учиться и сами они с таким энтузиазмом осваивают секреты промышленного производства главным образом потому, что никто не думает о личном обогащении. Чем просвещеннее народ, тем больше пользы всему обществу, а не отдельным богачам. А мы говорим, что в нашей алчности виновата машина, а в том, что мы пьяны — пальмовый сок, уподобляясь учителю, который наказывает учеников за собственное бессилие. В Доме крестьянина я своими глазами видел, как далеко ушли русские крестьяне от индийских за какие-нибудь десять лет. Они не только научились читать, они изменились внутренне и стали людьми. Сказать только об образовании — значит почти ничего не сказать. Удивительная энергия, с которой они взялись за подъем сельского хозяйства, поражает ничуть не меньше. Подобно Индии, это, по преимуществу, аграрная страна, поэтому ее существование зависит от развития сельскохозяйственной науки. Об этом они помнят. Перед ними стоит задача исключительной трудности. Они отнюдь не рассчитывают на высокооплачиваемых чиновников гражданской службы: все трудоспособные люди и ученые сообща решают эту задачу. За последние десять лет сельскохозяйственная наука в России добилась таких успехов, что о ней сейчас говорят в научных кругах всего мира. Например, до войны у них не селекционировали семян. А сегодня в их распоряжении запас более чем в миллион тонн селекционного семенного зерна. Кроме того, новые сорта высеваются не только на опытных участках сельскохозяйственных учебных заведений, а быстро распространяются по всей стране. Крупные опытные хозяйства организованы в самых отдаленных уголках Азербайджана, Узбекистана, Грузии, Украины и в других республиках. Нам, британским подданным, и не снился такой безграничный, всеобщий энтузиазм, с каким они взялись за просвещение больших и малых народностей всех краев и областей России. До приезда сюда я даже не представлял, какие это приняло масштабы. Мы с детства воспитывались в атмосфере «Закона и Порядка» и, естественно, не видели ничего подобного. Когда я последний раз был в Англии, мне впервые удалось услышать от одного англичанина, что в России во имя блага народа буквально творят чудеса. Теперь я увидел это сам и убедился, что в их государстве нет никакой национальной, кастовой или расовой дискриминации. Отличная система, с помощью которой при Советской власти распространяется образование среди самых отсталых, полуцивилизованных народностей, для нас просто непостижима!Берлин,
2 октября 1930 г.
Твое письмо застало меня на перепутье- я только что был в России, а теперь отправляюсь в Америку. Я приехал в Россию, чтобы познакомиться с их системой просвещения. Все, что я увидел, меня поразило. За восемь лет просвещение изменило духовный облик народа. Немые обрели речь, тупые — живую душу, униженные — человеческое достоинство. Со дна общества, из самых темных его глубин, поднялись те, кого все презирали. Теперь они получили равные права. Трудно себе представить, как молниеносны перемены при таком огромном населении. Душа радуется, когда видишь, как воды просвещения хлынули в пересохшее русло. Везде бьют ключом инициатива и творчество. Свет новых надежд озаряет их путь. Повсюду кипит полнокровная жизнь. Вся их энергия сосредоточена в трех областях: просвещение, сельское хозяйство, промышленность. Направляя усилия народа на решение этих трех задач, они стремятся предоставить ему все возможности развиваться духовно, жить и трудиться. Как и в нашей стране, здешнее население живет главным образом сельским хозяйством. Но наш крестьянин невежествен и слаб, у него нет ни знаний, ни сил. Его единственным жалким подспорьем является традиционная, вековая система земледелия. Но она подобна старому, пережившему многих хозяев слуге, который сам уже почти ничего не делает, а только распоряжается. Ему бы следовало признать, что он не знает, как изменить положение, а он сотни лет продолжает по старинке копаться в земле. Когда-то покровителем земледелия у нас был, кажется, Кришна Говардханадхари[222]: он не скучал в своей пастушьей хижине. У него был старший брат Плугодержец Баларама. Плуг Бала-рамы — прообраз современных машин. Машина, орудие придавали земледельцу силу. Но теперь Баларамы не увидишь на наших полях. Пристыженный, он отправился за океан, туда, где его орудие ценят и прославляют. Его позвали к себе русские крестьяне. Там во мгновение ока разрозненные клочки слились в одно огромное поле и новый плуг Баларамы возвращает жизнь Земле, которая была такой же мертвой, как обращенная в камень Ахалья[223]. Кстати, не надо забывать, что Баларама — это наш Рама в облике Плугодержца. До революции 1917 года девяносто процентов здешних крестьян и в глаза не видели современных сельскохозяйственных орудий. Как и наши крестьяне, они были полной противоположностью Балараме — голодные, беспомощные, бессловесные. А сегодня на их полях появились тысячи машин. Раньше они были тем, что у нас называют божьей скотиной, а теперь они — войско Баларамы. Но от одних машин мало прока, если сам машинист не стал человеком. В России обработка земли ведется одновременно с воспитанием сознания. Здешнее образование по-настоящему жизнетворно. Я всегда говорил, что образование должно быть связано с жизнью. Оторванное от жизни, оно пропадает, как залежалый товар.…Одним из достоинств здешних школ является то, что дети изображают рисунками все, что узнают из книг: так они лучше запоминают прочитанное и учатся рисовать; обучение сочетается с радостью творчества. Может показаться, что работа поглощает их без остатка и что они вообще пренебрегают искусством. Но это совсем не так. Без предварительного заказа вам не достать билетов на хороший спектакль или оперу — огромные театры, построенные еще во времена царей, переполнены: театральное искусство стоит у них на такой высоте, что лишь немногие нации могут с ними сравниться. В прежние времена театры были доступны только царской семье и дворянству. Сегодня они до отказа забиты теми, кто совсем недавно ходил в грязных лохмотьях, босой, полуголодный, жил в вечном страхе перед богом, всячески задабривал священников, заботясь о спасении своей души, и беспредельно унижался, валяясь в пыли у ног господ. В тот день, когда я попал в театр, там шла драма «Воскресение» по Толстому. Весьма сомнительно, чтобы эта драма была до конца понятна простому народу. Тем не менее зрители слушали с большим вниманием. Трудно себе представить, чтобы английские крестьяне и рабочие могли бы так же сосредоточенно и спокойно наслаждаться подобной пьесой до поздней ночи. А о нашем народе нечего и говорить. Приведу еще один пример. В Москве была устроена выставка моих картин. Как ты знаешь, они не совсем обычны. Они не только иностранные, они, как бы это сказать, странные, вернее, не относятся ни к какой стране. И тем не менее перед ними толпился народ. За несколько дней выставку посетило по крайне мере пять тысяч человек! И что бы мне ни говорили, я не могу не отдать должное их вкусу. Однако оставим вкусы в покое. Предположим, это было праздное любопытство. Но оно свидетельствует о пробуждении сознания! Помню, как-то раз я привез из Америки ветряное колесо, чтобы черпать воду из глубины колодца. Но я был огорчен, когда узнал, что это колесо не зачерпнуло и капли любопытства из детских сердец. У нас есть электростанции, но кто из детей проявляет к ним интерес? А ведь это дети интеллигенции! Когда разум вял, любознательность засыпает. Мне здесь подарили много рисунков, сделанных советскими школьниками. Диву даешься, глядя на эти картины: настоящее искусство, не подражание, а плоды собственного воображения. Мне было отрадно видеть, что им доступны и фантазия и творчество. С тех пор как я побывал в России, я много думаю о просвещении у нас на родине. Я здесь кое-что узнал и в одиночку с моими слабыми силами попытаюсь хотя бы частично использовать это на практике. Но где взять время? Для меня и пятилетний план не по плечу. Почти тридцать лет я один греб против течения, и, видимо, придется так грести еще несколько лет. Знаю, что уплыву недалеко, но жаловаться не стану. Сегодня уже поздно. Ночной поезд должен доставить меня в порт, а завтра я буду в море.
Последние комментарии
1 день 1 час назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 8 часов назад
1 день 8 часов назад
1 день 8 часов назад