

ШЕЙХ МУСЛЕХ-ЭД-ДИН
СА'ДИ
БУСТАН
Вступительная статья, перевод и примечания К. Чайкина.
Иллюстрации, заставки, концовки, и титульные листы Н. А. Ушина.
(Сохранена оригинальная орфография и пунктуация, сохранено оригинальное написание имён, отличное от современной традиции и не унифицированное в пределах книги.)
СА'ДИ
1
Весь наиболее достоверный биографический материал о Са’ди почерпается из его собственных произведений. Но Са’ди своей автобиографии никогда не писал, и поэтому извлекаемые из разных его сочинений отрывочные сведения носят, по необходимости, случайный и несвязный характер. Напрасно стали бы мы искать в том, что называется историей жизни этого автора, твердых дат и неоспоримо установленных фактов. Нет достоверных сообщений даже о времени его рождения и смерти. Обыкновенно считают, что родился он около 1184 года, а умер в 1291 году, т. е. прожил 107 лет, но в последнее время в Иране опубликованы данные (газета «Иран» №№ 3898 и 3901), отодвигающие дату его смерти еще на три года и удлиняющие, таким образом, его жизнь до 110 лет [1]. Если прежние даты вызывали недоверие исследователей (Masse, «Essai sur le poete Saadi», 99—100), то новые, разумеется, кажутся еще более сомнительными, и вполне понятно, что такая неясность в определении конечных сроков жизни автора должна сильно затруднять вопрос о генезисе и развитии его творчества. В остальном о жизни Са’ди мы знаем, что родился он в Ширазе, учился в Багдаде в знаменитом средневековом мусульманском университете «Незамийэ», затем очень долго путешествовал, изъездив, примерно, весь тогдашний мусульманский мир, а конец жизни, в почете и уважении, прожил в родном городе, где и погребен и где до сих пор существует его гробница. Время жизни Са’ди совпало с катастрофическими событиями в истории Востока. Поэт пережил войны с крестоносцами (был даже сам у них в плену), разрушительное нашествие монголов, «крушение царств», ужасы иноземного завоевания. Через все испытания пронес он свой светлый, практический разум, незатемняемую ясность сознания, уживчивый и мягкий нрав. Скитания и жизненные испытания обогатили его опыт, расширили кругозор и значительно возвысили его сознание над уровнем идеологии средневекового буржуа эпохи возвышения городов в борьбе с феодалами. Но все же эта идеология составляет у Са’ди главную основу его миросозерцания, выливающуюся в довольно законченную философию «здравого смысла» и приспособленчества. И отнюдь не его легкий скептицизм, не пренебрежение к собственности и собственническим инстинктам, вынесенное из наблюдения над мировыми катастрофами, не гуманизм и ласковая терпимость, — словом, не то, что поднимает Са’ди над уровнем среднего сознания его современника, а именно эта философия приспособленчества и оппортунизма, эта общедоступная житейская мораль обусловили необычайный успех его произведений на много столетий во всех странах переднего Востока. Что же касается Ирана XIX и начала XX века, то Са’ди, без преувеличения, был (а отчасти продолжает быть и до сих пор) «властителем дум», удивительной живучестью своего влияния лучше всяких других аргументов доказывая всю силу пережитков феодальных форм бытия и сознания в этой стране. Его наиболее популярная книга «Голестан» буквально была спутником всей жизни каждого грамотного иранца, в детстве учившегося по ней родному языку в школе, а в зрелые годы постоянно почерпавшего из этого неиссякаемого источника житейской мудрости сентенции, афоризмы и правила практической морали на всякие случаи жизни. И только в последние два десятилетия начинают замечаться симптомы перемены отношения к прежнему «властителю дум». Время от времени слышатся голоса, высказывающиеся против практической философии ширазского шейха[2] и его оппортунистической морали, а знаменитый «Голестан» признается с педагогической точки зрения не совсем подходящей книгой для воспитания подрастающего поколения. Само собой разумеется, что необыкновенный успех и поразительная живучесть произведений Са’ди на Востоке объясняются также их высокими художественными достоинствами. Са’ди — экономный, занимательный и остроумный рассказчик. Слог его ясен, изящен и, при всей изысканности и некоторой искусственности, доступен и прост. Недаром его «Голестан» является, быть может, самым распространенным пособием при изучении персидского языка не только на Востоке, но и на Западе. Словом, Са’ди — «классичен», и можно смело сказать, что ему принадлежит первое место после Фердоуси, как бесспорному классику персидской литературы. Произведения его довольно многочисленны, и полное собрание сочинений (коллийят) составляет в бесчисленных восточных изданиях достаточно объемистый том, но, принимая во внимание редкое долголетие автора, следует все же сказать, что написано им сравнительно немного. Са’ди является автором четырех сборников од и элегий (касид), четырех сборников лирических стихов (газелей), нескольких собраний кратких стихотворных отрывков, четверостиший и двустиший, нескольких прозаических посланий (ресалэ) и, наконец, двух крупных произведений: «Бустан» и «Голестан». Есть в полном собрании сочинений также и отдел порнографический. Самыми знаменитыми и, бесспорно, значительнейшими книгами Са’ди являются «Голестан» и «Бустан». «Голестан» («Цветник») — наставительное для жизни руководство, мораль и поучения которого должны вытекать из более или менее занимательных (и часто далеко не назидательных) рассказов, распределенных по восьми отделам, написан предельно организованной, часто рифмованной прозой вперемежку со стихами. На русском языке эта книга существует в двух полных (Назарьянц, «Розовый кустарник», Москва, 1857; Холмогоров, «Гюлистан», Москва, 1882) и одном неполном переводах (Бертельс, «Гулистан», Гиз, Берлин, 1923). «Бустан» («Плодовый сад»), написанный одним годом раньше «Голестана», трактат о правилах поведения, в котором чисто дидактическая сторона занимает несравненно больше места, чем в «Голестане», представляет собой поэму свыше 8.000 стихов, разделенную на десять отделов: о справедливости и правилах мировластия, о благотворительности, о любви, о смирении и скромности, о покорности, о воздержности и довольстве судьбой, о воспитании, о благодарности Богу, о покаянии. Последний, десятый, отдел содержит молитвы и заключение книги. Хотя «Голестан» и «Бустан», как самые крупные произведения, занимают в творчестве поэта центральное место, не следует все же думать, что Са’ди надлежит рассматривать только как поэта-дидактика и прозаика-моралиста. Значение его как поэта лирического также очень велико. Если в касидах (одах) он и не дал высших достижений, то его газели чрезвычайно высоко расцениваются знатоками персидской поэзии и признаются мало уступающими прославленным газелям Хафеза. Таким образом, в лице Са’ди персидская литература имеет разностороннего автора, который одинаково силен как поэт-дидактик, как мастер украшенной прозы и как поэт лирический. Огромная популярность Са’ди на Востоке нашла надлежащее отражение и на Западе. Произведения ширазского поэта стали переводиться на европейские языки начиная с XVII века, и к нашему времени библиография изданий и переводов его сочинений и исследований о нем достигает, например, в книге Masse («Essai sur le poete Saadi», Paris, 1919) внушительного объема (включая и восточные издания), будучи, между тем, далеко не полной. На русском языке лучшее исследование о Са’ди находится в труде Крымского «История Персии, ее литературы и дервишеской теософии» (т. III, № 1—2, Москва, 1914—1917, стр. 390—504), где дана и достаточная библиография, доведенная до 1915 года.
2
Написанная гениальным иранским писателем XIII века нравоучительная и, следовательно, нравоописательная поэма, по самой своей жанровой установке и концепции обязательно тесно связанная с «нравственными», т. е. бытовыми условиями эпохи, должна бы являться литературным памятником, «как в зеркале отражающим» черты своего времени, т. е. представлять собой в некотором роде «энциклопедию» идеологии и жизни средневекового Ирана. В полной мере такой энциклопедией «Бустан», однако, не является, на причины чего мы и укажем ниже. Не будучи полной «энциклопедией» своего времени, поэма, тем не менее, превосходно отразила основные черты эпохи. К сожалению, переводчику, и особенно переводчику-поэту, не всегда удается быть удовлетворительным исследователем переводимого памятника. Слишком близкое отношение к тексту часто лишает необходимой перспективы, надлежащего «взгляда со стороны» и, следовательно, возможности схватить и понять основное — иначе говоря, мешает видеть «лес», так часто заслоняемый «деревьями» метрических и стилистических свойств оригинала. Все же мы позволим себе указать здесь на некоторые специфические черты плохо изученного иранского средневековья, нашедшие, по нашему мнению, достаточно выпуклое изображение в поэме. Одной из таких особенностей не только иранского, но и всего «мусульманского» средневековья является чрезвычайно сильное развитие рабства. Как в «Бустане», так и в другом, еще более знаменитом произведении Са’ди «Голестане», читатель все время сталкивается с упоминанием о рабе (бэндэ или голям). Раба покупают, продают, используют в хозяйственных и строительных работах, а иногда и для некоторых других прихотей, о которых мы здесь умолчим. Сам Са’ди, который, быть может, никогда и не испытывал острой материальной нужды, но богачом во всяком случае не был, не раз указывает на свое обладание рабами:
В Египте был раб у меня. Скромен, тих...
Всяк вольный уедет, и, сердце скрепив,
Останется раб средь запущенных нив.
Не стало налогов: крестьянин бежал.
На пользу себе охраняй ты крестьян.
Довольный, в работе прилежен и рьян.
Ужель это благо, коль делаешь зло
Тому, чьим трудом государство цвело?
На деньги свои не надейся. Из рук
Уходят большие сокровища вдруг,
Но если твой сын ремеслом овладел,
Минует его попрошайки удел.
Тугая мошна все ж иссякнуть должна,
У люда ремесл не пустеет мошна.
Ах, если властитель купечеству враг,
Народ свой и войско лишает он благ.
3
Выше нами было указано, что, выпукло изображая основные черты средневековой жизни Ирана, поэма Са’ди, тем не менее, не является идеологической «энциклопедией» своего времени. Чего же недостает в этом отношении «Бустану»? Прежде всего поражает полное отсутствие признаков какого бы то ни было увлечения такими «науками», как астрология, толкование снов, алхимия и т. п., дань которому отдали почти все средневековые авторы Ирана, в том числе и дидактик-мистик Сэнаи, главная поэма которого изобилует весьма деловитыми рассуждениями о значении снов и астрологических сочетаний светил. Какова причина такой, удивительной несовременности Са’ди в этом отношении? Врожденная трезвость и рационализм его ума, чему так много доказательств рассыпано по его произведениям, или, быть может, как раз недостаток схоластической учености, или же всему этому можно подыскать другие, более глубокие основания? Мы не имеем поводов не доверять собственным показаниям поэта о прохождении курса в знаменитой тогдашней исламской академии Незамийэ в Багдаде. Но вопрос — как он там учился и что извлек он из своей учебы? Мы знаем, что из этого обучения Са’ди вынес хорошее знание арабского языка, свидетельством чему является целое собрание арабских касид, составляющее часть его сочинений, но, нужно сказать, до сих пор еще ни разу не вызывавшее восхищения арабистов. Но каковы были прочие знания Са’ди? Если судить по чудовищной путанице и нелепостям сообщений о зороастрийской и брахманской религиях в рассказе о Сомнатском идоле («Бустан», VIII), то можно думать, что в некоторых религиозных науках, основных дисциплинах того времени, поэт был довольно слаб и во всяком случае не располагал, что особенно удивительно, никакими сведениями о зороастризме, насчитывавшем в его время еще достаточно последователей в Иране. Почти незаметно также в творчестве Са’ди и основательного знакомства с средневековой философией. Все это вместе взятое заставляет предполагать, что практический мудрец был, видимо, верен себе с малых лет и в ученические годы, так же как и в течение всей жизни, его гораздо больше интересовала живая действительность чем книга. Такое отсутствие книжности и схоластической эрудитности отразилось, однако, чрезвычайно благоприятным образом на судьбе произведений Са’ди, освободив их от специфической средневековой окраски, сняв с них печать принадлежности к определенному историческому моменту и тем самым как бы определив их постоянное значение, удивительную живучесть и общедоступность на все время длительного господства и доживания феодальных отношений в застойных условиях развития переднеазиатских обществ. Пренебрежение к схоластическим умствованиям, трезвость и практицизм Са’ди всецело объясняются его классовой природой. Са’ди — горожанин, выходец из среды средневекового бюргерства. Мы не располагаем, правда, точными сведениями о его происхождении и классовой принадлежности, а если верить малонадежному биографу Довлетшаху, то отец поэта был, будто бы, даже придворным атабеков, властителей области Фарс, резидировавших в Ширазе, но, при всем этом, не подлежит никакому сомнению, что в произведениях своих Са’ди предстает перед нами человеком, для которого наиболее близкой была социальная среда крупного феодального города, интересы и быт средневековой буржуазии. При этом, однако, не надо забывать того, что, будучи несомненно выходцем из буржуазных кругов, Са’ди вынужден был отдать свои творческие силы на службу феодальной верхушке общества своей эпохи, так как, разумеется, только эти господствующие слои общества и окружавшая их бюрократия (светская и духовная) были в то время постоянными заказчиками и потребителями высших надстроечных ценностей. Этим объясняется некоторая нечеткость классового сознания поэта, вынужденного с одной стороны считаться с господствующей идеологией своей эпохи, а с другой стороны невольно отражавшего в своем творчестве мировоззрение и интересы своего класса. И, конечно, в гораздо большей степени этой нечеткостью классового сознания, чем недостатком философской выучки, объясняется значительная противоречивость взглядов и мнений поэта, о надлежащем согласовании которых он, как будто, и не заботился. Такими противоречиями «Бустан» очень богат и указывать на них нет нужды, т. к. они будут скоро замечены читателем. Однако, быть может, прав Э. Браун (Е. Browne, A Literary History of Persia И, 531—532), считающий, что эта противоречивость, в которой он усматривает признаки широты и многогранности, как раз составляла и продолжает составлять главную притягательную силу для бесчисленных поклонников Са’ди, черпающих из книг своего любимого автора афоризмы и поучения соответственно своим разнообразным интересам и вкусам. Для нас «Бустан» имеет значение литературного памятника, четко отражающего идеологию и бытовые черты феодальной жизни со всеми ее противоречиями и представляющего в значительной своей части занимательное и живое изображение эпохи, пережитки которой до сих пор влияют на сознание современных иранцев, для которых этот памятник, как уже было сказано выше, не теряет и в настоящее время своей действенности.
4
Насколько мысли и взгляды, выраженные произведениями Са’ди, еще живучи в сознании современного иранского общества, насколько «житейская философия» ширазского шейха еще может служить действительным оружием в классовой борьбе — хорошо видно хотя бы из следующего примера. Два-три года тому назад в столице Ирана — Тегеране — вышла книга молодого писателя Мохаммеда Мэс’уд, под заглавием «Ночные увеселения» («Тэфрихат-е-шэб»)[5], имевшая очень большой успех и к настоящему времени уже выдержавшая три издания. С беспощадным, доходящим порой до грубости реализмом, в неожиданно новой для современного Ирана свободной «европейской» манере, книга эта отдельными яркими кадрами дает изображение моментов из жизни группы молодых тегеранских интеллигентов, отстаивающих, в борьбе с безработицей и нищетой, свое право на существование. Главный герой книги, от лица которого ведется рассказ,— учитель тегеранской средней школы. Озлобленный постоянными неудачами, полуголодной жизнью, загнанный кредиторами, с головной болью от пьяного угара жалкого ночного кутежа, приходит учитель утром в школу на занятия. Лучший ученик класса кладет перед ним учебную книгу, по которой проходятся в школе родные язык и словесность. Остальные школьники смирно сидят в ожидании начала урока. Учитель перелистывает книгу. На открывшейся странице он читает:
Я слышал, что некогда руки святых
Творили сребро из каменьев простых.
Сомненья отбрось! Для довольных судьбой
Сребро не дороже чем камень простой.
Как дети — они: нет корысти в сердцах,
Не все ли равно им что злато, что прах?
Дервиш! Пред царем ты покорно склонен,
Но знай, что дервиша несчастнее он.
Прорезались зубы у крошки-мальца.
Весьма озаботило это отца:
«Откуда я пищу достану мальцу,
А бросить младенца возможно-ль отцу?»
Так он вопросил у супруги своей,
Но женский ответ был достоен мужей:
«Не бойся соблазнов диавольских.
Тот Кто зубы дает, пропитанье пошлет».
5
В персидской литературе «Бустан» представляет собой ярчайший и типичнейший памятник жанра дидактической поэмы, дающей кодекс житейской морали своего времени. Эта житейская дидактика «Бустана» подана в почти чистом и беспримесном виде. Едва ли убедительны взгляды некоторых исследователей, желающих видеть в «Бустане» изложение суфийской философии и этики. Если отвлечься от маккиавелистических поучений в области политики (с суфизмом также не имеющих, разумеется, ничего общего), от удивительной для средневекового миропонимания веротерпимости, от некоторых разумных правил воспитания и, вообще, всего того, что возвышает Са’ди, как гениального писателя, над средним уровнем его современников, то мораль «Бустана», в конце концов, сведется к советам: смирно сидеть в своем углу, покоряться силе, приспособляться к обстоятельствам и довольствоваться своим уделом, как-бы скромен он ни был. Ничего специфически «суфийского» здесь нет. Это — типичная мораль средневекового бюргерства. Религиозный элемент, на первый взгляд очень сильный в «Бустане», также не должен обманывать. Не говоря уже о том общеизвестном факте, что почти все идеологические течения средневековья заключены так или иначе в религиозную оболочку, следует иметь ввиду, что поэма писалась в старости и потому во всех покаяниях и обращениях к богу вполне естественно усматривать припадок религиозности, довольно обычный для авторов, находящихся «на склоне жизни». Религиозность Са’ди кроме того, в подавляющем большинстве случаев, чисто традиционна и ортодоксальна. Не должно смущать и частое упоминание суфийских старцев и подвижников, рассказы о которых было удобно заимствовать из обширного репертуара к тому времени уже достаточно развитой житийной литературы. Глава III поэмы трактует о «мистической любви», и здесь Са’ди безусловно отдает некоторую дань модным в его время суфийским увлечениям, равно как и, вообще, не чуждается модной суфийской фразеологии Но патетика и пафос этой главы достаточно умерены и не могут идти ни в какое сравнение не только с почти современной «Бустану» поэмой (так. наз. «Месневи») Джелаль-эд-Дина Руми, но даже и с предшествующими суфийскими поэмами Аттара и Сэнаи. Короче говоря, в «Бустане» мы не найдем ни мистических «откровений», ни религиозного проповедничества, ни пропаганды каких-либо идей и доктрин, ни последовательного изложения какого-либо учения, — словом ничего того, чем полны мистико-дидактические поэмы предшествующей эпохи. Основная установка «Бустана» совершенно определенна. Поэма Са’ди — кодекс житейской практической морали, со всеми ее противоречиями и неувязками. Эта практическая, резонерская установка значительно отличает «Бустан» от дидактических поэм предшествующей эпохи (XII в.) и скорее сближает это произведение с таким памятником персидской прозы, как «Кабус-Намэ», или же с собственным сочинением Са’ди «Голестан». Дидактическая поэма насчитывала ко времени появления «Бустана» не менее двух веков развития и довольно отчетливо определила свои жанровые признаки. В композиционном отношении, в большинстве случаев, такие поэмы, после обязательных славословий Богу, пророку, халифам, царствующему государю и т. п. начинаются с введения, излагающего вкратце основную установку и дающего оглавление всего произведения, а затем, одна за другой идут главы, по которым, далеко не всегда последовательно, распределяется материал. Какая-либо повествовательная рамка, которая объединяла бы и композиционно организовала все произведение, в поэмах такого типа совершенно отсутствует. В пределах каждой главы дидактический материал чередуется с рассказами и притчами, имеющими назначение иллюстрировать то или иное поучение, оживлять изложение или же давать исходное положение для вывода из него морали. Таким чередованием дидактических и повествовательных частей обусловливается, в общем, применение двух стилей: высокого — для поучений и сниженного, фамильярного — для рассказов, в которых авторы не чуждаются, порой, изрядных рискованностей. В поэмах мистических и вероучительных (Сэнаи, Аттар) дидактика выдерживается в проповедническом или же высоко патетическом тоне, с частым применением апострофы, риторических восклицания и вопроса. В «Бустане», ориентированном на житейскую мораль, дидактические части носят в значительной степени иной характер. Здесь преобладают сентенция, изречение и афоризм, строимые, главным образом, на развернутых сравнениях, параллелизмах и антитезах. Эти сжатые, заключаемые в удобную для запоминания форму, афоризмы и максимы сочиняются, в общем, по типу так называемых народных поговорок и пословиц, в которые они, входя в обиход, в конце концов, и обращаются. Использование уже существующих пословиц и поговорок в дидактике такого стиля, конечно, также находит широкое применение, Это преобладание сентенциозного и афористического элемента отличает «Бустан» от мистико-дидактических поэм предшествующей эпохи, которые хотя и не чуждаются изречений и сентенций, но в которых, разумеется, превалирует стиль проповеди и патетического прорицания. Итак, композиционно сходствуя с предшествующими поэмами дидактического жанра, «Бустан» отличается от них своей целевой установкой и вытекающим из нее стилем своей дидактики. Но особенно останавливает на себе внимание еще одно отличие «Бустана» от поэм предшествующей эпохи — отличие, могущее показаться чисто внешним, но на самом деле далеко не случайное и достаточно существенное. Дело в том, что поэма написана метром мотэкареб, окончательно определившимся ко времени появления «Бустана» как постоянный метр героической и повествовательно-авантюрной поэмы. Известнейшие дидактические поэмы XII века пользуются другими метрами. Поэмы Сэнаи и его современника Моэйеда Нэсэфи написаны метром хэфиф, бесчисленные поэмы Аттара, главным образом, — метрами рэмель и хэзэдж, дидактическая поэма Незами «Мэхзэн-оль-Эсрар» («Сокровищница тайн») — метром сэри. Один только Са’ди, вопреки своим непосредственным предшественникам, выбрал для своего нравоучительного «Бустана» метр мотэкареб. Этот выбор героического метра для дидактической поэмы наводит на размышление. Несомненно, что энергичное звучание метра мотэкареб как нельзя более подходит к сжатому, сентенциозному характеру дидактики Са’ди, но, все же, возникает вопрос: не объясняется ли такой отход от установившегося канона стремлением следовать какой-либо иной старинной традиции. Са’ди в своем «Бустане» цитирует только двух поэтов: Фердоуси и Онсори (X—XI вв.), проявляя к их именам пиэтэт, свидетельствующий как о скромности автора, так и о неподдельном его благоговении перед двумя великими предшественниками. Вводом этих цитат в текст своей поэмы Са’ди как бы указывает на общность своего стиля со стилем этих далеких предшественников. В этом факте можно было бы также усмотреть и признак общей ориентации его дидактики на творческие приемы и манеру обоих упомянутых старых мастеров. Но такого соображения, конечно, недостаточно, и кроме того мы знаем, что Фердоуси дидактических поэм не писал, а отдельные мастерские дидактические места в «Шах-Намэ» выполняют в этой героической эпопее в сущности функцию лирических отступлений. Что же касается Онсори, то, судя по названиям трех его утраченных поэм,а также исходя из некоторых других о них сведений, можно определенно говорить, что его поэмы принадлежали к жанру авантюрно-романическому и следовательно отдельные дидактического характера стихи, сохранившиеся от этих утерянных поэм, должны были в целом произведении, также как и у Фердоуси, выполнять назначение лирических отступлений. Продолжая, однако, поиски за возможно старейшими образцами дидактической эпики, мы обнаруживаем искомое в поэме «Рахэт-оль-Енсан» («Отрада человека»), иначе называемой «Пэнд-намэ-йе-Ануширван» («Книга советов Ануширвана»), написанной около средины XI в. по всей вероятности поэтом Шэриф. Эта весьма редкая в рукописях и малоизвестная небольшая поэма (около 415 двустиший)[5] представляет собой собрание стихотворных поучений, являющихся развертыванием и распространением прозаических сентенций, приписываемых сасанидскому царю Хосрову Ануширвану — сентенций, сборник которых составляет, на ряду с собраниями советов и поучений прочих «мудрецов» древности, один из памятников пользовавшейся большим распространением в Иране нравоучительной катехизической литературы. Поэтическая разработка прозаических «советов Ануширвана», мастерски выполненная Шэрифом, дает ориентированную на житейскую мораль дидактическую поэму, написанную метром мотэкареб, т. е. метром, который обычно называется «героическим», но которым, как мы знаем, написана и позднейшая знаменитая дидактическая поэма Са’ди. Итак, мы нашли за двести слишком лет до появления «Бустана» образец дидактической поэмы, написанной метром мотэкареб и сентенциозным стилем своей дидактики представляющей много общих черт с дидактическим стилем Са’ди. Наряду с прочими чертами сходства, в особенности обращает на себя внимание один прием, чрезвычайно широко применяемый Шэрифом и нередко используемый также и Са’ди в «Бустане» — прием, состоящий в том, что отдельные дидактические положения подкрепляются ссылкой на тут же цитируемые слова какого-либо знаменитого лица или же воображаемой личности. Такие, очень частые, места в поэме Шэрифа, как например:
Изведал кто горечь терпения, тот
Стремленьям души утоленье найдет.
На мысль эту отклик был чей-то таков:
«Терпенье — отмычка злосчастья оков».
или:
Ах, в мире бывало немало людей,
Сгубивших себя из-за праздных речей.
Сказал мудрый, долгие живший года:
«Пустые слова не годны никуда».
близко напоминают нередкие и у Са’ди случаи использования того же самого приема, например:
Прекрасно сказал селянин: «Тяжелей
Навьючивать надо строптивых коней».
или:
Слова, от которых возможна беда
Тебе самому, затаи навсегда.
Как верно сказала невежде жена:
«Молчи если речь у тебя не умна».
Отмечая несомненное общее стилевое сходство между поэмой Шэрифа и «Бустаном», необходимо указать и на существенное между ними различие, выражающееся в том, что «Книга советов Ануширвана» совершенно лишена повествовательного элемента и представляет собой небольшое поэтическое сочинение чисто дидактического порядка, не обладающее к тому же признаками большой формы, будучи составлена из отдельных как бы самостоятельных восьмистиший, каждое из которых дает стихотворное изложение и толкование, стоящей ввиде заголовка, прозаической сентенции. Но, во всяком случае, из дошедших до нас целиком персидских дидактических поэм «Пэнд-намэ-йе-Ануширван» является старейшим памятником, отличающимся теми же свойствами, которые наблюдаются и в «Бустане»: установкой на житейскую мораль, сжатым сентенциозным стилем и применением «героического» метра мотэкареб для дидактики. На этом в сущности и должны бы остановиться поиски за памятниками старой традиции, которой мог следовать Са’ди. Однако, у нас имеются еще некоторые предположения, ведущие в еще более раннюю эпоху, а именно к автору X века Абу Шэкуру. От этого поэта до нас дошли только отдельные стихи и коротенькие фрагменты, общим числом более трехсот стихов, рассеянные по персидским толковым словарям, антологиям и разным другим сочинениям. Большинство дошедших до нас стихов Абу Шэкура носят несомненно черты принадлежности к эпическим жанрам, а среди них, в свою очередь, большинство приходится на попарно рифмованные стихи, написанные метров мотэкареб. Немецкий ориенталист П. Хорн, произведший первое обследование таких фрагментов (Asadi’s neupersisches Worterbuch Lughat-i-Furs, предисловие, стр. 23), высказал мысль, что чрезвычайная пестрота тематики, прослеживаемая в этих фрагментах, заставляет предполагать, что Абу Шэкур являлся автором целой серии небольших поэм. Такое предположение очень соблазнительно, так как оно могло бы привести к выводу, что Абу Шэкур был автором произведений типа fabliaux, существование какового жанра в персидской литературе до сих пор не было обнаружено, хотя для появления его имелись необходимые условия и предпосылки в интенсивном развитии городской жизни, ремесл и торговли в Средней Азии и северо-восточном Иране IX—X вв. Однако дальнейшее собирание и обследование оставшихся от Абу Шэкура фрагментов показало, что среди них стихи дидактического характера (типа житейского морализирования) превышают количеством стихи повествовательного порядка. Между тем, из старейшего источника сведений об Абу Шэкуре (’Аwfi, Lubabu’l-Albab, ed. Browne II, 21) узнаем, что этому автору принадлежала поэма «Афэрин-Намэ», законченная в 947 г. и в свое время очень известная. Название этой поэмы (в форме: «Намэ-йе-Афэрин»), с одним стихом-цитатой из нее, встречается также в упомянутой поэме Шэрифа «Пэнд-наме-йе-Ануширван», из чего вытекает, что поэма Абу Шэкура была также написана метром мотэкареб. Ввиду этого возникает вопрос: не принадлежат ли все сложенные таким метром дошедшие до нас эпические стихи Абу Шэкура именно к этой его утраченной поэме? Но в таком случае большое количество дидактических стихов наряду с пестротой тематики, прослеживаемой в стихах повествовательного характера, не наводит ли на мысль, что в утерянной поэме Абу Шэкура «Афэрин-Намэ» мы как раз могли иметь произведение такого же типа как и знаменитый «Бустан», т. е. написанную метром мотэкареб дидактическую поэму, в которой изложение правил житейской морали чередовалось с разнообразными притчами и рассказами? Если бы это наше предположение оправдалось, то в поэме Абу Шэкура мы имели бы старейший памятник той старой традиции, к которой восходит «Бустан». Но и без этого предположения, ориентация Са’ди на старую литературною традицию X—XI вв. представляется, по нашему мнению, достаточно явной. Для периодизации литературы Ирана и характеристики ее основных этапов этот факт имеет довольно крупное значение. У европейских исследователей пользуется большим успехом мнение, что персидская литература после монгольского завоевания вступила в период упадка и что немногие крупные имена (Са’ди, Джелаль-эд-Дин, Хафез), составляя отдельные блестящие исключения, не противоречат общей тенденции к застою и регрессу. Внимательное рассмотрение литературных фактов приводит, однако, к наблюдениям несколько противоречащим этой излюбленной схеме. Если проанализировать беспристрастно творчество крупнейших персидских авторов, живших во 2-ой половине XII в., т. е. накануне монгольского завоевания, то, например, в творчестве, с одной стороны, Незами, а с другой — Аттара нетрудно будет обнаружить как раз черты декаданса, отсутствующие у больших поэтов ранней монгольской, эпохи. У Незами, несмотря на весь блеск его поэзии, наблюдается чрезвычайное усложнение формы, предельная сублимация образов, искусственность и маньеризм, приводящие порой к полному затемнению смысла. У Аттара, наоборот, замечается, временами, крайняя вялость поэтической фактуры, ослабление формы, доходящее подчас до ритмических небрежностей и погрешностей. И в том и в другом явлении несомненно обнаруживаются черты декаданса, признаки отмирания литературной традиции и кризиса стиля. Этот упадок отражает резкий социально-экономический кризис жизни Ирана второй половины XII века, разрешением и выходом из которого и было как раз монгольское завоевание. Социальные изменения, предшествовавшие монгольскому «нашествию» и за ним последовавшие, вызвали к жизни новый литературный стиль, выразители которого, отталкиваясь от навыков и приемов изжившей себя предыдущей школы, обращались (как это часто наблюдается в истории литератур) в своих формальных исканиях к забытой непосредственными предшественниками старой традиции, где они находили для себя ясный стиль и крепкую форму. Одним из таких авторов был Мослех-од-Дин Са’ди Ширазский.
6
«Бустан» написан, как уже не раз упоминалось, метром мотэкареб
 который мы попытались передать усеченным четырехстопным амфибрахием с мужской рифмой, соответствующим по числу слогов и отчасти по основной каденции стиху персидского оригинала.
«Бустан» полностью на русский язык никогда не переводился. Не было также и стихотворных переводов сколько-нибудь значительных отрывков поэмы. Вышедший отдельной книгой неполный перевод Урри (Саади, «Сад плодовый», СПБ, s. а.) сделан прозой и притом не с языка подлинника. Несколько отрывков переведено прозой же в диссертации Холмогорова «Саади Ширазский» (Казань 1865).
На европейских языках существует довольно много переводов, из которых главнейшие — полный стихотворный перевод на немецкий язык, К. Graf, «Moslicheddin Sadi's Lustgarten (Bostan)», 1850; полный французский прозаический перевод, Barbier de Meynard, «Le Boustan ou Verger», Paris 1880; английские переводы: Wilberforce Clarke, «The Bustan by shaikh Muslihu-d-Din Sa’di Shirazi», London 1879 (прозаический) и Davie, «The garden of fragrance», London 1883 (полный поэтический перевод). Первый европейский перевод, сделанный неизвестным автором на немецкий язык (с голландского рукописного перевода) появился в XVII в. в книге путешествий в Московию и Персию Адама Олеария.
Отдельныхвосточных (главным образом литографских) изданий «Бустана» очень много. Еще больше издавался он в составе полного собрания сочинений Са’ди. Из отдельных изданий лучшим считается европейское, выполненное К. Графом — Le Boustan de Sa’di, texte persan avec un commentaire persan, publie sous les auspices de la Societe Orientale d’Allemagne, par Ch. H. Graf, Vienne 1858.
Наш перевод сделан по тексту типографского Константинопольского издания 1303=1886 г., который мы корректировали при помощи Тавризского литографированного издания «Коллийат» (полного собрания сочинений) 1257 = 1841 г. Пособием при работе служил хороший французский перевод Барбье де Мейнара (см. выше).
До половины VII главы поэма переведена нами полностью. Начиная со второй половины этой главы сделан ряд пропусков в общей сложности около 400 двустиший (800 стихов)[6], представляющие собою повторение одних и тех же тем».
К. Чайкин
который мы попытались передать усеченным четырехстопным амфибрахием с мужской рифмой, соответствующим по числу слогов и отчасти по основной каденции стиху персидского оригинала.
«Бустан» полностью на русский язык никогда не переводился. Не было также и стихотворных переводов сколько-нибудь значительных отрывков поэмы. Вышедший отдельной книгой неполный перевод Урри (Саади, «Сад плодовый», СПБ, s. а.) сделан прозой и притом не с языка подлинника. Несколько отрывков переведено прозой же в диссертации Холмогорова «Саади Ширазский» (Казань 1865).
На европейских языках существует довольно много переводов, из которых главнейшие — полный стихотворный перевод на немецкий язык, К. Graf, «Moslicheddin Sadi's Lustgarten (Bostan)», 1850; полный французский прозаический перевод, Barbier de Meynard, «Le Boustan ou Verger», Paris 1880; английские переводы: Wilberforce Clarke, «The Bustan by shaikh Muslihu-d-Din Sa’di Shirazi», London 1879 (прозаический) и Davie, «The garden of fragrance», London 1883 (полный поэтический перевод). Первый европейский перевод, сделанный неизвестным автором на немецкий язык (с голландского рукописного перевода) появился в XVII в. в книге путешествий в Московию и Персию Адама Олеария.
Отдельныхвосточных (главным образом литографских) изданий «Бустана» очень много. Еще больше издавался он в составе полного собрания сочинений Са’ди. Из отдельных изданий лучшим считается европейское, выполненное К. Графом — Le Boustan de Sa’di, texte persan avec un commentaire persan, publie sous les auspices de la Societe Orientale d’Allemagne, par Ch. H. Graf, Vienne 1858.
Наш перевод сделан по тексту типографского Константинопольского издания 1303=1886 г., который мы корректировали при помощи Тавризского литографированного издания «Коллийат» (полного собрания сочинений) 1257 = 1841 г. Пособием при работе служил хороший французский перевод Барбье де Мейнара (см. выше).
До половины VII главы поэма переведена нами полностью. Начиная со второй половины этой главы сделан ряд пропусков в общей сложности около 400 двустиший (800 стихов)[6], представляющие собою повторение одних и тех же тем».
К. Чайкин
ВВЕДЕНИЕ
Во имя создавшего душу Творца, В уста нам вложившего речь мудреца! Он нам прегрешенья прощает и нам Во всем помогает и внемлет мольбам. Кто лик свой от Божьих дверей отвернет, Куда он пойдет, где найдет он почет? Могуществом горды цари всей земли, Пред Богом смиренно простерты в пыли, Кичливых наказывать Он не спешит, И тех, кто покаялся, Он не казнит, Грехи покрывая прощеньем своим. Господне всеведенье — море. Пред Ним Лишь капля — и тот мир грядущий и сей. Прогневал ты Бога, покайся скорей, Помилован будешь... Ах, если бы он Преследовать стал, кто бы был пощажен? Ведь если враждует с родителем сын, Бывает разгневан отец-господин, И если родным не угоден родной, Изгнанью подвергнется он, как чужой; Не будет хозяину дорог тот раб, Который ленив и в служении слаб, И если не верен ты в дружбы делах, То друг убежит от тебя на фарсах. И царь-полководец бросает свой стан, Коль в войске своем заприметит обман. Но Бог Всемогущий строптивых рабов Прощает, и им помогать Он готов. Поверхность земли как общественный стол, И недруг ли, друг ли — всяк пищу нашел. Кусок за широкой трапезой готов Симоргу, жильцу краесветных хребтов[7], Бессильному пищу дает муравью Господь-Промыслитель и кормит змею. Ты сущности Божьей не сыщешь примет, Противоположностей также в Нем нет, И власти Его повинуется всяк: И люди, и птицы, и каждый червяк. Бесплотный, Благой, Утешитель людей, Владеющий тайной Властитель людей, Ему одному утверждать свое Я, Он властен от века, Он царь бытия. Одним утверждает венцы на главах, Других же свергает Он с тронов во прах. Он счастья венцами венчает одних, Хулы власяница — одежда других. Он огнь Аврааму в цветник превратил, А живших близ Нила огнем попалил[8]. То — грамота милостей Божьих для нас, А это — карающий, грозный указ. Срывает покровы Он с наших грехов, Но славу Свою облекает в покров. Поднимет карающий меч, и пред Ним От страха оглох, онемел херувим. Но если призыв Он благой возвестил, К тем благам торопится сам Азазил[9]. К дворцу Его силы подходят — и здесь Владыки земные теряют всю спесь, Но, благостный, шлет Он несчастным привет, В мольбе преклоненным дает Он ответ. Грядущих событий провидит черед, Неведомых тайн подчинен Ему ход, Подвластен Ему весь объем бытия, В последнем судилище Он судия. Кто спину свою перед Ним не согнет, Глаголу Его не окажет почет? Он вечен, Он дивный художник, ведь Он Рисует младенца во чреве у жен. Ведь семени капле дарует Он лик, О кто же, о кто же настолько велик? С востока на запад Он путь указал Светилам. Над водами прах разостлал, И землю над морем затем Он простер, Чтоб был для людей богомольных ковер, Когда ж ее радостный пыл всколебал, Ее укрепил он гвоздями из скал[10]. Рубин, изумруд положил в их хребты, На ветвь изумрудную яхонт — цветы. Из туч шлет он каплю дождя в дни весны А капельку семени в лоно жены. Из капельки той жемчужину творит, А этой дарит человеческий вид. Нет тайны для Бога ни в чем и ничуть, Малейшей частицы Он ведает суть. Ах, кто ж, кроме Бога, соделает то, Чтоб вдруг в бытие превратилось ничто? Порой же все рушит Он в хаоса тьму И снова выводит к суду Своему. Весь мир прославляет Его естество; Но что мы в Нем можем постичь? Ничего! Постичь ли Его совершенство и честь? Сиянья Его торжества Нам не снесть. Нет, птицей туда не домчится мечта, Старания разума вникнуть — тщета. Ах, сколько же тысяч средь этих зыбей Погибло бесследно навек кораблей! О, сколько ночей в созерцаньи я был! Терялся, и ужас меня полонил! Сей Царь бытие все объемлет собой, Его ль слабый разум обнимет людской? О нет, не проникнуть тебе в эту суть, В глубины Его чистоты не взглянуть! Хотя б красноречьем ты был сам Сахбан[11], Не быть тебе избранным гостем тех стран. О, сколько же лучших погибло людей, Туда безрассудно стремивших коней! Не всюду, о всадник, твой конь пробежит, Есть место, где храбрый бросает свой щит, Но если к местам заповедным пути Ты сыщешь — обратно тебе не притти. Дадут тебе чашу на пиршестве тут, Напиток беспамятства в чашу вольют. Одним соколам там сшивают глаза, А перья других опаляет гроза. Богатства Каруна ты сыщешь. Так что ж[12]? Из праха дороги назад не найдешь. Итак, если в путь ты решился, допрежь Коню возвращенья поджилки подрежь. Ты в зеркало сердца глядись и глядись, Быть может, откроется светлая высь, Быть может, любви аромат опьянит И к сладостным тайнам тебя приобщит, Проложит дорогу искания пыл, Любовь вознесет тебя взмахами крыл, И, сущностей мнимых покров разорвав, Появится видима слава из слав. Но ум пусть не мчится дорогою той, Узду перехватит смущение: стой! Без кормчего в море том плавать нельзя, Коль нет вожака, безысходна стезя. Покинув вожатого, ступишь едва, Закружится там у тебя голова. Возможно лишь вслед за пророком итти, Не то пред тобою закрыты пути. Смешны, о Са’ди, непонятны мечты— Минуя пророка, достичь высоты!
Хвала пророку Мохаммеду
О лучший из лучших, творенья венец, Заступник народов, людей образец, Глава всех пророков, вожатый дорог, К кому Гавриила слал вестником Бог[13], Предстатель за весь человеческий род, Людей на последнем судьбище оплот. Синай — Моисею, а он между туч, Все светы вселенной пред ним — только луч. С тех пор как он людям Коран подарил, Другие писанья значенья лишил, Он меч ужасающий свой извлечет, О чудо!—луну пополам рассечет. Когда его слава прошла над землей, Упали чертоги, что строил Хосрой[14].Низвергнул во прах истуканы, племен Языческих не убоявшися, он. Не только он Оззу и Лата разбил[15], Евангелье, Библию он отменил, Он ночью однажды на небо проник, Превысив достоинством ангельский лик. Борака коня горячо он стремил[16], Близ древа отстал от него Гавриил, И рек Мохаммед близ святая святых: «Приди, о глашатай законов моих, Коль ты мой помощник и любишь меня, Зачем же теперь осадил ты коня?» Ответил пророку тогда Гавриил: «Чтоб выше подняться, нет более сил, А если бы даже и сила была, Сияние славы спалит мне крыла». Останется кто же заложником бед С вожатым, подобным тебе, Мохаммед? Хвала ль моя славы достойна твоей? Привет тебе, мир тебе, пастырь людей! Пусть ангелы славят тебя в небесех, А также подвижников ревностных всех.
Хвала четырем халифам[17]
Здесь первый — Бу-Бекр, мудрый старец, второй — Омар, укротитель бесовщины злой, Затем страж бессонный Осман, наконец, Дольдоля взнуздавший Али удалец[18]. Слова исповеданья будут пускай, Моими последними — Господи дай! Услышана, нет ли молитва моя, Мое упованье — пророка семья. Ужели посланник Господень, падет В чертогах творца от того твой почет, Что несколько нищих смиренно войдут В небесное царство, как в некий приют? Сам Бог тебе слово хвалы говорил, И прах целовал пред тобой Гавриил. Когда ты явился, все люди тогда Что были? Не боле как персть да вода! Пророк! Ты — основа, ты — суть бытия, А все остальное не ветвь ли твоя? Какой бы ни спел в похвалу тебе стих, Все будешь ты выше хвалений моих. Ведь лишь для тебя небеса создала Господняя сила. Тебе похвала— Та-ха и йа-син. О пророк Мохаммед[19], Молитву к тебе возношу и привет!Причины сочинения поэмы, деление ее на главы и дата написания
Я много скитался в пределах мирских, И много я видел народов земных, Отвсюду я пользу себе извлекал, На каждом жнивье колосок подбирал, Но лучше ширазцев народов других Не видел, Господь да помилует их! Из Рума и Сирии эти места Увидеть меня поманила мечта. «В подарок друзьям,—я сказал себе тут,— Египетский сахар обычно везут. Из стран сих цветущих ужели я сам С пустыми руками приеду к друзьям? Коль сахара нету в деснице моей, Да будут слова мои слаще сластей.» Не тот это сахар, что можем мы есть, Но сахар сей в мудрых писаниях есть. Построил дворец я для счастья людей И десять в нем сделал для входа дверей, И вот: справедливость, пред Господом страх, Забота о подданных, мудрость в делах — Вход первый; вторая же дверь иль глава — Чтоб щедро платить за добро Божества, А третья глава — упоенье любви, Любви, да не той, что у грубых в крови, Четвертая — скромность, покорность; затем Шестая — довольство хотя бы ничем, В седьмой — воспитанье, что нужно юнцу, В восьмой — благодарность благому Творцу, В девятой главе — покаянье, и чтец В десятой, последней, обрящет конец. Счастливого года — то год всем годам — Пред праздником жертвы, когда к шестистам Годов приросли пять десятков и пять[20]. Я перлами кончил казну наполнять. И вот полон перлов подол у меня, Но голову долу, стою я, клоня,— В морской глубине ведь не жемчуг один, И раковин много, ведь дуб-исполин Растет средь кустарников мелких, о чтец! Я знаю к придиркам не склонен мудрец. Парчева ль одежда, из шелка ль она, Подкладка ж всегда не настолько ценна. Не гневайся, если не шелковый низ, Надень и с подкладкой простой примирись. Не чванясь заслугами, бедный дервиш, Я руки с мольбой простираю, услышь! На страшном суде ради добрых сердец, Я слышал, помилует грешных Творец. Читатель, об этом, прошу, не забудь, Читая, ко мне снисходителен будь. Коль сможешь единый одобрить ты стих, То ради него не отринь остальных. В Хотане так мускусу Много, что там[21] Не ценится он, такова же стихам Оценка в Иране. В чужой стороне Мои недостатки прощаются мне. В розарий пришел я с охапкою роз, Я в Индию перец зачем-то привез. Стихи мои будто бы финик, смотри: Снаружи хоть сладко, костяшка внутри.Панегирик царствующему государю
Нет, сердце мое не лежит к похвалам, Не склонен я к лести царям и князьям, Но все ж похвалу я сложил, чтоб могли — Промолвить мудрейшие люди земли: Са’ди, чьи стихи хвалят даже враги, Жил в дни Абу-Бекра ибн Са’да Зенги[22]. При жизни пророка царил Нуширван[23], Живу при Бу-Бекре я, гордостью пьян. Такого царя ведь не видывал свет, С тех пор как халифа Омара здесь нет. Он царственной власти венец, торжество, Гордись же, вселенная, правдой его! Бежавшие смут и раздоров найдут В его только царстве спокойный приют. Не видывал царства такого я, где б Для старых и малых покой был и хлеб. Страдалец, приблизившись к этим местам, Для ран своих здесь обретает бальзам. Прекрасных надежд полон царь сей земли, Создатель, алканья его утоли! Венец его славы царит в облаках, Чело же смиренья склонилось во прах. Смирение знатных: — и благо и честь, Смирение нищих не нрав ли их есть? Заслуга ль раба приниженный поклон? Смиряется властный — друг Господу он. Кому же Бу-Бекр неизвестен? Щедрот Бу-Бекровых слава по миру идет. С тех пор как устроился мир, меж царей Такого весь мир не запомнит, ей-ей! Ты узришь ли в дни его, чтоб кто-нибудь Стонал и насильник терзал ему грудь? Такого порядка, устройства во всем Не знал Феридун при величьи своем[24], Пред Господом степень его высока Затем, что возвысил сей царь бедняка, И так надзирает он зорко над всем, Что дряхлому старцу не страшен Ростем. Повсюду, всегда раздаются мольбы И пени на злую превратность судьбы, Но кто ж пред судьбою изведает страх В твоем правосуднейшем царстве, о шах? Ты скиптром народ осеняешь, любя. Что станется с ним, коль не станет тебя? Не признак ли славы твоей, что среди Владений твоих процветает Са’ди? Покуда светила горят в небесах, В стихах этих будешь ты жить, падишах. Цари все обязаны славой своей Примерам правления прежних царей, Но ты превзошел и затмил, государь, Владык, что царили и правили встарь. Из камня воздвиг Искендер[25], чтоб не мог Найти к нам дорогу ужасный Магог[26], Преграду. Магогу неверья сумел Ты златом пути преградить в свой удел. Пусть слова навеки лишится пиит, Который о сем падишахе молчит. О щедрости море! Даяний рудник! Тобой благоденствует всяк, кто возник. Ах, тесно пространство сей книги! Похвал! Достойных его, я отнюдь не воздал. Чтоб образом должным о всем рассказать, Я должен бы книгу еще написать. Сего моему не осилить перу, Я руку моления лучше простру: Будь счастлив, и землю и небо любя, Пускай охраняет Создатель тебя. Звезда пусть твоя охраняет весь мир, Звезда же врага пусть падет на надир. Пусть горе минует тебя, и забот На сердце пусть пыль никогда на падет. Коль сердцем властитель расстроен и сир, Расстроен и скорбен бывает весь мир. Пусть смуты не ведает царство, пускай Вселится спокойствие в душу и в край. Да будешь ты телом, как верою, здрав, Врага же бессильны и тело и нрав. Да будет веселье в душе, да цветут И сердце, и вера, и жителей труд. Создатель тебя да помилует! Все ж, Что дальше сказал бы, лишь басня да ложь. Потребно тебе вспоможенье Творца, Чтоб вел ты благие дела до конца. Отец твой из мира ушел не скорбя, Достойным преемником видя тебя. Пусть тело во прахе, душе — высота! У чистого древа и ветка чиста. На эту могилу любовью своей, О Боже, росу милосердья пролей! Осталась лишь память о Са’де Зенги, О Господи, сыну его помоги!Панегирик сыну властителя
Счастлив атабек Мохаммед, шах младой, Владелец короны царей золотой! Счастливый юнец помышленьем велик, Годами он молод, в делах же —- старик. Высок и познаньем и рвением он, Разумен, талантлив, и храбр, и силен, Щедротами он океана стократ Обильней и степенью выше Плеяд. О счастье, о радость потоку времен Взрастившему сына такого, как он! Пусть счастия око взирает любя, Глава падишахов, всегда на тебя. Пусть раковина мелких перлов полна, Дешевле, чем перл драгоценный, она. Ты — перл драгоценный единственный сей, Ведь ты — украшенье твоих областей. Своим милосердьем его охрани, О Боже, и злобу врагов отжени. Прославь его имя по всем областям, Направь к благочестия верным путям. Да правит он верой и правым судом, Да будет он счастлив в сем мире и том. О царь! Да не будет тебе никогда Беды от врагов, от судьбины вреда; Ты будто бы райского дерева плод, Отцовская слава и к сыну придет. Удачи, о нет, той семье не знавать, Которая род сей начнет унижать. И вера, и мудрость, и праведный суд, И славное царство сие да живут!О СПРАВЕДЛИВОСТИ И ПРАВИЛАХ МИРОВЛАСТИЯ
ГЛАВА I
Язык славословий, зачем он, зачем? Щедроты царя не измерить ничем! Сей царь для несчастных и бедных оплот, При нем благоденствует в мире народ. Ты лета его, о Создатель, продли — Пусть верой и правдой царит на земли. Да будет надежд его древо в плодах, Да будет он здрав и удачлив в делах. Ты льстивых словес, о Са’ди, не готовь, Ведь искренность в сердце твоем и любовь. Царь — путник, а ты как вожатый ступай, Глаголь ему истину — внемлет пускай! Одобрит ли этот порядок мудрец— Пастух отдыхает, а волк меж овец? Для подданных будь ты оплот и заслон, Ведь держится ими венец твой и трон, Они точно корень, а дерево — шах, Ослаблены корни — нет сил в деревах. Не рань им сердца, не глумись над людьми, Коль ранишь — свой корень ты ранишь, пойми. На праведный путь, если хочешь шагнуть, Лежит меж надеждой и страхом тот путь. И каждый, кто в эту дорогу спешит, К добру он стремится, пред злом же дрожит. Меж этими чувствами душу деля, Цари, — благоденствовать будет земля! В надежде на высшие блага из недр Господней любви будь и ласков и щедр. Ведь царь, не желающий царству вреда, Вреда не захочет другим никогда, А если властителей нрав не таков, Нет царству покоя во веки веков. Всяк вольный уедет, и, сердце скрепив, Останется раб средь запущенных нив. Вотще благоденствия будешь искать В местах, где властитель насильник и тать. Бояться воителей мощных не след, Тех бойся, в ком страха пред Господом нет. Властитель, насилье творящий в стране, Счастливым свой видит ли край? Лишь во сне: Разруха, бесславье — насилия плод, Всяк мыслящий истину эту поймет. О, горе царю, что безвинных казнит, Ведь подданный царству поддержка и щит. На пользу себе охраняй ты крестьян — Довольный в работе прилежен и рьян. Ужель это благо, коль делаешь зло Тому, чьим трудом государство цвело?Все девять небес громоздить, о поэт, Под ноги Кизил Арсалану[27] не след! К чему говорить: небеса попирай, Не лучше ли молвить: чело преклоняй Иль к небу в молитве его обрати? Для праведных только такие пути! Коль раб ты смиренный, склонись у дверей, С главы своей скинув корону царей. Порфиру долой, коль молитву творишь, Стенай в исступленной мольбе, как дервиш. Смиренно моли пред чертогом Творца, Как будто бы нищий у двери купца: «Всевластен лишь Ты, промыслитель Господь, Могучий, питающий слабую плоть! Не царь, издающий закон, пред тобой, Но нищий смиренно склонен пред тобой. Что сделают руки мои, Царь царей, Коль мне не поможешь рукою Своей? К добру мне, о Господи, доступ открой, Чтоб к людям я мог отнестись с добротой»; Коль днем государства делами вершишь, В ночи исступленно молись, как дервиш. Пред дверью твоею вельможи и знать,— Пред Богом главу продолжай преклонять. О, счастье рабам, если их падишах Пред Господом рабски склонился во прах!
Притча
Вот притча, что нам рассказали без лжи Ревнители веры и правды мужи: Мудрец раз на барса воссел и на нем, Змею взявши в руки, поехал верхом. Тут некто воскликнул: «Друг Божий, скажи Сего как достиг ты? И путь укажи! Как хищник тебе подчинился во всем? Ужель овладел ты волшебным кольцом?» Ответил: «Не диво, что эти в плену! Могу приказать и орлу и слону. И если завидна подобная власть, Пред Богом ты должен смиренно упасть. Ему подчинившись во всем до конца, Обрящешь охрану и помощь Творца».Господь Своего боголюбца-слугу Ужели предаст на потеху врагу? Вот истины путь впереди пред тобой, Найдешь все, что хочешь, пойдя той тропой. К советам Са’ди коль внимателен ты, Найдешь исполненье желанной мечты!
Прощаяся с жизнью, почти бездыхан, Так сыну Хормизду сказал Нуширван[28]:
«Ты слабым и бедным защитником будь, О счастье своем и покое забудь! Кто в царстве твоем успокоен, храним, Коль ты озабочен покоем своим?»
Рассказ
В тот час как навеки глаза закрывал, Хосров к Шируйэ, перед смертью, воззвал[29]: «Какой бы ты замысел ни возымел, Подумай о подданных прежде всех дел. Ты будь правосуден, дела свои взвесь, Не то опустеют и нива и весь. Народ убежит от тирана-царя, Повсюду лишь злое о нем говоря. В основу всех дел если зло ты кладешь, Свой корень подрежешь, плода не сберешь. Не столь разрушительны войны, ей-ей, Как матери слезы, лишенной детей, И светоч, возженный обидою вдов, Немало, ты знаешь, пожег городов. Но ежели правдой царит падишах, Всегда он пребудет удачлив в делах. Когда же почиет он в Бозе, народ Молитвы свои на погост принесет. Конец одинаков и добрым и злым, Все ж лучше добром коль помянут одним. Кто богобоязнен, того назначай На должность — он ладно устроит весь край. Кто подать сбирает, обиды творя, — Людей угнетатель и недруг царя. Главенство, от коего руки взнесло В мольбе населенье — ужасное зло. Кто доброе сеет — добро его плод, Кто злое посеет — злодейство пожнет. Легко угнетателей, царь, не карай, Исторгнуты плевелы будут пускай. Пусть сих кровопийц не жалеет твой суд, С их жирного тела пусть кожу сдерут. Пусть во-время волка постигнет конец, Чтоб он не терзал беззащитных овец.Притча
Однажды, со всех угрожая сторон, Купца обступили разбойники... Он Вскричал: «Если дерзок разбойник и тать, То шахское воинство — бабам подстать!»Ах, если властитель купечеству враг, Народ свой и войско лишает он благ. Придет ли разумный торговец туда, Откуда грозит для торговли беда? Властитель, чтоб доброе имя снискать, Обязан купцов и послов охранять. Властитель, получше послов принимай — Тебя по вселенной прославят пускай. Беда угрожает стране, если там Обиды чинят чужестранным гостям. Найдут чужестранцы привет и приют И добрую молвь о тебе разнесут. С гостями будь ласков, с посланцами — мил, Смотри, чтоб никто их обидеть не мнил. Но все ж не бросай осторожности: вдруг Врагом твоим станет, кто с виду был друг. Зато от сподвижников старых не жди Отнюдь вероломства, но их награди; И если из них устарел кто-нибудь, Смотри, о заслугах его не забудь. Коль верный сановник беспомощно стар, За верную службу да примет он дар.
Рассказ
Я слышал, что сделался скорбен и хмур, Приказ о смещенье услышав, Шапур[30]; Увидев, что стал он и беден и мал, К Хосрову такое письмо паписал: «Я службе твоей отдал младости дни, Теперь же меня, старика, не гони!» Коль сеет раздоры чужак, мой совет — Изгнать, но казнить не советую, нет! Коль ты пощадишь его, ведай, ты прав. Ему злейший ворог его злобный нрав. Но если из Персии родом смутьян, Его не гони ты ни в Рум, ни в Сан’ан[31], Но здесь же примерно его накажи: Зачем на других насылать мятежи? Ведь скажут: не плох ли в стране той закон, Откуда выходят такие, как он? Людей обеспеченных ставь к должностям, Ведь нищий не ведает страха к царям, И коль сей чиновник виновен, опричь Стенаний, тебе ничего не достичь. Коль ты заподозришь чиновника в чем, Пусть будет всегда наблюдатель при нем, А если поладят они меж собой, Пусть места лишатся и тот и другой. Пред Богом трепещет чиновник пускай, Тебя коль боится — не верен он, знай. Пусть казнь иль изгнанье его не страшат, Пускай вспоминает почаще он ад. Расследуй все сам, проверяй все счета: Ведь честен, пожалуй, единый из ста. И в местность одну сослуживцев-друзей Двоих назначать не моги царь царей! Как знать, вдруг случится, один из них тать, Другой же начнет воровство покрывать. Когда ж у воров недоверье к ворам, Спокойно идет караван ко дворам. Коль ты у чиновника должность отнял, Не надо карать, если грех его мал. Ведь лучше не рвать упования нить, Чем тысяче узников цепи разбить. Смещенный не должен надежду терять На то, что доверье найдет он опять. Разгневан ты ежели, помни — царей Таков же ведь гнев, как отца на детей, Который, сперва наказавши кнутом, Утешит и слезы осушит потом. Коль мягок ты, враг твой подумает: слаб, А если жесток ты — бунтует и раб. Смешай оба свойства в себе. Как врачи, Сначала разрежь, а потом залечи. Будь щедр, благосклонен. Приняв благодать От Бога, ты должен народу воздать. Лишь тот не исчез в этом мире земном, Чье имя народ поминает добром. Бесследно тому не дано умереть, Кто строил гостиницы, мост иль мечеть. Но здесь не оставивший добрых следов Не будет достоин загробных псалмов. Итак, если вечности хочешь, свои Заслуги, о царь, пред людьми не таи! В историю вникни, в случившемся встарь Прочтешь, что случится с тобой, государь. Желали, любили, смеялись цари, В конце же концов все скончались, смотри! Но добрая память — наследье одних, Навеки проклятье — наследие злых. Доносам не верь, а услышишь донос, До самых глубин разбери сей вопрос. Да будет виновный тобой пощажен, Пощады коль просит и кается он. За первый проступок — велик он иль мал — Не нужно, чтоб жизни его ты лишал. Коль снова грешит он, внушенья поправ, Да будет ему заключенье и штраф. А если его не исправишь ничем, Негодный сей плевел исторгни совсем. Коль хочешь карать ты чью-либо вину, Последствия взвесь, загляни в глубину. Рубин бедехшанский нетрудно разбить[32], Разбитый попробуй-ка снова склеить!»Оклеветанный министр
Скитаясь по свету, один человек Однажды в Омане спустился на брег[33]. Он греков, арабов и турков видал, Везде он познанья себе собирал. Весь мир он скитаньями избороздил, В знакомствах познанья и опыт копил. Он видом был крепок, как дуб, но притом Был вовсе без средств, в затрудненье большом. Заплаты на платье его там и тут, От горя душа истлевала, как трут. Великим царем управлялась земля, Где он очутился, сойдя с корабля. Заботясь о доброй молве, этот шах Имел попеченье о всех бедняках. Скитальца приветили, в баню свели (Дорогой он был утомлен и — в пыли). И вот пред царем очутился бедняк И, руки скрестив (уважения знак), Направил смиренно к престолу стопы (То мудрость вступает на счастья тропы). «Откуда пришел ты?—спросил падишах. — Зачем очутился ты в наших местах? О мудрый, что видел, поведай ты мне, Дурного иль доброго в нашей стране?» Скиталец ответил ему: «Падишах, Создатель тебе да поможет в делах! В твоем государстве не видел нигде Я сердца, попавшего в лапы к беде, Не признак ли мудрости царской, когда В стране не отыщешь насилья следа? Не видел я пьянством вскруженных голов, Но много разрушенных зрел кабаков». Так молвил наш странник, как будто бы он Разбрасывал перлы. Был царь восхищен. И, слово прекрасное выслушать рад, Скитальцу пожаловал много наград: И перлов и множество злата... Потом Подробно его расспросил обо всем. Скиталец так мудро о всем говорил, Что стал для царя он всех более мил, И царь во внимание к свойствам таким Решил его сделать везиром своим. «Однако спешить в этом деле не след: Ведь будут смеяться и двор и совет. Сначала его испытаю, а там По мере заслуг возведу по чинам. Кто, опыт отринув, делами вершит — В грядущем немало увидит обид. Когда приговор был обдуман и здрав, Судье правоведов не стыдно: он — прав. Заранее думай: спустивши стрелу, Не сможешь потом воспрепятствовать злу. Ведь даже Иосиф при славе своей[34] Не сразу высоких достиг степеней. Не малое время потребно, чтоб в суть Души человека ты мог заглянуть», — Так думал властитель. И вот, испытав, Одобрил он ум незнакомца и нрав. Нашел, что он честен и ясен умом И с жизнью людей превосходно знаком. И, чтя в нем величие умственных сил, Над главным министром его посадил. И новый вельможа, прияв сей почет, Сумел успокоить правленьем народ. Страну подчинил он указам своим, Ни в ком недовольства не вызвавши сим. Напрасно б хотел зложелатель-смутьян Найти в сем везире единый изъян. Пускай муравьи напрягаясь грызут, Вотще: никогда не прокусят сосуд! Имел при себе властелин двух рабов, Двух солнцеподобных прелестных юнцов, Подобных двум хуриям или пери. Их двое, и главных светил ведь не три. Так схожи, что будто лицо здесь одно, Другое же в зеркале отражено. На эти прелестные два существа Имели влиянье скитальца слова. Когда ж они цену узнали уму И нраву его, привязались к нему; Тогда возымел к ним наклонность и он, Но чужд был сей склонности грязный уклон. Спокойствие в душу себе проливал Он, глядя на чистый и нежный овал. Коль хочешь, чтоб сан твой остался высок, Земным обольщеньям останься далек. Невинную, чистую чувствуя страсть, Все ж бойся, сановник иль мудрый, упасть. Проведал об этом смещенный министр, К царю побежал он, злораден и быстр. «Вот этот, не знаю, ну, как его там? Почтенья не ведает к нашим местам. Бродяги всегда беззастенчивы, их, Ну, можно ль когда променять на своих? Сей плотоугодник, к измене клонясь, Имеет с рабами преступную связь. Ужели возможно, чтоб этот наглец Распутством грязнил падишаха дворец? Раскрыть непотребство священная цель, Я царскую милость забуду ужель? С одним подозреньем являться не след, Но разве у нас доказательства нет? Один из придворных увидел, как он В объятьях сжимает юнца, распален. Я правду сказал, а теперь падишах Пускай сам уверится в этих словах». Так он — да не видит он светлого дня — Царю говорил, чужеземца черня. Малейшей причиной искусный злодей Пожар разжигает в сердцах у людей, Достаточно искры — огонь запылал И старое древо мгновенно пожрал! В ужасную ярость властитель пришел И гневом вскипел через край, как котел. Казнить чужеземца сначала решил, Однако, подумав, умерил он пыл. Жестоко любимцев былых убивать, Вслед ласке гонение вдруг воздвигать, Тому, кто обласкан тобою, мечом Зачем угрожаешь? Не будь палачом! Ужели ласкал, возвышал для того, Чтоб смерти предать беззаконно его? Его ты не сразу к себе приближал, Его предварительно ты испытал, И ныне, пока не проверишь, не след Считать справедливым враждебный навет. Так вспомнил властитель слова мудрецов, И тайну, свою облачил он в покров. Ах, сердце — темница для тайны людей, Раз выпустил — вновь не наложишь цепей! Стал царь наблюдать за везиром своим И вот что однажды заметил за ним: Взглянул на раба чужеземный мудрец, В ответ усмехнулся легонько юнец. Ведь двое, коль вместе сердца их, стучат, Беседу ведут, пусть уста их молчат. У любящих взор — как водянкой больной, Его не насытишь и Тигра водой. Царя подозренья окрепли, и он Везира к себе подозвал, разъярен. Однако свой гнев поборов и к тому ж Всю мудрость призвав, начал тихо: «О муж, Тебя я разумным всегда почитал, Я тайны правленья тебе доверял. В тебе признавал я возвышенный нрав, Не знал я, что низок твой нрав и лукав. Увы, я ошибся, и должность сия Тебе не подходит: вина не твоя. Врага я взлелеял и дал вместе с тем Возможность ему осквернять мой харем». Услышав такое сужденье царя, Мудрец отвечал ему, смело смотря: «Не знаю вины за собой, падишах, Коль нету вины, мне неведом и страх. Не знаю, каков на меня был навет И в помыслах я не лукавил, о нет!» На это ответ у царя был таков: «На очную ставку противник готов, Мой бывший везир обвиняет, а ты Давай подтвержденье своей правоты». Мудрец усмехнулся и палец к устам Прижал: «Ах, его не дивлюсь я словам! Завистник ужель не желает мне зла С тех пор, как его пошатнулись дела? В тот час, как я был возвеличен над ним, Его стал считать я злодеем моим. Ведь если кого упредим мы на шаг, У нас за спиною становится враг. Причину паденья в почете моем Он видит и будет всегда мне врагом. Коль выслушать хочет меня властелин, Здесь очень уместен рассказик один. Не помню в какой-то я книге читал, Что некто во сне сатану увидал. Как ангел, прекрасен, как кедр, он велик, Как солнце лучами, сиял его лик. Сказал человек: „О, ужель это ты? У ангелов нет ведь такой красоты! Как месяц, красив ты. Зачем же тогда Являешься в мир безобразным всегда? Тебя представляют внушающим страх, И в банях народных и в царских дворцах Малюют тебя безобразным, кривым, С лицом почерневшим, противным и злым". Низвергнутый дух, услыхав сей вопрос, С рыданьем и стоном в ответ произнес: „Счастливец! Ты прав: я совсем не таков, Но кисть ведь — о горе — в руках у врагов! Из рая изверг их, и вот на меня Взирают с тех пор, ненавидя, кляня“. Вот так же и я: неизменен мой нрав, Но враг мой клевещет, бесчестно-лукав. Коль место министрово занял ты, вспять, Как можно скорее, ты должен бежать. Но гнев твой, о царь, не страшусь я навлечь. Я прав, и веду я бестрепетно речь. Боится надсмотрщика жулик и лжец, Чьи гири неверны — мошенник-купец. В делах и речах я был честен, ей-ей! Боюсь ли противника лживых речей?» Ответом таким падишах был смущен, Рукою взмахнул негодующе он. «Что нужды? Лукав ты и ловок в речах, Но этим ли мнишь оправдаться в грехах? Врага твоего не доверив речам, Я в тех обвиненьях уверился сам. Со свитой вошел я и видел, как ты Двух юных рабов созерцаешь черты». Мудрец улыбнулся и мудро сказал: «То правда, зачем бы я правду скрывал? Держава твоя да пребудет сильна! Но есть в этом деле одна сторона: О царь, бедняка не суди сгоряча, Коль жадно глядит он на двор богача. Беспечно, игриво резвился я встарь, Но младость моя не вернется, о царь. Как нищий, гляжу я теперь на юнцов, Богатых всей прелестью юных годов. Я в юности щеки, как розы, имел, Я, точно хрусталь, был блестящ, белотел. Так нежен, что тяжки одежды не вмочь Мне были, а волосы были, как ночь. Теперь же мне саван подходит, власам Куделью лишь быть, веретенце — я сам. Ах, были и зубы крепки и сильны, Как две из серебряных камней стены! Теперь же, во время беседы взгляни — Повыпали все, как у старца, они. Ну, как не глядеть мне на юных теперь? Протекшую жизнь вспоминаю, поверь! Ведь мне сожаленья остались одни, А скоро и жизни окончатся дни!» Так перлы-слова он закончил низать, И, глядя на всю окружавшую знать, Спросил падишах: «Можно ль лучше сказать?!» Затем он с восторгом воскликнул: «Мудрей Словес никогда не слыхал я, ей-ей! Чья речь так красива, без всяких препон Пускай на красивых любуется он. О, если бы я не сдержался тогда, Тебя бы сразила лихая вражда!» Кто вспыльчиво руку заносит с мечом, Грызет тот, раскаявшись, руки потом. Смотри не внимай вероломным словам, Послушаешь, горько раскаешься сам! И царь мудреца наградил и вознес, Врага же его наказал за донос. Всегда мудреца уважая совет, Властитель сей много процарствовал лет. Любовью народною был окружен, И памяти доброй сподобился он, Дополнив собою властителей ряд, Которые верой и правдой царят. Но в нашем столетьи какой властелин С ним может сравниться? Бу-Бекр лишь один! Он — райское древо, которого сень , Далеко отбросила славную тень!>. Просил у счастливой звезды я: «Пускай Меня осенит тенью крыльев Хомай». Но разум сказал: «От Хомая не жди . Ты счастья, под сень Абу-Бекра иди». Создатель, как милостив был Ты в тот день, Когда над народом простер эту сень! Молитве раба, о Создатель, внемли И годы царя Абу-Бекра продли!Пред казнью в тюрьму надлежит заключать: Отсеченных глав не приклеишь опять. Для мощных, великих и мудрых царей Неведомы гневные вспышки людей. Отнюдь не достоин гневливый гордец Носить на главе властелина венец. И стойкости меньше потребно в боях, Чем в том, чтоб сдержаться сумел ты всердцах. Разумный властитель всегда терпелив, И гнева умеет сдержать он прилив. Ведь гнев, точно войско, свирепой ордой Сметает и веру и правду долой. И ангелам всех добродетелей ведь Того злого демона не одолеть.
Продолжение советов царям
Коль воду закон запрещает — не пей, Фетвою потребуют крови — пролей! Ведь так? Посему, коль прикажет фетва, Преступная пусть упадет голова. Но если преступник оставил семью, Излей на нее благосклонность свою. Пусть кару претерпит злокозненный муж, Страданья жены и младенца к чему ж? Пусть войском богат ты, властитель, и смел, Но все ж не вторгайся во вражий предел. Ведь в крепость враждебный властитель уйдет, Беда на невинных и бедных падет. Сидящих в тюрьме да не минет твой глаз, Бывает меж ними невинный подчас. Случится ль торговцу в стране умереть, Именьем его не стремись завладеть. Сберется семейство, над мертвым отцом Поплачут и, знаешь, что скажут потом: «Скончался бедняга в пределе чужом, Насильник же царь овладел всем добром». Страшись, падишах, обездоленных ты, О, бойся стенаний и слез сироты! Стенанья сирот заставляли упасть Нередко царей долголетнюю власть. Владыки, чья слава во веки веков, Не льстились отнюдь на добро бедняков. Будь ты хоть всемирным владыкой, но лишь Ограбишь торговца, ты — жалкий дервиш. Ведь муж благородный скорее умрет, Чем отнятым хлебом наполнит живот.Рассказ
Один падишах, хоть и славно царил, Из ткани подкладочной платье носил. «Счастливый владыка,—сказали ему,— Парчевое платье не шьешь почему?» Ответил: «Довольно прикрыт я и так, А платья другие — роскошества знак. Ужель для того собираю налог, Чтоб, сидя на троне, роскошничать мог? Надевши, как жены, роскошный убор, Как дам я врагу надлежащий отпор? Быть может, и прихоть во мне не одна, Да разве затем существует казна? Казна не затем, чтоб мой двор мог сиять, Казна для того, чтоб крепка была рать. Коль воины будут бедны, голодны, Не станут блюсти безопасность страны. Налог, десятину затем ли берем, Чтоб враг завладел земледельца ослом? Царь подати тащит, противник — осла, Ну, как процветут государства дела?» Бесчестно тех грабить, кто смирен и прост, Так тащит зерно у мурашика дрозд. Твой подданный — древо, взлелей и вспои — Плоды соберешь ты в сушильни свои. Из почвы его вырывать не моги, Ведь только глупцы для себя, как враги. Кто к подданным не был жесток и суров Тот счастия вкусит прекрасных плодов. И подданный если тобой разорен, Страшись, коль ко Господу взмолится он. О, крови не лей в беспощадной войне, Коль мирным путем воцариться в стране Чужой ты сумеешь! Властитель, ей-ей, Не стоит владычество крови людей!Рассказ
Я слышал, что славный властитель Джемшид[35] Сие изречение врезал в гранит: «Бывало здесь много царей в оны дни, Все скрылись бесследно навеки они. Боролись и мир покоряли войной, Но в гроб ничего не забрали с собой. Ушли. Всяк пожал, что посеял сперва, На свете осталась от них лишь молва. Противника если беспомощна рать, Довольно с него, не стремись добивать. И лучше пусть враг досаждает, грубя, Чем кровь пролитая падет на тебя.Рассказ
Раз Дарий[36] — один из славнейших царей — Охотясь, отбился от свиты своей. Пастух устремился навстречу один. Подумал, увидев его, властелин: «Наверно питает он умысел злой, Да будет пронзен он на месте стрелой». Он в миг изготовил свой лук и хотел Пронзить человека одною из стрел. Пастух завопил, обуял его страх: «Не враг я, в меня не стреляй, падишах! Ведь я из твоих же, о царь, пастухов, Я службу справляю средь этих лугов». Испуганный царь, успокоившись, так С улыбкою пастырю молвил: «Добряк! Помог тебе, видимо, ангел Серош, Ты мог бы погибнуть: мой выстрел хорош». Пастух рассмеялся и молвил царю: «Коль правду скажу я, добро сотворю. Ах, это большой недостаток царей— Не ведать отличья врагов от друзей! Из подданных кто б ни столкнулся с тобой, Ты должен бы знать про него: кто такой. Ты видывал в замке меня, падишах, О пастбищах спрашивал, о табунах. Я ныне с любовью навстречу бегу— Ко мне ты отнесся как будто к врагу. Могу распознать я любого коня Из тысяч других, если спросишь меня. Я тверд и разумен в служебных делах, Будь пастырем паствы народной, о шах!» Совет показался властителю мил, И он пастуха за него наградил. Пошел он и думал: «Запомню навек, Что молвил сегодня мне сей человек».Ах, если мудрей властелина пастух, В том царстве увидишь немало разрух!
Превыше Сатурна коль взнесся твой трон, Властитель, услышишь ли жалобный стон? Так чутко дремли, чтобы жалобы крик Мгновенно в твой слух беспокойный проник. Ведь если обижен кто в царстве твоем, Ты также виновен в насилии том. Кусая прохожих, виновен не пес, А тот человек, у кого он возрос. Владеешь ты словом, Са’ди. Так вперед! Как меч, это слово победу дает. Скажи все, что знаешь — одобрит Господь. Долой лихоимство и грешную плоть! Иль жадничай грубо, но истин не жди, Иль, плоть обуздав, молви правду, Са’ди!
Рассказ
Узнал раз один из Иракских князей[37], Что некий бедняк так стонал у дверей: «С надеждой пред дверью предстанешь и ты, О князь! Потому не гони бедноты! Коль муки не хочешь ты в царствии том, Со скорбным будь ласков и добр с бедняком, — Отринув мольбу и о помощи стон, Нередко владыки теряют свой трон. В дворце ты вкушаешь полдневный покой, А бедных на улице мучает зной. Так знай же: поможет несчастному Бог, Коль прав от царя он добиться не мог».Рассказ о Халифе Омаре II, сыне Абд-эль-Азиза и панегирик ширазскому князю Абу-Бекру[38]
Привел мне один из приятелей раз Про Абд-эль-Азизова сына рассказ: Был камень в кольце у халифа. Любой Оценщик его б затруднился ценой, Так ночью блистал он, как блещет, поверь, Во тьме солнца свет чрез раскрытую дверь. Вдруг голод настал. Полумесяцем стал Подобный луне круглолицых овал. «Как буду я ныне покоен, счастлив?— Сказал о беде извещенный халиф,— Увидев, что в горле у ближнего яд, Ужели спокойно вкушу от услад?» Велел он, расстроенный зрелищем бед, Продать тот несметной цены самоцвет, И выручку всю он растратил в семь дней На бедных, несчастных, голодных людей. Придворные стали его упрекать: «Не сыщешь ты камня такому подстать». На это халиф им ответил, точа Обильные слезы, как будто свеча: «В годину народных несчастий, позор Носить властелину роскошный убор. Пусть будет мой перстень без камня, но пусть Народного сердца не мучает грусть».Блажен кто умеет для счастья людей Пожертвовать счастием жизни своей! Нет, муж благородный веселий своих Не купит ценою несчастья других! Коль крепко властитель на троне заснет, Едва ли задремлет бедняк без забот, Когда ж не смежает он бдительных век, В покое и неге заснет человек. Создателю слава! В покое таком При Са’дове сыне Бу-Бекре живем. Лишь ведает смуту одну Фарсистан[39]: То — луноподобной красавицы стан!
О, что за прелестная звуков игра! Я песню в собранье услышал вчера: «О сладостный, радостный счастия миг — Вчера я к моей луноликой приник. Я, взор полусонный, опущенный вниз Увидев, воскликнул: «О мой кипарис! Ты очи-нарциссы от дремы омой, Как роза, засмейся, как птичка, запой! Проснись же, о смута сердец, ото сна. Дай с губок рубиновых другу вина!» Взглянула сквозь сон и сказала: «Почто ж Ты будишь меня, если смутой зовешь? С тех пор как воссел государь наш на трон, Смятенье навек погрузилося в сон».
Рассказ
В преданьях о прежних царях на земле Читаем, что, как воцарился Тукле,[40] Страною стал править превыше похвал, Обиды никто от него не видал. Он раз мудрецу в разговоре изрек: «Я правил достойно, но близок мой срок, Все царства проходят бесследно, и днесь Я мыслю: бедняк всех счастливее здесь. Чтоб годы последние не потерять, Хочу я, о мудрый, отшельником стать». Услышал мыслитель реченье царя, «Довольно! — воскликнул он, гневом горя, — Путь к Богу не в рясе, не в четках, Тукле, А в том, чтоб народу служить на земле. На царственном троне сиди, как сидишь, Будь нравом смиренен и чист, как дервиш. Будь чистосердечен и искренен будь, Пустые ненужные речи забудь. Ведь Богу потребны дела, не молва, Ведь вера без дела, о царь мой, мертва. К чему власяница, коль клад чистоты Скрываешь под царской одеждою ты?»Рассказ
Один из царей византийских в слезах Так горестно молвил ученому: «Ах, Прижат я врагами, о друг мой, к стене, Лишь крепость да город остались при мне. Я много затратил стараний и сил, Чтоб сильное царство мой сын получил, Но злому врагу моему повезло, И мне причинил он ужасное зло. Ах, что предприму, что придумаю я? От скорби душа вся изныла моя!» Ответил мудрец: «Ну, о чем тут тужить? Тебе ведь немного осталося жить. Довольно того, что осталося тут, Уйдешь, и другие на смену придут. Умен ли он, глуп, но о сына судьбе Не плачь ты, поплачет он сам о себе. Ах, все мировластье не стоит труда! Зачем покорять, чтоб уйти навсегда? Из дредних правителей памятны всем Цари Феридун, иль-Заххак, или Джем[41]. Им всем наступил неизбежный конец, Ведь царствует вечно один лишь Творец! Богатства, что каждый из них оставлял, Кто-либо наследовал и расточал, Но тех, кто благие деянья творит, Господь милосердьем своим осенит. В сем свете одно лишь бессмертие есть: То памяти доброй загробная весть. О царь, милосердия злаки взлелей, И будешь доволен ты жатвой своей. Благое твори, ибо близится суд, И все по, заслугам своим понесут. Стезею спасенья кто шествовал прям, Тот Божьего трона придет к ступеням, Но тот кто благую надеется мзду Снискать за измену, грехи и вражду, Тот руки в отчаяньи будет кусать, Что миг упустил обрести благодать».О ты, кто не сеял пшеницу иль рожь, На пашне соломинки ты не сберешь!
Рассказ
В степи, где Сирийскому краю конец, В пещеру укрылся от мира мудрец. В сем темном пристанище, подвиг верша, Довольством его наслаждалась душа. Обличием тощ, нравом ангел он был, А имя его Ходадуст-Феофил[42]. Пещеру святой не хотел покидать, И к ней на поклон собиралася знать. В смиренье и в нищенстве каждый мудрец Плотским вожделениям видит конец, Влачит из деревни в деревню он плоть Свою, чтоб ее искушенья бороть. В краю, где спасался сей старец честной, Правителем был угнетатель лихой, Насилья которого претерпевал Безропотно всякий, кто беден и мал. Безжалостен, мрачен, свиреп и хитер Над краем печаль он и скорбь распростер, И часть населенья бежала, о зле Чинимом молву разнося по земле, Другие ж остались, бессильны пред злом, Проклятья твердили и ночью и днем. О горе! В местах, где вселилась беда, Смеющихся уст не видать никогда. Правитель к отшельнику ездил порой, Вниманья ему не дарил муж честной. И вот он воззвал: «О любимец небес! Почто на меня не возводишь очес? Я с дружбой к тебе прихожу, почему ж Враждебно меня ты встречаешь, о муж? Забудем, что я управитель земли, Как нищим, внимание мне удели. О нет, не прошу я меня предпочесть, Как всем, окажи мне такую же честь». Услышал воззванье сие Ходадуст, И гневное слово сорвалося с уст: «Внемли же, о князь! Ты — насильник людей? Любить не могу я подобных князей. Я Господу друг, ты же враг Его злой, И в дружестве быть не могу я с тобой. Тебя ведь врагом почитает Господь, И мне ли враждебность к тебе побороть? И если ты дружбу ко мне возымел, Не делай враждебных Создателю дел. И если ты руку целуешь мою, Ступай и люби всех, кого я люблю. Коль другу Господнего друга ты враг, Друг Божий тебя не полюбит никак».Едва ли насильник спокойно заснет. Коль подданных будит насилия гнет!
О сочувствии беднякам
Не надо насилья над теми, кто сир, О царь! Постоянства не ведает мир. На слабого ты не накладывай гнет, Ведь может случиться, что в силу войдет. Пощады не жди, если тот победит, Кто сам от тебя натерпелся обид. Врага уважай, хоть и мал он на взгляд: Есть горы — из мелких камней состоят. Коль вдруг муравьи сообща нападут, Осилят и льва, как бы ни был он лют. Один волосок шелковинки слабей, Сплетенный с другими, он крепче цепей. Спокойствие близких дороже казны, Она ни к чему, были б души вольны. Правитель, имей уваженье к правам, Смотри, как бы не был бесправен ты сам. Терпи, угнетенный! Наступит черед: Усилишься ты, а тиран твой падет. Духовно воздействуй на буйство людей, Духовные силы телесных сильней. Засмейтесь, уста угнетенных, ведь власть Тирана должна же когда-нибудь пасть. Встаем, барабанный заслышавши бой, Но как безразличен нам сторож ночной! В свои погружен караванщик дела, Его не заботят страданья осла. Страданья тебе неизвестны, пускай, Все ж, видя несчастных, в беде помогай. Коль ты не послушаешь — жаль, но сейчас Хочу привести я об этом рассказ.Голод в Дамаске
Раз голод ужасный упал на Дамаск[43], Забыли любовники радости ласк, Скупилося небо, иссохла земля, Забыли о влаге леса и поля; Вскипели от зноя источники вод, И влага была лишь в очах у сирот, А если б дымок заприметили вы— То были стенанья и вздохи вдовы; Деревья без листьев, без свежих ветвей, И немощны руки былых силачей; Сады саранча пожирала, и вот— Пожрал саранчу с голодухи народ. Тогда-то приятель меня посетил; Весь — кожа да кости, болезнен и хил, А прежде был знатен, богат и силен. Такой переменой я был удивлен, Спросил я его: «О мой искренний друг, Что сталось с тобой неожиданно, вдруг?» На это он гневно в ответ произнес: «Ужели не знаешь? К чему сей вопрос? Ужели не видишь мучений людских? Ведь горе достигло пределов своих. Нам более влаги не шлют небеса, До них не доходят мольбы голоса!» «Тебе что за дело? — сказал я в ответ. — Яд страшен, где противоядия нет, Ведь мрут неимущие, ты же богат; Ведь утку разливы воды не страшат». Мой друг, с сожаленьем взглянув (на глупца Так смотрят обычно глаза мудреца), Ответил: «Ужель не протянешь руки, Увидевши друга в стремнинах реки? Не голоден сам я, но видя, как мрут От голода люди, стал бледен и худ; Разумный, равно как от язвы своей, Страдает, увидевши язвы людей, — Я сам, славу богу, и цел и здоров, Но весь трепещу я от язв земляков; Здоровый, сидящий бок-о-бок с больным, Смущен и расстроен соседством таким. Я вижу голодных кругом, и кусок Становится в горле моем поперек; Тому, чьи друзья в заточеньи сидят, Едва ли приятным покажется сад».Рассказ
Народная месть, пробудившись, дотла В Багдаде полгорода ночью сожгла[44]. Один из торговцев был рад, что пожар Не тронул ни лавку его, ни амбар. Веселье его заприметил мудрец И молвил: «Собой лишь ты занят, глупец! Остался б лишь дом твой, и ты будешь рад, Пожрет если пламя весь город Багдад».Когда голодающих слышится плач, Едой наслаждаться не может богач. У матери ежели сын занемог, Сама изнывает она от тревог. Не может покоя в стоянке найти, Кто бросил товарищей в трудном пути. Пусть чувствует в сердце властитель укол, Коль в глине завяз дровосека осел. Ах, если небес осенит благодать, Довольно с тебя и словца, чтоб понять. Внемли, ведь глаголю тебе я не ложь; Коль тернии сеешь, жасмин не сберешь!
Меж теми, кем встарь управлялся Иран, Встречался нередко властитель-тиран. И что ж? Где величье и слава? Их нет! Насилье и злая управа? Их нет! И сколько б ни злобствовал деспот, смотри Ведь мир-то остался, но где ж те цари? Блажен справедливый властитель. Найдет Он в день воскресенья у Бога почет. Господь посылает подобных царей Как мзду за смиренье и правду людей, Но коль покарать Он захочет народ, Ему властелина-тирана дает. Такой властелин не Господень ли кнут? Все мудрые люди его да бегут! Воздай благодарность, от Бога — твой трон, Не то пошатнется, наверное, он. Но если достойно восхвалишь Творца, Достигнешь ты благ, коим нету конца. Тех благ не получишь и будешь убог, Коль царствовать верой и правдой не мог. Запретен властителю сладостный сон, Коль слабый от сильного не защищен. Ведь царь — это пастырь, а паства — народ, Пусть стадо не терпит насилия гнет, Ведь если обидит он паству, ей-ей, Не пастырь, а волк он для паствы своей. О нет, не избегнет дурного конца Насилья творящий носитель венца! Он рано ли поздно ль умрет, и о нем, Конечно, никто не вспомянет добром. Будь добр, если ты не желаешь, чтоб свет Хулу возносил за тобою вослед.
Рассказ
Я слышал, что некогда в дальнем краю Два сына с отцом составляли семью. Слонам равны силою два храбреца, Умны и учены два славных бойца. И видя, что горд и воинствен их нрав, Что ищут они молодецких забав, Страну поделил их отец пополам И равные доли вручил сыновьям, Боясь,чтоб не стали они меж собой Наследство делить беспощадной войной. Немного он прожил, устроив семью, И Господу отдал он душу свою. Судьба порвала упования нить < И руки связала: им дел не вершить. На два государства распалась страна. У каждого брата обильна казна И войска без счета. И каждый свою Избрал, по своим усмотреньям, стезю; Один — справедливость, чтоб славу снискать Насилье — другой, чтоб богатства стяжать. Был старший из них милосерд. Серебро И злато он тратил, чтоб делать добро. Он строил больницы, приюты, войскам Награды давал, помогал беднякам. Казна опустела, но войско взросло, И все населенье хвалу вознесло. Как гром, разносился веселия глас. Вот также Бу-Бекр осчастливил Шираз! О ты, именитый и доблестный шах, Имей упования древо в плодах! Но вот продолженье рассказа: во всем Был старший из братьев примерным царем. Всех подданных он обласкал, и они Его восхваляли и ночи и дни. Пройти той страной не боялся б Корей,— В том царстве не стало голодных людей, Там сердце не знало не то что шипов, Но даже и легких касаний цветов. И, царствуя так, всех соседних царей Превысил он славой и мощью своей. Теперь же послушай о брате другом! Хоть войском он многим владел и добром, Стремясь возвеличить свой царственный сан Взимать стал двойные поборы с крестьян. Себе забирал он именья купцов, Безжалостно мучил сердца бедняков. Другим не давал, но не тратил и сам. Безумье — оценка подобным делам. В то время как злато копил, без пайка Оставшись, его разбегались войска. Торговцы, прослышав об этих делах, О том, как насилья творит падишах, Прервали торговые сделки, поля Запашек не знали, беднела земля. И счастье царю изменило совсем, Противник же в силу вошел между тем. Прогневалось небо, и кони врага Топтали повсюду поля и луга. Не стало налогов: крестьянин бежал... Не знал царь подмоги: ведь сам изменял! И верить не мог он в судьбы поворот: Ведь вслед ему каждый проклятие шлет! На гибель его небеса обрекли, Затем что не слушал мудрейших земли. Он умер, а брату советник сказал: «Воспользуйся тем, что безумец собрал. Ошибочно мыслил он славу найти В насилье, ведь к ней только в правде пути». О деспоте память проклятьем была, А доброму брату привет и хвала.Притча
Я слышал, что некто подпиливал ствол, Усевшись на ветке. Садовник пришел, Взглянул и подумал: «Ну, что за беда! Себе, а не мне он желает вреда».Послушай, о царь, ведь уместен совет, Бессильных насильями мучить не след. Бедняк, что беспомощным кажется тут, Потянет тебя на безжалостный суд, И если в грядущий ты веруешь мир, Не мучай того, кто несчастен и сир. Придет окончанье земному житью, И нищий ухватит одежду твою. Не мучай несчастных! Восстанут, сплотясь, Быть может, с тобой совладают, о князь! Позор, если гордый властитель упал. Усильями тех, кто бессилен и мал. Владыки, чье сердце и разум ясны, Премудро вершат управленьем страны. Ты с правой стези, падишах, не сходи, Внемли словесам, что глаголет Са’ди.
Нет выше, чем царская степень — ты мнишь, Но, право, спокойней владыки дервиш. Не истинно ль это реченье: в пути Легко нагруженному легче итти? Заботится только о хлебе, кто сир, Тогда как владыку заботит весь мир. Бедняк, что добыл пропитанье и сыт, Спокойней любого властителя спит. Проходит веселье, проходит беда, Ведь смерть не щадит никого, никогда. Ни тех, кто вступает на царственный трон, Ни тех, кто под бременем тяжким склонен. Пусть взнесся царя до Сатурна престол, Пусть нищий, стеная, в темницу вошел — Их смерть уравняет обоих. Смотри: Пред смертью равны бедняки и цари. Богатство и власть только тягость. Итак, Кто ж истинный царь! Это — Божий бедняк.
Отшельник и череп
Близ Тигра — великой реки — как-то раз Был слышен отшельнику черепа глас: «Я прежде великой державой владел, Короною царской со славой владел; Я с помощью неба победной войной Сумел завладеть всей Иракской страной; Я многих желал бы еще областей, Да стал я добычей могильных червей».Беспечности вату из уха долой, И помни реченное мертвой главой!
О добрых и злых делах и их последствиях
Благое творящим бояться ли зла? Тот блага не жди, чьи зловредны дела. Злонравец ведь злобой всегда окружен, Себя убивает он, как скорпион, И, ежели сердце твое не лежит К добру, то не сердце в тебе, а гранит! О нет, мой читатель; я плохо сказал: Ведь пользу приносят гранит и металл, Меж тем человек нелюбимый и злой Еще бесполезней, чем камень простой; Не всякий из нас благородней, чем зверь, Злодей хуже всякого зверя, поверь. Ведь лишь добронравные лучше зверей, Как зверь, на людей нападает злодей, И тот, кто возлюбит лишь стол да кровать, Не четвероногим ли будет подстать? Коль всадник собьется с прямого пути, Скорей пешеходу удастся прийти; Добро — это верное, други, зерно, И сеющий благо наполнит гумно. Друзья! Я во веки веков не видал, Чтоб сеющий злое добро пожинал,Насильник, упавший в колодезь
Был некогда злобный насильник сатрап, От страха пред ним даже лев бы ослаб. Однажды насильник в колодезь упал, В опасности страшной себя увидал, В мученьях вся ночь для него протекла. Метнул в него камнем прохожий со зла И молвил: «Помог ли кому ты хоть раз, Чего же о помощи молишь ты нас? Всю жизнь что ты сеял? Одно только зло. Взгляни же теперь, о тиран, что взросло. Бальзама на раны твои не прольют: Стонал от тебя слишком много весь люд. Ты ямы для всех постоянно копал, И вот наконец сам ты в яму попал».Но ямы копает не только злодей, А также и добрый, порой, для людей. Но добрый затем, чтоб людей напоить, Злодей же затем, чтобы ближних губить. Награды себе пусть не ищет злодей,— Не даст тамариск виноградных кистей. По осени ежели сеешь ячмень, Пшеницы не снимешь ты в жатвенный день. Закум[45] — древо ада — взрастив, никогда С него для еды не сорвешь ты плода. Пословица правду гласит, а не ложь: Лишь то, что посеешь, на жатве сберешь!
Рассказ
Хаджадж, сын Юсефа[46], был мстительный князь, Но некий возвышенный муж не чинясь Излил перед ним благородный свой гнев. Хаджадж озадаченный, злобой вскипев, Взглянул на судью — выразительный взгляд! — Пускай, дескать, дерзкого тут же казнят. Злодею одно остается, когда Он горькую правду услышит,—вражда. И вот засмеялся наш доблестный муж, Смеялся и горестно плакал к тому ж. Сему удивился властитель-палач, Спросил он: «Что значат и смех твой и плач?» И муж отвечал: «Как не плакать, о князь: С детьми дорогими теряю я связь. И как не смеяться, кончина моя — Почетна, погибну как мученик я». «О царь, — произнес тут один из вельмож, — Так строго карать старика для чего ж? Своим домочадцам он щит и оплот, Ведь твой приговор и семейство убьет. Прощение, милость, вниманье яви, К детишкам его состраданье яви. И если жесток ты к семейству сему, Ужели семейству ты враг своему? Жестоким клеймом не клейми ты сердца, Коль доброго хочешь для жизни конца». Я слышал, Хаджадж увещаньям не внял: Правдивого мужа казнить приказал. А ночью вельможе привиделся сон, Что с мужем казненным беседовал он. Казненный сказал: «Вмиг казнили меня, Злодею ж казниться до судного дня».Тиран, трепещи! Ведь сие не к добру, Коль слышны стенания жертв поутру. Ужель не трепещешь, ночною порой Услышав страдальца призыв: «Боже мой»! От беса не ждите добра никогда, От семени злого — благого плода.
Притча
Раз сыну советовал некий отец (Запомни: в советнике виден мудрец): «Бессильных, о сын, не тесни, ибо срам Ты можешь принять от сильнейшего сам».Ах, волк неразумный не в силах понять, Что может пантера его растерзать.
Притча
Безжалостно в детстве я тех обижал, Кто был предо мною бессилен и мал, Но дал тумака мне однажды силач, И стал мне понятен обиженных плач.Беспечно не спи, государь, ибо сон Спокойный народным вождям запрещен. Страдающих подданных ты успокой И сам трепещи, государь, пред судьбой. Совет мой подобен лекарству, о друг,— Пусть горек, но он исцеляет недуг.
Рассказ
Недуг одного из царей истомил: Он, как веретенце, стал тонок и хил. Сей хворью, подкожным червем, истощен Ничтожным и бедным завидовал он (Хоть в шахматах царь иль король всех важней, В опасности он даже пешки слабей). И вот пред царем царедворец один Предстал: «Многи лета тебе, властелин! Живет в этом граде один богомол, Своим благочестьем он всех превзошел. За помощью идут к нему на поклон, И всем помогает советами он. Повсюду известен он жизнью святой, Он богу угоден и ясен душой. Его призови, пусть молитву прочтет, И милость Господня к тебе снизойдет». Услышавши это, властитель гонца Послал,чтоб привел он к нему мудреца. Явился подвижник. Почтенную плоть Едва прикрывала худая милоть. «Молитву прочти, чтоб меня исцелить, Я стал, как иголка, а червь, точно нить, Опутал меня»,—так взмолился больной. На это разгневанно старец святой Изрек: «К справедливому милостив Бог, Будь милостив сам, и не станет тревог. Моя бесполезна мольба, если тьмы Обиженных страждут в застенках тюрьмы. К народу ты был беспощаден и строг И хочешь теперь, чтоб помиловал Бог. Сначала бы нужно грехи замолить, А там и меня о молитвах просить. Молитвы мои не помогут, о нет! Ведь тысячи жалоб за ними вослед!» Услышав от старца такие слова, Пришел в раздраженье властитель сперва, Но тотчас смирил взбушевавшийся нрав: «К чему раздраженье? Ведь старец-то прав». Подумавши это, он отдал приказ Всех узников выпустить в этот же час. Тому повеленью подвижник был рад И к Богу взмолился, простершись двукрат. «О Боже, создавший небесную высь, С врагом воевал ты, теперь примирись!» Как только молитву святой прочитал, Царь голову поднял и на ноги встал, Ликуя, что больше не мучает червь, Как птица, тенет разорвавшая вервь. И старцу велел, не жалея добра, Насыпать и жемчуга и серебра. Но истина божья превыше сует, — И шаху преподал подвижник совет: «С веленьями Господа больше не спорь, Не то одолеет попрежнему хворь. Споткнувшись однажды, внимательно впредь Смотри, как бы снова тебе не слететь».Запомни, читатель,что молвлю сейчас: Упавший встает, но не всякий ведь раз.
О, друг, этот мир преходящ. Человек Найти постоянства не может вовек. Ведь троном чудесным владел Соломон[47], На крыльях ветров возносился сей трон, Но все же исчез он навеки во мгле. Блажен, кто был честен и мудр на земле. Тот в жизненном поле мяч счастья увел[48], Кто к людям был ласков, забыв произвол. Лишь то нам полезно, лишь в том благодать, Что можем с собой в путь последний забрать.
Рассказ
Один из египетских славных владык Пред воинством смерти покорно поник. Стал желтым когда-то румяный овал, Закатному солнцу подобен он стал. На смерть обрекли молодого царя, В науке отчаявшись, все лекаря. Все царства проходят! Не знает конца Лишь только предвечное царство Творца. Пред смертию голосом слышным едва Шептал сей властитель такие слова: «С неслыханной славой я правил страной. Что пользы? Кончина моя предо мной! Все дальше страны относил я межу И вот, как чужой, от всего ухожу».Лишь добрый и щедрый угоден судьбе: Добро он сбирает на благо себе. Лишь вечных старайся сподобиться благ, Ведь в землю, как нищий, отыдешь ты наг. На смертном одре человек, погляди, То руки протянет, то жмет их к груди, Пред ужасом смерти язык его нем, Движеньями этими кажет он всем: «Ты щедрости руку вперед простирай, Насилья и жадности длань сокращай». К добру устремляйся, пока ты здоров, Ведь связана саваном длань мертвецов. Сиять будет солнце и впредь, но, увы, Уже не поднимешь из гроба главы!
Крепость Кизил-Арсалана
Кизил-Арсалан укрепленье имел, Его защищавшее крепко предел. Извилистый путь, достигавший тех мест, Подобен кудрям перевитым невест. Средь зелени гор укреплений кольцо, Как будто на блюде зеленом яйцо. Из дальней дороги один пешеход. Пришел к Арсалану в сей крепкий оплот. Тот муж досточтимый был мудр и учен, По свету скитался достаточно он, Был опытен, сведущ во всяких делах, Блистал красотою и смыслом в речах. Сказал ему царь: «Ты скитался везде, Но видел ли крепость подобную где?» Мудрец усмехнулся: «Красив этот град, Но может ли быть неприступным? Навряд! О царь, до тебя им другие цари Владели. Но где же они? Посмотри. И после тебя этот гордый оплот К другому властителю, знай, перейдет. Не надо итти за примерами встарь, Лишь вспомни, что сталось с отцом, государь. В такой закоулок он загнан судьбой, Где он не имеет полушки одной. Ни в чем не нуждается он и ни в ком, Лишь в милости, посланной вышним Творцом». Сменяются люди один за другим, Сей мир мудрецом ни во что не ценим.Рассказ
Когда упокоился Алп-Арсалан[49] И сын унаследовал царственный сан И мертвого шаха снесли в мавзолей, — Не вечны, не вечны в юдоли мы сей! — Увидел мудрец юродивый один, Как гордо гарцует властителя сын, И молвил: «Поистине, чуден сей свет! Отец ускакал, сын же скачет вослед».Таков ведь закон этой жизни земной, Неверной, мгновенной и бренной и злой: Лишь только для старца приходит конец, На смену из люльки выходит юнец. Я мир приравняю к бродячим певцам, Что вечно блуждают по новым местам. Таким чужаком обольщаться не след, Неверной прельщаться не надо, о нет! Твори же добро! Ведь на будущий год К другому владенье твое перейдет.
Рассказ
Мудрец, за Кавада молясь, у Творца[50] Просил, чтобы не было царству конца. Вельможа, подслушав, придрался к словам: «Мудрец ты, а молвишь пустое, о срам! Начав с баснословных Джемшидовых дней, Кого же ты знаешь из прежних царей, Чье б царство до сих продолжалося пор? Не стыдно ль тебе говорить этот вздор. Нет вечности здесь. А коль знаешь, к чему ж Пустые слова произносишь, о муж?» Мудрец отвечал: «О, конечно, ты прав, Ученый в суждениях должен быть здрав, Просил я не вечности, но чтобы Бог Царю в начинаниях добрых помог. Коль жизнь в благочестье он будет вести, Коль будет итти по прямому пути, Простясь с этим царством, он в царстве Творца Обрящет блаженную жизнь без конца. Такую-то вечность в молитве своей Считал я возможной, о друг, для царей».Владыке благому пред смертию страх Неведом: у Господа он — падишах. Кто войском владеет и многой казной, И властью над миром, и славой земной, Коль верой и правдою царствовал он, Бессмертьем и славою будет почтен, Но если насилье творит — помяни: Борьбой омрачает он краткие дни! Смотри: фараоны, наделав обид, Чего удостоились? Лишь пирамид!
Рассказ о царе Гура[51]
Один из Гуридов — жестокий тиран — Скотину у всех отнимал поселян; Без корма, под грузом чрезмерных вьюков Немало погибло несчастных ослов. — Коль низкого нравом судьба вознесет, Жестокий на всех налагает он гнет. Богач, коль высок его кров, не стыдясь, Сметает на кровли соседские грязь. — И вот на охоту, со свитой своей, Поехал однажды властитель-злодей; Погнался за дичью стремглав властелин, Отбился от свиты, остался один. Глубокая ночь между тем подошла, Близ бедного царь очутился села. Старик-селянин проживал в том селе, Один из мудрейших людей на земле; В тот час он советовал сыну: «С собой Ты в город осла не бери, милый мой. Там царь-лиходей. Ах, желаю я, чтоб Скорее он с трона отправился в гроб. Бесовским веленьям покорствует он, До неба доносится жертв его стон. Покоя в стране ни один человек Не видел и впредь не увидит вовек. Ах, разве тогда лишь, когда лиходей Отправится в ад после смерти своей!» Ответствовал сын: «Путь мой долог и крут, Пешком не пойду: непосилен сей труд. Как быть? Ты богаче умом во сто раз, Надеюсь, совет для меня ты припас». Ответил отец: «Вот совет мой, внемли: Возьми-ка ты камень покрепче с земли, Тем камнем изрань, не жалея, осла, Чтоб в ранах ослиная шкура была; Быть может, израненый, горестный вид Осла от захвата верней защитит. Так Хизр[52] преподобный топил корабли, Чтоб в руки пирата попасть не могли. Пират сей один лишь разбойничал год, Но слава дурная о нем не пройдет». С вниманием полным отнесся юнец К совету, который преподал отец, Так сильно он ослика камнем избил, Что тот захромал и почти был без сил. Сказал тут отец: «Ну, довольно, и верь: В дорогу ты можешь пуститься теперь». Во след каравана, ругаясь, как мог, Отправился парень со всех своих ног; Отец же, оставшись, поник головой, И к Богу взмолился: «О Господи мой! Ты ради святых, предстоящих Тебе, Подвергни злодея злосчастной судьбе. Ах, видя, что гибели нету врагу, Ужели скончаться спокойно смогу! Ведь женщина лучше подобных мужей И чище собака, чем этот злодей. Вредит мужеложец себе самому, Злодей же опасен народу всему». Поблизости был между тем властелин, Послушал он все, что сказал селянин, Смолчал, привязал потихоньку коня И лег, на попону главу преклоня, Но мыслей смятенья не мог превозмочь, Не спал, пересчитывал звезды всю ночь. Забрезжило утро. При свете дневном Забыл падишах о смятеньи ночном. А царская, свита по разным местам Искала царя между тем по следам. И вот, наступила лишь только заря, На площади сельской узрели царя; Навстречу к нему устремились пешком — Земля точно море в волненьи людском, — Забегали слуги, на стол чтоб подать, И важно в кружок разместилася знать. Один из друзей постоянных царя Тогда обратился к нему, говоря: «Как здесь принимали тебя, падишах? А мы так всю ночь провели на конях». Но царь не хотел в многолюдстве таком Сказать о своем злоключенье ночном; Он к уху вельможи приблизил уста И молвил: «Проклятые эти места: Никто мне не дал здесь пичужки крыла, Зато я подвергся ляганью осла». А пир продолжался, и царь, захмелев, Всю ночь свою вспомнил, и взял его гнев. Велел разыскать и связать старика, И вот притащили к нему бедняка. Отточенный меч притеснитель извлек, И понял старик, что пришел его срок, Он понял, что смерти приблизился час, И все, что он думал, сказал не таясь. — Когда над главой заносили кинжал, Не правда ль, калем твой быстрее бежал? — Пред близостью смерти бесстрашен и смел, Тирана осыпал он сотнею стрел, В отчаяньи молвив: «Не все ли равно, Коль смертью лихой умереть суждено? Но знай, не один говорю я, о царь, Что небом ты проклят. Коль хочешь, ударь! О нет, не один проклинаю я гнет— Народ весь тебя за насилья клянет; Волнует жестокость твоя всю страну, Ее весь народ, не один я кляну. Зачем же на мне вымещаешь одном? Сказал я открыто — другие тайком; Виновны равно пред тобой и они; Всех подданных, если сумеешь, казни, И если тебя раздражает упрек, Ты взял бы, да корень упреков извлек; Насилья творя, не надейся, увы, Что будешь предметом хорошей молвы. Тебя раздражают упреки? Так будь Таким, чтоб тебя не могли упрекнуть. Не лучше ль исправиться, о падишах, Чем гнев вымещать на невинных людях? Меня ты на смерть обрекаешь. И что ж? Возможно, в весельи еще поживешь, Но, рано иль поздно, настанет черед, Умрешь, но хула никогда не умрет. Не сможет спокойно заснуть лиходей, Бессонны коль очи страдальцев-людей. Не знаю, воспримешь его или нет, Но вот для тебя превосходный совет: Ужели ты можешь за истину счесть Придворных льстецов приниженную лесть? Что пользы, коль будет хвалить тебя знать, А вдовы за прялкой начнут проклинать?» Так он говорил под грозящим мечом, Душевным величьем прикрыт, как щитом. Сидел властелин средь безмолвных вельмож, Шепнул ему на ухо ангел Серош: «Ты этого старца не думай казнить, Казнишь одного, а с другими как быть?» Властитель подумал немного, потом Махнул в знак прощенья своим рукавом. Он собственноручно его развязал, К груди своей крепко он старца прижал, Затем таровато его наградил, Надежд его древо плодами покрыл. Прошло по вселенной сказанье о том, Что счастье венчает правдивых венцом.Полезней, чем мудрый, умеет порой Урок преподать нам невежда простой. Нередко лишь враг научает добру, Для доброго друга ведь все понутру; Льстецов причислять опасайся к друзьям, Тот истинный друг твой, кто честен и прям. Хоть горько лекарство, в нем польза всегда, От сладостей будет больному беда; Не нужно, чтоб ты перед правдой дрожал; Ах, больше, чем истины, бойся похвал! Итак, если ты не обижен умом, Ты пользу найдешь в поученьи моем.
Халиф Аль-Мамун и невольница[53]
Когда Аль-Мамун на халифский престол Вступил, он рабыню себе приобрел. Лицом — точно солнце, а телом она— Как розовый куст. Весела и умна. Окрашены красным ее ноготки — Не кровью ль погибших от страстной тоски? На солнечном лике, как радуга, бровь Отшельникам даже внушала любовь. Но радости мало Мамун с ней вкусил: От ласк отбивалась из всех она сил. Охваченный гневом, халиф разрубить Решил ее жизни прелестную нить. Сказала рабыня: «Отдай палачу, Но ласк я твоих, о халиф, не хочу!» Спросил Аль-Мамун: «Отвечай, почему Влеченью противишься ты моему?» Сказала рабыня: «Причина проста — Зловонны твои, о властитель, уста. Стрела или сабля мгновенно разят, Меж тем как зловоние — медленный яд». Со скорбию, гнева смиряя прилив, Прослушал признанье рабыни халиф. Всю ночь размышлял, не смыкая очей, А утром совета спросил у врачей. С учеными много имел он бесед, От них получил он целебный совет И принял лекарство. Как розовый куст, Вдруг стало душистым дыхание уст. И обнял рабыню счастливый халиф: «Тот истинный друг мой, кто смел и правдив!»Твой истинный друг, кто укажет в пути Препятствия все и поможет пройти. Тому, кто блуждает, «ты прямо идешь» Сказавши, ты молвишь преступную ложь. Коль наши пороки скрывают от нас, Мы можем за доблести счесть их подчас. Коль горечь больному пропишут врачи, О сладости меда пред ним умолчи. Сказал раз аптекарь: «Захочешь быть здрав — Не бойся настойки ты горькой из трав». Целебное зелье — советы Са’ди, Кто хочет лекарства, к нему приходи, Просеяв чрез несколько мудрости сит, Поэзии медом затем подсластит.
Рассказ
Когда-то я слышал вот этот рассказ: Разгневался царь на философа раз. Должно быть, он правду сказал, не стерпев, И вызвал владыки надменного гнев. И вот повелел он, изгнав из дворца, В узилище ввергнуть сего мудреца. Приятель несчастному молвил тайком: «Не нужно б тебе заикаться о том». — «Исполнил я Бога верховный приказ, Тюрьмы не боюсь: просижу я в ней час». Хоть тайно они разговор сей вели, Но все же шпионы царю донесли. Тиран усмехнулся: «Он спятил с ума, Бессрочная дерзкому будет тюрьма!» Об этом сказал заключенному паж, Ответил: «Пойдешь и царю передашь, Что грозный меня не пугает указ. Вся жизнь человека не краткий ли час? И царская милость ничуть не сладка, И казнь не пугает меня, старика. Ты грозный владыка с войсками, с казной, А я угнетен нищетой и семьей, Но быстро сотрется различья черта, Лишь только под смертные внидем врата. От жизни ничтожных услад уклонись, Тиранство покинь и суда берегись. Сбирали богатства и прежде тебя Насильем и алчностью страны губя. Живи, чтоб тебя поминали добром, Не так, чтоб тебя проклинали потом. Ах, если неправо ты правишь страной, Проклятье потомства навеки с тобой. И как бы высоко властитель ни сел, Смиренный обрящет в могиле удел». Услышав такие слова, в тот же миг Властитель велел ему вырвать язык. Вновь подал мыслитель бестрепетно глас: «И этот меня не пугает указ. Что ж, буду немым. Приговор свой верши, Ведь внемлет Господь и глаголам души. Ни бедность, ни пытка меня не страшат, Коль вечных сподоблюсь по смерти услад».Ах, если умрешь ты угодным судьбе, Стенания плакальщиц — праздник тебе!
Борец и череп
Какой-то кулачный боец обнищал, Ни завтрака он, ни обеда не знал; Себя не сумев прокормить кулаком, Он стал выколачивать деньги горбом; Весь день, посылая проклятья судьбе, . Он землю и глину таскал на себе; Порой разгорался в нем ярости пыл, Порою сидел он тосклив и уныл, Порою, при виде житейских услад, Вода для него превращалася в яд, Порой же рыдал: «Не житье, а беда! Такого никто не знавал никогда! Другим и барашек, и дичь, и пирог, А мне не по средствам хотя бы чеснок. Где ж правда? Ведь рвется проклятие с губ — Я наг, а у кошки хороший тулуп. Ах, если б во время работы моей Да сжалился Бог над недолею сей, И в руки, которые тяжко болят, Какой ни на есть, да попался бы клад, Тогда бы потешил я сердце мое, Забыл бы постылое это житье». Однажды он землю прилежно копал И череп истлевший в земле отыскал, В земле пролежал он немало годов, Распался почти и лишился зубов. Вдруг подали голос пустые уста: «Эй, парень, не так уж плоха нищета! Ты видишь, во что превратился мой рот. Пивал он и горечь, пивал он и мед. Судьба коловратна. Умрешь ты, о друг, Но все не устанет вращаться сей круг». Совет сей усвоил несчастный борец, Печалям своим положил он конец. «Безумец, не сетуй,—сказал он себе,— Себя не губи; будь покорен судьбе." Пускай одному никогда не везло, Другой же до неба возвысил чело, По смерти забудут и тот и другой Свое положение в жизни земной, Забудутся горе и радость, и лишь Останется то, что благого творишь. Не нужны ни троны, ни блеск диадем, Добро лишь укажет дорогу в Эдем».Блаженства от власти не жди, Государь, Пройдет эта власть, как и многие встарь. Сей мир скоротечен, но вечен твой дух. К народному гласу склоняя свой слух, В своих государственных, трудных делах, Об истинной вере ревнуй, падишах. Будь щедр и разбрасывай злато, гляди — Нет злата, так перлы рассеял Са’ди!
Рассказ
Я слышал, что правил одною из стран Жестокий и мрачный властитель-тиран. Он в сумерки день превращал для людей, А ночью они не смыкали очей. Весь день проводили в тревоге они, А ночью молились: «Господь, охрани!» Однажды у старца святого тех дней В слезах попросил кое-кто из людей: «Заступник, ступай к лиходею сему, О страхе пред Богом напомни ему». Ответил: «О Боге пред ним говорить, Не значит ли имя Господне сквернить?»О друг! Пред безбожником будешь ты зря Стараться, о Боге ему говоря. Высоких словес ведь достоин не всяк, Не примется семя, упав в солончак. В словах сих усмотрит невежда вражду, Не стерпит, и, знай, попадешь ты в беду. Но ты, Абу-Бекр, не из этих невежд, И ты не обманешь высоких надежд. Ты Господа любишь — такому царю Я истину смело в лицо говорю. Печатка пред камнем бессильна, печать Лишь может на воске она оставлять. И если тиран на меня озлоблен, Не диво! Я — сторож, а вор — это он. Но ты — тот же бдительный страж, о Зенги[54], Храни тебя Бог и тебе помоги! Однако за это хвалить без конца Не буду тебя, но прославлю Творца За то, что тебя он приблизил к Себе, Не бросил тебя, предоставив судьбе. Стараются все, но не всякому мяч Удастся увлечь на ристалище, вскачь. Ты рай обретешь не ценою заслуг, Но тем, что избрал тебя Бог между слуг. Да чист будешь сердцем, да будет твой трон Могуч, знаменит и высоко взнесен, Да будут успешны стремленья твои, Да приняты будут моленья твои!
Продолжение советов царям. — Советы государственные и военные
На мирный исход не утратив вполне Надежды, не надо стремиться к войне. Коль силой врага опрокинуть нельзя, Уместна уступчивых действий стезя. А если твой враг не уступчив и рьян, То в щедрости, знай, от беды талисман. Ведь злато порою оружья сильней И делает острые зубы тупей. Умело и хитро страной управляй, Коль руку врага не укусишь — лобзай. С врагом обращайся, как с другом, пока Ему не сумеешь намять ты бока. Ростем Исфендьяра[55] сразил, но и он Уловкою хитрою сам был сражен. Малейшей вражды опасайся. Порой Потоп начинался от капли одной. Не хмурь понапрасну, властитель, бровей: Ничтожнейший враг все ж опасней друзей. Коль множит врагов бессердечность твоя, Ликуют они, но страдают друзья. Вперед не бросайся, коль враг твой сильней. Смотри — кулаками по бритве не бей! А если ничтожна противника рать Не подло ль на слабых, о друг, нападать? Хотя б ты силен был, как слон или лев, Не лучше ли мир, чем разнузданный гнев? Все мирные средства испробуй, о царь, Лишь их исчерпав, на врага ты ударь. Коль враг ищет мира — подай ему длань, Коль ищет войны — будь готовым на брань. Ведь если о мире он сам попросил— Значенье твоих приумножил он сил, А если он сам начинает войну— С тебя перед богом снимает вину. Но если война загорелась — тогда Долой миролюбье, вражда так вражда! Коль будешь любезничать ты с подлецом, Лишь чванство и спесь увеличишь ты в нем.С геройскою ратыо на борзых конях, Врага сокруши и развей его прах. Но если смирится, раскается он, Да будет тобою, о царь, пощажен. Коль враг побежденный предстал пред тобой, Ты ярость из сердца исторгни долой, Коль просит пощады, ее окажи, Но все ж опасайся измены и лжи. Выслушивай старцев: за долгие дни Скопили премудрость и опыт они. Порой престарелый достигнет мудрец Того, перед чем приуныл бы боец.
О царь! Ведь победу предвидеть нельзя. Пусть будет для бегства открыта стезя. Коль видишь, что, дрогнув, смешалася рать. Зачем драгоценной душе пропадать? Коль ты в стороне, убегай ото всех, Нельзя — так во вражий оденься доспех. Хоть тысяча вас против вражьих двуста, Все ж ночью покиньте чужие места. Напав из засады, ночною порой Горсть всадников кажется ратью большой. В ночном переходе себя береги, Быть может, в засаду засели враги. Следи, чтоб дневной переход отделял Тебя от врага, если нужен привал. Тогда нападенья не бойся, хотя б Врагами командовал сам Эфрасьяб[56]. Когда ж от дневного похода остыл В дружине враждебной воинственный пыл, Используй ошибку противника, царь, На войско усталое смело ударь, Преследуй врага, сокруши его стяг, Не дай, чтобы раны залечивал враг. Однако, преследуя, будь на чеку, Отбиться от свиты легко на скоку. Отбившись, пропал ты! Со всех вдруг сторон Враждебными силами ты окружен. Но так же без помощи ты пропадешь, Коль войско твое возлюбило грабеж. Пусть войско не так уж ретиво в бою, Но лишь бы хранило особу твою.
Следи, государь, чтобы в войске герой Бывал награжден и отмечен тобой, Чтоб дрался с охотой и чтобы не мог Его испугать даже грозный Магог. Ты воинов в мирное время ласкай, Чтоб в грозные дни защищали твой край Ты в мирное время им честь окажи, Не жди, чтобы враг перешел рубежи. Страну охраняя дружиной лихой, Дружину храни золотою казной. Ты будешь тогда лишь врага побеждать, Коль будет сыта и обласкана рать. Неправильно, если властитель — скупец, Ведь жизнью своею рискует боец. Ведь если казну ты намерен беречь, Он, жизнь сберегая, не вытащит меч. Когда в положеньи он будет плохом, Себя удалым не покажет бойцом.
В сраженье лихих храбрецов посылай, На тигров рыкающих львов отправляй! Отдайся в науку седым мудрецам — Все виды видавшим матерым волкам. Не бойся младого, о царь, удальца, Но бойся, коль вызвал ты гнев мудреца. Юнец, побеждающий лютых тигриц, Не ведает хитростей старых лисиц. Умом и познаньями старец богат, И жизненный зной испытал он и хлад. О юноша милый, достойный венца, Внимательно слушай совет мудреца! Коль хочешь, чтоб твой благоденствовал край, Значительных дел молодым не вручай, И только того, кто испытан в боях, Над войском вождем назначай, падишах. Не будешь доволен, о царь, новичком, — Нельзя наковальню разбить кулаком. Страной управлять, руководствовать рать — Ведь это не то, что в игрушки играть. Итак, коль не хочешь разрух и потерь, Неопытным людям, властитель, не верь. Пантер не боятся охотничьи псы, Неопытный львенок боится лисы. Воспитанный в холе, стараньями жен, От первой же схватки сбежит, устрашен. Охотой, борьбою, метанием стрел Занявшись, подросток становится смел. Возросший средь нег да веселья, да бань Трепещет, едва лишь услышит про брань, Садится на лошадь с великим трудом, Мальчишка его повергает толчком. А трус да погибнет! Покинувший бой Пусть будет убит не врагом, так тобой. Что хуже бегущих, как бабы, вояк? По мне, мужеложец презренен не так!
Отлично заметил однажды Горгин[57], Доспех молодецкий готовя: «О сын! Ведь те, кто в бою обращаются вспять, Спасаются сами, но губят всю рать. Ведь всадник, свой тыл показавший в бою, Соратников жизнь отдает за свою».
Два тесные друга — о, как хороши! — Сраженью от всей предаются души, Ведь каждый из них за другого без слов Пожертвовать жизнью своею готов. Но если друзья изменяют в бою, Лишь бегством спасешь ты особу свою.
О царь, поощряй меж подвластных твоих, Во-первых, бойцов, мудрецов, во-вторых. Из славных властителей тот всех славней, Кто воинов любит и мудрых людей. Жалеть, коль умрет он, не стоит о том, Кто саблей владеть не умел иль пером. Не женоподобных люби плясунов, Но только писателей или бойцов. Ведь это не мужество — враг у границ, А ты предан кравчим иль пенью певиц. Как много царей, предаваясь вину И неге, врагу отдавали страну!
Проделок врага опасайся всегда, Не только — когда разразилась вражда. Он в дружбе нередко клянется нам днем И вдруг нападает во мраке ночном. Поэтому спи наготове, в броне, Пуховое ложе оставив жене. Подобно харемной красавице, наг В шатре не ночуй, ведь не дремлет твой враг Готовься к войне, о властитель, _тайком, Ведь тайные сборы ведутся врагом. Пускай нерушимой окружат стеной Разведчики ловкие стан боевой.
Об отражении врагов средствами искусной политики
Уверенность брось, что не будет обид От двух зложелателей, слабых на вид, Тайком сговорятся, и слабая длань Окрепнет и станет способной на брань. Сумей одного лишь уловкой отвлечь/ С другим же легко совладает твой меч. Когда в наступленье твой враг перейдет, Пускай все уловки и хитрости в ход. С врагами врагов заключай ты союз,— Врагу из подобных не вырваться уз. Раздор заприметив во вражьих войсках, Вложи ятаган свой в ножны, падишах. Когда меж волками грызня и вражда, Спокойно пасутся овечьи стада, Когда меж твоими врагами раздор, Сзывай на пйрушку веселую двор.О царь, на врага ты решился пойти, Но все же изыскивай к миру пути. Владыки, войной покорявшие мир, В конечном расчете боролись за мир. Доверье солдата старайся снискать, Чтоб шла за тобою с готовностью рать. Коль вражеский вождь попадется в полон, Ты тотчас его не казни, разъярен. Ведь может быть так, что один из вождей Захвачен врагом из дружины твоей, И если покончишь с плененным врагом, С твоим не увидишься больше вождем. Не знавший судьбины жестоких оков Бывает к плененным жесток и суров. Тому, кто изведал плененья печаль, Несчастных плененных становится жаль. Коль вождь полоненный обласкан тобой, Возможно, что сдастся тебе и другой. Не лучше ль десяток предавшихся вновь, Чем в сотне набегов пролитая кровь?
О царь, если друг твой в родстве со врагом, Смотри, как бы козней не строил тайком. Быть может, о кровном он вспомнит родстве, И месть зародится в его голове. А лести словесной не верь, ибо льет Преступник отраву нередко и в мед. Лишь тот застрахован от вражеских ков, Кто даже в приятелях видит врагов. Лишь тот охраняет надежно карман, Кто видит везде воровство иль обман. В дружину того не бери ты, чей нрав Заносчив, мятежен, изменчив, лукав. Коль он бунтовал против прежних господ, Узнаешь и ты с ним немало хлопот. Пусть будет мятежник доверья лишен, Пусть верный за ним наблюдает шпион. Коль с норовом конь — удлини повода, Но если отпустишь—пропал навсегда. Коль ты захватил неприятельский край, На волю всех узников там выпускай, — Колодник за тьму причиненных обид Жестоко врагу твоему отомстит. Пусть будет закон, что тобою введен, Для подданных лучше, чем прежний закон. Тогда, если прежний владыка войной Нагрянет, народ сей пойдет за тобой. Но если любви ты его не снискал, Напрасны запор на воротах и вал. Ты думаешь, враг за вратами — смотри: Сообщники вражьи гуляют внутри!
Военные меры старательно взвесь, Но тайной окутывай замысел весь. От всех эти планы заботливо скрой: Шпион меж друзей восседает порой. В восточном походе, коль делал привал, На запад шатры Искендер обращал. Бехмен-воевода, идя на Забул[58], Противника ложной молвой обманул. Итак, коль не скрыл ты военных задач, Ошибку свою, о властитель, оплачь! Будь милостив, ласков — насилья к чему? — И мир покорится жезлу твоему. Ведь если добро плодотворно, тогда В насильях, в гордыне какая нужда? Ах, если не хочешь сердечной тоски, Несчастных сердца из оков извлеки! Не ратью могучей силен ты, о шах, Но если тебя поминают в мольбах. Моления богоугодных людей, Чем самое грозное войско, сильней. Когда за тебя помолился дервиш, Ступай: Феридуна в бою победишь!
Конец I главы
О ЩЕДРОСТИ И БЛАГОТВОРИ ТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВА II
О друг, оболочку вещей позабудь, Ищи ты в вещах и явленьях лишь суть. Кто знания, щедрости, веры лишен, Одна оболочка без сущности он. Ты душу живую при жизни спасай, Родные о мертвых не думают, знай. Кто души людские покоит, ведь тот В покое и мире навеки заснет. Трать злато, пока ты хозяин над ним, Быть может, достанется завтра другим. Тоска-лиходейка не грызла чтоб грудь, К страдальцам всегда сострадателен будь. Растрачивай все, что в твоем сундуке, Коль ключ ты имеешь сегодня в руке. Готовь, не надеясь на жен иль детей, Ты сам для последней дороги своей Благие деянья — припас путевой — И в царствии Божьем обрящешь покой. Поменьше на помощь других уповай, На Бога надейся, да сам не плошай. Страдальца одеждой прикрой, если наг, И грех твой Создатель прикроет: Он—благ. Скитальца от двери своей не гони, Быть может, наступят тяжелые дни, И будешь скитаться ты сам у дверей, Прося подаянья у добрых людей. О люди, врачуйте больные сердца В предвиденьи тяжкого жизни конца! Пусть грудь нищей братьи свободней вздохнет, Ведь можем и мы испытать этот гнет. Пусть нету нужды в попрошайстве тебе, Внимателен будь к попрошаек судьбе!О милости к сиротам
Бедняжке-сиротке, о друг, помоги. Обмой, вынь занозу ему из ноги. Как знать, что случится в грядущем с тобой? Знай, древо без корня поникнет главой. И если поник сирота, пожалей — Своих перед ним не ласкай ты детей. С очей сиротинки кто слезы утрет? Коль гневен — к спокойствию кто призовет? Ах, если до слез сироту ты довел, Всколеблется Вышнего Бога престол! Люби сиротинок от всей ты души, Обмой их, одень, им глаза осуши. Родительской сени сиротка лишен, — Пусть будет он кровом твоим осенен. Когда был лелеем я милым отцом, Казалось, был венчан я царским венцом. Мне муха садилась на лоб, и моя Кругом волновалась тревожно семья, А ныне никто не поможет, хотя б Во вражьем плену я томился, как раб. Изведал я долю сирот до конца, В младенческих годах лишившись отца!Во сне раз увидел ходжендский пророк, Что некто, который колючки извлек Из ног сироты, внидя в рай, произнес: «Гляди, из шипа одного сколько роз!»
Чтоб делать добро, всякий случай, о брат, Используй, и мзду ты получишь стократ. Но сделавши доброе дело, тебе Не след предаваться пустой похвальбе. Как знать? Может статься, уже над тобой Взнесен ятаган беспощадной судьбой... Все люди тебя прославляют пускай — Не чванься, Творцу благодарность воздай За то, что тебе Он имущество дал Для помощи тем, кто несчастен и мал. Нет, щедрость не только царям хороша, Припомни пророков: она—их душа.
Рассказ об Аврааме
Я слышал, что не было как-то гостей В дому Авраамовом целых семь дней. Пророк об еде и питье забывал, Все странников Божьих к себе поджидал, Стоял на пороге и, глядя на путь, Все ждал, не идет ли к нему кто-нибудь. И вот заприметил: идет человек, Чьи волосы выбелил старости снег. С приветом к нему Авраам подошел, Радушно его приглашая за стол: «О друг, ты мне мил, как зеница очей, Отведай-ка трапезы скромной моей!» Направился старец, услышав тот зов, Под странноприимством прославленный кров. Там слуги пророка один за другим Сгибались в служенье пред старцем простым. Собрали еду, принесли и потом, Усевшись кругом за накрытым столом, Все начали Богу молиться, и лишь Молиться не стал приглашенный дервиш. Сказал Авраам: «Удивил ты меня, Ты — старец, а нет в тебе веры огня. Ужель не должны мы, присевши к столу, Воздать промыслителю Богу хвалу?» Прохожий ответил: «Нет правил таких У огнепоклонников-старцев моих». И понял тогда Авраам пречестной, Что видит язычника он пред собой. С позором изгнал он его, потому, Что скверне нет места у чистых в дому. Но свыше ниспослан был ангел Серош Сказать, что поступок тот был нехорош. «Сто лет я поддерживал старца, о друг, А ты от него отвращаешься вдруг. Огню поклонялся пришелец или нет — Ты, выгнав его, мой нарушил завет».Какой бы к тому ни нашелся предлог, Не следует прятать щедрот кошелек. Конечно, постыдно, коль мудрость и труд Ученые люди за хлеб продают. Грешно и безумно небес благодать За блага мирские, за хлеб продавать. Но все ж, коль отдаст за бесценок купец, Воспользуйся случаем — будешь мудрец.
Рассказ
Пришел к мудрецу раз хитрец-красиобай И молвил: «В беде я, о мудрый, спасай! Ах, десять дирхемов мне душу гнетут, На шее моей каждый грош, точно пуд! Я скряге их должен. Не сплю я всю ночь, А днем, точно тень, не отходит он прочь. Совсем сокрушил он, о мудрый, поверь, Словами мне сердце, ударами — дверь. Как будто он отдал последний дирхем, Как будто теперь обнищал он совсем. Не смыслит в писании он ни аза. Не видел грамматики он и в глаза. Чуть утро — сей неуч опять и опять Приходит и в дверь начинает стучать. Кто, щедрый, протянет мне руку щедрот И сбросить поможет сей тягостный гнет?» Тут старец почтенный вручил ему два Червонца, прослушавши эти слова, А лгун-краснобай это золото взял, Ушел и, как злато, лицом просиял. Заметили старцу: «Ушедший-то ведь Таков, что умрет и не будут жалеть. Пройдоха и лгун, хоть на вид простота, Обманет какого угодно плута». Разгневался старец: «Не лучше ль молчать Да слушать, коль истина вам не подстать! Ведь если принес он правдивую весть, Поистине спас я несчастному честь, А если хотел он меня обмануть, Обман тот меня не порочит ничуть, От происков лиц, возлюбивших обман, Поступком таким оградил я свой сан».И добрым и злым надлежит помогать, — Ты зло обезвредишь, найдешь благодать. Блажен кто, прослушавши мудрую речь, Сумеет пример надлежащий извлечь. И если умен ты и чуток, следи Внимательным слухом за речью Са’ди. Забыв о кудрях и о розах ланит, Об истинной мудрости он говорит.
Рассказ
Богач как-то прежде скончался один. Ему унаследовал доблестный сын; Не стал он копить драгоценный металл, Но щедро и вольно его расточал. Толпа нищей братьи всегда у дверей, Приемные комнаты полны гостей. Богатств он, подобно отцу, не скопил, Но сам был доволен и людям был мил. Его упрекнули однажды: «О друг, Богатства свои не растрачивай вдруг. Их долго копить, но растратишь зараз; Ужель не слыхал ты вот этот рассказ: Однажды беседовал с сыном аскет И отпрыску ласково молвил: „Мой свет, Будь волен, свободен, расстанься с семьей, Будь щедр, заодно распростись и с казной“. Но опытен был и разумен юнец, В ответ он родителю молвил: „Отец, Потребен ведь год, чтоб наполнить гумно, Наполнив, поджечь неужели умно? Кто нищенской доли пугается, тот Пусть в годы довольства запасы сберет“. Раз молвила дочке крестьянка: „Сбирай Запас для засухи, о дочь, в урожай. Водой пусть наполнены будут меха, Не то вдруг увидишь, что речка суха“. Земным бытием можно вечность купить, А златом—лютейшего льва укротить. Радушно встречают того, кто богат, А бедному горе! Кто бедному рад? Пускай не надеется он у друзей Поддержку найти в неудаче своей. И дива сумеет богач одолеть И демона Сахра[59] поймает он в сеть. Красавиц любви пусть не ищет бедняк, В сем мире не ценится бедность никак. Не сбыться, бедняк, упованьям твоим. Богач над врагом торжествует любым. Поэтому деньги свои береги И помни: не дремлют лихие враги. Всех бедных, о друг, не накормишь, меж тем Боюсь, что окажешься сам ты ни с чем». Когда эти речи юнец услыхал, От приступа гнева он весь задрожал. Он этих упреков, несдержан и юн, Не вынес и гневно воскликнул: «Болтун, Богатства, которые видишь кругом, Копились и дедом моим и отцом, Они сохраняли их долгие дни, Скончались, и все потеряли они. Богатство теперь у меня, но оно К другим перейти после смерти должно. Умру, и разграбит наследство семья, Так лучше пускай им воспользуюсь я. Стараться к чему и беречь для людей? Дари, щеголяй, наслаждайся и пей. Ведь щедрому жизнь обращается впрок, Не мню, чтоб скупец эту пользу извлек. Сподобишься рая, щедроты творя, Не то проживешь безнадежно и зря. Коль хочешь блаженства, сперва позлати Ведущие к Божьему царству пути», И так поступая, сей щедрый юнец Растратил большое богатство вконец. Раз некто за щедрость его похвалил, За то, что он Богу и людям служил. Он, скромно потупясь, ответил: «Мой друг, О нет, за собой я не вижу заслуг, Я знаю, что сам я ничтожен и мал, Я только на Бога всегда уповал».Вот истинный путь добродетельных всех, Творящих добро и предвидящих грех. Не будет молиться у всех на глазах, Кто молится ночью, без сна и в слезах. Внемли — это молвит тебе не Са’ди, Но муж досточтимейший Сохраверди[60]: Мы плыли. Корабль наш валы рассекал, И вот что сей старец честной мне сказал: «Во-первых, людей не считай ты за злых, А сам себялюбцем не будь, во-вторых». От мыслей об аде почувствовав жуть, Раз ночью шепнул он, не смогши заснуть: «О, если б заполнил я ад целиком, Чтоб места другим не осталося в нем!»
Рассказ
Жена мужу молвила: «Мне невдомек, Хлеб на дом к нам носит зачем хлебопек? Ступай на базар. Ибо плут каждый день Под видом пшеницы приносит ячмень. Других покупателей нет у плута, И лавка его постоянно пуста». Но ласково молвил супруг ей в ответ: «Ты с этим должна примириться, мой свет. Он начал в надежде на нас торговать. Жестоко надежду его разбивать».На путь добродетели если ты встал, Протягивай руку тому, кто упал. Будь щедрым. Достойные высших утех Всегда покупают товары у тех, Чья лавка без сбыта. Ах, милость творя, Примером ты Алия[61] знаешь царя!
Рассказ
Отправился старец в священный Хеджаз[62]. На каждом шагу совершая намаз, Всецело задачей своей поглощен, Колючек из ног не выдергивал он; И стал науститель гордыни слова Шептать ему на ухо. Старца глава Наполнилась гордостью. Он возомнил, Что более всех он Создателю мил. И если бы Бог не задумал спасти, Совсем бы он сбился с прямого пути. Послышался голос таинственный: «Гой, Ты, избранный Господом старец честной! Не думай, что если обряд ты свершил, То этим ты стал для Создателя мил. Ведь добрый поступок один для Творца Милее поклонов земных без конца».Рассказ
Гвардейцу султанскому как-то жена Сказала: «Мой милый, нам пища нужна. Ступай же на царскую кухню, мой свет, Ведь нужен и нам и детишкам обед». Ответил: «Сегодня вся кухня пуста, — Султан пожелал на сегодня поста». Услышав, потупилась скорбно жена, И думала, мучась нуждою, она: «К чему этот пост, о Создавший весь мир? Ведь полдник султана — семье нашей пир».Когда милосердия постник лишен, Ничтожнее щедрого бражника он. Владыке угоден лишь постник такой, Чтоб нищим, постясь, помогал он едой. Не то для тебя бесполезны посты, Ведь все ж себялюбцем останешься ты. Невеждой не будь, а не то все равно С неверием веру смешаешь в одно. Ведь зеркало схоже бывает с водой, Все ж разница есть между тем и другой.
Рассказ
Был некто душою широк, тароват, Однако при щедрости всей небогат. О горе, богатство у низких душой, А чистые сердцем забиты нуждой! Высокие души стремят свой полет, Но падают вниз, не заметив тенет, Совсем как нагорный поток, что, с высот Стремглав низвергаясь, в низины течет. И вот, не по средствам живя, щедр и смел, Сей доблестный муж под конец обеднел. Однажды к нему обратился один Несчастный с посланьем: «О мой господин! Мне денег немного ссуди, помоги — Врагом я посажен в тюрьму за долги». Что деньги тому, в ком большая душа? Да не было их у него ни гроша! И вот к займодавцам посланье он шлет: «Приветствую доблестных, славных господ! Прошу: должника отпустите домой — Ручаюсь я вам за него головой». Затем он к тому, кто сидел за долги, Идет, отпускает и молвит: «Беги!» — Мгновенно пичужка умчится, поверь, Заметивши клетки открытую дверь. — Лишь вольный открылся пред узником мир, Быстрей он умчался, чем утра зефир. И вот поручителя тащат в острог: Садись, если долг заплатить ты не мог. Открылся пред мужем в узилище путь. Коль вырвалась птица — ее не вернуть! Я слышал, что тяжкую долю он нес Без гнева, без стонов, без жалоб, без слез, Но был удручен и ночами не спал. Подвижник его увидал и сказал: «Я мыслю: едва ль ты мошенничать мог, Но как же, поведай, попал ты в острог?» Ответил: «О мудрый подвижник! Ты прав! Ничьих плутовством не нарушил я прав. Беднягу хотел из тюрьмы я спасти, Увы, не нашел я иного пути: Его заменил я. Как мог я стерпеть: Мне — воля, бедняге же — тесная клеть!» Он умер, сей муж. Но вовеки жива О добрых деяниях этих молва. Такой человек и скончавшись — живой И более жив, чем живущий другой. Ведь дух бесконечен. И смерть не страшна Тому, чья душа милосердья полна!Рассказ
Раз путник в степи на собаку набрел, Ее чуть живою от жажды нашел. Был набожный путник растроган весьма, Ведром стала шапка, канатом — чалма. С готовностью полной собаке помог, Ей дал из колодца воды он глоток. О путнике этом пророк возвестил, Что Бог прегрешенья ему отпустил. Подумай о том, коль погряз ты в грехах, О верности вспомни, о добрых делах. Господь, коль за милость ко псу наградил. Забудет ли тех, кто людей возлюбил? Пред милостью Божьей не все ли равны, И мы помогать без разбора должны. Ах, скромная лепта бездольных людей Для Бога дороже, чем дар богачей. Всяк тащит посильную ношу свою: Нога саранчи тяжела муравью.О Доброте и милосердии
Будь ласков с людьми, милосерд будь всегда, И Бог не забудет тебя никогда. И если несчастье случится с тобой, Поможет тебе Вседержитель благой. Жестоко рабов не гони. Ведь судьба Порою высоко возводит раба. И как бы держава сильна ни была, Не делай несчастному, слабому зла. Ведь в жизни возможен любой поворот, Ведь пешка, случается, ферзя берет. Послушай совета разумных людей, И семени злобы в сердца ты не сей. Ведь губишь ты собственный зрелый посев, Когда на жнецов обращаешь свой гнев. Будь щедр, милосерд и, несчастных любя, Их тяжкую долю бери на себя. Ах, часто цари под пятою судьбы! Ах, часто на троны восходят рабы! Сердца подчиненных, властитель, не мучь — Ведь ты не навеки богат и могуч!Рассказ
Однажды бедняк перед злым богачом Поведал о бедствии тяжком своем. Богач медяка пожалел ему дать, Разгневался, начал браниться, кричать. Хоть сердце облилося кровью, бедняк Возвысил свой голос, воскликнувши так: «Почто богачи так гордятся всегда? Ужель не боятся Господня суда?» Тут скряга-безумец велел, чтоб слуга Прогнал бедняка за порог, как врага. Не знал благодарности к Богу гордец, И вот от него отвратился Творец. Большого богатства не стало, и он Был в черную книгу судеб занесен. Когда-то богатый — стал нищ он и гол, На помощь никто из друзей не пришел. Судьбы испытав за ударом удар, Пошел он скитаться, как нищий фигляр. Так время бежало. Бездомен и хил, Он долю лихую, как нищий, влачил. Случайно из челяди прежней скупца Какой-то богач приобрел молодца. Богач тот был щедр, милосерд и умен, К несчастным и бедным участлив был он. И вот он однажды узрел бедняка, Просившего горестно хлеба куска. Немедля велел он рабу своему, Чтоб тот подаяние бросил в суму. Едва лишь приблизился раб, чтоб подать, Как, вскрикнув испуганно, бросился вспять. Вернулся, держася едва на ногах, Расстроен, взволнован и очи в слезах. Хозяин спросил у него: «Что с тобой, И слезы ты льешь от обиды какой?» Ответил слуга: «О, как сердце болит, Терзает мне душу несчастного вид! У старца сего был я прежде рабом. Имел он богатства, имения, дом, А ныне он — хилый, бездомный голыш, — С протянутой дланью бредет, как дервиш». Воскликнул хозяин с улыбкою: «Ба, Напрасно, бесцельно не бьет нас судьба! Сей нищий не тот ли жестокий купец, До неба главу возвышавший гордец, А я — тот несчастный, которого он Однажды из дома прогнал, разъярен? Господь на меня с милосердьем взглянул, И бедности прах он с меня отряхнул. Господь милосерд и премудр, если вход. Закроет один, то другой — отопрет. Господь справедлив. Возводя бедняков, Карает богатых и злых гордецов».Муравей
Послушай-ка случай из жизни святых, Итти если хочешь дорогою их. Однажды, пшеницы купивши, домой Ее притащил шейх Шибли[63] пречестной. Раскрывши, увидел, что мечется в ней Растерянно взад и вперед муравей. Не спал он, жалея бедняжку до слез, А утром на прежнее место отнес, Сказав: «Милосердья не будет, коль я К родимым местам не верну муравья».Смятенные души, о друг, успокой, И будешь утешен счастливой судьбой. Как чудно сказал этот стих Фердовси — О господи, душу поэта спаси! — «Влачащего травку не тронь мураша, Ведь полон он жизни, а жизнь хороша!» Лишь может один бессердечный злодей Желать, чтоб несчастный страдал муравей. Ах, ежели волю насилиям дашь, Растоптан ты будешь врагом, как мураш. Свеча с мотыльком жестока и грозна, И что ж? — Одиноко сгорает она! Конечно, сильнее ты многих людей, Но есть ведь и тот, кто тебя посильней!
О щедрости и великодушии
Будь щедр, и уловишь людские сердца, Оставь лишь для зверя тенета ловца. Будь добр, обходителен даже с врагом, — Аркана сего не рассечь и мечом. Противник, увидев и ласку и честь, Забудет свою озлобленную месть. Не делай же зла, и замолкнет вражда, Сев злобы добра не родит никогда. С друзьями ты ежели дерзок и крут, Конечно, они от тебя убегут, А если к врагу подойдешь ты любя, Приятелем станет твой враг для тебя.Рассказ
Я встретил однажды в пути молодца, Бежит, а за ним поспешает овца. «Нехитрое дело,—сказал я, — ну что ж? Ее ты на привязи сзади ведешь». Ошейник он тотчас же сдернул, и вот Принялся он бегать и взад и вперед, Овца же за ним по пятам. Ведь ячмень И травку он сам ей давал каждый день. Вернувшись на прежнее место, юнец Промолвил, ко мне обратись: «О мудрец! Тут дело не в привязи. Это — обман, Но держат щедроты овцу, как аркан».Коль ласку встречает в погонщике слон, Едва ль на него нападет, разъярен. Будь добр и со злыми. Ведь пес, если сыт, Исправно владенья твои сторожит. Ведь барс присмиреет и станет ручным, Коль дважды покормится сыром твоим.
Рассказ
Раз некто калеку-лису увидал, Увидев, на Господа вмиг возроптал: «Для твари безногой ну что за житье, Откуда достанет и корм и питье?» Лишь это подумал, как льва увидал, Был в пасти у зверя убитый шакал. Пожрал этот хищник добычу, а все Остатки достались калеке-лисе. Столкнувшись с подобным же случаем вновь, И видя Господню к творенью любовь, Решил наш дервиш многомысленный впредь, На промысел Божий надеясь, сидеть. Ведь львов многомощных и то, наконец, Питает всегда Вседержитель-Творец. Так, руки сложа, он сидел, убежден, Что будет накормлен создателем он. Однако не шел ни родной, ни чужак, От глада дервиш превратился в костяк. Терпенье иссякло, рассудок угас, Но, к счастью, раздался таинственный глас: «С безногой лисицы берешь ты пример. Нет! Льва избери образцом, лицемер! Таким будь, как лев, чтоб от трапез твоих Остатки могли напитать и других. Кто силен, как лев, но как эта лиса Беспомощным стал, тот презреннее пса. Добычу бери, наделяя других, Отнюдь не надеясь на милости их. Работай, покуда имеешь в руках Ты силу — и взвесят твой труд на весах. Будь мужем — трудись для себя и других, Не будь прихлебателем трапез чужих. Несчастным поддержки протягивай длань, А помощи ждать от других перестань. Господь только тем помогает, кто сам Готов постоянно помочь беднякам».К щедротам, к даяньям лишь умный готов, Не ждите щедрот от безмозглых голов. Блажен в этом мире и в том только тот, Кто полон к творениям Божьим щедрот.
Близ города Кеша[64] однажды один Погонщик верблюдов промолвил: «О сын, Кормись близ богатых и щедрых: они Не любят сидеть за обедом одни».
Подвижник-скряга
Жил в Азии Малой подвижник. Речист, Учен, родом знатен и жизнию чист. Прослышав о нем, я отправился в путь С толпою друзей, чтоб на мужа взглянуть. Подвижник был рад иноземным гостям, Радушную встречу устроил он нам. Но много имея богатых жилищ И злата и нив, был он щедростью нищ. Он был в обращенье и ласков и благ, Но пуст был и холоден в кухне очаг. Всю ночь он молился, усерден зело, Не спали и мы — животы подвело! Чуть утро хозяин является к нам С приветом, расспросами, с лаской к гостям. Меж нас находился один весельчак, Который ответил хозяину так: «Созвучьем лобзанье лишь мило своим Со словом „питанье", которое чтим. Сапог не целуй, но корми, а потом Хотя б ты ударил меня сапогом».Блажен только тот, кто стяжательству враг, А постник бессонный, но черствый — не благ. Вот так же татарин на страже стоит — Хоть очи бессонны, да сердце в нем спит. О да! Святость — в милости. Это усвой, А хладная речь — барабан лишь пустой! Тот будет блажен, кто взыскует во всем Лишь тайного смысла, забыв о пустом. Дает лишь идея значенье словам, Поступки, слова без идеи — лишь хлам!
Рассказ о Хатэме Тайском[65]
Я слышал, что Тайский Хатэм скакуна Имел вороного среди табуна. Он легкостью — ветер, а ржанием — гром, Мгновеннее молнии в беге своем. Он камни разбрасывал из-под копыт — Не туча ли вешняя с градом летит? Пустыня ему, как вода кораблям; За лётом его не поспеть и орлам. О щедром Хатэме молва и хвала До слуха царя Византии дошла: «В щедротах Хатэму подобного нет, А лошади равной не видывал свет». Сказал царь везиру: «Прекрасна молва, Но нет доказательств того, что права; Хочу получить я такого коня, И если отдаст он его для меня, Поверю тому, что высок его сан, А нет, так молва — лишь пустой барабан». В далекий Йеменский отправлен был край Посланник со свитою к племени Тай. Над мертвой землею в слезах небосвод, Но ветер весенний вновь жизнь ей несет; Под ливнем весенним, усталый посол Со свитою поздно к Хатэму пришел; Им злата Хатэм предложил и сластей И тотчас коня заколол для гостей. Здесь сутки пробыв, до Хатэма довел Свое поручение царский посол. Услышав об этом, был щедрый таит Расстроен, взволнован и духом убит. «Ах, раньше о просьбе своей почему ж Ты мне не сказал, о мой доблестный муж? Здесь только вчера для тебя, о посол, Сего быстроногого я заколол. В тот вечер не мог я до пастбищ дойти, Был ливень и мрак, залило все пути, Что было мне делать? А ночью вчера Стоял лишь мой верный скакун у шатра. Ужель мог хозяин стерпеть, о мой друг, Чтоб мучили гостя и глад и недуг? Пускай пропадает мой конь вороной, Лишь добрая слава была бы со мной». Сказал и посланников царских затем Осыпал подарками щедрый Хатэм; Достигло об этом известие в Рум И молви восторженной вызвало шум. Но это не все о Хатэме. Сейчас Еще занимательней будет рассказ.Рассказ о Йеменском царе и Хатэме
Не помню я, кто-то рассказывал мне О некоем князе в Йеменской стране; Никто с ним сравняться не мог из царей, Он всех превзошел добротою своей; Он мог прозываться бы тучей добра: Кругом изливал он дожди серебра; Кто имя Хатэма при нем поминал, В уныние сердце его повергал: «Мне слушать доколь про сего хвастуна? Где власть, где владенья его, где казна?» Однажды роскошный устроил он пир, Гостей угощая под музыку лир; Вдруг кто-то Хатэма назвал, а другой О нем отозвался с большой похвалой; Осилил тут князя завистливый пыл, — Убийц подослать он к Хатэму решил: «Доколь будет жив ненавистный таит, Дотоле не сделаюсь я знаменит». И вот, чтоб с Хатэмом покончить, пошел К становьям таитским зловещий посол. В дороге попутчика он получил; Попутчик был юн, обхождением мил, Речист, образован, приятен лицом, К себе пригласил он посланника в дом, Его обласкал, предоставил ночлег, И был очарован им злой человек. Стал утром упрашивать гостя юнец: «Будь добр, погости хоть немного, отец!» Ответил: «О друг, не могу я, прости! Я важное дело имею в пути». Но юноша молвил: «Его не таи, — К твоим приложу я усилья мои». Ответил посол: «Поделиться я рад: Такие, как ты, знаю — тайну хранят. Так слушай. Быть может, известен тебе Хатэм благородный, угодный судьбе. Йеменскому князю, не ведаю чем, Но стал ненавистен сей славный Хатэм. Я послан теперь за его головой, Хатэма ты мне укажи, милый мой!» Юнец рассмеялся: «Хатэм — это я. Рази! Что же медлишь? Вот шея моя! Нисколько не думаю я о борьбе, Препятствовать я не желаю тебе». И так говоря, он склонился главой. Посол, уничтоженный жертвой такой, Простерся вдруг ниц и, поднявшись опять, Стал руки и ноги его целовать, Отбросил он саблю и лук и колчан И молвил, смиренно склонивши свой стан: «Ах, стал бы, убивши тебя, как злодей, Ничтожнее баб я во мненьи мужей!» Тут обнял Хатэма он, кроток, смирен. Простившись, обратно пустился в Йемен. По хмурому виду властитель прочел, Что волю его не исполнил посол. «Что нового, — задал ему он вопрос, — Хатэмову голову что ж не принес? Быть может, противник, бесстрашен и смел, Напал, и отбить ты его не сумел?» Приветствуя князя, посланец тогда Простерся пред ним и воскликнул: «О да! Нашел я Хатэма. Был доблестен он, Красив, обходителен, мил и учен, В нем встретил избыток душевных я сил, Он, мужеством также меня победил, Он, щедрости тяжким навьючив тюком, Меня поразил милосердья мечом». Тут князю посланец о всем рассказал, И тот разразился потоком похвал, Мешок запечатанный злата затем Послал он Хатэму и молвил: «Хатэм Поистине славы отмечен клеймом, И правда все то, что глаголят о нем».Рассказ о пророке Мохаммеде и дочери Хатэма
Во время посланника Божьего, знай, Ислама не приняли в племени Тай. Пророк в наказанье к ним двинул отряд И пленников много забрал, говорят. Безжалостно он приказал убивать Безбожных, отвергших небес благодать. Из пленниц одна заявила: «Я — дщерь Хатэма, а если не веришь, проверь. Меня пощади, господин! Мой отец — Величья души и добра образец». Смягчился Мохаммед от женщины слов, Избавить ее повелел от оков, На прочих же пленников, жалость презрев, Решил беспощадный обрушить он гнев. Тогда обратилась жена к палачу С рыданьем: «Предай и меня ты мечу! Ужели свободой воспользуюсь я, Меж тем как мои погибают друзья?» Хатэмовой дочери горестный крик До слуха посланника Божья достиг, Он всех из-за женщины этой простил: «Немало в сем племени доблестных сил!»Еще о щедрости Хатэма
Старик заглянул раз в Хатэмов намет, Прося одолжить ему сахару лот; Хатэм, услыхавши мольбу старика, Дал сахару тотчас ему полвыока. Жена закричала: «Так много к чему? Сказал он, что лота довольно ему!», Услышавши это, Хатэм ей в ответ Воскликнул со смехом: «О племени цвет! Он просит немного, но ты, невзначай, Забыла о щедрости племени Тай».Велик сей Хатэм, но таким же, как он, Явился пред нами в потоке времен Бу-Бекр, сын Саада Зенги, чья рука Всегда утоляет алчбу бедняка. Прибежище подданных, радуйся, царь! Тобой да упрочится веры алтарь! Шираз наш родимый под властью твоей Стал Греции и Византии славней. Ведь если бы не жил на свете Хатэм, О племени Тайском забыли б совсем. Досель жив в преданиях сей человек, И ты знаменитым пребудешь вовек. Хатэм подвизался, чтоб славу снискать, А ты, чтоб небес обрести благодать. Ах, добрая память навеки жива, И также бессмертны поэта слова!
Рассказ
Завяз раз у путника в глине осел, И путник от этого в ужас пришел. Пустыня, и ливень, и холод суров, И ночь опустила свой черный покров. Что делать? Зажегся в нем ярости пыл, Он брани ужасной потоки излил На всех и на все, на врагов, на друзей, На шаха — властителя тех областей... А царь тот как раз проезжал в стороне Со свитой своею, верхом на коне. Услышал он ругань — стерпеть нету сил, А всякий ответ только б сан уронил. На дерзкого грозно властитель воззрел: «Кто этот смутьян, что так дерзок и смел?» Вельможа к царю обратился: «Вели Стереть поносителя с лика земли». Но царь в это время заметил как раз, Что путник в беде и что ослик увяз. К бедняге проникся сочувствием он, Хотя перед этим и был разъярен, Дал денег, конем заменивши осла — Что может быть лучше? Добро против зла! — Тут путнику кто-то сказал: «Ты — счастлив, Я, право, дивлюсь, что остался ты жив». Ответил: «Меня разъярила беда, А царь милосердным быть должен всегда».Насильем на злобу легко отвечать, Но к злым милосердие — вот благодать!
Рассказ
Однажды богач пред одним бедняком, Ругаясь, захлопнул ворота в свой дом. Куда оставалось итти бедняку? Он горько заплакал, присев в уголку. Услышавши плач, проходивший слепой Спросил о причинах печали такой. Поведал, обильные слезы точа, Бедняк о насилии злом богача. Слепец же сказал: «Не кручинься о том. Тебя покормлю я, со мною пойдем!» В жилище к себе он дервиша привел, Его усадил он за убранный стол. Дервиш, напитавшись, воскликнул: «Творец, Тебе да поможет прозреть, о слепец!» В ту ночь потекла у слепого слеза, А утром открылись, прозрели глаза. Волнуясь, твердили о том стар и мал: «Слепец наш — не чудо ли? — свет увидал!» Достиг этот слух и того богача, Который прогнал бедняка сгоряча. К прозревшему он обратился: «Открой, Какчудо такое случилось с тобой? Как свет ты увидел во тьме слепоты?» Ответил: «Не я в слепоте был, а ты! Ты был близоруким безумцем. Увы, Хомаем ведь ты пренебрег для совы! Мне дверь человеком была отперта, Которого ты не пустил в ворота. Лобзай под стопами у праведных прах, И свет просветленья заблещет в очах. Глазной этой мази не знают никак Те люди, в ком слепы и сердце и зрак». Услышал сие возлюбивший корысть И руки в отчаяньи принялся грызть: «Ах, сокол чуть-чуть не попался мне в сеть, Его я спугнул, дал к тебе улететь!»Коль жадности зуб изострил ты, как мышь, Напрасно поймать среброкрылого мнишь. Коль помощи жаждешь от Божьих людей, В служении им ты себя не жалей. Различным пернатым приманку бросай, Быть может, к тебе попадет и Хомай. Мечи в разны стороны стрелы, и дичь, Быть может, удастся случайно достичь. Из сотни одной попадаешь стрелой. Глянь, раковин сколько! Но перл лишь в одной!
Рассказ
Раз сына в дороге отец потерял; Он ночью стоянку кругом обыскал. Повсюду расспрашивал: тут или нет, Во тьме наконец отыскал этот свет! Придя после поисков долгих в шатер, Вступил с караванщиком он в разговор: «Ты знаешь ли, как мой сынок был найден? Кого б я ни встретил, я думал, то — он».Все мудрые ищут прилежно весь век — Быть может, найдётся в толпе человек. Чтоб сердце найти, сколько схваток с судьбой! Ах, сколько шипов ради розы одной!
Рассказ
С короны царевича, в сумерках, лал Среди каменистого места упал. Сказал сыну царь: «В темноте, о мой сын, От камней простых отличишь ли рубин? Сей щебень обследуй внимательно весь, Пусть трудно найти, но рубин этот здесь».Мудрец меж ничтожных и темных людей Похож на такой же рубин средь камней. И если муж избранный с шайкой невежд Смешался, о друг, не лишайся надежд. Стерпевши докуку от всех дураков, Избранника встретишь в конце ты концов. Взгляни на того, кто любовию пьян — Его не страшат ни вражда, ни обман. Улыбчив, как полураскрытый гранат, Как роза шипами, не рвет он наряд. Напасти сноси терпеливо, любя, Хотя б целый свет ненавидел тебя. Любви исступленной смиреннейший раб Во мненьи твоем и ничтожен хотя б, С презреньем свой взгляд на него не коси, — Он может быть избранным на небеси. Пускай он ничтожен, порочен на взгляд, Быть может, пред Господом вышним он свят. Познания дверь перед тем отперта, Пред кем запирают домов ворота. Кто в жизни и нищ и презренен, пред тем Широко откроются двери в Эдем. Коль ты из достойных и мудрых людей, Целуй у царевича руку скорей. Сейчас он в забвенье, но близится срок — Возвысивши верных, воссядет высок. Не жги стебель розы осенней в огне, Коль хочешь цветов от нее по весне.
Скупой отец и расточитель-сын
Один человек, хоть и был он богат, Боялся, скупясь, самых маленьких трат. В свое удовольствие жить не хотел, А также не делал и добрых он дел. Сребро он и злато держал под замком, А сам был того и другого рабом. Однажды он прятал под землю добро, А сын подглядел, притаившись хитро. Он вынул оттуда припрятанный клад И золото стал расточать, тароват. У щедрых не держится злато: рукой Одной получив, расточают другой. Скупец был проделкою той разорен, Предался отчаянью, горести он. Он платья распродал иль отдал в заклад, А сын между тем был и весел и рад. Терзался отец и не спал по ночам, А сын говорил, предаваясь пирам: «Коль злато под спудом, не все ли равно, Лежит ли там камень простой иль оно? В погоне за золотом рушат гранит, Чтоб был ты с друзьями и весел и сыт; Но, право, бесцелен добытчиков труд, Коль злато добытое прячут под спуд».Не диво, коль смерти желает твоей Семья, если был бессердечен ты с ней, Наследством твоим насладиться хотят, Когда упадешь ты, как с гор водопад. Взгляните на скрягу! Не правда ли, он Сидит, точно клад стерегущий дракон? Богатства не тронут, покуда над ним Тот кладохранящий дракон невредим, Но будет низвергнут он смерти пращой, И люди разделят тот клад меж собой. Собравши богатство, используй скорей, Пока ты не сделался пищей червей. Коль ты прозорлив и разумен, следи — Полна назиданья поэма Са’ди, И если его не отринешь ты речь, Насущную пользу сумеешь извлечь.
Рассказ о ничтожном благодеянии и великой награде
Один человек, пожалев старика, Купил благодарность ценой медяка, Но позже свершил преступление он И был властелином на смерть осужден. По случаю казни волненье умов, Народ любопытный на кровлях домов. Был тут же и нищий. Что ж видит? О страх! Его благодетель под стражей, в цепях. О том подаянии вспомнил старик, В нем глас состраданья к бедняге возник, И крик исступленный он поднял тогда: «О люди! Султан наш скончался! Беда!» Кричал он и руки ломал над главой. Услышавши крик сей, турецкий конвой С испуганным воплем, себя по лицу И в грудь ударяя, помчался к дворцу; Примчались к султанским палатам стремглав И видят, что царь их попрежнему здрав. Преступник меж тем в суматохе сбежал, А схваченный старец пред шахом предстал. Спросил его шах: «Отвечай мне, старик, Что значил безумный и дерзкий твой крик? Я верой и правдою правил страной, Зачем же народу грозил ты бедой?» Бестрепетно шаху ответил дервиш: «О ты, что со славой над миром царишь! От криков моих не страдал ты ничем, Несчастного спас я от казни меж тем!» Властитель был речью такой изумлен, И старцу простил прегрешение он. А бедный преступник меж дебрей и скал, На каждом шагу спотыкаясь, бежал. Спросил его встречный: «Поведай, о друг, Как мог ты от казни избавиться вдруг?» Ответил бежавший: «Меня — то не ложь — Спасла благодарность за поданный грош»Ведь в землю затем зарывают зерно, Чтоб пищу давало голодным оно. Смотри, сколько пользы порой от гроша, От камешка пал Голиаф не дыша. Сей мысли пророка и честь и хвала, Что щедрость и благо — гонители зла. Поэтому в царстве Бу-Бекра Зенги Не знают о том, что такое враги. Всем миром владеть я желаю тебе, Чтоб мир приобщился счастливой судьбе, Ведь в царстве твоем благоденствует люд И розы без терний колючих цветут. В сем мире ты тень от лучей Божества, И память пророка в тебе так жива. А если не всеми ты признан, о шах, Что ж? Тайны не всем открывает Аллах!
Рассказ
Раз некто во сне увидал страшный суд. Вопит в исступленьи и в ужасе люд. От зноя земля — раскаленная медь, Мозги у людей начинают кипеть. Лишь в муже едином смятения нет — Он в платье избранников Божьих одет. «Скажи, о избранник, — тут спящий воззвал, — Кто в пользу твою на суде показал? Ответил: «Пред дверью моею лоза Росла, и под ней утомленно глаза Смежил божий странник, нуждой изможден. Проснувшись, взмолился к Создателю он: «Сего человека спаси, о мой Бог! Он мне отдохнуть от страданий помог».Ах, снова напомнил мне этот рассказ Владыку, под чьим управленьем Шираз. Под сенью его весь ширазский народ Над скатертью благ и вкушает и пьет. Кто щедр, тот — плодовое древо садов, Другие ж — бесплодное древо для дров. Бесплодное древо, срубивши, сожгут, Плодовое древо всегда берегут. О, многие лета тебе! Каждый день Даришь ты плоды и богатую тень!
О недостойных милосердия
Я много сказал здесь о щедрости слов, Но знай, что не всякий достоин даров. Да будет злодей разорен и казнен, Стервятник лихой оперенья лишен. Своих ненавистников ведая цель, Злодеев оружьем снабдишь ты ужель? Исторгни колючий кустарник, о шах, И только заботься о древе в плодах. О шах, только тех назначай к должностям, Кто ласков и чуток и добр к беднякам, Но милостив к злобным не будь потому, Что зло нанесешь ты народу всему. Пожаром грозящего бойся огня: Ведь лучше единая смерть, чем резня. Коль ты снисходителен будешь к ворам, Как будто бы путников грабишь ты сам. Казни, чтоб простыл от насильника след. Насилье насильнику лучший ответ!О милости к недостойным. Рассказ о жене и муже
Осиный на кровле заметивши рой, Хозяин хотел его сбросить долой. Жена возразила: «Не трогай ты их, Бедняг не сгоняй ты с местечек родных. Послушался муж. Но однажды напал На женщину рой миллионами жал; По дому, по кровле металась она, От боли вопя. Муж сказал ей: «Жена, Сама ты сказала мне: ос не тревожь, Все вопли и стоны теперь для чего ж?»Кто злому поможет, тем самым, поверь, Он людям готовит немало потерь. Заметив злой умысел, острым мечом Покончи, немедля, с народным врагом. Не может быть пес так же чтим, как и гость, Достаточно, ежели бросишь ты кость. Прекрасно сказал селянин: «Тяжелей Навьючивать надо строптивых коней». О сне безмятежном и думать когда ж, Коль вовсе ленив и небдителен страж? В военное время тростник лишь для пик, А сахарный нам бесполезен тростник. Добро не для всех. Одному — серебро, Другого учи, сокрушая ребро. Постройку на зыбком песке ты не строй: Обрушиться может она над тобой!
Окончание II главы
Норовистым сброшенный наземь конем, Воскликнул властитель Бэхрам: «Поделом! Я лошадь себе выбирать буду впредь Такую, которой сумею владеть».Запруживай в дни мелководья поток, Во время разлива едва ль будет прок. Коль волка поймал ты, немедля убей, Не то распростишься с отарой своей. От дьявола богопочтенья не жди, От злого к добру устремленья не жди. Злонравца поблажкой, смотри, не усиль, Злодея — в темницу, а беса — в бутыль. Увидев змею, за дубинкой своей Не мчись, коль поблизости много камней. Нечестность чиновничьей видя руки, Ту руку безжалостно ты отсеки. Советником лживым, поправшим закон, Ты будешь, о царь, в адский пламень введен. Смотри не надейся на лживый совет — Ах, он не сановник, виновник он бед! Коль счастья ты хочешь, внимай и следи — Как муж государственный, мыслит Са’ди!
Конец II главы
О ЛЮБВИ
ГЛАВА III
Страдальцы любви, я завидую вам. Знакомы вам язвы, знаком и бальзам! Вы нищи, презрев и богатство и власть, Вам жизнь украшают надежда и страсть, Вы пьете бестрепетно чашу тревог, Вы пьяны словами: «Не я ли ваш Бог?»[66] Для пьяных похмелия муть — вот беда! И к розе в шипах острых путь — вот беда! Но горькую чашу злосчастия ведь Вы ради любимого рады стерпеть, Не ропщет, кто страсти цепями пленен, И путы порвать не старается он. Хотя и безвестны сии бедняки, Духовной путины они знатоки; Упреки снося, пьяны страстью бредут: Охваченный страстью, вынослив верблюд. К их счастью пути не ищи: скрыт он тьмой — Так мраком окутан источник живой. Снаружи так жалок их вид, но внутри, Как в городе с ветхой стеной — алтари. Сгорает в огне мотыльком, кто влюблен, Как червь шелковичный не вьет он кокон, Всегда от довольства мечты далеки, — Он жаждой томится на бреге реки. Не мню, чтоб широко разлившийся Нил Безмерную жажду его утолил.Земное, как мы, полюбив существо, Всецело любви предаем естество. От милых ланит мы в безумьи весь день, И ночью пред нами любезная тень. Коль видим любимого мы пред собой, Ничтожен и жалок нам мир остальной. Коль злато наш друг презирает, оно Становится глине иль праху равно.
Ах, мы на людей остальных не глядим, Все сердце всецело захвачено им! Все время в очах обожаемый лик, А очи закроем — он в сердце возник. Не в силах мы жить без сего существа, И нам безразличны упреков слова. Захочет он душу из тела извлечь — Бестрепетно, радостно ляжем под меч. Ах, если над душами власть такова Земного, подобного нам, существа, Что ж думать о тех, кто любови иной Захвачен, затоплен всесильной волной? Для высшей любви те пожертвуют всем, И мир весь для них и не нужен и нем. Для истины свой позабудут народ, Плененные кравчим, расплещут свой мед. Нет средства от этих страданий и мук, Скрывают они ото всех свой недуг. «Не я ли ваш Бог?» — в их сердцах навсегда, Навеки в их душах ответное — да. Отшельников ноги во прахе пустынь, Но в душах пылает огонь благостынь. Как ветер, незримы и живы, как он, Как камень, тверды, молчаливы, как он. Их чистая, утром пролившись, слеза Мгновенно от сна омывает глаза. В ночи, до упада загнавши коней, Они об отсталости плачут своей. Любви и страданью предавшись, они Не знают различья: где ночи, где дни. Творца красоты до конца возлюбив, Они позабыли о тех, кто красив. Красу в оболочке находят глупцы, Лишь в сущности ищут ее мудрецы. Взяв чашу с блаженным экстаза вином, Забудьте о мире и этом и том.
Рассказ
Один попрошайка настолько был смел, Что к царскому сыну любовь возымел. Его охватил лихорадочный пыл, Безумные грезы лелея, бродил, Стоял на пути, точно столб верстовой, Иль вслед за конем он бежал, как шальной. От слез под ногами у нищего грязь, Все сердце изранил несчастному князь. Придворная челядь, прознавши о том, Ему запретила ходить пред дворцом. Ушел он, но можно ль осилить любовь? И к царским палатам вернулся он вновь. Побоями нищего встретил слуга: «Твоя чтобы здесь не ступала нога!» Бежал и вернулся. Усердие слуг Напрасно, коль отнял спокойствие друг. Хоть муху и гонят, опять и опять Все ж будет на сахар она прилетать. Сказал ему некто: «Послушай, чудак, Ужель для тебя так приятен тумак?» Ответил дервиш: «Не пристало рыдать, Побои от друга — одна благодать! Придет ли взаимность, придет ли вражда, Но чувство мое неизменно всегда! Ах, если и здесь угнетает печаль, Ужель принесет избавление даль? Терпеть нету сил, и порвать не могу, Забыть нету сил, и бежать не могу. Я крепко привязан к порогу палат, Я — гвоздь у шатра, а любовь — как канат. Не лучше ль погибнуть в огне мотыльку, Чем кануть во мрак, пустоту и тоску?» — «А если ударит човганом сплеча?» — «Что ж? Буду човгану я вместо мяча!» — «А если взнесет он отточенный меч?» — «Так что же? Пусть голову сносит он с плеч! Я, право, не знаю, о друг, что со мной? Венец иль топор над моей головой? Меня к терпеливости ты не зови, Смиренью, забвенью нет места в любви! Когда б даже стал как Иаков я слеп, Все ждал бы узреть, как Иосиф мой леп.[67] На мелочь обидеться может ужель Изведавший страсти пленительный хмель?» Раз стал он у князя лобзать стремена, Тот гневно назад осадил скакуна, Но нищий воскликнул, смеясь: «От меня Зачем повернуть захотел ты коня? Разгневался ты, о мой князь на кого? В ничто обратилось мое существо. И если грешу я — виновен не я; Тобою наполнена сущность моя. И если я дерзко лобзал стремена, В поступках природа моя не вольна. С тех пор как огонь сей зажегся в крови, Все отдал я в жертву несчастной любви. Меня ведь убил ты стрелами очей, К чему еще саблей грозишься своей? Валежник сухой подожги и ступай, А лес осужденный пылает пускай!»О самозабвении в любви
Под звуки чарующей музыки раз Пустилась плясунья прелестная в пляс. Огонь ли пылавших в собраньи свечей, Иль пыл от сердец восхищенных людей Ей платье поджег и ее испугал. «Не бойся, — один из влюбленных сказал; — Смотри, у тебя обгорела пола, Мое же все сердце сгорело дотла».Слиянья с любимым познай благодать, Забыв между ним и собой различать!
Рассказ
«У старца, — поведал мне странник один, В пустыню спасаться отправился сын. Отца он в кручину разлуки вовлек, И это поставили сыну в упрек, ,,Я позван был другом, — ответил аскет, — Родных и друзей для меня больше нет, Божественный образ увидел мой взор, И все остальное — лишь призрак с тех пор. Укрывшись сюда, не пропал я, о нет! За тем, что утратил, пошел я вослед “».В сем мире есть некая кучка людей, Сочтешь их за ангелов иль за зверей. Как ангелы, хвалят немолчно творца, Как звери, бегут от людского лица. В них мощь, в них и слабость, — безумье и ум, И ясность рассудка и пьянственный шум. То чинят лохмотья в смиреньи они, То жгут их, кружась в исступленьи, они. Забыв о себе, позабыли других, Никто не допущен к радениям их. Всегда в исступленьи их разум, а слух Упорно ко всем увещаниям глух. Но утка не может в воде утонуть, Огонь саламандре не страшен ничуть. Хоть нищи добром, да богаты душой, Бредут в одиночку пустыней сухой. Они далеки от обычных дорог, У них лишь одно устремление — Бог! Они на людей не похожи никак, Под рясой которых безверья кушак. Приятны, полезны они, как лоза, А мы хоть и в рясах, но лжем за глаза. Их внешность груба, неприглядна, строга — Так раковин створки таят жемчуга. Есть люди: по виду — созданье небес, Но в их оболочке скрывается бес. В них нету души: избегай сих людей, В них кожа одна да скрепленье костей. Не в каждой груди трепетанье души, Рабы для Владыки не все хороши. Коль жемчугом станут все капельки рос, На рынке им будет набит каждый воз. Кто истинно к Богу стремится, тому ль Потребна неверная поступь ходуль? Словами: «Не я ли ваш Бог» опьянен, До судного дня будет помнить их он. Ничто устрашить бы его не могло: Любовь, точно камень, а страх, как стекло!
Рассказ о владычестве любви
Жила в Самарканде девица одна, Не речи, а сахар роняла она. Блеск солнца затмивши своей красотой, Подвижников строгих смущала покой. Как будто, создав ту девицу, Творец Явил наивысший красы образец. Пойдет ли — следят все влюбленно за ней, Пожертвовать рады душою своей. Бродил постоянно за ней по пятам Влюбленный один. Увидав его там, Раз дева воскликнула гневно: «Конец Надеждам своим положи, о глупец! Ты мне на глаза попадаться не смей, Не то распростишься ты с жизнью своей!» Сказал ему некто: «Довольно, забудь! Доступней предмет поищи где-нибудь. Ты здесь ничего не добьешься, меж тем От горя-тоски пропадешь ты совсем». Услышал влюбленный безумец упрек, И с тяжким стенаньем в ответ он изрек: «О, пусть обнажит беспощадный кинжал, О, пусть бы во прах я, сраженный, упал. Прохожие скажут тогда надо мной: Сражен он жестокой любимой рукой. Умолкни, меня не брани, не порочь: Не в силах уйти от любимой я прочь, К отказу от страсти меня не зови, Себя пожалей, коль не знаешь любви. Оставь же меня. Я готов ко всему, Я с радостью смерть от любимой приму. Ночами бываю я жертвой огня, Но утро опять возрождает меня. Ах, если умру у нее на глазах, То с ней повстречаюсь я в райских садах!»Не бойся любви, к ней навстречу иди: Сраженный любовью, воспрянул Са‘ди.
Притча
Вскричал убиваемый жаждою: «Ах, Блажен, кто теперь утопает в волнах!» Сказали ему: «Одинаков конец — От жажды ль придет, от воды ль, о глупец!» Ответил: «О нет! Погибая средь вод, Уста омочить я успел бы вперед. Кто жаждет, тот бросится в воду, забыв О том, что назад не вернется он жив».За милого, любящий, крепко держись, Коль смерти захочет твоей, согласись. Чтоб райского стал ты достоин житья, Пройди через ад отреченья от «я». Бывает трудом хлебороб угнетен, Но, жатву собравши, покоится он. На пиршестве страсти блажен только тот, Кто в руки заветную чашу возьмет.
Рассказ
Вот что повествуют путей знатоки, Бродяги-провидцы, цари-бедняки: Однажды в мечеть попрошайка-старик, Прося подаяния, утром проник. «Послушай, ведь здесь не жилище людей, — Сказали ему: — здесь канючить не смей!» Спросил попрошайка: «Так чей же сей дом, Ужель бессердечны живущие в нем?» «Умолкни, — сказали ему, — не греши В дому Господина вселенской души». Взглянул на михраб, на лампады старик И издал при виде их горестный крик: «Как горько отсюда пускаться мне в даль, От этих дверей удаляться как жаль! Нигде не встречал я отказа мольбам, Ужель мне откажут входящие в храм? Нет! Здесь протяну я просительно длань И верю: никто мне не скажет — «отстань!» Остался и, длань простирая вперед, Как нищий, в мечети он жил целый год. Но вечером как-то бедняга постиг, Что смертный к нему приближается миг. Его осветили свечой в ранний час — Как утром светильник, старинушка гас. Шептал он (прислушайтесь к этим словам): «Толцытесь, и двери отверзятся вам». Коль истин взыскуешь, исполнися сил; Ах, разве бывает алхимик уныл? Ведь злата потерю готов он стерпеть В надежде, что золотом сделает медь. Все можно на злато купить, но ценней Нет вещи чем близость к любимой своей. Но если любимая мучит тебя — Ищи, и другая утешит, любя. Напрасными муками сердце не мучь — Огонь сей погасит живительный ключ. Но если нет равной по прелести ей. Терпи и довольствуйся долей своей. Тогда лишь с мучителем сердца порви, Коль можешь утешиться ты без любви.Рассказ
Очей некий старец всю ночь не смыкал И утром молитвенно к Богу взывал. Но голос таинственный молвил в ответ: «Бесплодны моленья твои, о аскет! Господь не услышал твой стон и мольбу, Ступай и оплакивай злую судьбу». И снова всю ночь промолился старик; Догадливый молвил ему ученик: «К чему же напрасно стараться теперь? Сия пред тобой не отверзется дверь». Кровавые слезы струя по лицу, С отчаяньем старец ответил юнцу: «О юноша! Здесь бы я зря не стоял, Когда бы другую дорогу я знал. Коль другу уехать желанье пришло, Я сзади рукой ухвачусь за седло. Тогда лишь от двери уйду я, поверь, Коль будет другая доступная дверь. Я знаю: на эту наложен запрет, — Что ж делать? Иного ведь доступа нет». Так молвив, на всякую жертву готов, Поник он. Но с неба послышался зов: «Хоть ты недостойно, неправедно жил, Приди! Постоянством стал Богу ты мил».Рассказ
Про мужа одна молодая жена Отцу говорила, печали полна: «Ужель ты потерпишь, чтоб мой муженек Меня на печальную долю обрек? Поверь, о родитель, страдать никому, Как мне, не приходится в нашем дому. Мы рядышком с ним, как двоешка-миндаль, Должны бы делить и восторг и печаль, А он между тем вечно мрачен на вид, Улыбкой меня никогда не дарит». Внимательно в жалобу дочери вник И молвил почтенный и мудрый старик: «Тебя красотою пленил он, о дочь, Что ж делать? Печаль ты должна превозмочь».Коль милому в мире подобного нет, Терпи, ибо с ним разлучаться не след. О, как убежишь от Того, Кто с тобой Мгновенно покончит, кивнув головой? Склонись перед Богом. Он твой Господин, Над всею вселенной Хозяин один.
Рассказ
Однажды хозяин раба продавал, Я слышал, как горестно раб простонал: «Хозяин рабов и получше найдет, Но я-то найду ли подобных господ?»Рассказ
Жил в Мерве[68] пленительный врач. Он в сердцах Царил, как царят кипарисы в садах. Но был равнодушен он к чарам своим, А также к страданьям пленившихся им. Я слышал слова чужестранки больной: «С тех пор, как я вижу его пред собой, К чему исцеленье? Хворать я хочу: В болезни я буду поближе к врачу».Как часто на ум выдающийся власть Свою налагает любовная страсть! Всевластно над ним торжествует любовь, И к жизни воспрянуть не может он вновь.
Рассказ о победе любви над разумом
Перчатки железные некто надев, Решил, что его не осилит и лев, Но зверь так насел на сего чудака, Что силы не стало, ослабла рука. Ему закричали: «Крепись, не робей! Ударь рукавицей его посильней!» Но, зверем измятый, бедняк возопил: «Перчатка, увы, не прибавит мне сил!»И разум пред страстью любовной, поверь, Вот так же, как эти перчатки и зверь. Хотя б ты доспехи носил на плечах, Ослабнешь бесславно во львиных когтях. Коль любишь, отбрось рассуждения ты: Ведь мяч, о читатель, — игрушка лапты!
Рассказ
Вступили в супружество двое людей Из родственных двух именитых семей. Супруга довольной казалась вполне, Но муж отвращенья был полон к жене. Супруга к нему устремлялась душой, Но хмурился муж, раздраженный и злой. Рядилась жена, чтобы муж полюбил, А он у создателя смерти просил. К нему обратили старейшины речь: «С женой разведись и ее обеспечь». Пришел он в восторг: «Вот счастливый конец — Вернуться к свободе за сотню овец!» Узнала об этом красотка-жена, От горя свой лик изъязвила она: «В сто тысяч голов пусть сулят мне стада, Но милого мне не забыть никогда!»Не будь соблазненным усладой мирской, — Лишь в близости к другу обрящешь покой.
Притча
Спросили страдальца любви: «Отвечай: Твое устремление ад или рай?» Ответил: «Меня вопрошаешь к чему? Что другу понравится, то и приму».Меджнун[69]
Спросили Меджнуна: «Что сталось с тобой, Ты больше не ходишь в наш стан кочевой? Ужель позабыта тобою Лейла, И в сердце Меджнуна другая вошла?» Несчастный страдалец расплакался вдруг: «Зачем ты меня истязаешь, о друг? И так на душе безысходная боль, Зачем еще сыплешь на раны ты соль? Разлука — не признак забвенья, друг мой, К разлуке судьба принуждает порой». «Доверь мне, — сказал собеседник в ответ, — Могу передать я любезной привет». «Не надо, — ответил, — ты нас пожалей, Совсем о Меджнуне забудь перед ней».Махмуд[70] и Аяз[71]
Сказал враг Махмуда: «Скажу без прикрас, Совсем некрасив ведь хваленый Аяз. Ах, может ли розу любить соловей, Коль нету ни красок, ни запаха в ней?» Сказали Махмуду об этих словах, И молвил, сердито нахмурившись, шах: «Аяз не телесной мне мил красотой, Но нравом своим и прекрасной душой».В пути раз верблюд не осилил подъем, Упал, и разбилась шкатулка с добром. Пришпоривши лошадь, умчался Махмуд, — Пускай приближенные все разберут. Из всадников каждый туда поскакал, Чтоб жемчуг себе захватить или лал. Остался без свиты Махмуд-властелин, За ним устремился Аяз лишь один. Спросил его шах: «Из добра моего Что взял ты?» Ответил Аяз: «Ничего. Вослед за владыкой погнал я коня. Ах, долг мой дороже богатств для меня!»
Вещественных благ если ищешь, любя, Не милого любишь ты, знай, а себя. Коль рот твой от алчности будет открыт, Для слуха глагол сокровенный молчит. Ведь истина — это роскошный чертог, А похоть и страсть — пыльный облак дорог. Закрыт этой пылью прекрасный дворец, Его ты не видишь, хоть ты не слепец.
Рассказ
Бродил я со старцем Фарьябской земли[72], И к морю в Магрибе[73] мы с ним подошли. Имея дирхем, на корабль я был взят, На старца же крикнули грозно: «Назад»! Скупой капитан состраданья не знал, И отдали негры-матросы причал. Я горько заплакал от тех неудач, Но крикнул мне старец со смехом: «Не плачь! Меня проведет над глубинами Тот, Кто этот корабль над пучиной ведет». Не сон ли, не призрак ли это? Средь волн Стоит он. Молитвенный коврик, как челн. Взволнованный этим, всю ночь я не спал, А он поутру предо мною предстал: «Чего ты дивишься? Всесилен ведь Бог, Он мне переплыть через море помог».Как можно дивиться тому, что святой Проходит чрез воду иль пламя живой? Не знающих страха и резвых ребят Всегда матерей попеченья хранят. Вот так же Господь охраняет людей, Угодных ему, от огня и зыбей. От пламени им Авраам[74]был спасен, От Нильских глубин Моисея спас он[75]. Ведь если поддержит искусный пловец, По Тигру плывет, не колеблясь, малец. Но коль загрязнил ты и дух свой и плоть, Тогда берегись! Не поможет Господь!
Довольно блуждать по тропинкам ума! Стремись только к Богу. Все прочее — тьма! Ведь ясно? Но слушай, что скажет иной Придира и умник, качая главой: «Коль мир наш — ничто, что ж такое тогда И люди, и птицы, и тварей стада?» Умно ты спросил. Но послушай, мой свет, Что молвлю тебе я на это в ответ: Поля, океан, небосвод и гора, И люди, и бесы, и духи добра Так малы пред Богом, что мы бытием Едва ль прозябание их назовем. Как грозен морей взбаламученных вид! Как солнце безмерно высоко горит! Но знай: духовидцев возвышенный взор Объемлет такой безграничный простор, Что солнце покажется меньше зерна, А семь океанов — как капля одна. Царь славы поднимет свой стяг — и весь мир В ничто превращается, жалок и сир.
Рассказ
Однажды помещику с сыном, в пути, Пришлось через лагерь султанский пройти. Здесь витязи с саблей, с секирой в руках, В атласных одеждах, в златых кушаках, Там ловкие лучники царских ловитв, Метатели стрел для охот или битв. Одни все в шелку и в парче удальцы, На прочих достойные шаха венцы... На пышность и блеск любовался юнец, Вдруг видит — совсем изменился отец, Смутился, понурился, весь побледнел, Сторонкой пройти незаметно хотел. Сказал ему сын: «О отец, ведь в своей Деревне ты всех именитей, властней. Чего же ты здесь приуныл, как дервиш? Чего, как осиновый лист, ты дрожишь?» «Да! Власть я имею, — ответил отец,— Но ей за пределом деревни — конец».Ах, так же все сильные мира дрожат, Достигнув предвечного царствия врат! Имеющий власть в деревушке своей, Опомнись! В гордыне пустой не косней!
Услышавши мысль иль хотя бы намек, Подхватит Са’ди, глянь — и в притчу облек!
Светляк
Наверно, в садах замечал ты в ночи: Блестит червячок, точно пламя свечи; Спросил я: «О ты, озаряющий тьму, Куда ты скрываешься днем, не пойму?» Во прахе рожденный смиренный червяк На это ответил, послушайте как! «Я вовсе от солнца не прячусь, о нет! Да только при солнце не виден мой свет».Рассказ
Раз в Сирии бунт подавляли войска, Схватив, на допрос повели старика. Цепями окованный, тот человек Сказал — слов его не забуду вовек — «Когда б не позволил Верховный Судья, Свершилась бы разве неправда сия? Злодеев моих полюбить я готов, Ведь это Сладчайший послал сих врагов. Ах, люди — ничто! Все от Бога всегда: Величье и радость, позор и беда».Коль горько лекарство, не морщься, о друг Ведь зелье сие исцелит твой недуг. Что врач назначает, прими и не плачь, Недужный бывает ли сведущ, как врач?
Рассказ Поэт стал Саада Зенги восхвалять. (Да будет над прахом царя благодать!) Был щедро осыпан подарками он И в царский роскошный наряд облачен. Но вот на одном из червонцев слова: «Господь — наше все» прочитал он едва, Как, весь взволновавшись, дареный наряд Сорвал и в пустыню бежал безогляд. Спросил его некий пустынник: «О друг, В чем дело? Чего взволновался ты вдруг? Сначала ты прах лобызал пред царем, Зачем же бежал от него ты потом?» «Сперва пред людьми я, — поэт отвечал, — В надежде и в страхе, как тополь, дрожал. Реченье: ,,Господь — наше все“ я потом Прочел и теперь не нуждаюсь ни в ком».
Рассказ
Был некто во власти любви, как и я, Такую же муку терпел, как моя. Он мудрым когда-то считался, и вот Считать его стал за безумца народ. Но все притесненья легко он сносил: Так много в любви почерпаем мы сил. Глава опускалась под молотом бед, Как шляпка гвоздя, но не плакал он, нет! Так много любовных мечтаний, и столь Мучительна сердца влюбленного боль, Что были обиды ему нипочем, Кто тонет, тот мало напуган дождем. Кто любит, тот твердо готов перенесть И смертные муки: ах, что ему честь! Раз ночью, принявши красавицы лик, На ложе к любовнику дьявол проник. Проснулся влюбленный, грехом осквернен, Нечистым себя для молитвы счел он. Свершить омовенье помчался бегом, Но за ночь источник окован был льдом. Желая добра, кто-то крикнул: «Постой, Умрешь ты от этой воды ледяной!» Со стоном влюбленный ответил ему: «О друг, замолчи, увещанья к чему? Я эту красавицу так полюбил, Что дольше терпеть не имею я сил: Ни ласки, ни жалости нет у нея, Ах, до смерти, друг мой, измучился я!»Господь нас из глины, друзья, сотворил, И душу бессмертную в нас он вложил. О, как же не чтить нам Господень приказ, Коль щедрости столько излил он на нас?
Рассказ
На флейте играя, красивый юнец Сжигал восхищением много сердец. За это родитель его попрекал, Бранился и флейту, случалось, сжигал. Но вечером как-то прислушался он И сына игрой был в тот раз восхищен. Воскликнул он: «Флейту сжигал я в огне, А ныне огонь разгорелся во мне!»Ты знаешь ли, в пляске зачем круговой Дервиши махают руками порой? Они открывают наитья врата, А мир отстраняют, ведь мир — суета! В восторге любовном коль пустишься в пляс, Всем телом твоим пусть владеет экстаз. Допустим: искусный пловец ты, но все ж, Едва ли одетым ты в воду пойдешь. Приличия, чести одежды долой, Чтоб лучше сумел ты бороться с водой. Приманки мирские, как путы, порви, Тогда лишь достигнешь слиянья в любви.
Рассказ о мотыльке и свече
Раз дал мотыльку кто-то добрый совет Любви отыскать поскромнее предмет. «Пред гордой свечой увиваться тебе ль? Ищи же другую, доступную цель. Не страшен огонь саламандре одной, В сей битве любовной потребен герой. Сильнейшего в схватке ужель победишь? От солнца летучая прячется мышь. Смешно уповать на любовную связь, Коль милый враждует с тобой, не таясь. Никто не поддержит тебя, мотылек, От всех ты услышишь один лишь упрек. Коль нищий посватает царскую дочь, Прогонят его с поношеньями прочь. Воззрит ли свеча на тебя? Ведь, горя, Она привлекает вниманье царя. Красуясь в придворном, блестящем кружке, Не вспомнит она о тебе, бедняке. Им светит она, весела и нежна, Тебя же, беднягу, сжигает она». Внемли, мотылек что ответил тогда: «Ах, если сгорю я, ну что за беда?.. Я стал и без этого жертвой огня, Огонь этой страсти обуглил меня. Я знаю, смеется она надо мной. Но что же мне делать, коль отнят покой? Пойми: ведь в огонь я бросаюсь не сам — Покорен я страсти влекущим цепям. Я издали видел ее на окне И весь загорелся, хоть не был в огне. Бессильны упреки, властительна страсть, Пред милой я рад бездыханным упасть. Ведь я и при жизни ничто перед ней — Совсем уничтожиться жажду скорей. И если я стану добычей огня, Быть может, жестокая вспомнит меня... Ты мне говоришь, чтобы, бросив свечу, Нашел бы я ношу себе по плечу. Но разве ты скажешь: умолкни, не ной, Тому, кто опасно ужален змеей? Пред тем, кто не в силах исполнить совет, О друг, красноречие тратить не след. Коль выронил всадник поводья из рук, Ужель закричишь ты: ,,Потише, мой друг!“ В Синдбадовой книге читал ты иль нет[76]: ,,Любовь, точно пламя, как ветер — совет“. От ветра огонь полыхает сильней, А тигр от ударов становится злей. Желая добра, все ж подругу подстать Напрасно ты мне предлагаешь искать. Нет! С равными время свое не губя, Стремись только к тем, кто достойней тебя. Кто истинно любит — идет, не боясь, Его не утешит доступная связь. Лишь только я страсти почувствовал пыл, Я в этот же миг о себе позабыл. Тот жертвы боится, кто любит себя, Любовники жертвуют жизнью, любя. Коль смерти для всех неизбежен приход, Пусть лучше любимая сразу убьет. Пусть лучше меня убивает она. Коль гибель для всех все равно суждена, К чему дожидаться назначенных дней? Умру я в ногах у любимой моей».Окончание III главы
Я ночью бессонной однажды тайком Подслушал беседу свечи с мотыльком. Он молвил: «Я гибну от сладкой любви, И это — понятно, но слезы твои Что значат?» Свеча отвечала: «Живет В разлуке со мною возлюбленный мед[77]. С тех пор как не видит любимого взгляд, Скорблю, как несчастный любовник Фэрхад[78]». Так молвила, слезы обильно точа По желтым ланитам, в уныньи свеча. «Ты — ветреней. Тяжких не знаешь ты бед, В тебе ни смиренья, ни верности нет. Обжегшись, бежишь ты в испуге. А я? Сгораю на месте я, слезы струя. Тебе обжигает любовь лишь крыла, А я неизбежно сгораю дотла. На свет мой веселый глядишь до зари. О нет! Ты на слезы мои посмотри! Ведь я как Са’ди. Он улыбчив на вид, Но сердце от муки любовной горит». Умолкла свеча. Протекло полчаса. Вдруг, в терем вошедши, девица-краса Задула свечу. Не дожив до зари, Погасла она, прошептавши: «Смотри: Так гибнет любовь. Ах, пыланью сердец Кончина одна полагает конец! Над прахом страдальцев любви не рыдай, Но Бога прославь, ибо принял их в рай».Любовник! Не бойся страданий любви, Но путы соблазнов житейских порви. Дав клятву, вперед устремляйся смелей, Ни стрел не пугайся, ни града камней. Вступать в океан берегись, но, вступив, Отдайся, коль бури захватит порыв.
Конец III главы
О СМИРЕНИИ
ГЛАВА IV
Из праха нас Бог сотворил. О рабы, Склоните же к праху пред господом лбы! Не жадничай. Блага чужого не тронь. Из праха рожден ты, — не будь, как огонь. Вздымается пламя, грозя и паля, Меж тем как смиренно простерлась земля. Из спеси огня духи зла изошли, Но создан Адам из смиренной земли.Притча
Из тучи раз капля скатилась одна И, море увидев, была смущена: «Безбрежен простор океана... а я? Что значит здесь жалкая доля моя!» И так на себя со смиреньем смотря, Вдруг сделалась перлом, достойным царя, И волей небес обрела благодать — Жемчужиной в царском венце воссиять. Смирившись, высоко была взнесена, Исчезнуть стремясь, жизнь прияла она.Рассказ
Сошел с корабля раз на греческий брег Достойный один молодой человек. Спознали в нем мыслей и чувств высоту, И был он в дервишеском принят скиту. Сказал раз ему настоятель: «Во храм Ступай и оттоль убери сор и хлам». Услышав приказ, тотчас вышел мюрид, Но больше совсем не вернулся он в скит. О том рассудили меж братии так: «Знать, службой гнушается этот чужак». И кто-то из служек, его повстречав, К нему обратился: «Ведь ты был неправ. Бежать, о гордец, от служенья нельзя, Служенье смиренное — к Богу стезя». Тут послушник бывший, заплакав, в ответ Промолвил: «О друг дорогой, о мой свет! Вошел я в мечеть. Сора не было в ней. Знать, сор заключался в особе моей. Поспешно я вышел оттуда тогда, Чтоб скверности там не осталось следа».Смирись, о вступивший на подвига путь, И кроме смиренья о всем позабудь. Ах, если ты к небу стремишься, смирись: По лестнице этой поднимешься ввысь. Склонись униженно пред Богом во прах, Ведь долу склоняется ветка в плодах.
Рассказ
Раз вышел из бани — тот день был Байрам[79] — Честной Баязид[80], шейх из града Вистам. В то время как он направлялся домой, Над ним кто-то высыпал чашку с золой, Испачкав чалму и власы мудреца, Но молвил он, прах отирая с лица: «Ах, что мне зола! Для меня все равно: На адский огонь осужден я давно».Кто праведен, тот беспощаден к себе. Не внемлет Господь себялюбца мольбе. Величье отнюдь не в надежде пустой, Не в спеси, не в призрачной славе земной. Принизившись здесь, воспаришь в небесах, За гордость же будешь низринут во прах. Не любит Господь гордецов. Трепещи! Коль хочешь величья, его не ищи.
У тех благочестья напрасно искать, Кто видит лишь в благах мирских благодать. Коль дух твой высоких взалкал степеней, С презреньем глядеть не моги на людей. Ведь нечего думать о том, чтоб мудрец Склонился пред спесью твоею, гордец. И высшая степень, по-моему, в том, Чтоб люд о тебе отзывался добром. Ведь, если надменен с тобой кто-нибудь Из равных, одобришь ли это? Ничуть! И так же к тебе отнесутся, пойми, Коль будешь спесив и надменен с людьми. Высокую степень иль должность заняв, Не смейся над теми, кто сир и без прав. Высокопоставленный может упасть, И вот перейдет к угнетенному власть. Пусть ты безупречен, пусть грешен Са’ди, Но все же его не брани, пощади. Один за святилища взялся кольцо, Другой в кабаке попивает винцо. Но вдруг богомола Господь не взлюбил, А бражник, быть может, создателю мил, Он дверь покаянья отверзет ему, Меж тем как святоши мольбы ни к чему.
Нищий правовед и судья
Раз бедный законник явился к судье, Явился и сел на почетной скамье. Сердито судья на беднягу взглянул, А пристав пришел, за рукав потянул: «Вставай, недостоин ты здесь восседать. Сядь ниже, иль вовсе отправишься вспять. Почетного места достоин не всяк, Ведь место сие — уважения знак. Я вижу, что ты устыдился теперь И к мерам другим не прибегну, поверь. Кто скромно садится на месте своем, Того не изгонят оттоль со стыдом. Забудь о местах именитых людей, Быть львом не старайся, коль нету когтей». И вспомнились мудрому мужу тогда Несчастная доля его и нужда. Он вздох из груди безнадежный извлек, Смиренно поднялся и сел в уголок. Меж тем обсужденья настала пора, И прения начали прав доктора. Мгновенно меж них возгорелась вражда, Твердили настойчиво: «нет» или «да», Как будто в палате судилищной той Свели петухов на отчаянный бой. Один, как хмельной, бесновался во зле, Другой кулаком колотил по земле. Все более путался спор их и вот — Запутался так, что ни взад, ни вперед. Тогда-то, смущенье свое одолев, Воспрянул законник-бедняк, точно лев, И молвил: «Борцы за Господний завет, Мужи, откровенья хранящие свет! Ведь доводы мудрые в споре важней, Чем сила и крепость гортаней и шей. Внемлите! Я в этих делах не простак». Сказали ему: «Говори, если так». Тут речью своей, как печаткой кольца, Отметил мудрец правоведов сердца. В пустые прикрасы не вдавшись ничуть, Предмета затронул он самую суть, И, кончивши речь, ото всех он собрал Обильную жатву горячих похвал. Он правил конем красноречья лихим, Увязшим ослом был судья перед ним. Одежду судейскую сняв и чалму, Судья захотел передать их ему: «Я сразу твой сан не сумел распознать, Я встречи тебе не устроил подстать. Как жалко, что ты при таланте таком Находишься, друг, в положеньи плохом». Тут пристав, приблизившись к мужу, ему С почетом судейскую подал чалму, Но молвил он, дар отстранивши рукой: «Тщеславья и гордости путы долой! Как завтра останусь средь бедных людей Я в этом тюрбане длиной в пять локтей? Ведь если муллою меня назовут, Презренен мне бедный покажется люд. Вода ключевая чиста и светла, В каком бы сосуде она ни была. Главу украшает величье ума, А вовсе не пышная в складках чалма. Пусть пышной чалмой голова обвита, Что толку, коль будет, как тыква, пуста? Чалмой, бородой не кичись, голова, — Из хлопка чалма, борода — как трава. Ведь ежели в муже прекрасен лишь вид, Пускай он, подобно картинке, молчит. Во что бы ни стало ко власти не рвись, — Сатурн высоко, но зловеща та высь. Тростник для цыновок хоть вырос велик, Но сахарный все же ценнее тростник. Пусть пышная свита идет за тобой, Что толку, коль будешь ты слаб головой? Стеклянная бусина молвила так, Когда ее поднял какой-то чудак, За жемчуг приняв: ,,Всякий, знающий толк, Отбросит меня. Не клади меня в шелк“. Улитка, которая в розах сидит, Ничем не отлична от прочих улит. Тот лучше не стал, кто в богатстве процвёл, — Осел в чепраке дорогом, все ж осел». Так он говорил. Красноречья водой С души он смывал раздражения зной. Обиженный резко всегда говорит, — Коль враг твой упал, пусть он будет добит. Воспользуйся, ежели случай хорош, — Злодей коль повержен, его уничтожь. Судья оглушенный приник и притих И только из книги божественной стих: «Поистине день сей тяжел» он шептал, Да руки кусал да глазами сверкал. А бедный законник в тот миг из суда Ушел, по себе не оставив следа. Волненье возникло и спрашивал всяк: «Откуда явился сей дерзкий чужак?» Расспрашивал пристав: видал кто иль нет Мужчину таких и таких-то примет? И некий ответил ему гражданин: «Так сладко сказать мог Са’ди лишь один».Ответ сей прекрасен, и прав этот суд, Коль горькую истину сладкой зовут!
Рассказ о покаянии царевича
В Гяндже жил царевич в минувшие дни Такой нечестивец, что Бог нас храни! Однажды он, пьяный, явился в мечеть И начал там песню бесстыдную петь. Меж тем находился на месте своем Мудрец именитый во храме святом, Среди почитателей рьяных своих, — Ведь мудрые всюду находят таких. От пьяных бесчинств забулдыги-юнца Стеснились печалью и мукой сердца. Но если неверен властителя путь, Найдется ль смельчак, чтоб его упрекнуть? Чеснок ведь пахучее розы. Кимвал И лиру и арфу всегда заглушал. Все ж если воздействия путь не закрыт, Сидеть безучастным калекою — стыд. Пусть немощна длань, пусть бессилен язык, Но нравственной силою мудрый велик. И вот к мудрецу почитатель один, Смиренно склонившись, воззвал: «Господин, Взмолись же, — ведь мы без влиянья, без сил. Чтоб дерзкого пьяницу Бог поразил. Молитва и пламенный вопль мудреца Сильней топора и меча-кладенца». Подвижник, услышав такие слова, Взмолился: «О Господи, царь естества! Ты князя младого спаси, сохрани И даруй ему беспечальные дни». Тут кто-то воскликнул: «Зачем, не пойму, Желаешь ты благ нечестивцу сему? Кто блага злодею желает, ведь тот Беду призывает на добрый народ!» Ответил мудрец: «Не волнуйся, о друг, Ты смысла не понял, усвоил лишь звук. Хотел я, чтоб Бог к покаянью призвал Царевича. Людям я зла не желал. Ведь тот, кто пред Богом покается, знай, Тот внидет в господень сияющий рай. Пусть бросит он радость пиров и вина Для жизни, что вечного счастья полна». Возвышенной мудрости полный глагол До слуха царевича кто-то довел. Услышал — и облаком грусти глаза Затмились, и в них показалась слеза, Тогда как на сердце зажегся костер, И долу смущенный потупился взор. И вот — в покаяния двери стучась — Послал к мудрецу приближенного князь: «На помощь притти соизволь. Пред тобой Готов я покорно склониться главой». Отправился к царским палатам мудрец, Вошедши, он взором окинул дворец. Светильников много, сластей и вина, Хмельными гостями палата полна. Кто был без сознанья, кто чуть под хмельком, Кто пел, ендову наливая вином. Тут слышится пенье, рокочет струна, Там кравчий кричит: «Ну-ка, выпьем до дна!» Здесь всякий рубиновой влагою пьян, Арфистки, как арфа, сгибается стан. Смежает глаза и склоняется вниз Здесь каждый, и бодро глядит лишь нарцисс. Сливается лютни с тимпанами звон, И слышится флейты страдальческий стон. Но князь приказал — оземь все и в куски. И вмиг вместо шума — безмолвье тоски. Поломаны лютни и арфы вконец, Мгновенно забыл о напеве певец. Забросан камнями украшенный стол, Конец всем сосудам и кубкам пришел. Из схожего с уткой сосуда вино Течет, как утиная кровь, все равно. Беременной долго была сулея, Вмиг дочь родилась — золотая струя. Бутылка, увидев, что ранен бурдюк, Кровавые слезы роняет, как друг... Но князь, не довольствуясь тем, приказал Весь новыми плитами вымостить зал Затем, что отмыть не могла б никогда Тех винных, рубиновых пятен вода. Не диво, что был и бассейн сокрушен — Вином пропитался достаточно он. С тех пор, коль бралась чья за лиру рука, Как бубну, давали ему тумака. Арфист ли являлся достаточно смел, Вмиг, лютне подобно, он трепку имел. А что же касается князя, то он Стал строгим подвижником с этих времен. А раньше? Как часто во гневе отец Приказывал сыну: «Опомнись, юнец»! Но сын не боялся оков и угроз, И пользу глагол мудреца лишь принес. Но если бы резок тогда и суров Был глас мудреца: «Отвратись от грехов!» Вином и гордынею пьян, разъярясь, Убил бы подвижника вспыльчивый князь. Рычащего льва не удержишь щитом, Пантеру едва ль испугаешь мечом. Врага одолеешь ты лаской своей, А резкостью ты оттолкнешь и друзей. Не будь же суровым и жестким, о брат, Смотри: к наковальне безжалостен млат. С властителем резок не будь никогда, — От этого будет одна лишь беда. Да будет со всяким покладист твой нрав, Кто б ни был он: властен иль сир и без прав. Ведь слабого добрая речь подбодрит, А гордый, быть может, почувствует стыд. Удачу дает только добрая речь, А резкая — злобу лишь может навлечь. Учись сладкоречью, о друг, у Са’ди, Злонпавцу угрюмому молви: уйди!Продавец меда
Был некий торгующий медом купец Прекрасен и молод — мученье сердец. Он строен был дивно, и больше, чем мух, Всегда покупателей было вокруг. И если бы яд продавал он, народ Такую отраву считал бы за мед. А некто увидел, как бойко дела Его развивались, и — зависть взяла. Усердно он занялся этим трудом, Но, медом торгуя, был уксус лицом. Весь город избегал он, клича народ, Но даже и муха не села на мед. И за день добыть не сумев ни гроша, Вернулся домой утомлен, чуть дыша, Угрюм, точно грешник пред страшным судом Иль узник, расстроенный праздничным днем. Жена ему молвила: «Если твой вид Угрюм, то и мед у тебя загорчит».Нрав добрый — одна из небесных отрад, Злонравцу ж дорога указана в ад. И теплой, речною напиться водой Все ж лучше, чем этой струей ледяной. Коль сложена скатерть и в складках чело, Обед у такого хозяина — зло. Угрюмо, о друг, не нахмуривай лба, К злонравцу безжалостна будет судьба. Допустим, что золотом ты не богат, Так что ж, как Са’ди, ты не ласков, о брат?
Рассказ
Однажды гуляки хмельного рукой Был за ворот схвачен подвижник честной. Не поднял в защиту обиженный длань, Безропотно снес он побои и брань. Его упрекнули: «Не муж ты — о стыд! — Никто бы не вынес подобных обид». Подвижник, сему порицанию вняв, На это ответил: «О нет, ты не прав! Разорван мой ворот рукой драчуна — Для схватки со львом чья десница сильна? Я трезв и разумен, и мне ли под стать С хмельным забиякою в драку вступать?»Для мудрого внятен лишь этот закон: На зло добротою ответствует он.
Рассказ
Однажды напал на пустынника пес, Укусы жестокие старцу нанес, Без сна он томился от боли всю ночь. Со старцем-отшельником жившая дочь Сказала ему, негодуя, в упрек: «Собаку и сам укусить бы ты мог». Сквозь слезы тогда рассмеявшись, в ответ Промолвил отшельник дочурке: «Мой свет, Конечно, нашлось бы для этого сил, Но рот свой, о дочь, я тогда б осквернил. Ах, если бы мне угрожали мечом, Не стал бы я все-таки грызться со псом. Пусть злом отвечает невежда на зло, Но с мудрым случиться того не могло».Рассказ
Жил некогда муж — знаменит добротой. Был раб у него в услуженьи дурной: Власы в беспорядке, лицом некрасив, Лица выраженьем противен и лжив, Подобно змее ядовит его рот, Над всеми уродами был он урод. От запаха потных подмышек его Слезились глаза у него самого. Придется ли стряпать — он хмурится, зол, А подан обед — с господином за стол Всегда он садился... и жаждой хотя б Хозяин томился —бездействовал раб. Ни бранью не справишься с ним, ни дубьем. И ночью и днем возмущал он весь дом. То кур он в колодезь загонит, то, двор И дом убирая, рассыплет он сор. Пугает наружностью добрый народ, Пойдет ли за делом каким — пропадет. Раз некто сказал господину: «К чему Ты терпишь такого раба, не пойму. Оплошности сносишь и грубый ответ, Ведь, право, не стоит он этого, нет! Раба отыскать я получше могу. На рынок сведи ты дурного слугу, И если медяк лишь дадут за него, Бери, ведь не стоит сей раб ничего». Услышавши это, хозяин-добряк Ответствовал другу: «О друг, это так! Дурен этот малый, ленив и лукав, Но мой только лучше от этого нрав. От парня сего до конца претерпев, Смирять научусь нетерпенье и гнев».Сначала терпение горько, но плод Терпения сладок бывает, как мед.
Рассказ о подвижнике Мэ’руфе[81]
Чтоб следовать мог ты Мэ’руфу в пути, Сначала познаньем себя просвети!Однажды, я слышал, его посетил Один чужестранец. Болезнен и хил, Без краски в лице, без волос — в чужаке Держалась чуть жизнь на одном волоске. Он на ночь остался, раскинул кровать И стал беспрестанно вопить и стонать. Всю ночь напролет он не спал и другим Заснуть не позволил стенаньем своим. Он был полумертв, но, сварливый и злой, Все жил он, других убивая хулой. Вставал и ложился, вопил, причитал И всех окружающих тем разогнал. Остались в дому лишь Мэ’руф пречестной. Да жены его, да пришелец больной. Мэ’руф по ночам не ложился: всю ночь Ходил за больным, а дремоту гнал прочь. Но был он ночами без сна истомлен, И вечером как-то свалил его сон. Усталые вежды едва он смежил, Как начал браниться больной что есть сил: «Презренье, проклятие людям таким: Их вера, их честь — лицемерье и дым. Под чистою рясой скрывают свой блуд, Под видом святош лицемерят и лгут. Задремлет бездельник, съев сытный обед, И дела ему до недужного нет!» И так продолжал он Мэ’руфа ругать За то, что осмелился тот задремать. Мэ’руф снес ругательства кроток и тих, Но жены в хареме услышали их, И молвила мужу одна: «О глава, Ты слышал ли нищего-плаксы слова? Скажи же ему: уходи, не терзай И где-нибудь в месте другом умирай. Пусть будут почтенны благие дела, К злонравцу участье не хуже ли зла? И вместо подушки пусть будет кирпич Для тех, кто для ближних, поистине, — бич. Не будь же внимателен к злым. Лишь дурак Сажает деревьев ростки в солончак. Тебя отвратить от добра не хотим, Лишь просим: добра не оказывай злым. Уместны ль к злонравцу любовь и привет? Ласкают ведь кошек, но псам ласки нет. А пес благодарный ведь лучше, ей-ей, Таких непризнательных, злобных людей. Коль злому окажешь вниманье — на льду, Который растает, записывай мзду. Об этом больном не радей. Ведь таких, Как этот дервиш, не видала я злых». Услышавши эти упреки, Мэ’руф Ответил, с улыбкой на женщин взглянув: «Ступайте, покойтесь в своем терему, Безумствовать ради безумца к чему? От боли меня он и клял и бранил, Но этою бранью мне сделался мил».
Ах, выслушать нужно проклятия тех, Кто тяжким страданием вводится в грех! Коль в жизни ты видишь любовь и покой, Терпи от обиженных злою судьбой. Коль ты, точно клад охраняющий змей, Всю жизнь просидишь, позабыт меж людей По смерти ты будешь. Но, если взрастил Ты щедрости древо — тем станешь им мил. Глянь: в городе Керхе[82] обилье гробниц, Но лишь пред Мэ’руфовой — падают ниц. Вельможи горды, но неведомо им, Что только смиренный поистине чтим.
Рассказ
Подвижника нищий, нахален и смел, Просил о подачке. Но тот не имел В то время ни гроша. Был пуст кошелек: Разбрасывал деньги сей муж, как песок. Назад попрошайка пошел разъярен И начал порочить подвижника он: «Беда! Скорпиону подстать лицемер! Страшитесь прикрытых милотью пантер! Свернутся, как кошки, уткнувши носы, Но дичь лишь увидят — воспрянут, как псы. Невыгодно дома им быть, и в мечеть Приходят, чтоб лучше в плутнях преуспеть. Дорожный грабитель живет удальцом, А эти воруют трусливо, тайком. На платье и черных и белых заплат Нашьют, а в казне и в амбарах хранят Большие богатства... О злые лжецы, Бродяги, пройдохи, плуты-продавцы! Во храме дряхлы и слабы, но взгляни, Как пляшут во время радений они! К чему лицемеры свершают намаз? Скакали бы, пели, пускались бы в пляс. Как жезл Моисея, похожи на сук — В прожорливых змей превращаются вдруг. Что мудры они и воздержны, весь свет Они убедили, но этого нет. Хоть в рубище сами одеты, но глянь Убранство их жен — с Эфиопии дань. Из всех предписаний, что издал пророк, Блюдут время сна лишь да ужина срок. Их чрево едою различной весьма Набито, как будто дервиша сума. Но, впрочем, ругать их довольно. Ведь я И сам из дервишей. То — наша семья». Так он говорил. У злонравца всегда К достоинствам, к доблести — злая вражда. Ведь тот, кто бесчестен, стыдом не томим, Коль ближнего честь опорочена им. Ту брань услыхал и до старца довел Один ученик. О, напрасный глагол! Пускай нас бранят, но о ругани той Кто нам передаст, тот — приятель плохой. Стрельнул в меня некто из лука. Стрела Упала, нисколько не сделавши зла. Зачем же ее ты ко мне притащил, Ведь этой стрелою меня ты пронзил? Подвижник, о ругани той услыхав, С усмешкою молвил: «Ну что же? Он прав. Да только он не был достаточно зол, Мои прегрешенья не все перечел. Он лишь полагает, но ведаю я О том, как безмерна греховность моя. Знаком этот странник со мною лишь год, Меж тем как моим прегрешениям счет Уж семьдесят лет. И узнать только мог О них: грешный я да всеведущий Бог. И, право, он был снисходительней всех, Коль думал, что в этом лишь только мой грех. Свидетелем коль на суде будет он, Мне ль ада бояться? Я буду прощен. Скажу я хулителю: «Список пиши Порокам моей многогрешной души».Таков-то вступивший на истинный путь, — Стрелам испытаний подставил он грудь! Он сбросил с главы самомненья колпак — Достоинства блещет на темени знак. Терпи же, пусть шкуру сдирают с тебя, Ведь мудрые сносят беду не скорбя. Из праха их, знай, если слепят сосуд — Хулители камнем клевет разобьют.
Рассказ
Нередко царь Сирии Мелик-Салех[83] Ходил на заре, неизвестен для всех, Как всякий араб, с полускрытым лицом, По рынку, по улицам, с верным рабом. — Для тех, над которыми пала беда, Он был справедливым владыкой всегда. — Зашел раз в мечеть он и видит — в углу Лежат двое нищих людей на полу. Бессонною ночью измучены, взгляд, Как хамелеоны, за солнцем стремят. Один из них молвил другому: «Суда Последнего время наступит когда, Коль кто из надменных, спесивых царей, Свой век проводящих средь нег и страстей, Поднимется вместе с несчастными в рай, Совсем из гробницы не встану я, знай. Ведь рай- — это сирых и бедных приют За то, что мы горем опутаны тут. Добра от царей много ль видим мы здесь? Ужель вместе с ними в блаженную весь Мы внидем? Я череп пробью сапогом Салеху, коль к раю мы вместе придем». Как только властитель к дервиша словам Прислушался, тотчас покинул он храм. Лишь солнце в сияньи полдневных лучей Поднялось, дремоту прогнав от очей, Послал за дервишами царь и, на трон Воссев величаво, приветил их он. С них пыль нищеты и тяжелых забот Отмыл он дождем благодатных щедрот. Терпевшие глад и от холода дрожь, Уселись они меж князей и вельмож. Ходившие в рубище, с нищей сумой — Богато одеты, вдыхали алой. И молвил из бывших дервишей один: «О царь, над вселенною всей властелин! К почету приходят ценою заслуг, А в нас что за доблесть увидел ты вдруг?» Салеху понравился этот вопрос, Улыбкой расцвел и в ответ произнес: «О нет, не из тех я, кто, спесью своей Исполнившись, гонит несчастных людей. Ты также свое помышленье забудь, Чтоб мне преградить ко спасению путь. Раскрыл я врата примиренья теперь, И ты предо мной не захлопывай дверь».Старайся и ты быть таким же! Коль ты Обласкан судьбой, не гони бедноты. Кто добрых стремлений не сеял, ведь тот Плод райского древа вовек не сорвет. Собой коль не жертвуешь — счастье оплачь: Лишь рвенья човганом добудешь сей мяч. Увы, не заблещешь, как светоч живой, Коль ты себялюбья наполнен водой. Чтоб людям ты светочем истинным был, Излей из груди, как свеча, блеск и пыл.
О том, как самодовольные бывают обмануты в надеждах
В науке о звездах весьма не лишен Был некто познаний. Гордыней хмелен, К Гушьяру[84] направил однажды он путь — Совета спросить и талантом блеснуть. Вотще. Отвратился Гушьяр от него, Из знаний своих не открыл ничего. Когда ж, потерпев неудачу, гордец Собрался в дорогу, промолвил мудрец: «Тщеславьем ты полн. Но немыслимо, знай, Дополнить сосуд, коль он полон чрез край. Ты полн и пустым отправляешься вспять, Пустым приходи, чтоб познанья принять».Чтоб был ты познаньями полн, как Са’ди, Свободным от гордости в мире броди.
Рассказ
Разгневан, от шаха служитель сбежал И долго от поисков всех ускользал, Потом, позабывши и гнев и боязнь, Вернулся и отдан был шахом на казнь, И меч из ножон кровожадный возник — Так в жажде уста выставляют язык. — Взмолился казнимый: «О Боже, молю: Не надо возмездья за гибель мою. Мне милостей много оказывал шах, Доволен я был и удачлив в делах. Спаси его, Боже. На радость врагу Его не наказывай ты за слугу!» Об этом лишь слух до владыки дошел — Мгновенно остыл раздраженья котел. Он обнял раба и ему передал Главенства отличия: стяг и кимвал. От лобного места судьбиною он, С любовью, в высокий был сан возведен.Ах, кроткая речь погашает всегда Огонь раздражения, точно вода. Смирись пред врагом, ибо мягкая речь В тупой обращает отточенный меч. Оческов шелковых кладет под кафтан Боец, чтоб спастись от губительных ран.
Рассказ
До слуха прохожего ветер донес, Что лает в лачуге отшельника пес. «Ужели теперь здесь собака живет, Куда же девался отшельник?» — И вот В лачугу он входит. Собаки там нет, Внутри находился один лишь аскет. Прохожий, не зная, как это понять, В смущенье великом направился вспять. Но крикнул шаги услыхавший дервиш: «Входи же, чего там у двери стоишь! Не правда ль, ты думал, о радость моя, Что лает здесь пес? Ну, так знай: это — я. Узнавши, что благостен к сирым Господь, Я разум и гордость решил побороть. У двери Господней я лаю вот так Затем, что нет твари презренней собак».К высоким местам если хочешь шагнуть — Из бездны смиренья лежит этот путь. У Бога лишь те на почетных местах, Кто здесь преклонился смиренно во прах. Нагорный поток и свиреп и могуч, Но глянь — как он в пропасть свергается с круч! Смиренный подобен росе: ведь роса, Сначала упавши, летит в небеса.
Подвижник и вор
В Тавризе жил некий подвижник, мольбам Весь день посвящая, молясь по ночам. Он ночью однажды увидел, как вор Забросил аркан, чтоб забраться во двор. Внезапно возникла тревога кругом, Сбежались соседи с дрекольем, с дубьем. Услышавши крики бегущих людей, Не мог оставаться на месте злодей. Возникшей тревогой весьма устрашен, Кругом стал метаться растерянно он. Как воск, стало сердце у старца, когда Узрел он, что вору грозила беда. Во мраке ночном незаметно скользнул Он к вору окольным путем и шепнул: «О друг, не беги! Ты отныне мне мил. Ты храбростью сердце мое покорил. Не знаю другого, как ты, храбреца. У храбрости, друг, два различных лица: Одно — на противника смело итти, Другое — найти отступленья пути. Меня полонил ты и тем и другим. Как имя твое? Буду братом твоим. Доверься лишь мне — облегчу я беду И к месту, известному мне, проведу. Забор невысокий там, дверь заперта, Хозяин уехал в чужие места. Сначала придвинем мы два кирпича, Ты встанешь на них, я к тебе на плеча. Коль мало найдем, что же делать, о брат! Все ж лучше, чем вовсе ни с чем ты назад Вернешься домой». С уговором таким, Привел он воришку к владеньям своим. Тут плечи подставил ночной удалец, На них поместился подвижник-мудрец, Забрался в свой дом, все пожитки собрал И вору с верхушки стены передал. Потом завопил: «Помогите, друзья! На помощь! Здесь воры! Спасите меня!» Услышав тревогу, добычу схватил Пронырливый вор и — бежать что есть сил. Подвижник же добрый был рад в эту ночь, Что бедному вору сумел он помочь. К злонравцу, лишенному добрых начал, Сочувствие старец честной проявлял.О диво! Полны милосердьем таким, Святые сочувствуют людям дурным, Прикрыв, осенив добротою своей Не стоящих этого счастья людей.
Рассказ
Прекрасно промолвил Бэхлуль[85], распознав В подвижнике неком озлобленный нрав: «О, если бы Друга он знал, никогда Его обуять не могла бы вражда. И в истину вечную вникнув душой, Считал бы ничем он весь мир остальной».Терпеливость мудреца Локмана[86]
Известно, что черен лицом был Локман. Невзрачен, тщедушен был мудрого стан. Раз, некто приняв за раба своего, Схватил мудреца и работать его Заставил. Мудрец терпеливым трудом В течение года воздвиг ему дом. Но раб пропадавший вернулся домой. Хозяин, узнав, кто его был слугой, Пал ниц, о прощеньи моля, но ему Ответил Локман: «Извиненья к чему? Твой гнет целый год я терпел, и лишь в час Возможно ль забыть, что случилось меж нас? Но все же тебе не желаю я бед, Ведь польза твоя мне была не во вред. Ты дом приобрел и поправил дела, Премудрость моя между тем возросла. Нередко невольника в стане моем Тяжелым и долгим я мучил трудом. Отныне, припомнив свой тягостный труд, Не буду я с этим невольником крут».Поймет ли тяжелую жизнь бедняков, Кто сам не носил угнетенья оков? Когда испытаешь сильнейшего гнет, Жесток с подчиненным не будь в свой черед.
Рассказ
Однажды — подвижников божьих краса — Джонейд[87] заприметил беззубого пса, Когда-то на львов он умел нападать, А ныне стал дряхлой лисице подстать. И серна уйти от него не могла Когда-то, а ныне ляганья осла Сносил он, бессилен, изранен и хил... Растрогался старец и псу уделил От пищи своей, а затем произнес, Заплакав: «Кто лучше из нас: я иль пес? Сегодня по виду как будто бы я, Но впредь что готовит судьбина моя? Коль в правом пути удержусь до конца, Я милости Божьей сподоблюсь венца. Но мудрости если лишусь я одежд, Не хуже ли пса я, лишенный надежд? Хоть пес и поган, он счастливей меня: Ведь адского он не узнает огня».Са’ди, вот — пример! Правый путь возлюбя, Не надо с почтеньем глядеть на себя. Подвижник ко псу приравнялся, но он Над ангельским чином у Бога взнесен.
Рассказ
О голову старца ночною порой Разбил свою лютню гуляка хмельной. Тот старец, раненько поднявшись, с утра Гуляке пригоршню принес серебра: «Вчера поплатились ночною порой Ты лютней своей, я — моей головой. Я скоро поправлюсь от маленьких ран, Но лишь серебром поправим твой изъян». Высоко Господь превозносит друзей За то, что побои несут от людей.Рассказ
Раз к Алию — память святая вовек О нем да продлится! — пришел человек Просить в затрудненьи совета. В ответ Изрек ему доблестный Алий совет. Но некто, суждению этому вняв, Сказал: «О Хасана отец, ты неправ!» Не гневаясь, Алий ответил: «Ну что ж? Поведай, коль лучше решенье найдешь!» Тот подал свой голос. Он правилен был, — Он солнца сиянье от розы не скрыл, — И Алий одобрил то мненье, сказав: «Он правильно молвил, а я был неправ, Ему удалось это лучше, чем мне. Господь лишь один безупречен вполне».А если б то было теперь? Царь иль князь Не кинул бы даже и взора, кичась. Дворцовые слуги за дверь смельчака Прогнали б с позором, намявши бока: «Вперед будь умней. Коль владыку мы зрим, Свой голос нельзя возвышать перед ним!»
Не думай, чтоб выслушать правды слова Мог тот, чья наполнена спесью глава. Сочтет оскорбленьем он всякий совет, — От ливня на скалах не вырастет цвет. Дождь перлов премудрости лей, о мудрец, На почву простых и смиренных сердец. На землю взгляни. Пусть смиренна она, Ее украшает цветами весна. В глазах мудреца уваженья лишен — Кто полон гордыни и спесью хмелен. Премудрости перлов для тех пожалей, Кто слишком доволен особой своей. Себя не хвали, коль не хочешь хулы, Но лучше дождись от людей похвалы.
Рассказ
На улице, как-то, вмешавшись в толпу, Омар наступил бедняку на стопу. Тот нищий не знал, что халиф перед ним — Во гневе врага мы едва ль отличим От друга. — «Ты что, аль ослеп?» закричал Разгневанный нищий. Ему отвечал На это Омар справедливый: «Прости, Не слеп я, но был я неловок в пути».Ревнителей веры былых вспомяни, Как были смиренны и кротки они. Кто мудр, тот смиренно склониться готов, Как ветка, несущая бремя плодов. Смиренный в том мире воссядет высок, А гордый получит тягчайший урок. Коль страхом пред Божьим судом ты томим, Проступки прощай подчиненным своим. Насилья над ними творить перестань — Ведь есть над тобою сильнейшая длань.
Рассказ
Случилось, что Нил-водонос целый год Не лил на Египет живительных вод. К горам устремился народ и, меж скал Стеная, вопя, о дожде умолял. Но не было влаги, напрасен был зов, Лишь слезы лились обездоленных вдов. Святому Зу-н-Нуну[88] сказали тогда: «Сограждане страждут, безмерна беда. О. старец святой, помолись же за них, — Не знают отказа молитвы святых». Я слышал, что старец, при этих вестях, В далекий Мадьян[89] убежал второпях. И вскоре Египет обильным дождем Был щедро напоен. Известье о том Дошло до Мадьяна чрез несколько дней, И старец в Египет вернулся скорей. Там некий мудрец вопросил у него: «О старец, от нас ты ушел для чего?» Ответил: «Я слышал, что Бог за вину Отдельных злодеев народ и страну Наказывать может, а в этой стране, Я знаю, нет грешника, равного мне. Бежал я, чтоб Бог ради скверны моей Не мог покарать неповинных людей».Коль хочешь величья, смирись. Кто велик, Тот здесь на земле приниженно поник. Тогда лишь к тебе отнесутся любя, Когда ни во что ты поставишь себя. Высокопоставленный если смирен, В том царстве и в этом он будет блажен. Пред теми, чей скромен удел, если ты Повергнешься в прах — внидешь в мир чистоты.
О ты, кто пройдешь над могилой моей, Запомни во имя Господних людей, Что, если стал прахом Са’ди, — не беда! Ведь прахом он был и при жизни всегда. Пусть землю, как ветер, обтек он кругом, Смиренным сошел он во прах бедняком. Истлеют останки, и вихрь на крылах По лику вселенной развеет их прах... Но знай, что в саду пышноцветном идей Такой никогда не певал соловей. Когда б из останков того соловья Не выросло роз, было б странно, друзья!
Конец IV главы
О ПОКОРНОСТИ
ГЛАВА V
Однажды затеплил в бессонной ночи Я пламя поэзии яркой свечи. Один пустомеля мой стих услыхал И, волей-неволей, хвалу мне воздал. Все ж к ней примешал зложелательство он — Так рвется невольно у раненых стон. — «Да, стих у Са’ди превосходен, но в нем Мы только слова назиданья найдем. Геройских боев он, увы, не певец, Меж тем как былина — пиитства венец». Не знал он, что я не любитель былин, Не то б их слагал я, стиха господин. Приди, дай померимся силой со мной! Врага я о камень швырну головой. На поле словесных сражений и сеч Язык мой разит, как отточенный меч.Ведь счастье не в доблестях бранных бойца, Но лишь в милосердьи благого Творца. Счастливый удел если небом не дан, Его не захватит твой меткий аркан. Страдает мураш оттого ли, что слаб? И кормятся львы разве силою лап? Коль с властью небес невозможна борьба, Бери, что тебе назначает судьба. Коль долгая жизнь на земле — твой удел, Не бойся ни змей ядовитых, ни стрел. Коль долгого ты недостоин житья, Целебная в яд превратится струя. Как только Ростем перешел свой предел — Шэгад[90] слабосильный его одолел.
Исфаганский воитель
Приятеля я в Исфагане[91] имел. Он был беспощаден, воинственен, смел, Он страхом противника сердце сжигал, В крови постоянно его был кинжал. Носил он колчан ежедневно с собой, Огонь высекал он своею стрелой. Боец удалой, точно буйвол, силен, И львов и гепардов запугивал он. Так стрелы метал он во время боев, Что ими созвездье пронзал Близнецов. Колючек на розовом меньше кусте, Чем стрел удальца у врага на щите. Когда во врага ударял он копьем, Пронзал он и вражью главу и шелом, Стремглав нападал он на сонмы людей, Как будто на рой саранчи воробей. Напав, Феридуну, властителю сеч, Он не дал бы времени саблю извлечь. Рукой повергал леопардов он ниц, Сражал кулаком он и львов и тигриц. Пусть крепок противник, подобно скале, Он брал его за пояс — враг на земле! Коль латника он топором ударял, Его вмиг он вместе с седлом разрубал. По щедрости, мужеству равных вовек Ему не видал ни один человек. Со мною сей витязь был дружен весьма, — Любил он людей дарованья, ума. Но стала в Ираке мне жизнь тяжела, Судьба на чужбину меня повлекла. В сирийскую землю занес меня рок, И край тот надолго скитальца привлек. А время летело. Сменялись чредой Порою довольство, злосчастье порой... Но кончился срок испытаньям моим, Побрел я, тоской по отчизне томим. В пути на отчизну случилося так, Что снова попал я в знакомый Ирак. Стал ночью однажды я думать, мечтать И все пережитое вспомнил опять. О, память о том, с кем делил я хлеб-соль, Как соль, в старых ранах ты вызвала боль! Желанием друга узреть обуян, Вошел с нетерпением я в Исфаган. Увидел я друга. Румян был и бел Он прежде, — теперь, как шафран, пожелтел. Как лук, изогнулася стана стрела, Глава, как вершина под снегом, бела. Его одолеть удалось небесам, Скрутившим его по могучим рукам. Судьбина изгнала воинственный пыл, Седую главу он к коленям склонил. «О львов победитель, — сказал я, — с тобой Что сталось? Ты сделался дряхлой лисой». Ответил: «Со дня наступленья татар[92] Пропал у меня мой воинственный жар. Увидел я войско. От множества пик Земля — как болото, где вырос тростник. Знамена средь них, как огни. На татар Напал я, но рок мне готовил удар. Я воин искусный. Концом копия Снять с пальца кольцо ухитрялся ведь я. Но рок оказался нещадным врагом — Был вражеских сил окружен я кольцом. Решил я бежать. Ведь с судьбой, наконец, Ведет поединок один лишь глупец! Кольчуга и шлем не дадут никогда Помоги, коль счастья затмилась звезда. В руках если нету к победе ключа, Победы дверей не разрубишь сплеча! Нас враг окружил. На глазах у людей Железо, в железе копыта коней. Мы шлемы надели, увидев врагов, И каждый был к битве жестокой готов. Арабские кони, как тучи, летят, Мечи — точно молнии, дротики — град. Два войска столкнулись в грозе боевой, Как будто бы небо столкнулось с землей. От ливня и града ужасного стрел Вихрь смерти над битвой, кружася, летел. Арканы — драконы, раскрывшие пасть, На львов-бранелюбцев готовы напасть. Всклубившийся прах, точно туча, и в нем. Как молния, блещет то меч, то шелом. Щит о щит столкнувшись в кровавом бою, Мы бились и в конном и в пешем строю. Но тщетны усилья, напрасна борьба, Жестокою к нам оказалась судьба. Мы бросились в бегство. Бессилен герой, Коль он не поддержан Господней рукой. Иступится храброго воина меч, Коль, гнев провиденья сумел он навлечь. Кто спасся от смерти — изранен был он И кровью своей и чужой обагрен. Меж тем наших стрел был бессилен удар В набитые шелком кафтаны татар. Сплоченным, как в колосе зерна, пришлось Нам ныне, как зернам, рассыпаться врозь. Бежали стремглав, кто в бою не погиб, Как стая блестящих испуганных рыб. Ах, если стрелою судьба поразит, Бессилен пред нею воителя щит!».Ничто — наши силы! Об этом сейчас Еще удивительней будет рассказ.
Ардебильский стрелок
Из лука стрелка в Ардебиле[93] я знал — Железную цель он стрелою пронзал. Однажды столкнулся с ним некий боец — Воинственный, в войлок одетый юнец. Аркан он — отвагой второй Бэхрам Гур[94] — Имел из сырых антилоповых шкур. Лишь только противника лучник узрел, В мгновение ока он взял на прицел. Полсотни он выпустил стрел, но стрела Проникнуть сквозь войлок, увы, не могла. А враг налетел, точно витязь Дэстан[95], На лучника ловко набросил аркан, Как вора, скрутил он его и повлек — Во вражью палатку был брошен стрелок. Всю ночь он не спал, вспоминая свой стыд, А утром вошедший слуга говорит: «Стрелою своей ты железо пронзал, К одетому в войлок как в плен ты попал?» Стрелок Ардебильский, заплакав, рабу Ответил: «Кто может осилить судьбу? Ты знаешь, какой я искусный стрелок, Ростему бы мог преподать я урок. Когда был поддержан счастливой судьбой, Железо, как войлок, пронзал я стрелой. Затмилася счастья звезда — о печаль! — Стал войлок для стрел непронзаем, как сталь».Напрасна кольчуга, коль пасть суждено, Коль час не настал, крепче лат — полотно. Хотя б ты кольчугой и несколько раз Прикрылся — погибнешь, коль пробил твой час. Но если судьбе ты угоден, ты — цел, Хотя бы и лат на себя не надел. Пред смертью что наши заслуги? Мудрец До срока ушел, долголетен глупец!
Рассказ
Всю ночь некий курд протомился, не спал От боли в боку. Врач взглянул и сказал: «Больной виноградным объелся листом, И к утру в живых мы его не найдем. Стрела не наделает столько вреда Для жизни, как эта сырая еда. Застрял у обжоры в кишечнике кус, И к жизни вернуть я его не берусь». Случилось же так: исцелился больной, А врач в те же сутки ночною порой Скончался. Ах, часто недужные вдруг Встают, а врачей повергает недуг!Рассказ
Однажды осел у крестьянина пал. В саду виноградном к лозе привязал Ослиную голову наш селянин. Сказал виноградарю старец один: «Не думай, о друг мой, чтоб этот осел Недобрые очи от сада отвел. Отвел ли при жизни своей хоть один Удар от себя он, о мой селянин?»От смерти избавит ли врач? Ведь ему Она ежечасно грозит самому.
Рассказ
В дороге бедняк обронил золотой, Разыскивал долго, но тщетно. Домой Вернулся расстроен. На том же пути Пропавший червонец случилось найти Другому прохожему. Друг, не забудь: Начертан нам от роду жизненный путь. Ах, силою счастья — увы! — не добыть, Ведь сильный несчастнее всех может быть!Рассказ
Наказывал палкою сына отец. «Не бей без вины, — так взмолился юнец, — Ведь ты мой защитник от всяких обид, Но кто же меня от тебя защитит?»К Творцу воззови, коль обидят враги, Однако на Бога роптать не моги!
Рассказ
Звался Бахтияром — любимцем удач — Один знаменитый, счастливый богач. Соседи в лачугах у стен богача Теснились, убогую долю влача, Меж тем как в хоромах, в усадьбе своей Червонцы лопатой сгребал богатей. — Живущий в соседстве богатых гуляк Страдает вдвойне горемычный бедняк! — Один из бедняг тех, однажды домой Без денег придя, так был встречен женой: «О, горе мне с мужем злосчастным таким! Снабжен ты, как трутень, лишь жалом одним. Учись у других обращаться с женой. Я впредь потаскушкой тебе даровой Не буду. Гляди, у соседа всего Как много! А ты не таков отчего?» Со вздохом глухим на нападки бедняк Ответил разгневанной женщине так: «Как быть? Я удачи не знаю ни в чем! Ах, можно ль судьбу одолеть кулаком? Имей я свободного выбора дар, Я был бы любимец удач — Бахтияр!»Рассказ
Раз муж рассудительный в Кешской стране Промолвил своей безобразной жене: «Коль бог некрасивой тебя уродил, На лик не клади ни румян, ни белил».Усилием счастье добудем ли мы? Прозреют ли очи слепца от сурьмы? Злодею ли доброе дело подстать, И пес ли научится раны сшивать? Ученый, будь грек он, румиец ли, мед Из адского древа едва ль извлечет. И зверем останется зверь навсегда, Хотя б ты и много потратил труда. Легко удаляется с зеркала ржавь, Но зеркало делать из камня оставь. Возможно ль, чтоб розою ива цвела? И негра возможно ль отмыть добела?
Ястреб и коршун
Сказал ястреб коршуну: «Нет никого На свете со зреньем острей моего». И коршун ответил: «Воспользуйся им, В окрестностях нет ли чего, поглядим!» Тут ястреб взлетел, и с возвышенных мест Он взором окинул равнину окрест. «Поверишь ли, — молвил, — но там вдалеке Я вижу — крупинка лежит на песке». Был коршун словами его удивлен, И с ястребом долу низринулся он. Лишь ястреб над малым спустился зерном, Как тотчас был за ноги схвачен силком. Не знал,неразумный, увидев зерно, Что в сети попасться ему суждено. — Из множества раковин жемчуг в одной, И в цель попадают не каждой стрелой! — «Приметил ты зернышко, — коршун сказал, — Что пользы, коль вражьих тенет не видал?» А пленник вздохнул: «От судьбины тенет, О друг, осмотрительность нас не спасет!»Как только судьба изрекла приговор, Затмился пронзительный ястреба взор. Коль водной пучине не видно конца, Бессильно искусство любого пловца.
Рассказ
Прекрасно сказал подмастерье ткача: «Хоть мною украшена эта парча — Здесь слон и жираф и чудесный анка[96], — Но в этом учителя зрима рука».Как жизнь ни сложись, хороша ли, дурна, Рука провидения в этом видна. Я чую неверье, когда говорят: «Такой-то в обиде моей виноват». Пусть очи Создатель тебе просветит, Ведь он лишь — причина удач и обид. Надейся! Строптивому даже рабу Создатель благой облегчает судьбу. Молись, чтоб тебе Промыслитель помог — Того не достичь, в чем препятствует Бог!
Рассказ
Раз матке сказал верблюжонок: «О мать, Давай отдохнем-ка, довольно шагать». Ответила: «Если б не эта узда, С вьюком в караване не шла б никогда».Корабль, где захочет Создатель, плывет, Хотя корабельщик и волосы рвет. На помощь людей не надейся, Са’ди, И помощи лишь от Создателя жди. На Бога надейся и — только! Коль Он Отвергнет, никем ты не будешь спасен: Ликуй, если Он возвышает тебя, Покорствуй, коль Он отвергает тебя!
Об искренности и лицемерии
Коль искренна вера, в ней — корень добра, Иначе ж она — без ядра кожура. Что в том, что грубейшую носишь из ряс, Коль ты облачился в нее напоказ? Не хвастай, что мужества полон твой дух, А если похвастал, не будь как евнух. Таким и кажись, как на деле ты есть, Но, ведай, что в скромности — высшая честь. Ведь если личину с тебя совлекут, Пред всеми ты будешь обманщик и плут. Не лезь на ходули, коль ростом ты мал, Лишь дети поверят, что рослым ты стал. Когда серебром покрывают медяк, Бывает обманут один лишь простак. Напрасно б ты золотом грош покрывал, Не будет он принят у зорких менял. Подделке придется огонь претерпеть, И станет известно, где злато, где медь.Рассказ
Подросток поститься решил до звезды. До полдня он пробыл, с трудом, без еды. Почтивши дитяти неслыханный пыл, Наставник в тот день свой урок отложил. А мать и отец, восторгаясь сынком, Осыпали златом его, миндалем. Но день далеко не дошёл до конца — Огонь разгорелся в нутре у мальца. Подумал: «Коль съем я тихонько кусок, Родителям будет моим невдомек». И, с виду постясь, потихоньку дитя Наелось, лишь мненье родителей чтя.Кто может узнать, коль твой пыл напоказ, Что ты, не омывшись, свершаешь намаз? Безумней, смешнее дитяти старик, Который для вида в молитве поник. Молитвой такою себя хоть измучь, К вратам преисподней в молитве той ключ. Поступком таким ты расстелишь, ей-ей, Молитвенный коврик средь адских огней!
Рассказ
Всю жизнь лицемеривший некий старик Убился, скатившися с лестницы, вмиг. Вскручинился сын о потере своей. Отца увидавши в одну из ночей Во сне, он покойному задал вопрос: Мытарства за гробом он как перенес? «Не спрашивай, сыне, — умерший сказал, — «Прямехонько с лестницы в ад я упал».Кто честен и добр, хоть в мольбах и не рьян, Тот лучше святош, чьи молитвы — обман. Разбойник, по-моему, лучше, чем тот, Кто в рясу оделся и Господу лжет. Найдет ли за гробом небес благодать, Кто только стремился людей ублажать? Ведь Зейду ты служишь, зачем же тогда Ты ждешь, что от Амра последует мзда?[97] От слабых не жду непосильных я дел: Чтоб всем существом их Господь овладел. Нет! Путь этот прям, до привала дойди, А ты, заблудившись, бредешь позади. Как будто бы маслодавильщика вол, Бежишь ты, но с места, гляди, не сошел. Кто станет к михрабу спиною, ведь тот Безбожником вмиг у людей прослывет. А ты даже кыблой святой пренебрег, — В твоих устремленьях отсутствует Бог. Коль дерево крепко тобой взращено, Плоды принесет непременно оно. Коль искренной веры не будет корней, Не будешь ты принят у Божьих дверей. Коль сеять ты будешь на голых скалах, Зерна не увидишь в своих закромах. Слезой лицемерья лицо ты не мой, Ведь черная тина под этой водой. Ах, ежели скверна мне душу грязнит, Что пользы, коль внешне достоин мой вид? Из лжи лицемерной сошьешь ты милоть, Но примет ли рясу такую Господь? Нам сущность мирских неизвестна сердец, Но список ведет им Предвечный Писец. Что весит наполненный ветром мешок? Наступит лишь судного дня грозный срок, — Там точны весы, неподкупен там суд — Узнают, что ветром мешок твой надут. Коль доблестью муж обладает — не вид, Но доблесть сама за себя говорит. Раз мускус имеешь, не хвастай, о брат, Разносит повсюду он свой аромат! Клянешься, что золото чисто, к чему? Лишь камень пробирный — проверка тому. Верх платья богат, а подкладка бедна, Ведь он на виду, а она не видна. Не так ли всегда? Но обманчивый вид Не нужен святым, и парчою подбит Их ветхий наряд. Щеголяй, щеголяй, Коль слава земная дороже, чем рай! О нет, не шутя говорил Баязид, Что хуже противника льстивый мюрид. Ах, сонмы земных властелинов-царей Смиренны и нищи у Божьих дверей! А к нищему мудрый бывает ли строг, Что требовать можно от тех, кто убог? Владея жемчужиной духа, закрой Сокровище это шершавой створой. Так веры глубоко затаивай пыл, Чтоб даже проведать не мог Гавриил. Отцовский совет — поученье Са’ди. За речью моею, о сын мой, следи, А если не будешь внимателен, впредь Смотри не пришлось бы тебе пожалеть!
Конец V главы
О ВОЗДЕРЖНОСТИ И ДОВОЛЬСТВЕ СУДЬБОЙ
ГЛАВА VI
Не помнят Создателя те из людей, В ком нету довольства судьбою своей. Тому, кто в горячке наживы стократ Все страны обегал, скажи, что богат Лишь тот, кто доволен своею судьбой. Помедли! Вертящийся камень травой Покрыться не может. Излишек забот О плоти, поверь мне, ее лишь убьет. Разумные высших стремлений полны, А плотоугодники духом бедны. Кто только стремится поесть да поспать, Становится дикому зверю под стать. Блажен, кто в убежище скромном своем Духовные блага сбирает тайком. Воистину понял призванье людей, Кто похоти пса укрощает скорей. Того не удастся легко обмануть, Кто к истине держит сознательно путь. Кто тьму отличить от сиянья небес Не может, поймет ли, где — ангел, где — бес? Поэтому ты и в канаву попал, Что этой канавы в пути не видал.Коль жадности камень привязан к крылам, Ах, сокол едва ли взлетит к облакам! Но крылья, не знавшие алчности пут, На небо седьмое его вознесут. Порывы плотских вожделений поправ, Ты ангельски чистым свой сделаешь нрав. Как ангела сделать из дикого льва? Как в небо взлететь из низин естества? Сперва человека в себе воспитай, Потом и об ангельских свойствах мечтай. Сидишь ты на пылком строптивом коне, Страшись, если им не владеешь вполне. Он вырвет из рук у тебя повода, Он сбросит, погубит тебя навсегда.
Умеренно ешь. На обжору, о друг, Взгляни: человек пред тобой иль бурдюк? Ведь тело не только питаться должно, Должно и дышать и молиться оно. Вместятся ль в мешок ненасытной алчбы, Который от жира чуть дышит, мольбы? Угодники плоти не знают, увы, Что полный желудок есть враг головы. Пусть лучше пустуют извивы кишок, Ведь их никакой не насытит кусок, Как адский огонь, что все время готов К пожранию новых бесчисленных дров. Скота ты питаешь в себе, а душа От голода чахнет, чуть слышно дыша. За корм для скота вожделений своих Ты платишь ценой откровений святых. Ты разве не знаешь, что жадность зверей Их делает жертвой тенет и сетей? Ведь даже и тигр горделивый, глядишь — В капкан из-за пищи попался, как мышь. Смотри, из-за жадности как бы ты сам Мишенью не сделался вражьим стрелам!
Рассказ
Из кости слоновой привез гребешок Мне некий хаджи — защити их пророк! Однажды случилось узнать мне о том, Что назвал меня он, разгневавшись, псом. Я гребень швырнул: «Мне не надо костей! Собакой меня называть ты не смей».Пусть уксус я пью, но едящим халву Прощать не намерен я злую молву. Довольствуйся малым. Тогда пред тобой И нищий и царь будут равны судьбой. К чему поклоняться князьям и царям? Коль жадность отбросишь — владыка ты сам! Коль ты себялюбец и пленник страстей, Что ж, сделай богатого кыблой своей. Но знай: потеряешь душевный покой И будешь скитаться, как нищий с сумой. Судьбою довольные смело глядят, Потуплен у алчных стяжателей взгляд.
Рассказ
В Хорезме проситель один, чуть заря, Являлся с поклоном в палаты царя; Отвешивал низкий поклон, а потом Он ниц повергался во прах пред царем. «О батюшка, — сын обратился к нему, — Сомненья мои разреши. Почему К царю, обратясь, ты молился сейчас? Вель кыбла — учил ты — не царь, а Хеджаз».Борись со страстями! Кто раб их оков, Тот кыблу менять ежечасно готов. Порою продать он решается честь И перлам зерно ячменя предпочесть. Ты жаждой томишься. Глянь: рядом вода, Напейся, но честь не губи из-за льда. Смирять научись побужденья страстей, Иль будешь бродить у порогов дверей. Стяжания длань научись сокращать, К чему упованья на пышную знать? Ах, жадность свою укротил ты когда б, Не ставил бы подпись: «смиренный ваш раб». Ты жаден, и гонят повсюду тебя, Но, жадность изгнав, будешь встречен любя.
Притча
Мудрец заболел лихорадкой. Совет Ему кто-то дал: «Попроси, чтоб сосед Дал сахару». Молвил на это больной: «Нет, смерть мне приятней, чем лик его злой».Ах, сласти мудрец не возьмет нипочем У гордых и кислых, как уксус, лицом! За прихотью всякой не следуй спеша: Коль властвует тело, скудеет душа. Страстям поклонение губит людей, Разумный, спасайся, беги от страстей! Коль будешь покорствовать им без борьбы. Претерпишь немало обид от судьбы. Коль топишь утробы старательно печь, Не сможешь ты вытерпеть с голодом встреч. Подтягивай в год изобилья живот, — Голодный не страшен покажется год. Обжора и чревом своим отягчен, И вдвое страдает от голода он. Презренье обжорам! С утробой пустой Быть лучше, по мне, чем с пустою душой. О, горе! Их участь тяжелая ждет: «Как скот, заблудились, — нет, больше, чем скот»[98]. Не стоит жалеть их. Бессмысленный бык Дремать лишь да есть доотвалу привык. Ах, если ты жирен и грузен, как вол, Побои сноси от людей, как осел!
Рассказ
Из Басры[99], читатель, привез я рассказ. Он тамошних фиников слаще в сто раз. Шли в Басре однажды мы мимо оград И фиников полный увидели сад. Меж нас был толстяк и обжора притом, С завистливым глазом, с большим животом. На дерево он, толщине вопреки, Полез, сорвался и разбил позвонки. Предстал старшина и кричит: «Кто убил?» Я молвил: «Умерь раздражения пыл! Он с дерева сброшен утробой своей, Кишки широки у бездушных людей. Не все ж ему финики есть? Наконец Исполнилась мера — сломал он крестец».Утроба — как путы для рук и для ног, Не страшен утробы угоднику Бог. Живот саранчи как громаден! Но вот — Мураш ее тонкий за лапу влечет.
Рассказ
Торгующий сладким, в разнос, тростником, Ища покупателей, бегал с лотком. Сказал мудрецу он в деревне одной: «Возьми-ка, а деньги сочту за тобой». Торговцу ответил мудрец — запиши Ответ сей премудрый в глубинах души: «Как долго без них обойдешься? Меж тем Без сласти твоей обойдусь я совсем. Не сладостен мудрому сахар, о нет, Ведь горечь расплаты приходит вослед!»Притча
Хотанский эмир мудреца отличил, Парчовое платье ему подарил. Мудрец был подарку властителя рад, С улыбкой надел он дареный наряд И молвил: «Прекрасен твой дар, но, ей-ей, Мне прежний изношенный плащ мой милей».Коль волен душой, на земле заночуй, Но ради ковра ты земли не целуй.
Рассказ
Был некого мужа несчастен удел: Он к хлебу приправой чеснок лишь имел. Сказали ему: «Чтоб поправить дела, Пойди покормись с дарового стола. Проси, не стесняйся нисколько, ведь тот, Кто будет стесняться, голодным умрет». Прельстил злополучного стол даровой, Пошел — с перебитой вернулся рукой. Воскликнул он, горьким предавшись слезам: «К чему сожаленья! Виновен я сам. Я жадностью только несчастье навлек, Пусть будут со мною мой хлеб и чеснок. Не лучше ли хлебец, добытый трудом, Сластей, что подарены мне богачом?»Не может заснуть, беспокойством томим, Кто ждет приглашенья к обедам чужим.
Рассказ
У нищей несчастной старухи одной В лачуге жил кот. Как-то раз, за едой На княжеский двор он забрался тайком, Но челядь султана, глумясь над котом, Из луков в него принялася стрелять. В испуге, в крови обратился он вспять И думал: Спасти только б жизнь мне, а впредь В хибарке старухи я буду сидеть, Мышами кормясь».Друг мой, стоит ли мед Мучений? Домашняя брага сойдет! Создателю раб не годится такой, Который своей недоволен судьбой.
Рассказ
Прорезались зубы у крошки-мальца; Весьма озаботило это отца. «Откуда я пищи достану мальцу, А бросить младенца возможно ль отцу?» — Так он вопросил у супруги своей. Но женский ответ был достоин мужей: «Не бойся соблазнов диавольских. Тот, Кто зубы дает, пропитанье пошлет.» Всевластен Господь. О младенца судьбе Ему и пещись надлежит, — не тебе. В утробу жены Кто зародыш кладет, Тот сам охраняет дитяти живот. Хозяин дает пропитанье рабу, Создатель людей охраняет судьбу. Имеют доверье рабы к господам, Ты к Богу доверья не знаешь, о, срам!Я слышал, что некогда руки святых Творили сребро из каменьев простых. Сомненья отбрось. Для довольных судьбой Сребро не дороже, чем камень простой. Как дети они: нет корысти в сердцах, Не все ли равно им, что злато, что прах. Дервиш, пред царем ты покорно склонен, Но знай, что дервиша несчастнее он. Ираном не сыт Феридун, между тем Доволен бедняк, получивши дирхем. Страной управленье — мучительный труд, Бедняк же — как царь, хоть и нищим зовут. Бедняк, если сбросил он алчности гнет, Счастливей царей недовольных живет. И знай: засыпают в крестьянских домах Так сладко, что им позавидует шах. Заснет ли старьевщик, иль царь — все равно: Ночь сменится днем, ибо так суждено. Бессильны равно перед смерти волной На троне султан и кочевник степной. Коль знатного ты повстречал гордеца, Иди восхвали всеблагого Творца За то, что не можешь обид причинять, Как эта гордынею пьяная знать.
Рассказ
Я слышал, что славным одним мудрецом В свой рост вышиною построен был дом. «Имеешь ты средства, — сказали ему, — Побольше не выстроил дом почему?» «Зачем? — отвечал наш мудрец. — «Все равно, — Отстроив, покинуть его суждено».Там дома не строй, где проходит поток, Коль хочешь, чтоб вышел из этого прок. Ума в караванщике том не найти, Который построил свой дом средь пути.
Рассказ
От старцев, известных словес красотой, Услышал однажды рассказ я такой. Жил в городе нашем один человек, Проведший в превратностях долгий свой век. Но свеж был у старого дерева плод — Красе его сына дивился народ. Как яблоко, кругл подбородок. Дивись, Что яблоко вырастить мог кипарис. Прельщал и губил красотою своей Нещадно сей юноша многих людей. Что делать? Как горю людей пособить? И сына решился родитель обрить. Вот бритва отверзла язык свой стальной, Чтоб прелесть юнца опорочить хулой. Горька ей самой показалась хула И вскоре главу в свой живот убрала. Красавец, понурясь, томился стыдом, А сбритые кудри лежали кругом. Кому-то из тех, кто любили юнца, Ему беззаветно предавши сердца, Сказали: «Пришлося тебе пострадать! Смотри хоть теперь не безумствуй опять! Отсель улетай, точно бабочка, ты, — Лишили щипцами свечу красоты». На это влюбленный ответил с тоской: «Любви изменяет лишь низкий душой. Ведь нравом и ликом прекрасен юнец. Так что же? Пусть бреет красавца отец. Прекрасному нраву, прекрасным чертам Я предан душою, отнюдь не власам. Красавцу ль о сбритых кудрях горевать? Ведь вырастут кудри такие ж опять! Всегда ль у лозы виноград на ветвях? Лоза — то без листьев, то снова в плодах».Достойный — как солнце ненастного дня, Завистник же — точно в воде головня, Вновь солнца заблещут лучи из-за туч, А уголь во влаге погаснет, шипуч. Не бойтеся мрака, друзья! Темнотой Бывает окутан источник живой. Вкусила земля после многих тревог Покоя, а я — после долгих дорог. Не плачь, не горюй над бездольным житьем. Ведь ночка, о друже, беременна днем!
Конец VI главы
О ВОСПИТАНИИ
ГЛАВА VII
Здесь речь о рассудке, о добрых делах, Отнюдь не об играх лихих и конях. На внешних врагов ополчаться к чему? Твой враг — злые страсти — в твоем же дому! Сумевший смирить непокорство страстей, Поверь мне, Ростема и Сама[100] сильней; И вместо того чтоб сразить удальца, Указкой себя накажи, как мальца. Кому ты покажешься страшным врагом, Страстей если собственных будешь рабом? Твое существо — как страна, где со злом Смешалось добро, будь же мудрым царем! Как чернь городская, бушуют в борьбе Гордыня и жадность и похоть в тебе. Недобрые страсти — разбойничий стан, Достоинства — бщина честных мирян. Коль будет злодеев любить властелин, Защиту где честный найдет гражданин? Как духом иль кровью, наполнен ты весь Грехами: и жадность, и похоть, и спесь. Имея поблажку с твоей стороны, Воспрянут пороки, победны, сильны. Но вмиг эта шайка смирится сама, Как только почувствует силу ума. Начальник, давая поблажку врагам, Становится жертвой противников сам. Но, впрочем, пространные речи к чему? Достаточно слова живому уму.О преимуществах молчания
Будь в жизни подобен безмолвной горе, И к небу взнесешь ты чело в серебре. Язык обуздайте! Воздержный в речах Найдет отпущенье во многих грехах. Мудрец перламутру подобен. Дарит Лишь изредка жемчуг, который хранит. К советам открыт молчаливого слух, Болтун же ко всем увещаниям глух. Как может болтун неуемный понять Словес, обращенных к нему, благодать? Речей необдуманных бойся, о брат! Пред тем как отрезать, примерь семикрат. Пред тем, кто обдумывать речи привык, Ничтожен болтун, хоть и скор на язык. Ведь слово — сокровище. Друже, постой: Его не растрачивай в речи пустой! Скупым на слова не известен позор, Гран амбры дороже, чем глины бугор. Страшись безудержно болтать языком, Скажи лучше слово одно, но с умом. Сто стрел ты метнул, не попав ни стрелой, А ловкий стрелок попадет и одной. Старательно тайны свои береги, Сболтнешь — и тебя одолеют враги. Злословить не надо, хотя б пред стеной: Скрываются уши за нею порой. Душа — как ограда для тайны твоей, Надежный запор на воротах имей. Мудрец молчалив, потому что проник Он в то, что свечу сожигает язык.Рассказ
Текеш[101] об одном из заветнейших дел Поведал пажам и хранить повелел. Шла тайна от сердца к устам целый год, А тут в день единый о ней весь народ Проведал. Текеш приказал палачу Виновных предать без пощады мечу. Воскликнул тогда из казнимых один: «Пощады! Ты сам виноват властелин. В истоке ручья не сдержал ты, о князь, Запруды к чему, коль вода разлилась? Чтоб тайна известной не сделалась всем, О тайнах своих не беседуй ни с кем. Сокровища пусть стережет казначей, Но сам будь хранителем тайны своей. Ведь ты — господин нереченным словам, А сказанным — ты подчиняешься сам. Как беса в колодце, на верной цепи, Ты слово в глубинах души закрепи. Коль вырвется бес невзначай из тюрьмы, Его не вернем заклинаньями мы. Дать волю легко, но назад не вернешь, Увы, не поможет ни хитрость, ни ложь! Младенец распутает Рехша[102], меж тем Не может его изловить и Ростем. Слова, от которых возможна беда Тебе самому, затаи навсегда. Как верно сказала невежде жена: ,,Молчи, если речь у тебя не умна”». Прекрасно заметил индийский мудрец: «Всяк собственной славы и чести творец». В плену у житейских утех и услад Ты цену себе потеряешь, о брат!Рассказ
В Египте, свершая молчанья обет, Жил бедно одетый и кроткий аскет. К нему отовсюду стекался народ, Как бабочки, к свету стремящие лёт. Однажды припомнил отшельник-старик, Что свойства людей возвещает язык, Что муж, проводящий в молчании дни, Свои совершенства скрывает в тени. Вот стал говорить он о том и о сем И вскоре прослыл по Египту глупцом. Покинут, забыт, ненавистен судьбе, Он бросил свой дом, начертав на столбе: «Коль видеть себя, как в зерцале б я мог, Покровов с себя никогда б не совлек. Безумец! Себя я красивым считал, С уродства покров безрассудно я снял!»Пройдет о молчальнике молвь, если ж, речь Возвысив, бесславье сумел ты навлечь — Беги! Всем молчание впрок. Мудрецу Почета прибавит, поможет глупцу. Почетом своим дорожи, о мудрец! Молчанья покров не снимай, о глупец! Достаточно времени, друг. Не спеши Показывать встречным глубины души. Ведь ежели тайну откроешь, о брат, Ее возвратить не сумеешь назад. Как тайну царей охраняет калем — Пока нет ножа над главою, он — нем! Хоть словом владеет, но хуже, чем скот Безмолвный, кто речи пустые ведет. Как скот бессловесный, безмолвствуй и ты, Коль речи твои неумны и пусты. Пустых и ненужных речей избегай, Не будь, как болтающий зря попугай!
Рассказ
Поспоривши, некто на брань перешел. Побили его, разорвали камзол. Оборван, побит, сел, заплакавши, он. Сказал ему мудрый: «Когда б, как бутон, Твой рот оставался закрытым, покров Твой не был бы рван, как у розы цветов». Увы! Пустомель громогласны уста: У звонкого бубна средина пуста. Взгляни на огонь: на язык он похож, Но быстро водою его ты зальешь. Пускай говорят, что талантов лишен Са’ди, что с людьми необщителен он, Пускай полушубок мой рвут по клочкам, — До сути моей не добраться глупцам!Соловей в клетке
Раз сын у Азод-эд-Довлэ[103] занемог, Отец истомился от дум и тревог. Сказал ему некий подвижник: «О шах, На волю плененных повыпусти птах». Царь клетки разбил — вмиг не стало там птиц — Коль сломаны двери, бегут из темниц. — Под сводом чертога в темнице своей Остался один лишь певун-соловей. Недужный его заприметил там князь, И птице плененной он молвил, смеясь: «Ты в клетке-темнице, певун-соловей, Сидишь из-за сладостной речи своей».Покуда молчишь, ты спокоен и прав, Представь доказательства, слово сказав. Са’ди свой язык обуздал, и тогда Его не коснулась людская вражда. Тому лишь доступен душевный покой, Кто будет далек от беседы людской. При всех не порочь недостатков людских, А лучше займись исправленьем своих. Не слушай безумных речей пустоту, Глаза закрывай, увидав наготу.
Рассказ
Мюрид на попойке турецких рабов И бубен и арфу разбил у певцов. За это, как бубну, мюрида щекам Досталось, как струнам — его волосам. От боли побоев всю ночь он не спал, А утром наставник мюриду сказал: «Коль быть ты не хочешь, как бубен, побит, Как арфа смиренно согнись, о мюрид!»Рассказ
Увидели двое: и пыль и разлад, Разбросана обувь и камни летят. Один от смятенья сбежал, а другой, Вмешавшись в мятеж, поплатился главой. Блажен, кто не судит в гордыне своей Ни злых, ни хороших поступков людей. Даны тебе очи от Бога и слух, Уста для глагола и разум и дух, Чтоб мог ты низы отличать от вершин, В пустых пересудах не тратя годин.Рассказ
От мудрого старца я слышал рассказ, — Приятны такие рассказы для нас — «Раз видел я негра, который, точь-в-точь, Был черен и длинен, как зимняя ночь. Как будто бы демон царицы Балкис[104], Своим безобразием точно Иблис[105]. Девицу, подобную месяцу, он Лобзал и в объятьях сжимал, распален. Так крепко сжимал, что подумал бы ты: Заря погасает в тисках темноты. Вмиг Божий закон я припомнил, и пыл Ненужный меня, как огонь, охватил. Кругом озираясь, искал я камней Иль палки, крича: «О безбожник, злодей!» Крича и бранясь, разлучить их я смог — Так тьму с белизной разлучает восток. Он тучей умчался, предстала бела Она, как яйцо из-под галки крыла. Но лишь черный бес убежал, на меня Набросился ангел, бранясь и кляня: «Ханжа, лицемер, в черной рясе святош, Земле ты привержен, а к небу зовешь. Всех больше на свете мне негр этот мил, Он душу и сердце мои полонил. Я долгожеланные яства в сей миг К устам поднесла, ты ж их отнял, старик!» Вопя, призывала помочь ей в беде, Кричала, что нет состраданья нигде: «Нет больше мужчин, чтоб могла их рука Меня защитить от сего старика, Который, седин не стыдяся ничуть, Дерзнул на невинность мою посягнуть». Вцепилась при этом она мне в подол, Лицом от стыда в воротник я ушел... Бояся толпы, как из шкурки чеснок, Из платья я вырвался и — наутек! Я наг от нее убежал, пусть моя Одежда достанется ей, но не я. Чрез несколько дней мы столкнулись опять, Спросила: «Ты знаешь меня?» — «Как не знать? Ответил я ей. — Ты урок мне дала Вперед не мешаться в чужие дела. Ведь с тем не случится такая беда, Кто занят лишь собственным делом всегда. Решил я, увидевши злое, с тех пор Так делать, как будто не видел мой взор».За речью своей, коль умен ты, следи, Молчи, коль не можешь сказать, как Са’ди.
Пьяный суфий
Раз старцу Дауду[106] поведал мюрид: «Я пьяного суфия видел. О, стыд! Чалма и рубаха залиты вином, Лежал он в грязи, и собаки кругом». Услышавши это, Дауд пречестной Сначала насупясь, поник головой, Затем, прерывая молчание вдруг, Он молвил: «Потребен тут любящий друг. Ступай-ка, опять возвращайся туда, Чтоб не было вере и рясе стыда. Нет сил и рассудка у пьяных людей. Пьянчужку возьми, притащи поскорей». Смутился мюрид, услыхав тот приказ, И в думах, как в глине осел, он увяз. Ослушаться можно ль? Удерживал страх. А пьяницу стыдно тащить на плечах. Однако приказ обойти он не мог, Сыскать к избавленью пути он не мог. Решившись, он пьяницу на плечи взял. Собрался, крича и смеясь, весь квартал. С издевкой одни говорили: «Взгляни На этих дервишей, как святы они!» Другие: «Вот суфии наши, ну-ну! И рясу в заклад, чтоб добраться к вину». Кричали, на них указуя рукой: «Один полупьян, перепился другой!» Ах, лучше взнесенный врагом ятаган, Чем черни насмешки и брань горожан! С пьянчужкой пока дотащился мюрид, Немало стыда претерпел и обид. Свой стыд вспоминая, не спал он всю ночь. Сказал ему утром Дауд: «Не порочь Людей по кварталу, коль сам клеветы Не хочешь от целого города ты».О вы, кто разумны и светлы душой, Ни добрых, ни злых не порочьте хулой. На злобных хула — лиходеев родит, А добрых хулить — преступленье и стыд. Коль кто-нибудь скажет: «такой-то дурен», Так знай, что себя опорочил лишь он. Сначала чужой пусть докажет он грех, Меж тем как грешит сам злоречьем при всех. Хотя б ты и правду сказал, но, ей-ей, Творишь ты неправду, пороча людей!
Рассказ
Однажды, услышав заочную брань, Хулителю молвил мудрец: «Перестань . О людях при мне отзываться со злом, Себя не роняй в уваженье моем. Хотя б ты и прав был, что толку? Хула Ничуть ведь твои не улучшит дела».Рассказ
Однажды сказал мне приятель: «Разбой, По-моему, лучше злословья». Такой Был речью весьма удивлен я. Ему Я задал вопрос: «Объясни, почему Тебе беззаконье так мило, что вдруг Его предпочел ты злословью, о друг?» Ответил: «Отважен разбойник лихой, Он кормит себя удалою рукой, Меж тем как хулитель порочит людей И пользы не видит от злобы своей».Рассказ
В Незамовой школе учился, на счет Казенный, я ночи и дни напролет. «О старец, — наставнику раз я сказал, — Один из друзей мне завидовать стал. При нем толковал я, хотя бы с умом, Святые предания — все не по нем!» Услышавши это, наставник в ответ Вскричал возмущенно: «Не странен ли свет! Ты друга при мне порицаешь дела, Ужели ты мнишь, что похвальна хула? Коль к аду идет он своею стезей — За ним ты спешишь по дороге другой!»Рассказ
«Хаджадж кровожаден, в нем сердце — гранит Так некто однажды сказал. — От обид Злодея все стонут. Но верю — Творец Его беззаконью положит конец». Тут старец почтенный и видевший свет Тому незнакомцу преподал совет: «Он будет наказан, но также и те, Кто злобу питают к нему в слепоте. О нем позабудь — вот совет мой тебе, Своей предоставь ты Хаджаджа судьбе. Его беззаконием злым я томим, Но я огорчен и злословьем твоим. Исполнилась мера, свершается суд, И грешника в ад прегрешенья влекут. Хулитель же точно не хочет, чтоб тот Шел в ад в одиночку, и мчится вперед!»Рассказ
Один из подвижников встретил дитя И с лаской ему улыбнулся, шутя. Его соподвижники, то увидав, Злословью предали товарища нрав, И старцу, который меж ними был чтим, О том передали. Ответил он им: «Не троньте смятенного друга дела, Нет чести в злословьи, и в шутке нет зла».Рассказ
Я в детстве поститься решил. Был я мал В те дни: где десница, где шуйца, не знал. И мне богомол по соседству один Взялся изъяснить омовения чин. «Во-первых, скажи: бисмиллах[107]. Долг второй — Дать Богу обет. В-третьих — руки омой. Трикраты омывши и нос и уста, Чисть ноздри посредством меньшого перста. Протри указательным зубы перстом — Ведь щетка зубная запретна постом. Трикраты свой лик ты горстями воды От корня волос омочи до брады. Вновь руки до локтя затем омывай, Молитвы, которые знаешь, читай. За этим главы омовенье и ног, Обряду конец — призывается Бог. В сих знаньях никто не сравнится со мной, — Ведь старец-то сельский ослаб головой». Узнал это старец. От этих речей Вскипел и вскричал: «Нечестивец, злодей! На щетку зубную ты знаешь запрет, А ближнего грызть запрещения нет? Уста от злоречья очисти вперед, Пред тем как от брашен омоешь свой рот. Коль имя чье-либо услышишь, о нем Заглазно всегда отзывайся добром. Коль будешь людей ты ослами честить, Тебе человеком меж них не прослыть. Заглазно о мне ты дай отзыв такой, Чтоб мог ты его повторить предо мной».Ах, если стыдишься свидетеля ты, Где память о Боге, о раб слепоты? Стыдись не меня, а себя, о слепец, Ведь ты позабыл, что всеведущ Творец!
О ком допустима заочная хула
Достойны заочной хулы ото всех Три рода людей лишь. Хулить прочих — грех. Во-первых, то — царь, чья неправая власть Всему населению — злая напасть. О нем допустима недобрая речь, Хулой от него чтоб людей остеречь. Бесстыжих затем не щади наглецов, Что сами стыда разрывают покров. Такого спасешь ли от рытвин и ям? Он в кладезь глубокий бросается сам. И, в-третьих, нечестный торгаш, пленник лжи О нем все, что знаешь дурного, скажи!Рассказ
Спросил раз у суфия некто, любя: «Ты знаешь, хулил как такой-то тебя!» Но суфий воскликнул: «Безмолвствуй, о брат! Ведь лучше не знать, как враги нас хулят. Донесший, что сказано было врагом, Враждебней врага в разуменьи моем. По-моему, с недругом сблизился тот, Кто другу о вражьей хуле донесет. Сам враг ведь не смел повстречаться со мной И ярости трепет не вызвал хулой. А ты злей врага. Огласить хочешь ты Слова утаенной врагом клеветы».Насколько возможно, того сторонись, Кто спящей вражде говорит: «Пробудись!» Доносчик былую вражду возродит, Напомнит о горечи прошлых обид. Вражда — как огонь, а доносчика речь — Сухие дрова, чтобы пламя разжечь.
О женщинах добрых и дурных
С женой добродетельной, честной в делах Ликуй, о бедняк, точно сам падишах! Ударить вели перед дверью своей Пять раз в барабан, как у царских дверей. Невзгоды тебя устрашать не должны, — Утешат объятия верной жены. Коль ладно живешь ты, супругу любя, Создатель с любовью глядит на тебя. Красивая женщина честность свою Когда соблюдает — супруг как в раю. Ах, счастлив на свете всех более тот, Кто дружно с любимой женою живет! Коль набожна, ласкова будет жена, Ликуй, пусть лицом некрасива она. Верь: лучше такая красавицы злой, — Прикрыта ее дурнота добротой. Злонравных беги, пусть они — как пери, Но коль добронравна уродка — бери! Ведь уксус, как сладость, воспримет она Из мужниных рук, а дурная жена Ест сласти, лицом же, как уксус. От злой Супруги спаси нас, о Боже благой! Ведь если с вороной сидит попугай, Из клетки на волю стремится он, знай! Беги, коль попалась дурная жена, А иначе скорбь для тебя суждена. Быть лучше босым, чем в тугих башмаках, Скитальчество лучше, чем схватки в домах. И, право, спокойней усесться в тюрьму, Чем хмурые брови увидеть в дому. В дороге хозяин ликует: ведь он На время от злобной супруги спасен. Нет счастия дому, откуда проник Сварливой хозяйки на улицу крик. Коль любит по рынкам ходить, колоти, А иначе бабой сиди взаперти. Коль мужу жена не послушна — позор, Пусть он облекается в женский убор. Кто с глупой, порочной связался женой, Не с женщиной тот сочетался — с бедой. Коль в мерке овса сплутовала жена, Рукою махни на запасы зерна. Воистину избран Создателем тот, С кем честно и дружно супруга живет, Но зваться мужчиной не смей, коль, вольна, Другому твоя улыбнется жена. Коль тянется дерзко к запретным плодам — Возможно, даст волю своим кулакам. Для доброй супруги запретен чужой, Из дома она — лишь на смертный покой. Коль нет постоянства в супруге твоей, Тебе оставаться не следует с ней. Спасайся, беги крокодилу хоть в пасть, Ведь лучше погибнуть, чем низко упасть. Жену от чужих укрывай ты очей, Не можешь — так мужем считаться не смей. Жену добронравную другом считай, А злой, неуживчивой молви: прощай!Рассказ
Я слышал однажды слова двух мужей, От женщин изведавших много скорбей. Один: «Если б не было женщин дурных!» Другой: «Ах, когда б вовсе не было их!»Жену каждой новой весною меняй, Не гож календарь прошлогодний, — бросай! Вольны, дерзки женщины, власти хотят, Но в их поцелуях так много услад! Попавших под женское иго щади, От едких насмешек избавь их, Са’ди. В объятиях женщины ночь побывав, Ты сам ведь пред нею смиряешь свой нрав.
Рассказ
Скорбя, чуть, не плача, о ссорах с женой Рассказывал старцу супруг молодой: «У мельницы нижнему жернову я Подобен под бременем злого житья». «Зачем убиваться? — был старца ответ. — Терпи, ибо срама в терпении нет. Ты жерновом верхним бываешь всю ночь — Сумей недовольство свое превозмочь: Днем жерновом нижним побыть не беда, При розе шипы ведь бывают всегда. Вкушая от дерева сочных плодов, Сноси от него и уколы шипов».О воспитании сыновей
Лишь десять годов минет сыну, вели, Его от чужих чтоб держали вдали. Близ хлопка никто не садится с огнем, Не то — чуть задумался — в пламени дом! Чтоб память оставить ты мог меж людей, Добру, благонравью учи сыновей. Не будет твой сын если добр и умен, Умрешь ты, как будто потомства лишен. Ах, в жизни страдать будет сын без конца, Коль в детстве имел баловство от отца! Ты сына воздержным, разумным взрасти, Знай: нега и холя сбивают с пути. К нему будь взыскателен в детских годах, К добру приохоть, к злу внуши ему страх. Но знай, что начавшим учиться сперва Полезней угроз поощренья слова. Одно из ремесл пусть изучит твой сын, Хотя б ты богатством и был исполин. Как знать, что случится? Вдруг будет в чужой Заброшен он край коловратной судьбой. На деньги свои не надейся. Из рук Уходят большие сокровища вдруг. Но если твой сын ремеслом овладел, Минует его попрошайки удел. Тугая мошна все ж иссякнуть должна, У люда ремесл не пустеет мошна. Ребенок, не знавший наставника кар, Получит жестокий от жизни удар. Не холь, но в достатке семью успокой, Чтоб сын твой не мучился завистью злой. Отца невниманье приводит всегда К чужим, злым влияньям, а это — беда. Дурных воспитателей тотчас гони — К пороку детей приучают они. Ты знаешь, Са’ди торжество как снискал? В морях он не плавал, пустынь не видал. Он в детстве от старших побои терпел, — Дал Бог ему в старости высший удел. И всяк, кто покорен приказа словам, Знай, в будущем станет приказывать сам. Людей нет на свете злосчастней юнцов, Чье имя чернеет скорей их усов. От этих развратников юных беги: Для чести мужской — это злые враги. Увидев юнца с побродяжек гурьбой, Отцу молви: «Руки в спасеньи умой». Не плачь над могилой такого юнца, — Сын падший умрет пусть скорее отца.О преимуществах уединения во избежание злословия
Кто в мире избавлен от зла и потерь? Лишь тот, кто замкнет перед ближними дверь! Никто от злоречья людей не спасен, Будь он самохвалом, смиренным будь он. Будь ты, точно ангел, превыше небес, Прилипнет к тебе зложелатель, как бес. Усильем смиряют Ефрат или Нил, Язык же злонравца смирить нету сил. Между зложелателей стерта межа: Злокозненный плут ли, святоша ль ханжа, Спасенья от них — будь лисой или львом — Не сыщешь ни силой, ни хитрым умом. Ведь если порвет кто с мирянами связь, Затворником станет, людей сторонясь, Вмиг скажут: «Он — хитрый обманщик и плут, Ведь так от людей только бесы бегут». А если кто весел, к общенью привык, Ославят его греховодником вмиг. Заочно возьмутся срамить богача, Жесточе его не найдут палача, А если заплачет пред ними бедняк — Прогонят: ведь бедность — проклятия знак. Счастливца поверг если яростный рок, Злорадно воскликнут: «Пришел его срок! Вот Бог покарал наконец и его, Доколь гордеца выносить торжество?» А если несчастного вдруг бедняка Высоко взнесет провиденья рука, Со злобою скажут: «Ах мир наш таков: К ничтожным — приветлив, к достойным — суров». Коль делом ты занят, увлек тебя труд, Они честолюбцем тебя прозовут, А если от дел удалишься своих, Вмиг нищим бездельником станешь для них. Коль будешь речист, скажут: ты — барабан, А будь молчалив, назовут: истукан. О том, кто спокоен, беззлобен к тому ж, Смеясь, изрекут: «Это — трус, а не муж». Кто будет горяч и стремителен, тот Опасным безумцем меж них прослывет. Богач если скромность в быту сохранит (Для умных людей ведь роскошество — стыд), Вмиг острым, как бритва, своим языком Поранят его, назовут: скопидом. А если построит чертог расписной, Шелками украсит себя и парчой, Не будет злоречием их пощажен: «Себя разукрасил, как женщина, он!» Избегнет едва ли хулы домосед, — Осудят его повидавшие свет: «Сидящие дома, в объятьях жены Бывают ли знаний, талантов полны?» Но также, увы, не дождется похвал И тот, кто постранствовал, свет повидал. «Ведь, если б умелым, прилежным он был, Зачем бы он в странствиях мир бороздил?» Спасенья от злобных речей не найдет Никто: ни красавец, ни жалкий урод. Да кто бы на то и надеяться мог, Коль не был людьми пощажен сам пророк? И даже о Боге едином, благом Смотри: христиане что молвят о нем! Не может спастись человек от людей. Ах, только в терпеньи приют от скорбей!Рассказ
В Египте был раб у меня. Скромен, тих. Очей не решался он вскинуть своих. Мне кто-то сказал: «Бестолков этот раб, Хорошая трепка ему помогла б!» И вот на раба я прикрикнул. И что ж? Советчик вскричал: «Ты его так убьешь!»Рассказ
Был некто умен, полон сил, даровит И как проповедник весьма знаменит, Чертами лица был изящней притом Тех черт, что писал мастерским он пером. В словесности был, в красноречьи силен, Но буквы не все выговаривал он: Имел он какой-то порок языка И путался в нескольких звуках слегка. «Передних зубов у оратора нет», — Раз другу сказал я в одной из бесед. Приятель мой, вспыхнув, воскликнул: «Не смей Подобных нелепых мне молвить речей! Увидел ты в нем только этот порок, А многих достоинств заметить не мог!»Ах, если случится, что тот погрешил, Кто полон духовных и умственных сил, За этот лишь грех ты его не брани, Проступок забудь и заслуги цени. При розах бывают шипы, но, цветы Сбирая, шипов испугался ли ты? И знай: только тот, кто испорчен и зол, Лишь ног безобразье в павлине нашел. К душевной стремись чистоте. Не забудь, Что нет отраженья, коль в зеркале — муть. Не будь беспощаден к порокам людским, Слепым чтоб не быть к недостаткам своим. В своем существе распознавши порок, Порочных людей как судить бы я мог? Греха не взлюбив, не твори его сам, Тогда лишь суров будь к соседа грехам. И праведен я иль живу я греша — Тебе — моя внешность, а Богу — душа. И ежели внешне я честен, правдив, Тебе ль рассуждать, прям я вправду иль крив? Грязна моя жизнь иль полна чистоты — Бог в тайну проникнет скорее, чем ты. Хорош или плох я, тебе дела нет, Я сам отвечаю за пользу и вред. Ведь доброму доброе дело одно Творцом будет за десять дел сочтено. Ты также за доблесть одну будь готов Простить человеку десяток грехов. Не будь, как другие, что, видя изъян, Сочтут ни во что совершенств океан. Как тот ненавистник, что мутный свой взор В творенья Са’ди с озлобленьем упер. Там в сотни прекраснейших мест он не вник, Но, к слову придравшись, подъемлет вдруг крик Одну лишь причину я вижу тому: То зависть глаза ослепила ему. Был Господом разный народ сотворен — Кто черен, кто бел, кто красив, кто дурен. Глаза не у всех ведь блестят красотой. Ядро ешь фисташки, скорлупку ж — долой!
Конец VII главы
О БЛАГОДАРНОСТИ
ГЛАВА VIII
Дерзну ли я Богу хваленье воздать, Достойно прославить небес благодать? . Дар Божий — всяк волос на теле моем. Сумею ль хвалу каждым спеть волоском Владыке, что, милость простерши Свою, Раба-человека призвал к бытию? Кто выразить в силах отличья Его? Все свойства вобрало величье Его! Слепил, чудодей, Он из персти земной Твой образ, умом наделив и душой, И вот от рожденья до жизни конца, Глянь, милостей сколько к тебе от Творца! Ты чистым был создан, будь чистым в пути, — Постыдно тебе в прах нечистым сойти. Ведь капелькой семени был ты сперва, Зачем же гордыней полна голова? Трудом пропитанье добывши, о друг, Вотще уповать на усилия рук. Ужели не ведаешь, силою Чьей В движенье приводятся руки людей? Не можешь ты шагу ступить сам собой, Шлет свыше помогу Создатель благой. Не чрез пуповину ль тебя Он кормил, Когда ты во чреве зародышем был? Когда ж пуповину отъяли, в тот миг К груди материнской ты жадно приник. Две груди, влекущие страстно юнца, Не два ль родника в детских яслях Творца? Ах, матери лоно, ее две руки, Как рай, а сосцы — две молочных реки! Как дерево матери стан, и растет На дереве этом младенец, как плод. Не к сердцу ль идут вены, женских грудей? Так знай: молоко — кровь сердец матерей!Рассказ Раз сын послушанье нарушил и мать Проступком заставил жестоко страдать. Сказала, к нему поднеся колыбель: «О сын непокорный, забыл ты ужель, Как сон мне ночами очей не смыкал, Когда ты в слезах был, беспомощен, мал? Как ты, в колыбели здесь лежа, был слаб, Рука твоя муху прогнать не могла б! И ты ль, в колыбели боявшийся мух, Являешь теперь непокорности дух?»
Беспомощность вновь возвратится твоя, — В могиле не сгонишь с себя муравья. И светочем взор твой затеплится как, Пожрет если мозг твой могильный червяк? Увидев слепого, который пути, Забредши в канаву, не может найти, Коль Бога почтишь благодарной мольбой, Ты — зряч, а иначе ты тоже слепой. Познанья и ум не учитель дает, Но это в тебе от Господних щедрот, И если б Господь наложил свой, запрет, Тьмой лжи для тебя стал бы истины свет.
Ах, вникни: Творец для движенья людей Сцепил меж собой сколько жил и костей. Скот головы держит к земле преклонив, Ты прямо стоишь, точно буква алиф[108]. Для пищи к земле припадают скоты, Еду поднимаешь к устам своим ты. Зерном ты питаешься, а не травой, В траве ты не шаришь, как скот, головой. Но внешностью этой прельщаться нельзя — Ты прям; пусть прямой будет жизни стезя. В прямой лишь стезе, а не в стане прямом, Отличье свое от неверных найдем. И если ты в здравом уме, не перечь Тому, Кто тебе дал слух, зренье и речь.
Рассказ
С конем совладать некий княжич не мог, Свалился и шейный свернул позвонок. С тех пор, головою ворочая, он Всем телом был должен ворочать, как слон. Бессильны все были врачи. Наконец Из греческих стран объявился мудрец И вправил сустав. Княжич был бы навек Калекою, если б не тот человек. Но к княжичу снова когда он пришел, Гордец даже бровью своей не повел. Мудрец устыжен был, поник головой И, вышедши, так говорил сам с собой: «Когда б ему шею не выправил я, Теперь не вертел бы он лик от меня». Послал неких зерен он князю: «Вели, В курильнице их чтобы медленно жгли». От дыма тех зерен вдруг княжич чихнул И тотчас попрежнему шею свихнул. Немедля послали за лекарем тем, Хоть много искали — вернулись ни с чем.Ах, чтоб не остаться ни с чем в судный день, В хвалебной мольбе руки к Богу воздень!
Притча
Раз, за ухо некто схвативши мальца, Вскричал: «Вот побью я тебя, сорванца! Колоть чтоб дрова дал тебе я колун, А ты рубишь стену мечети, шалун!»Язык дан тебе для молитв и хвалы, Отнюдь не для ссор и заочной хулы. Чрез уши Коран и разумный совет Должны проникать, а не речи клевет. Глаза, чтоб творенья узреть благодать, А вовсе не в ближнем изъяны искать.
В отраду тебе дни и ночи даны, Блеск солнца, сияние светлой луны. Тебе вешний ветер, как верный слуга, Коврами зеленые стелит луга, А вихорь, и туча, и ливень, и снег, И молнии сабля, и грома разбег, Веленьям Творца подчиняясь равно, Взращают зарытое в землю зерно. Возжаждешь? Вот облако — твой водонос, Воды для тебя на плечах он принес! От праха — еда, запах, красок подбор, Что тешат твой вкус, обонянье и взор. Луна, солнце, звезды, созвездье Плеяд — Лампады, в твоем что жилище горят. Ах, нужно Творца восхвалять всей душой, Хвалы той не выразить речью людской! Не только всех тварей бессильный язык, Но даже и в небе весь ангельский лик Досель, о Создатель, тебе не воздал Хотя б малой доли достойных похвал. Умой свои руки, Са’ди, смой тетрадь! Доколь по стезе бесконечной бежать?
Не ценит никто дней счастливых своих, Лишь в бедственный час вспомним с горечью их! Богатому кажется, верно, легка Голодная, злая зима бедняка. Приречный ли житель прельстится водой? О ней тех спроси, кто в пустыне сухой. Скорбит ли на Тигре живущий араб О тех, кто в пустыне от жажды ослаб? Всю цену здоровья узнает лишь тот, Кого лихорадка хоть раз потрясет. Ах, темная ночь будет долгой тебе ль, Возлегшему в нежащем сне на постель? Спроси о длине бесконечной ночей У мучимых злой огневицей людей. Забьет барабан. Сон свой гоним мы прочь, Не вспомнив, что стражи не спали всю ночь.
Рассказ
Тугрил[109] как-то ночью, осенней порой, Заметил: индиец стоит часовой, От снега, дождя и бежавшей воды Дрожа наподобье мерцанья звезды. Его пожалевши, промолвил султан: «Сейчас меховой мой наденешь кафтан. Тебе его тотчас я вышлю с рабом, Немного побудь здесь на месте своем». Но время текло, утра час наступил, В чертоге своем властелин опочил. Имелась в хареме турчанка одна, Властителя сердце прельстила она. Как только увидел турчанку Тугрил, Мгновенно беднягу-индийца забыл. Знать, был неудачлив индус: лишь пустой Мечтой оказался кафтан меховой. Знать, холода мук было мало, что вдруг Прибавил к ним рок ожидания мук. Итак, спал под утро султан, а индус Сказал, претерпевши жестокий искус: «Счастливцем ли я показался, что вмиг Меня ты забыл и к рабыне приник? Ночной в наслажденьях проводишь ты час, Тебе ль знать, как ночь протекает для нас!»Присев на привале к котлу, пешеход Не вспомнит о тех, кто в пустыне бредет. Заснувшие мирно под кровлей своей, Что знают о муках голодных людей? Коль быстрый верблюд под тобою бежит, Тебя ль тронет пеших измученный вид? О путник выносливый, стой, подожди! Ведь старый и слабый бредут позади. О трудном пути правду скажут тебе Лишь те, кто изныли в далекой ходьбе.
Рассказ
Был вор схвачен стражами. Руки ему Жестоко скрутили, швырнули в тюрьму. Всю ночь он томился, избит, устрашен, Вдруг слышит снаружи несчастного стон: То плакал бедняк от своей нищеты. Вскричал заключенный: «Опомнишься ль ты! Ступай, Бога славь, что хоть пусто в руках, Зато не закованы руки в цепях». Не плачь о своем злополучьи, когда Увидишь людей, чья жесточе беда.Рассказ
Валялся на улице пьяный в грязи. Один богослов, проходивший вблизи, Кичась чистотой, отвратил гордый лик, Но пьяный вскричал: «О почтенный старит?, За нрав свой достойный Творца восхвали, Ведь гордый от Бога бывает вдали. Не смейся над тем, кто в оковах грехов, Ведь можешь и ты тех изведать оков. Вдруг будет угодно так сделать судьбе, Что пьяным придется упасть и тебе». Тебе суждена коль к мечети стезя, Над теми, кто в церкви, глумиться нельзя. Хвалу вознеси, мусульманин, стократ За то, что не носишь ты магов наряд. Не всякий достигнет искомого сам, — Ведет Божий промысл по тайным путям!Сомнатский идол
Я идола видел, пришедши в Сомнат[110], Он был изукрашен, как древле Манат[111]. Так чудно художник его изваял, Что краше кумира никто не видал. И слал караваны паломников мир, Чтоб этот бездушный увидеть кумир. Искали все верности, как и Са’ди, От идола с каменным сердцем в груди! Речистых людей изо всех областей Вокруг собирал истукан без речей. Смущенный, я тщетно себя вопрошал: Как стал для живых божеством минерал? Раз магу, с которым знакомство водил, — Сожителем мне, даже другом он был — Как можно помягче я молвил: «Брахман[112], Дивлюсь я на храм ваш, на ваш истукан, Но больше всего я дивлюся, ей-ей, На чтящих бездушную куклу людей. В ногах и руках у кумира нет сил, — Не встанет, когда б ты его повалил. Глаза у него — два куска янтаря, От каменных глаз ждать внимания зря». От слов тех взглянул друг врагом на меня, Как будто метнул он огнем на меня. Уведомил вмиг магов, старцев своих. Сошлись. В их враждебном кругу я притих Вскипели в Пазенда[113] чтецах гнев и злость, Набросились, будто собаки на кость. Кривой этот путь был для них справедлив, Меж тем как прямой путь казался им крив. Каким бы кто ни был, о друг, мудрецом, В собраньи невежд прослывет он глупцом. Беспомощен, как утопавший, я вмиг Смекнул, что спасет лишь притворства язык. Узнав, что враждует невежда с тобой, Уступчивость выбери, мягкость усвой. Тут главному магу хвалу я изрек, Сказав: «О учитель, Пазенда знаток! Ведь этим кумиром я сам восхищен, Столь образом чуден и сладостен он. Пленился я видом, успев лишь взглянуть, Но смысл мне невнятен, неведома суть. На этот ведь путь я недавно вступил, Добро ото зла различить нету сил. Советник ты здешних святынь королю, Ты — мудр, и в игре здесь ты — ферязь. Молю Мне этого идола тайну открой, Которому предан я всею душой. Слепое одно поклоненье ведь — стыд, Лишь в тайну проникший поистине чтит». Такими словами доволен был жрец, Зарделся, с улыбкой сказал: «О пришлец! Вопрос твой уместен и верен подход, Вожатого ищущий к цели придет. Как ты, исходил я довольно краев И видел бездушных, недвижных Богов. Но этот кумир не таков. По утрам К Создателю руки вздевает он сам. И если остаться здесь с нами непрочь, Проникнешь ты в таинство в эту же ночь». И вот я остался средь храмовых стен Во тьме, точно в яме злосчастья Бижен[114]. Та ночь продолжительней судного дня, И маги в молитвах ночных вкруг меня. Вовек омовений не знали они, Как падаль на солнце, воняли они. Должно быть, больших натворил я грехов, Что выпал на долю мне жребий таков. Всю ночь я терзался, одною рукой Творца умоляя, грудь сжавши другой. Как вдруг барабанщик забил в барабан, И вслед, как петух, подал голос брахман, А мрак-черноризец в тот миг с быстротой Извлек из ножон утра меч золотой, И будто б огонь на светильню упал, — Весь мир загорелся, весь мир просиял! Как будто средь негров в страну Занзибар[115] Явился вдруг светлый юнец из татар. Тут стали стекаться отвсюду, кругом, Угрюмые маги с немытым лицом. Столпила их здесь поклонения страсть Так тесно, что негде иголке упасть. Страдал я, от ночи без сна точно пьян, Как вдруг кверху руки воздел истукан. И тотчас вскричал — возопил весь народ, Ты скажешь — то бурное море ревет. Когда разошлись все и храм опустел, Пытливо брахман на меня поглядел И молвил: «Твоим затрудненьям — конец. Вся правда открылась, сомненьям — конец». Тогда увидал я, что в мыслях жреца Безбожью, невежеству нету конца. Ни слова в ответ не посмел я сказать, Ведь правду безумцам нельзя открывать. Коль силой ты слаб по сравненью с другим, Геройство ли — схватка неравная с ним? И вот, лицемерные слезы струй, Раскаялся в прежних сомнениях я, Слезой я безбожников сердце привлек, Не диво, — ворочает камни поток! Ко мне подбежали, главу преклоня, С почтением под руки взяли меня, Прощенья прося, дал себя я вести К тому изваянью из белой кости. Уста приложил я к перстам костяным. — Да будет он проклят и все иже с ним! — Во всем подражая кумира жрецам, На несколько дней стал брахманом я сам, Когда ж увидал, что доверье снискал, От счастья куда и деваться не знал. Раз ночью, один, дверь замкнув, без препон Снуя влево-вправо, что твой скорпион, Я поиски начал. Кумира престол Обшарив, завесу в подножьи нашел. Открыл — вижу: в келье сидит потайной Брахман, за веревку держася рукой. Открылась мне тайна внезапно в тот миг (Так плавку железа Давид вдруг постиг)[116], Что снизу канат коль потянут к себе — Вверху руки вскинет кумир, как в мольбе. Брахман же, увидев меня, был смущен, В позорном обмане попался ведь он! Вскочил и — бежать. Я за ним по пятам — Нагнав, сбросил в кладезь, случившийся там. Я знал, что, останься в живых тот злодей, Погибели будет искать он моей, Боясь, что раскрою я низкий обман, Покончит со мной озлобленный брахман. Злодейства свидетелем став невзначай, Злодея как можно скорей убивай, А если оставишь в живых, то потом Врага ты получишь смертельного в нем. Пускай пред тобой он склонился в мольбе, Лишь случай представится — горе тебе! Добил я камнями брахмана-лжеца, — Навек ведь безгласны уста мертвеца — Но все же, возмездья боясь от людей, Тот край я покинул как можно скорей. Случайно огонь заронив в камышах, Спасайся — скрываются львы в тех местах. Не трогай змееныша, если ж убил, От мести змеи убегай что есть сил, Коль в улье ты пчел как-нибудь взволновал, Не медли, спасайся от тысячи жал. Средь прочих советов Са’ди есть такой: «Подножье стены подкопав, там не стой». Я бегством себя от несчастия спас, Из Индии морем приплыл я в Хеджаз. От горечи всех пережитых невзгод Теперь лишь почувствовал сладость мой рот — Теперь лишь, когда от судьбины лихой Надежно укрыт я под сенью благой Счастливой державы Бу-Бекра Зенги, Которого, Боже, спаси, сбереги. Ему средь рожденных подобного нет, Молельщиком быть за него — мой обет.Спасенье найдя от судьбины оков, Свой опыт со всеми делить я готов. Так знай, что теперь всякий раз, как с мольбой Я руки подъемлю в молитве святой, Кумир тот встает предо мною в мечтах, В глаза себялюбья он сыплет мне прах. Тогда разумею, что, руки в мольбе Воздев, их подъемлю не сам по себе, Что руки подъемлет молельщик не сам, Но тянет их тайная нить к небесам. Отверсты врата милосердия, но Проникнуть не всякому в них суждено. Не так же ли в царский дворец на прием Преходят лишь те, кто допущен царем. Никто не владеет ключом от судьбы, Всевластный владыка — лишь Бог, мы — рабы. О, правым идущий путем, разумей, Что Богу обязан ты правдой своей. Хранит тебя Бог, нрав твой добрым создав. Поэтому зла и не знает твой нрав. Ведь Тот, Кто дает от пчелы сладкий мед, Тот также и яд и змею создает. На царство твое если гневно воззрит, Он души людей от тебя отвратит, А ежели миловать будет, любя, Он людям спокойствие даст чрез тебя. Коль прямо идешь ты, не требуй похвал, — Тебя поддержали, и ты не упал! Полезен совет мой, коль будешь внимать. Избрав правый путь, обретешь благодать, Достигнешь ты мест, если милость обрел, Где сядешь за вечного пиршества стол. Но только один не вкушай, погоди, Сперва вспомяни о несчастном Са’ди. Быть может, поможет молитва твоя, В поступках своих не уверен ведь я!
Конец VIII главы
О ПОКАЯНИИ
ГЛАВА IX
О ты, возраст чей ныне — семьдесят лет, Ужель ты проспал? Жизнь прошла, жизни нет! Ты все о житье о бытье хлопотал, К отъезду припаса себе не собрал. Но в день воскресенья на торжище, знай, Заслугами только сторгуешь ты рай. Товар коль имеешь, получишь барыш, С пустыми руками придя — прогоришь! Чем торг оживленней, тем слезы горчей Пришедших с пустыми руками людей. Имел пятьдесят коль дирхемов, а пять Из них потерял ты — начнешь горевать. Так знай: пятьдесят если прожил годов, Пять дней лишь осталось тебе — будь готов! Ах, если почивший имел бы язык, Он поднял бы слезный и горестный крик: «Молись, о живущий, имеющий речь, Пока смерть не может твой голос пресечь! Ведь если в беспечности век наш протек, Используй хоть ты остающийся срок».Старец и юноши
Мне вспомнился вечер из юности дней, Собралось нас несколько юных друзей, Шумливы, как птицы, как розы — лицом, От наших проделок смятенье кругом. Сидел некий старец поодаль один; Волос его ночь — белый день от седин, Уста его замкнуты, точно орех, У нас, как фисташку, раздвинул их смех. Один из нас молвил, приблизясь к нему: «О старец, так грустно сидишь почему? Морщины разгладь и тоску прогони И к нам, молодым, беспечально примкни». Тут голову поднял наш старый сосед, Взглянул и ответил — о, мудрый ответ! — «Когда вешний ветер повеет на сад, Пускай молодые деревья шумят, Пусть свежая ветвь оживает. Весной Со старых суков лист спадает сухой. Трава ввысь стремится, пока зелена, Пригнется, когда пожелтеет, она. На вашей мне быть вечеринке не след, — На щеки мне пал утра старости свет. Душа, точно сокол плененный, вот-вот Порвет свои путы и ввысь упорхнет. Садиться за стол — ваш черед, а для нас Пришел расставанья с утехами час. На ворона крылья, на кудри мои, Снег выпал, и мне ли друзья — соловьи? Павлин пусть красуется в блеске своем, А я — старый сокол с разбитым крылом. На жатве был плох урожай у меня, Для вас же едва проросли зеленя. Опора моя, о сынок, на клюку, На жизнь опираться не мне, старику. Мечтам предаваться не срам для детей, Но это позорно для старых людей. Мне надо б рыдать, как ребенку, теперь, А жить по-ребячьи мне стыдно, поверь!»Рассказ
К врачу притащился согбенный старик, От смерти его отделял только миг. «Мой пульс ты пощупай и хворь прекрати; Мне ноги служить отказались почти. Я сгорбился так, что похоже как раз, Как будто я в тине глубокой увяз». Но врач отвечал: «Жизнь прошла, брось мечты, Из тины той в судный лишь день выйдешь ты».Нельзя пыла юности в старцах искать — Бегущие воды текут разве вспять? Коль в юности был ты и пылок и лих, Будь в старости трезв и разумен и тих. Как за сорок лет перешел жизни срок, Все рвенье к чему? Твой конец недалек! От зелени вешней воспряну ль душой? Взойдет вскоре зелень из праха над мной. Ах, много ходили мы, полны страстей, Над прахом могильным ушедших людей! Другие же близятся в тайном пути, Придут, чтоб по нашему праху пройти. Промчалася юность, прошла она, ах, В забавах пустых и ничтожных делах! Увы, в пустоте мы ее провели, От истины мы оказались вдали! Прекрасно учитель ребенку изрек: «Погублено время, не сделан урок».
Ты смолоду Богу служенье начни — Вернутся ли в старости юные дни? Душой ты свободен, а телом силач — Скачи, погоняй на ристалище мяч. Безумец, цены я тем годам не знал, Узнал только ныне, когда проиграл. Осел престарелый покажет ли прыть? Но борзых не бойся коней горячить. Склеить можно ловко разбитый сосуд, Но прежней цены за него не дадут. И все ж, если чашу ты выронил вдруг, Что делать? Склеи осторожно, о друг! Кто в реку бросаться тебе говорил? Упав, все ж, чтоб выплыть, из всех бейся сил. Беспечно коль ты пренебрег ручейком, Как быть? Соверши омовенье песком![117] И если тебя обогнал скороход, Ты двигайся все ж, ковыляя, вперед. Пускай быстроногий тот скрылся вдали, За ним ты, калека, ступай, не дремли!
Рассказ
Я в Фейдской[118] степи был путем истомлен, И ноги сковал как-то ночью мне сон. Погонщик верблюдов, рассерженный, злой, Стегнул мне по шее верблюжьей уздой: «Вставай! Не навеки ль желаешь уснуть? Не слышишь, сзывает как колокол в путь? Я так же, как ты, не боролся б со сном, Да, видишь, пустыня простерлась кругом!»Блажен тот разумный, достойный похвал, Кто, прежде чем знак дан, пожитки собрал, А спящий в дороге, возможно, когда Проснется, не сыщет ушедших следа. О спящий, проснись в сей же день, в сей же час: Коль смерть нас разбудит, что пользы для нас? Имеешь ты очи, лей слезы в сей миг, Покайся, покуда в устах есть язык. Душа не навек у тебя, человек, Язык твой в устах у тебя не навек. Душой дорожи — драгоценна душа, А клетка без птицы не стоит гроша. Ах, жизни не дай понапрасну протечь. Ведь миг скоротечен, а «время, как меч!»
Рассказ
Судьба некой жизни обрезала нить, А близкий, скорбя, начал в грудь себя бить. Муж некий, в сужденьях находчив и здрав, Промолвил, рыданьям скорбящего вняв: «Коль мертвый тот слышал бы плач над собой, Порвал, негодуя, он саван бы свой, Вскричал бы: ,,К чему убиваться, скорбя — Ушел я дня на два лишь раньше тебя. О смерти своей позабыл ты, ей-ей, Что так огорчаешься смертью моей“».Горсть праха в могилу бросая, судьбу Оплачьте свою, не того, кто в гробу. Не плачь о младенце, как ни был бы мил, Он, чистым придя, в чистоте опочил. Ах, мир преходящ, нет в нем прочных утех, На куполе держится ль грецкий орех? Неведомо завтра, умчалось вчера, И только сегодня тебе — для добра!
Рассказ
Любимца Джемшид потерял. Как в кокон, Окутал его в саван шелковый он. В гробницу придя через несколько дней, Над телом чтоб скорби предаться своей, Тот саван истлевшим увидел Джемшид. Подумав, сказал: «О, разительный вид! Тот шелк из червя был исторгнут с трудом, А ныне расторгнут в могиле червем».Однажды услышал я песню вдали, Слова этой песни меня потрясли: «Вернется без нас много раз в мир, увы, Весна, и цветы будут цвесть меж травы. Придет много лет, много весен и зим, А мы будем прахом бездушным, немым. В садах расцветать будут розы без нас, Любовники будут любить много раз».
Рассказ
Воздержный и строгий один богомол Вдруг золота слиток огромный нашел. Вмиг жадность смутила подвижника дух, И разум его, прежде светлый, потух. Не спал он и думал: «Таков этот клад, Что буду до самой я смерти богат, И старческий стан свой не стану я впредь Для просьбы сгибать и презренье терпеть. Я выстрою дом: мрамор — дома устой, А весь потолок — драгоценный алой. Особый чертог для приема друзей И с выходом в сад чрез одну из дверей. Изныл я от этих прорех и заплат, И очи повыел мне кухонный чад. Отныне найму поваров и стряпух, Начну на досуге воспитывать дух. Мне эта кошма изъязвила бока, Отныне постель моя будет мягка». Вцепилась та мысль, точно рака клешней, Рехнулся подвижник от блажи такой. Оставил его богомольческий пыл, Молитву и сон и еду позабыл. Не мог усидеть он на месте одном И в поле раз вышел, тревогой влеком. Увидел, что некто там глину могил Месил, кирпичи из той глины лепил. Тот вид богомола в раздумье вовлек: «Безумец, — сказал он, — используй урок! Кирпич коль замесят на прахе твоем. Прельщаться доколь золотым кирпичом? Широко отверста у жадности пасть, Куском лишь одним не насытится всласть. С кирпич пусть размером твой слиток, что в том? Ефрат не запрудишь одним кирпичом! В безумных мечтах ты считал барыши, Меж тем ты растратил запасы души. Прах страсти засыпал твой взор и твой ум, Сжег пажити жизни безумья самум. Сурьму заблужденья с очей своих смой, — Сам станешь ты завтра во прахе сурьмой!»Рассказ
Вражда разгорелась между двух людей, — Друг с другом они леопардов лютей. Друг к другу таким отвращеньем полны, Что им были тесны пределы страны. И вот смерти войском один был сражен, С утехами жизни простился вдруг он. Противник его в ликовании был. Близ вражьей гробницы он раз проходил. Увидел он жалкий могильный порог Того, чей когда-то был пышен чертог. К могиле врага, торжествующий, злой, Приблизился он, говоря сам с собой: «Поистине, тот бесконечно счастлив, Кто друга лобзает, врага схоронив. О смерти того слез не следует лить, Сумел кто хоть на день врага пережить». И тут в озлобленьи бесстрашной рукой С могилы он камень столкнул гробовой. Врага увидал он простертым во прах И с прахом в когда-то сиявших глазах. В темнице могильной его существо, Червями изъедено тело его. Костяк так наполнен могильной землей, Как темною мазью сосуд костяной. Властительной длани, стальной пятерни Сустав от сустава отторгнули дни... При зрелище этом был жалостью враг Охвачен и слезы излил на костяк. Раскаялся вмиг он в своей слепоте, Велев начертать на могильной плите: «Не радуйся смерти другого, ведь рок Тебя вслед за ним унесет в краткий срок». О случае том одному мудрецу Сказали. В слезах он взмолился к Творцу: «Ужель ты откажешь в прощеньи благом Тому, кто был горько оплакан врагом? Ах, станут и наши такими тела, Что враг, прослезясь, не припомнит нам зла! И я уповаю, что сжалится Бог Над мной, если враг пожалеть меня мог».Рассказ
Я помню, что в детские годы отец — Помилуй его милосердный творец! — Мне классную доску купил и тетрадь И вещь золотую — колечко-печать. Но некто, смекнувши, что глуп я и мал, На финик кольцо у меня обменял.Ребенок цены ведь не знает кольцу, Свой перстень за финик отдаст хитрецу. Цены своей жизни не знаешь и ты — Ее продаешь за утехи, мечты! В день судный, когда благочестье, о брат, Всех чистых из праха взнесет до Плеяд, В смущеньи ты долу поникнешь главой, Неправедный путь весь припомнивши свой. В том месте, где в страхе пророки дрожат, Грехам извиненье найдешь ли, о брат? Знай, жены, усердные в вере своей, Тогда превзойдут нерадивых мужей. Ужели не будешь ты, муж, пристыжен, В том месте высоком, отставши от жен? Ведь есть извиненье у жен, коль они Не молятся Богу в известные дни. А ты к стороне отошел почему ж? Ты стал ниже жен, не хвались, что ты муж! Что сам я пред теми, кто слова цари? Внемли, так сказал царь стиха Онсори[119]: «Прямой путь оставив, придешь на кривой. Какой же ты муж, превзойден коль женой?»
Рассказ
Я вспомнил о случае в детстве моем: На улицу в праздник я вышел с отцом. Я шел забавляясь, все нравилось мне, И вдруг потерял я отца в толкотне. В отчаяньи поднял я крик. Наконец, Мой плач услыхав, появился отец, Прикрикнул: «Не раз говорил я, пострел, Полы чтоб моей выпускать ты не смел!»Беспомощны дети, оставшись одни, Дороги домой не находят они. И ты, как ребенок в дороге. Скорей Схватись за полу благочестья мужей! О помощи их умоляй, ибо те, Кто мудры, не видят стыда в нищете. Как малый ребенок, бессилен мюрид, Но старец стеной нерушимой стоит. Учись у младенца: при первых шагах За стенку держась, побеждает он страх. В лицо нужно правде сегодня ж взглянуть, А завтра возврата закрыт будет путь!
Рассказ
Собрал некто летом запасы зерна И думал: зима мне теперь не страшна. Но как-то, в хмелю, он огонь разложил, Нечаянно весь урожай свой спалил. Что делать? На завтра пришлося начать Колосья упавшие в поле сбирать. Узнав, что бедняга наказан судьбой, Совет кто-то сыну преподал такой: «Боишься ты ежели черного дня, Подальше держи урожай от огня».Коль жизнь расточаешь в бесчестии, знай: Ты — тот, кто в безумьи поджег урожай. Опомнись! Запас сохраняя зерна, Сей веры, добра и любви семена. Накажет когда злополучного рок, В несчастии том для счастливых — урок. До казни стучись в милосердия дверь, В мольбах из-под палки нет пользы, поверь.
Иосиф и Зелиха[120] Когда Зелиха стала страстью пьяна, Иосифу в ризы вцепилась она. Бес похоти властвовал, стыд же умолк, К Иосифу ринулась хищно, как волк. Был мраморный идол в ее терему. Она каждый день поклонялась ему, Но лик изваянья закрыла в тот раз, Боясь укоризны от идольских глаз. Иосиф, не зная деваться куда, Забившися в угол, страдал от стыда. Она ж, ему руки и ноги покрыв Лобзаньями, страстный шептала призыв: «Суровым не будь, не беги, мы — одни, Блаженных мгновений любви не гони!» Но, плача, Иосиф воскликнул в ответ: «Своей чистоты не нарушу, о нет! Ты каменной куклы стыдишься лица, Всезрящего мне ль не стыдиться Творца?»
Окончание IX главы
В Сан’а умер сын у меня. О, беда! Как выразить, что пережил я тогда! Придет коль Иосиф, недолго ты рад, — Как рыбой Иона, могилой он взят. Едва кипариса возвысится стан, Как с корнем исторгнет его ураган. И диво ли, прах если розу взрастит, Ведь в нем столько розовых персей, ланит! Сказал я: «Коль чистых уносит детей Могила, умри, старый грешник, скорей!» В безумьи от скорби, из всех своих сил Я камень могильный с гробницы свалил. Ах, мрак, теснота, смрад и ужас! На миг Лишился я чувств и бессильно поник. Когда ж я очнулся, меня вдруг потряс Любезного чада раздавшийся глас: «Коль мраком гробниц ты испуган, Са’ди, Будь светел умом и со светом входи. Чтоб светлой, как день, ночь могилы была, Зажги яркий светоч — благие дела».Ах, многие мнят в заблужденьи ума, Не сеяв, не жав, собирать в закрома! Кто древо сажал, тот отведает плод, Кто сеял, Са’ди, тот и жатву сберет!
Конец IX главы
МОЛИТВЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ КНИГИ
ГЛАВА X
Возденем-ка руки молитвенно ввысь! Не даст завтра смерть, чтоб они поднялись. Не видел ужель, как осенней порой, Без листьев оставлены стужею злой, Деревья просящую длань к небесам Подъемлют? Отказа ведь нет их мольбам! Весенний наряд вновь судьба им дает, В их лоне опять зарождается плод. Не гонят того, чья простерта рука От двери, не знавшей вовеки замка. Все с верой туда и моленьем своим Подходят. Мы также туда поспешим! Как голую ветвь, руки кверху прострем, Ведь быть невозможно нам впредь нагишом. С небес устреми, о Владыка, свой взгляд, Воззри на рабов, что, заблудшись, грешат. Но если, о Боже, грешит бедный раб, — В надежде на милость твою он ослаб. Тобою мы вскормлены, и потому Привыкли мы к благу, добру Твоему. Ведь нищий при виде добра и щедрот Со следа Даятеля благ не сойдет. Возвысил Ты в этом нас мире, любя, Вся наша надежда и впредь на Тебя. Лишь Ты можешь дать униженье иль власть, Любимцам Твоим униженно не пасть. Любим если я, от презренья спаси, Меня от грехов, от паденья спаси. Подобного мне не поставь надо мной, Пусть буду казним лишь Твоею рукой. Нет в мире напасти тягчайшей, чем срам Насилье терпеть от подобных же нам. Довольно с меня пред Тобою стыда, Избавь от стыда пред людьми навсегда. Меня если милость Твоя осенит, Подножием станет мне неба зенит; И если возвысишь меня средь людей, Спаси от паденья поддержкой Своей.Рассказ
Язычник один, возлюбя свой кумир, Предался служенью, забывши весь мир. Провел много лет он в той вере слепой, Но раз был постигнут жестокой бедой. К подножью кумира склонившись во прах, В надежде на помощь взывал он в слезах: «В несчастьи моем, о кумир, помоги, На слезы воззри своего ты слуги!» Так плакал пред идолом много он раз, Но идол его от беды той не спас. — Да можно ль и ждать от кумира добра, Коль сам он не в силах прогнать комара? — Вспылил вдруг язычник: «О ты, злая ложь, Тебе столько лет я служил для чего ж? Иль ты помогай мне сейчас же, иль я Прибегну с мольбою к Творцу бытия!» И что ж! Прах поклонов кумиру с чела Еще он не стер — Божья помощь пришла! Был ввергнут тем случаем чудным весьма Подвижник один в помраченье ума: «Как! Гнусный язычник — возможно ужель? — Не смывший еще заблуждения хмель, Покаяться даже в неверьи не мнил, А все, что просил он, Господь совершил!» Решал он мучительный этот вопрос, Как вдруг тайный голове в тиши произнес: «Молился пред идолом некий старик, Но этой мольбой ничего не достиг. Коль будет и Мной он отринут в нужде, Меж Мной и тем идолом разница где?»Прибегнем же к Богу, создавшему мир, Ведь смертный бессильней, чем даже кумир. И знай: невозможно, у двери чтоб той Просящая длань оставалась пустой. О Боже, мы, грешны без меры, пришли С просящей рукой, полны веры пришли!
Рассказ
Я слышал, что некто, упившись вином, Ворвался в мечеть и, упавши ничком, Взывал в исступленьи: «О Боже, спаси И в рай Свой превышний меня вознеси!» Схватил муэззин его за ворот: «Эй, Забрел пес во храм, убирайся скорей! Что доброго сделал, чтоб рая желать? Тебе ль, в мерзком виде, найти благодать?» Но пьяный, заплакав, в ответ произнес: «Я пьян, господин, но не надо угроз! Не столь велика разве милость Творца, Чтоб грешников к ней не стремились сердца? Молю не тебя, чтобы простился мне грех, Но Бога, Чья милость простерта на всех. Стыжусь я великим считать грех людской В сравненьи с безмерною милостью той».Кто с ног свален старостью, может ли встать С земли, если руку ему не подать? Я — этот старик, сбитый старостью с ног, Мне милости руку подай, о мой Бог! Не славы прошу я, не почестей, нет, — Грехов отпущенья, спасенья от бед. Здесь в мире друзья, о проступке узнав, Заглазно порочат друзей своих нрав. Всезрящ Ты, но страх друг пред другом у нас: Тобой грех покрыт, а у нас — напоказ. Грех ближнего видя, мы громко вопим, Ты ж грех покрываешь прощеньем своим. Рабы по незнанью грешат иногда, Но грех им прощают такой господа. Прощать если в меру своих ты щедрот, О Боже, начнешь, кто здесь грешных найдет? А в меру грехов коль карать будешь ты, Дорога всем — в ад, не найти правоты! Кто сможет унизить, осилить враждой Того, кто спасен и поддержан Тобой? В день судный направо, налево людей Разделят. В какую войду из частей? Направо ль пойду? Будет диво! Ведь я Неправедно жил, только кривду творя. И все же порою надеюсь я там Найти снисхожденье к седым волосам. Но можно ль поверить мне чуду тому? Являл ли я жалость к себе самому? Немало Иосиф изведал обид, Когда же, возвысившись, стал именит, Иакова роду вину он простил. — Коль облик прекрасен, в душе много сил! — Он им не судил за злодейство оков, Он их не отринул ничтожных даров, И мы уповаем на милость Твою, Прости нас, простил как Иосиф семью. Ах, есть ли кто в мире грешнее меня? Не сделал добра ни единого я! Но в милость Твою верю всей я душой, Надеюсь, что буду поддержан Тобой. О Боже, я в дар лишь надежду принес, Моих не отринь упований и слез!
Конец
СЛОВАРЬ ПЕРСИДСКИХ СЛОВ
атабек — опекун. Так назывались крупные военачальники, которым поручали воспитание царевичей Сельджукской династии. Впоследствии некоторые атабеки образовали почти самостоятельные династии. брахман — последователь брахманизма — древнейшей и господствующей религии Индии. везир — министр. Во времена Са’ди (и раньше) везиром назывался государственный канцлер. дервиш — человек, добровольно избравший удел странничества и нищенства. Дервишизм обыкновенно идеологически питается суфизмом, философией восточного пантеистического мистицизма. Дервиш иногда значит и просто «бедняк». див — бес, злой дух. дирхем — серебряная монета стоимостью около 20 копеек. В настоящее время такой денежной единицы не существует. калем — тростниковое перо. кыбла — сторона, куда мусульмане обращаются при молитве, т. е. направление Мекки. В переносном смысле — цель заветных устремлений. михраб — ниша во внутренней стене мечети, указывающая кыблу; до известной степени соответствует амвону христианских церквей. мулла — мусульманский священник. муэззин — (неправильное начертание «муэдзин») — возглашатель призыва на молитву при мусульманских мечетях. мюрид — ученик, послушник; см. суфий. намаз — мусульманская молитва, совершаемая пять раз в сутки. пери — злой дух женского пола в зороастрийском пантеоне, воплощавшийся в образе женщины соблазнительной красоты. Впоследствии нечто вроде феи европейских сказок. Это слово, с неправильным ударением на первом слоге, часто встречается у русских поэтов I половины XIX века (Жуковский, Подолинский, Одоевский). Серош — имя ангела-вестника в зороастрийском пантеоне. суфий — нечто вроде странствующего монаха (францисканца) или же вольный последователь восточного пантеистического мистицизма (суфизма). Суфии группировались вокруг «старцев» (шейх, пир), руководивших подвижничеством неофитов. Такой руководитель назывался мюршид, а ученик (послушник) — мюрид. фарсах — мера длины от 5 до 7 км. (в зависимости от меньшей или большей пересеченности местности). фетва — решение по частному юридическому случаю, выносимое высшим представителем мусульманского ученого духовенства. хаджи — мусульманин, совершивший паломничество (хадж) в Мекку. харем (гарем) — всякое заповедное место, в частности женская половина дома, куда воспрещен вход мужчине, не являющемуся членом семьи. Хомай — сказочная птица, тень крыльев которой, падая на кого-либо, осчастливливала и возводила к царскому трону. хурия — соблазнительное существо женского пола в мусульманском раю. Ласки хурии будут наградой праведному человеку или борцу за ислам в потустороннем мире. човган — клюшка для игры в поло на лошадях.Редактор А. Н. Тихонов Художественная редакция М. П. Сокольников Тех.ред. Л. А.Фрязинова Наблюдение на производстве Ц. И. Козлов * * * Сдано в набор 22.V. 35. Подписано в печать 9. VIII. 35. Тир. 5.300. Уполн. Главлита Б 9981. Зап. тип. № 701. Зап. «Ас» 160. Инд. А — 1. Бум. 72x110 — 1116. Печ. л. 51/2+12 вкл, Авт. а. 18 7/10 * * * Отпечатано в 16-й типографии треста «Полиграфкнига», Трехпрудный, 9 Цена Р. 15.00 Перепл. Р. 3.59






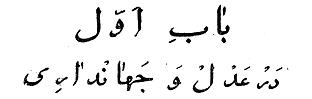






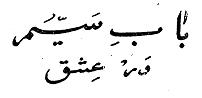







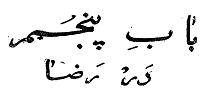











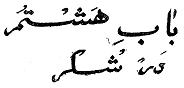









Последние комментарии
15 часов 50 минут назад
20 часов 5 минут назад
22 часов 23 минут назад
1 день 13 минут назад
1 день 5 часов назад
1 день 6 часов назад