Флетчер Нибел Собрание сочинений. Том 3 Ночь в Кэмп Дэвиде
 Флетчер Нибел 01.10.1911 — 26.02.1993
© Fletcher Knebel. Night of Camp David, 1965
Флетчер Нибел 01.10.1911 — 26.02.1993
© Fletcher Knebel. Night of Camp David, 1965
 [1]
[1]
ГЛАВА 1. ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ
Джим Маквейг неожиданно расхохотался так, что рука с бокалом шампанского дрогнула, и по белоснежной скатерти поползло серое предательское пятно. Сидевший справа министр обороны Сидней Карпер ухмыльнулся и покачал головой. Гомерический хохот, которым гости встретили ответ президента, заразил, по-видимому, и его. — Ничего не скажешь, непобедим, а, сенатор? Ну, нет, сесть себе на голову он никому не позволит! — Да, уж если он что задумал, с критикой лучше не соваться, — согласился Маквейг, вытирая уголком салфетки заслезившиеся глаза. Покончив с этим, он вновь устремил взгляд на центр длинного головного стола, сверкающего хрусталём, усыпанного пеплом и скомканными бумажками меню. Президент Марк Холленбах одарил слушателей ослепительной улыбкой в награду за тот громкий хохот, которым они встретили его удачную остроту, и потом напустил на себя прежний, шутливо-торжественный вид. Его острота была гвоздём программы сегодняшнего вечера, коротким и язвительным ответом на традиционный тост за здоровье президента Соединённых Штатов, который по издавна заведённому обычаю считался сигналом к закрытию очередного ежегодного обеда в клубе Гридирон. Дело в том, что устроившие этот обед корреспонденты осыпали президента Холленбаха, его административный аппарат, а заодно и его политических противников градом злободневных насмешек, преподнесённых в виде музыкальных скетчей. За исключением одного из них — обычной клоунской буффонады — скетчи разили как остро отточенные стилеты. Исполнялись они под звуки оркестра военно-морского флота, оркестранты которого в усыпанных блёстками розовых фраках явились развлекать пятьсот пятьдесят гостей президента. Позади президентского места висела эмблема клуба Гридирон, от которой он заимствовал своё название, — огромная, выложенная розовыми фестонами жаровня с пылающими под ней искусственными углями, — из тех жаровен, в которых в девятнадцатом веке домашние хозяйки жарили мясо. Со времён Бенджамена Г аррисона эмблема эта являлась традиционной сатирой на каждого хозяина Белого дома. Перед Холленбахом сидела элита тщательно подобранного общества политических деятелей и промышленников Америки — людей, управлявших политическими партиями и громадными корпорациями. В большинстве случаев президент называл их всех запросто, по имени. Теперь, хоть и размягчённые отличным виски и вином, они следили за ним с настороженным вниманием, свойственным той породе людей, что окружает любого избранника. Как всегда он чувствовал, что сидит перед ними на суде, и его не могли обмануть ни длинные гирлянды нарциссов и роз, ни сверкающие серебро и хрусталь, ни крахмальные рубашки с безукоризненно белыми галстуками. Было одиннадцать часов вечера. Повёрнутые к нему лица гостей искрились как пузырьки в шампанском. Все эти в большинстве своём состоятельные люди полагали, что обед вполне соответствует занимаемому ими высокому общественному положению, и даже те, кто взял свои фраки, крахмальные рубашки и галстуки напрокат за пятнадцать долларов, невольно прониклись атмосферой всеобщего благополучия. Наступил тот час, когда отличное вино, изысканный обед и всеобщее веселье порождают в людях чувство товарищества и заставляют терять осторожность. Впрочем, на президента Холленбаха всё это не подействовало. Он никогда не позволял себе распускаться. — Как вам известно, — продолжал он, — один из моих ближайших советников славится воздержанием… — Президент выразительно помолчал. В речах записных остряков подобные паузы всегда играют существеннейшую роль. — В таких трезвенниках, как наш Джо, хуже всего то, что, вставая по утрам, они превосходно себя чувствуют и могут гарантировать себе такое самочувствие на весь день. Ответом на эти слова был новый взрыв смеха. Марк Холленбах улыбнулся, и Джиму почудилась в этой улыбке мстительность. Острота была старая, она была сказана много лет назад губернатором штата Мичиган Джорджем Ромни, и Маквейг доподлинно знал, что секретарь Холленбаха, занимавшийся обработкой его речей, безуспешно пытался отговорить президента от этой остроты. Но тот настоял на своём, заявив, что в устах президента США она прозвучит как новая. Так оно и случилось. Маквейг снова взглянул на Сиднея Карпера, но министр обороны уже не улыбался. Напротив, теперь он смотрел на президента изучающим взглядом. Большеголовый, с характерным хищным носом и бронзовым оттенком кожи, в профиль удивительно похожий на американского индейца, он сидел перед Маквейгом неподвижный как монумент, и, чтобы беспрепятственно видеть президента, сенатору приходилось то и дело вытягивать шею. — Мне очень приятно находиться здесь сегодня, — говорил тем временем президент Холленбах, — и слышать, как корреспонденты ведущих газет нашей страны для разнообразия говорят обо мне правду. В зале снова послышался смех. Но Холленбах на этот раз не улыбнулся и, сохраняя непроницаемое выражение лица, продолжал: — Мне особенно отрадно видеть, что мои друзья, республиканцы, тоже смеются. Вы ведь знаете — эту роскошь они себе позволяют не очень-то часто. Но всё-таки надо мной они сегодня смеялись… Ну что ж, и это уже большой сдвиг! Президент снова выдержал паузу и глотнул воды. — Лично для меня эта способность республиканцев при любых обстоятельствах сохранять невозмутимую торжественность просто непостижима. Возможно, разгадка тайны заключается в том, что они говорят друг другу? Я часто спрашиваю себя, о чём же всё-таки беседуют между собой республиканцы, эти представители нашего уважаемого меньшинства, когда собираются внутри своего клана? Я много размышлял над этим, джентльмены, и мне кажется, нашёл-таки способ удовлетворить своё любопытство. Разрешите мне внести на ваше рассмотрение одно предложение? Я предлагаю, — сказал он, помолчав, — чтобы нашему Федеральному бюро расследований были предоставлены самые широкие полномочия для автоматического подключения ко всем телефонам в стране. Нетрудно понять, какие необыкновенные перспективы для более эффективного раскрытия преступлений содержатся в этом предложении. С другой стороны, никому из достойных, уважающих закон граждан опасаться нечего, так как ничто сказанное ими по телефону не будет представлять для ФБР ни малейшего интереса. Но главное всё-таки не в этом! Главное в том, что при таком постоянном контроле за телефонными переговорами мы, демократы, сможем наконец узнать, из каких загадочных источников черпают республиканцы свои идеи и что же они действительно говорят друг другу, что вгоняет их в такую мрачность! Странная речь президента была встречена редкими, недоумевающими смешками. — Тут он, кажется, действительно переборщил. — Маквейг, улыбаясь, повернулся к министру. — Даже как шутка предложение жутковатое. Маквейг удивлённо взглянул на соседа и уже собирался было возразить, но новое удачное словцо, ввёрнутое президентом, снова вовлекло его в водоворот красноречия Холленбаха.
— …итак, — говорил президент, — согласимся, что жизнь достаточно коротка и не стоит ждать, пока начнут развлекаться наши мрачные друзья. Вместо этого предлагаю вам, джентльмены, повеселиться по-настоящему, всласть, насчёт моей собственной партии и насчёт Белого дома, где, могу вас заверить, тоже происходят вещи довольно странные.
Ободрённый смехом слушателей, Марк Холленбах минут пять подвергал ядовитой критике свой собственный административный аппарат. Приводимые им примеры больно кололи, но, тем не менее, когда Холленбах закончил свою речь и сел, все пятьсот пятьдесят умиротворённых отличным обедом гостей поднялись и устроили ему дружную овацию. Потом эти сверкающие белыми рубашками представители сильного пола взялись за руки и, сомкнув ряды, спели немного вразнобой старинный хвалебный гимн. Этим и закончился девяносто первый ежегодный обед в клубе Гридирон.
Грянули барабаны и фанфары морского оркестра, раздался бравурный марш «Да здравствует шеф». Президент Холленбах встал и, шагая между двумя агентами личной охраны, как единица, заключённая в скобки, направился вдоль длинного стола к выходу. Проходя мимо сенатора Маквейга, президент наклонился к нему и тихо сказал:
— Джим, зайдите ко мне домой, как только выберетесь отсюда. Мне необходимо поговорить с вами. Виски найдётся.
— С удовольствием, мистер президент, — ответил сенатор.
Холленбах ускорил шаги, и, когда он подходил к дверям зала, его окружила стайка агентов охраны. Гул возбуждённых голосов в зале сразу стал громче. Стремясь прорваться к буфетам с послеобеденной выпивкой, гости толпились у выходов.
С трудом проложив путь через толпы разгорячённых гостей, младший сенатор от штата Айова Маквейг выбрался наконец из зала и присоединился к длинной очереди в гардероб. У входа в отель под ярким светом вывески и фонарей толпился народ, глазея на выходящих знаменитостей. Маквейга окликнул Сидней Карпер и предложил подвезти его в своём пентагонском лимузине. Сенатор поблагодарил его и с непокрытой головой вышел в холодную мартовскую ночь.
Завернув за угол 16-й улицы и шагая по направлению к парку Лафайет и Белому дому, Маквейг чувствовал, что находится в прекрасных отношениях со своей собственной персоной и в неплохих — со всем прочим миром. Выбранная им профессия политика вознесла его наверх быстро и без всяких с его стороны усилий, как воздушного змея, подхваченного порывом ветра. В возрасте тридцати восьми лет он уже был сенатором первого срока, на обеде его усадили за головным столом, и вот теперь пригласили в Белый дом, где он будет распивать коктейли в частной беседе с президентом США. По вашингтонским стандартам, это было неплохо, совсем неплохо, и если достигнутое положение и не удивляло его, то, надо сказать, оно всё-таки приятно щекотало самолюбие сенатора.
Маквейг свернул в парк Лафайет, где до сих пор ещё лежали не растаявшие после недавнего бурана глыбы снега. На одной из клумб парка он заметил крошечную дощечку с надписью: «Осторожно! Здесь спят тюльпаны!». Фраза поправилась Маквейгу, он решил попользовать её при удобном случае в какой-нибудь из своих речей в сенате. В серой и безрадостной бюрократической рутине такие всплески воображения заслуживали несомненного признания. Он поднял голову и увидел перед собой статую Эндрю Джексона. К крупу лошади, на которой восседал прославленный президент, прилип уродливый ком грязного снега. Металл статуи так потускнел, что и Джексон и его конь приобрели нездоровый цвет, как будто оба они страдали хроническим разлитием желчи. Старый Энди, как он был не похож на сложного, благовоспитанного человека, живущего в том же Белом доме напротив! Почему именно Маквейга пригласили сюда в субботний вечер? Правда, он был довольно хорошо знаком с президентом и как-то раз во время выборов дал ему ценный совет побольше играть на руку штатам Среднего Востока, но особо доверенным лицом президента он никогда не был. Да и вообще-то, был разве у президента такой доверенный человек? Впрочем, на такие сложные размышления Джим Маквейг чувствовал себя в настоящий момент неспособным. Он беззаботно пересёк Пенсильвания-авеню и кивнул полисмену, охранявшему высокие железные ворота западного входа в Белый дом.
— Джемс Маквейг, — назвал он себя.
— Знаю, сенатор, — ответил полисмен, подходя ближе и внимательно вглядываясь в его лицо. — О вашем приходе нас уже предупредили.
Маквейг прошёл в ворота и направился по извилистой подъездной дорожке мимо японских тисов, разодетых в снежные, точно горностаевые одежды. Во всём западном крыле здания огни были погашены, и только в центральной его части круг яркого света захватывал величественные вязы.
Войдя внутрь дома и очутившись в похожем на музей фойе, Маквейг начал было разматывать кашне, как вдруг увидел молодого человека с бронзовым от загара лицом. Человек улыбался, зубы его блестели как известняк, освещённый молнией во время бури. Маквейг узнал одного из агентов службы охраны, специально приставленных к президенту.
— Лютер Смит, — представился он. — Не спешите раздеваться, сенатор. Хозяин уехал в Кэмп Дэвид, и я получил распоряжение доставить вас туда же.
— В Кэмп Дэвид? — удивился Маквейг и невольно бросил взгляд на часы. Было уже без десяти двенадцать. Кэмп Дэвид, горное убежище президентов США, построенное ещё Франклином Делано Рузвельтом и первоначально носившее название Шангри-ла, находилось в штате Мэриленд, в отрогах Катоктинских гор, на расстоянии восьмидесяти километров от Вашингтона. — Боже милостивый, а он не сказал вам, почему? — спросил он вслух.
— Нет, спрашивать тут не принято, — улыбнулся Смит. — Президент недавно туда отбыл, а мне приказано завезти вас домой переодеться и доставить в Кэмп Дэвид.
— Приказано?
— Так точно, сэр, приказано, — ухмыльнулся Смит, снова обнажив ослепительно белые зубы. Маквейгу он, в общем, понравился.
— Что ж делать. Поехали, — сказал он.
На извилистой дорожке, у южного крыла Белого дома, их уже поджидал урчащий лимузин. Маквейг сел рядом со Смитом на переднее сиденье, и они помчались по Мемориалбридж, выехали на Джордж Вашингтон-паркуэй и устремились к дому Маквейга.
Большой каменный дом сенатора, казалось, присел под телевизионной антенной и напоминал часового с приподнятым ружьём, охраняющего какой-нибудь заметённый снегом пограничный пункт.
— Зайдите выпейте кофе, пока я переоденусь, — предложил Маквейг агенту. — Жена и дочь уехали на неделю в Айову, так что я теперь в основном только им и питаюсь.
— Спасибо, сенатор. Я лучше посижу в машине. Пусть мотор получше прогреется, ехать нам ещё порядочно.
При свете автомобильных фар Маквейг стал шарить в карманах ключи от входной двери. Если бы Марта была дома, фонари на крыльце теперь горели бы и бросали на крыльцо тёплые янтарные круги. Но Марты дома не было, а сам он, как всегда, забыл зажечь их перед уходом. В спальне Маквейг принялся быстро стаскивать с себя официальную амуницию, ругнулся, вынимая из рукавов и воротничка непослушные запонки, и сравнительно легко отыскал пару новых носков. Потом стал раздумывать, чтобы ему надеть, и, в конце концов, в шортах и нижней сорочке выглянул в парадную дверь.
— Эй, Лютер, — крикнул он агенту. Тот надавил кнопку, и стекло дверцы автомобиля опустилось.
— Что мне полагается надеть, как вы думаете? — крикнул Маквейг. — Я ведь ещё ни разу не бывал в Кэмп Дэвиде, не говоря о том, что сейчас уже ночь.
— Наденьте какой-нибудь старый костюм. Там хозяин всегда носит старые военные брюки и рваный свитер.
Подумав, Маквейг выбрал серые брюки, фланелевую рубашку и стёганую куртку, в которой в холодную погоду удил рыбу. Одевшись, он хотел было позвонить Марте в Де-смон, но потом решил, что время позднее, и поспешил к лимузину. Кивком головы Лютер указал ему на заднее сиденье.
— Там сможете заодно и вздремнуть, — бросил он. — Попадём мы туда не раньше двух.
Но заснуть Маквейгу удалось не сразу, в голове всё ещё шумели выпитые на обеде виски и вино. Поэтому с полчаса они с Лютером ещё поболтали о том, о сём и в частности об особенностях службы охраны при разных президентах. Теперешняя служба, по словам агента, была не из лёгких, потому что нынешний президент всегда настаивал, чтобы место его ночлега становилось известно только в последнюю минуту. Так же случилось и сегодня вечером: пришлось срочно звонить трём агентам, вытащить их из постелей и заставить прочесать всё шоссе перед выездом президента в Кэмп Дэвид. Да нет, оклад у них не бог весть какой, но зато пенсия потом солидная.
Они уже подъезжали к Фредерику, когда Маквейг наконец задремал.
Проснулся он оттого, что в лицо брызнул сноп яркого света. Потом фонарик погасили. Маквейг протёр глаза и увидел перед собой моряка-сержанта, торжественно отдававшего им честь со ступенек караульного помещения. Снег в горах лежал глубокий и нетронутый, в хрупком лунном свете слабо выделялись силуэты высоких как башни елей. Смит подъехал к кучке бревенчатых строений и остановил лимузин перед самым большим из них. Тёмно-зелёная окраска коттеджа мрачно гармонировала с тёмно-серой формой флотского экипажа, выделенного для охраны президентского убежища.
Марк Холленбах в рубашке с открытым воротом и в пушистом свитере подошёл к автомобилю и открыл Маквей-гу дверцу.
— Добро пожаловать в Аспен, Джим, — сказал он. — Проходите-ка скорее в дом. Стоять тут чертовски холодно.
Сенатор неуверенно поднялся на крыльцо, вошёл в дом и очутился в низкой, слабо освещённой комнате. На одном конце её мерцало неровное пламя камина, на другом — светила единственная в этой комнате лампа. Но главное, чем освещалась комната, были полосы лунного света, проникавшего через большое окно. Снаружи, на примыкающей к коттеджу каменной террасе была установлена подставка с подзорной трубой на треножнике, наподобие тех, которые можно встретить в городских парках для обозрения пейзажей. Внутри стояли мягкие диваны, деревянные столы и большое кресло-качалка. Вся эта мебель отбрасывала на стены комнаты громоздкие тени. Потирая озябшие руки, президент подошёл к камину. Джим последовал за ним, и они стали греться у огня.
— Хотите чего-нибудь выпить, Джим? — спросил Холленбах.
— Пить мне больше не хочется, мистер президент. Виски да ещё несколько бокалов вина — на сегодня совершенно достаточно. Но если у вас найдётся стакан томатного сока, я выпью с удовольствием.
— Это вы неплохо придумали, Джим! — Холленбах прошёл в соседнюю с комнатой кладовку и возвратился с двумя высокими стаканами, наполненными соком. — Заодно я добавил сюда немного перца. Как по-вашему?
— Превосходно, — сказал Маквейг и поднял стакан, чтобы чокнуться с президентом. — За вашу сегодняшнюю великолепную речь, мистер президент! Она была не в бровь, а прямо в глаз.
— Вот как? А им она, кажется, и впрямь пришлась по вкусу.
Что за этим всё-таки кроется? — думал Маквейг. Вот он стоит тут в два часа ночи, распивает томатный сок с президентом Соединённых Штатов и смотрит в окно, за которым виднеется только однообразная белая даль. Имение Аспен было расположено на склоне горы. Джим знал, что где-то рядом с домом находится площадка для игры в гольф, разбитая много лет назад для президента Эйзенхауэра. За площадкой стояли стеной вековые дубы, сквозь их голые ветви виднелась ещё одна горная цепь, уходящая вдаль и растворявшаяся на горизонте, словно флот в безбрежном море. На каминной полке тикали часы. Свет пылавшего камина бросал на лицо Холленбаха неверные тени, и неожиданно для себя Джим понял вдруг, что все его мысли заняты этим необыкновенным человеком в брюках цвета хаки и в сером заношенном свитере. Холленбах был всегда коротко подстрижен, и этот жёсткий ёжик песочных с проседью волос делал его значительно моложе его пятидесяти семи лет. Шея над открытым воротом зелёной спортивной рубашки была морщинистой, но не дряблой. Длинное, сухое и резкое лицо не было красивым, но от него исходила какая-то своеобразная чувственность, которая очаровывала его избирательниц. Да, светским это лицо не назовёшь, это было скорее лицо учёного. Глядя на него, Джим вдруг ясно представил себе, как этот человек читает лекции по американской литературе, раскрывая перед молодыми американцами особенности стиля Эдгара По и Готорна. И тут он вспомнил, что в давние времена, когда молодого Марка Холленбаха ещё не влекла политика, он и в самом деле преподавал в университете штата Колорадо.
Фигура у президента была стройная — ни живота, ни дряблых мускулов. Сохранять форму — входило в его кредо. Утром перед завтраком — десять минут яростных, укрепляющих физических упражнений, в полдень — обязательное плавание в бассейне Белого дома, и два раза в неделю при хорошей погоде — партия в гольф в клубе Горящего Дерева. Призыв к самосовершенствованию — таков был его предвыборный лозунг, и теперь у себя в Белом доме президент Холленбах старался вести жизнь, которая могла бы послужить примером для его сограждан. «Человек должен постоянно и во всём совершенствоваться, и в первую очередь — совершенствовать своё тело», — неустанно повторял президент.
Он первым нарушил молчание:
— Как вам понравился сегодняшний обед, Джим?
— Всё было грандиозно, Марк. Правда, скетч республиканцев получился, пожалуй, скучноватым, но зато скетчи в наш адрес были просто великолепны и действительно смешны. Они, конечно, прошлись по самым нашим уязвимым местам.
— Этот О’Мэлли оказался для них, безусловно, лакомым блюдом, — раздражённо бросил Холленбах. — И потом, безнаказанно поднимать на смех президента США нравится всякому. Все готовы свалить его, представься только случай.
— Ваша речь под конец обеда была просто потрясающа. И знаете почему? Потому что, разделавшись сначала с оппозицией, вы всю вторую половину речи посвятили самобичеванию.
— А как вам понравилось моё предложение подключаться ко всем телефонным разговорам в стране?
— Оно меня прямо как громом поразило, — усмехнулся Маквейг. Тут ему вдруг вспомнилось, как странно отреагировал на это предложение Сидней Карпер. — Впрочем, до многих это, по-видимому, так и не дошло, — добавил он. — Идея о подслушивании каждого разговора до того их потрясла, что они так и не поняли, что это всего лишь шутка.
— Но я вовсе не шутил, Джим, — тихо сказал Холленбах.
— То есть, как это не шутили? — уставился на него сенатор.
— О, конечно, когда я говорил о подслушивании республиканцев, я, разумеется, шутил… — поправился президент. — Но последнее время я много размышлял о том, что кривая преступности поднимается, и, поверьте мне, Джим, мы и впрямь должны принять радикальные меры. Доступ к каждому телефону дал бы ФБР и другим федеральным разведывательным органам сильнейшее оружие в борьбе с преступностью. А это, знаете, вполне осуществимо, если придать делу общегосударственный размах и поручить все монтажные работы Белл комьюникейшн систем.
— Не может быть, чтобы вы говорили серьёзно, мистер президент! — В голове сенатора пронеслись обрывки его собственных телефонных разговоров, и он вдруг подумал о Рите. — Боже милостивый, да ведь это же будет настоящее полицейское государство! И так личных тайн почти не осталось.
— Наоборот, я отношусь к этому как нельзя более серьёзно. Само собой, осуществлять такое мероприятие нам придётся очень осмотрительно, с большими предосторожностями. Но ни одному добропорядочному американцу опасаться тут нечего! Ведь охотиться мы, собственно, будем за хулиганами, ворами, торговцами наркотиками и главарями преступных синдикатов! Такое автоматическое подслушивание всех переговоров, да плюс ещё к этому вычислительнозапоминающая электронная аппаратура, которая сортировала и систематизировала бы все эти разговоры по специальным каталогам, — всё это сбросило бы их со счетов.
Маквейг стоял как оглушённый, тщетно стараясь отыскать хоть какие-нибудь слова для ответа. Он думал, что хорошо знает президента и может без труда угадывать направление его политической мысли, но последнее предложение Холленбаха грянуло как гром среди ясного неба, как гигантский камень, что сваливается во время циклона на шоссе и перекрывает давно знакомый вам путь.
— Мистер президент, — медленно произнёс он. — Я отнюдь не фанатический поборник гражданских свобод, но смысл нашей демократии мне ясен. То, что вы предлагаете, в плохих руках может оказаться страшным оружием. Кто поручится за человека, который может оказаться вашим преемником? И потом, не забудьте о политических пересудах, которые вызвало бы подобное предложение. Да оно просто погубило бы вас на нынешних осенних выборах!
Президент упрямо стиснул челюсти и нетерпеливо махнул рукой, давая понять, что не желает больше спорить на эту тему.
— Все новые идеи неизбежно связаны с риском, — сказал он. — И это меня не пугает. Впрочем, довольно об этом. Я бы хотел поговорить с вами кое о чём поважней.
Холленбах поставил пустой стакан на каминную полку и сильно прижал друг к другу концы пальцев обеих рук, Такие упражнения были важной частью его лозунга о физическом самосовершенствовании. Очень часто, сидя на какой-нибудь конференции, он начинал вдруг с силой сгибать кончики пальцев на ногах, вдавливая их в подмётки ботинок. А то прижимал локти к спинке стула, укрепляя тем самым бицепсы и грудные мускулы. Такая гимнастика проходила обычно незамеченной, с друзьями же он и не старался скрыть эти упражнения, тоже и теперь, в два часа ночи. Кивком головы президент указал Маквейгу на длинный диван, обитый белой материей, перед которым находилось широкое окно. Присев в углу дивана, он повернулся вполоборота к сенатору, усевшемуся на другом конце дивана, и сказал:
— Давайте поговорим теперь о деле, Джим. Эти корреспонденты в Гридироне обошлись с О’Мэлли по меньшей мере благородно. Они не использовали и половины своих возможностей. Наверное, пожалели его по принципу — лежачего не бьют. Но мы-то с вами хорошо знаем, что на осенних выборах республиканцы нам этого не спустят. И я просто не потерплю, чтобы фамилия О’Мэлли снова была напечатана рядом с моей на одном бюллетене.
Это заявление Холленбаха о его намерении относительно теперешнего вице-президента не явилось для Маквейга сюрпризом, хотя президент впервые заговорил об этом так открыто. Лидеры демократической партии не сомневались, что заявление президента о том, что О’Мэлли не будет его сокандидатом на осенней выборной кампании, было лишь вопросом времени. Когда сенатор-республиканец Брайс Робинсон затеял одностороннее расследование дела о строительстве городской спортивной арены в память покойного президента Кеннеди, выяснилось, что рыльце у вице-президента О’Мэлли сильно в пушку. Этот Робинсон, который рыскал повсюду как волк, подкарауливающий овечье стадо, обнаружил, что в контракте на строительство спортивной арены не обошлось без знакомств и влиятельных связей. Это не был случай открытого взяточничества. Ни подкупа, ни таинственным образом распухших банковских счетов никто не обнаружил. Скорее это был классический пример того, какого влияния могут добиться некоторые бизнесмены за деньги, жертвуемые ими на предвыборные кампании. Когда четыре года назад О’Мэлли и Холленбах остались основными кандидатами на пост президента США от демократической партии, один подрядчик, некий Жилинский, внёс в фонд предвыборной кампании значительную сумму денег. Жилинский, известный питсбургский демократ, был весьма заметной фигурой на всех партийных съездах. Роль О’Мэлли в этой нашумевшей истории не была особенно грязной. Он просто представил Жилинского председателю комиссии по делам искусств и потом звонил тому несколько раз, напоминая о своей просьбе заключить контракт с Жилинским. Если бы сам О’Мэлли не сделал из этого дела тайны, если бы тот год не был годом президентских выборов и если бы строительство стадиона не посвящалось памяти убитого президента, то после обычной сенатской перепалки инцидент этот, возможно, скоро бы забылся. Но год был выборным, стадион строили в память Кеннеди, а О’Мэлли не спешил с признаниями.
Сенатор Робинсон, заручившись показаниями личного секретаря председателя комиссии по делам искусств, выступил в Сенате и открыто обвинил О’Мэлли в том, что он трижды звонил председателю и справлялся, в какой стадии находятся переговоры по заключению контракта. Робинсон доказал, что после этих звонков контракт был передан именно Жилинскому и что возможные прибыли его были определены кругленькой суммой в шестьсот тысяч долларов.
О’Мэлли предъявил свой банковский счёт за последние пять лет, где были зарегистрированы поступления главным образом из его сенаторского, а позднее — вице-президентского жалованья. Ясно, что О’Мэлли на этом контракте не разбогател. Он сделал только то, что не выходило за рамки политических канонов, то есть за взятку в виде пожертвования на предвыборную кампанию позволил своему приятелю купить доступ в правительственное учреждение. Заправилы обеих политических партий отнеслись к проступку О’Мэлли весьма сочувственно, понимая, что поведение вице-президента отличалось от поведения тысяч выборных официальных лиц только неподходящим моментом да разве что более крупным масштабом сделки. Что ж, пожимали они плечами, ирландцу просто не повезло!
Ни президенту, ни сенатору, сидевшим сейчас вместе поздней ночью, не было нужды вспоминать эту недавнюю историю. Оба они достаточно внимательно следили за долгим расследованием политики подкупов, проводимой демократической партией. Оба полагали, что, несмотря на разразившийся скандал, личная репутация президента Холленбаха осталась незапятнанной, но оба знали, что страна ожидает от президента эффективных мер.
— Так вот, на пресс-конференции в среду я намерен объявить, что О’Мэлли решил не выставлять своей кандидатуры на предстоящих выборах, — сказал президент. — Но это, конечно, пока между нами.
— А что, он говорил с вами об этом?
— Нет. — Президент вытянул ноги, и Маквейг заметил, что они обуты в поношенные мокасины. — Но я позвоню ему завтра и потребую, чтобы он сделал такое заявление в письменной форме. Отказаться он не посмеет.
— Да, конечно, не посмеет… — Джим знал, что О’Мэлли всё равно не миновать отставки, но, услышав, что судьба вице-президента решена столь бесповоротно, не мог не пожалеть его. Пат не был взяточником, и Джим не сомневался, что за всю свою жизнь он не взял ни одного бесчестного доллара. Слабость Пата заключалась в его всегдашней готовности помочь приятелю, а Жилинский был одним из его приятелей. Это опасно для любого, кто решил заниматься ремеслом политика.
— А мне всё-таки жаль Пата, мистер президент! Он ведь просто неповоротливый ирландец, из тех, что живут по правилам, над которыми сами никогда особенно не задумываются. Но если бы случилось со мной несчастье, то я в первую очередь обратился бы к нему.
— Ну а я бы этого делать не стал! — Президент сказал это так громко и резко, словно выпалил из пушки. — Тем более что О’Мэлли сделал это исключительно с целью скомпрометировать меня перед выборами!
Президент пристально посмотрел на Маквейга, но сенатор выдержал взгляд и улыбнулся:
— Да что вы, мистер президент, быть этого не может. Ведь Пат познакомил Жилинского с председателем комиссии и звонил ему ещё в прошлом году. Сомневаюсь, чтобы тогда он вообще думал о выборах.
— Да нет, вы не поняли, — досадливо перебил его Холленбах. — Я ведь говорю не о его поступке, а о том, как он затем повёл всё это дело. Вместо того чтобы сразу же чистосердечно во всём признаться, он позволил этому Робинсону себя выпачкать, причём выпачкать постепенно, дюйм за дюймом, пока не стал выглядеть мошенником в глазах всех американцев. И это было сделано намеренно, Джим. О’Мэлли сделал это для того, чтобы я провалился в ноябре. Уж это я знаю точно.
Огорошенный этой странной, лихорадочной речью президента, Маквейг не знал, что и сказать. Холленбах выпалил всё это так стремительно, словно высыпал из мешка горох. Его даже бросило в краску.
— Но ведь это же нелогично, мистер президент, — возразил Маквейг и заметил, что голос его после яростного взрыва президента кажется приглушённым. — Поймите, если бы О’Мэлли провалил вас, то в первую голову он погубил бы себя! Никакого самостоятельного политического будущего, кроме как на избирательном бюллетене вместе с вами, у него нет и не может быть!
Холленбах встал с дивана и нервно зашагал по комнате. Дойдя до стенки, он выключил лампу, стоявшую на полу, и комната погрузилась в полумрак; теперь её освещали лишь слабый свет луны да ленивые оранжевые языки пламени в камине. Разглядеть выражение лица президента Маквейг теперь уже не мог, но у него появилось неприятное ощущение, что тот пытливо и пристально рассматривает его в темноте.
— Вам трудно понять этого человека. — Президент заговорил быстро, и слова его вылетали, как автоматные очереди, направленные в невидимого противника. — Для такого, как он, будущее — ничто по сравнению с поставленной целью… Он хотел растоптать меня… вернее, уничтожить… Ему повезло, когда он стал вице-президентом. Этот пост — предел для его ограниченных способностей. Большего ему всё равно не достичь! Так давайте же смотреть фактам в лицо! Главной его целью было вывалять меня в той же грязи, в которой он сам вывалялся, и заставить людей думать, будто я способен закрывать глаза на грязные политические подкупы в своём правительстве.
При последних словах Холленбах подошёл к сенатору совсем близко, и у Маквейга появилось беспокойное чувство, словно он ненамеренно проник в самую глубину мыслей этого человека. Он вдруг почувствовал себя неловко и угнетённо. Снег за окном лежал холодный и чистый. Сенатор смотрел на мёртвое дерево с голыми сучьями, и ему вдруг почудилось, что дерево пошевелилось. Он вгляделся получше и с облегчением увидел, что мнимое дерево это — часовой, по всей вероятности моряк. Часовой потёр озябшие руки и, шагнув в сторону, скрылся из поля зрения сенатора.
Холленбах подошёл к окну мелкими, нервными шажками, встал там и молча уставился в серый туман на горизонте. С минуту в комнате слышно было только тиканье часов на камине да потрескивание пылавших поленьев. И вдруг Маквейг услышал знакомый гулкий смех, такой глубокий и сильный по тембру, что ему всегда казалось, будто он не может исходить из худого, жилистого тела президента. Холленбах вернулся к дивану и, сгорбившись, снова уселся на своё место.
— Простите, Джим, что я так разошёлся, — бодро сказал он, — но этот человек всегда раздражал меня. Когда я говорил людям о самосовершенствовании, вся страна слушала меня с огромным вниманием, а вот О’Мэлли — нет. Я с одинаковым успехом мог бы говорить на наречии племени банту. Он меня никогда не слышал.
Холленбах улыбнулся и потеребил обтрепавшийся край свитера.
— Впрочем, О’Мэлли скоро отойдёт в историю, — сказал он спокойно. — Нам теперь предстоит найти наиболее достойного человека на пост вице-президента. Время не ждёт. До съезда в Детройте осталось каких-нибудь пять месяцев!
— Пять месяцев и восемь дней, — поправил его Маквейг. Оба рассмеялись, и Джим снова почувствовал себя легко и свободно.
— Пусть будет по-вашему, пять месяцев и восемь дней. Что вы мне посоветуете, Джим? Кто, по-вашему, мог бы быть подходящим кандидатом?
— Ну, это исключительно ваше дело, мистер президент.
— Хорошо, в таком случае я задам вопрос по-другому.
Прежняя натянутость между ними исчезла. Холленбах снова вытянул ноги в мокасинах и пристроил их на неполированном кофейном столике.
— Вообразите себя на моём месте, Джим. Кого бы вы тогда выбрали? Я ведь не собираюсь ничего вам навязывать. Просто подумайте за меня вслух.
В словах президента Маквейг увидел столь знакомое ему умение Холленбаха убеждать нужных ему людей. Когда президент переходил на такой неофициальный, но настойчиво-просительный тон, отказать ему было невозможно.
— Ничего не поделаешь — убедили, — покорно вздохнул Маквейг. — Что ж, по-моему, на этот пост годятся только два человека, но выбрать и между ними будет нелегко. Это Никольсон и Карпер.
Уильям Никольсон был способный, но несколько медлительный спикер палаты представителей Конгресса. Сидней Карпер — сосед сенатора на обеде в Гридироне, министр обороны, чьи порою едкие замечания по вопросам внешней политики страны приносили своеобразное удовлетворение американцам, живущим в весьма малоутешительном мире.
— Никольсон слишком уж тяжёл на подъём. — Президент выставил руку ладонью кверху, словно удерживая от падения невидимый предмет. — Своей слоновьей тяжеловесностью он меня иногда просто подавляет.
— Верно, — ответил Маквейг, — но зато он надёжен, а избирателям это чувство надёжности как раз по душе.
Холленбах пропустил замечание сенатора мимо ушей и продолжал:
— Вот относительно Карпера я с вами согласен, это, пожалуй, великолепный образец государственного деятеля, и в Вашингтоне он пользуется наибольшей популярностью. Но только для вице-президента еврея наша страна ещё не готова.
— Ну нет, мистер президент, позвольте с вами не согласиться. Взгляните-ка на результаты опросов. В отношении наиболее популярных американских качеств он идёт на втором месте после вас.
— Только как кабинетный чиновник. Но как ближайший кандидат в президенты страны — никогда! И потом он взял на себя смелость протащить один законопроект, который я не одобрял. Он повёл себя в этом деле слишком уж самостоятельно.
Маквейг вздохнул и тактично помолчал, ожидая дальнейших разъяснений, но президент предпочёл не развивать этой темы.
— Но даже если вы и правы в отношении его недостаточной популярности в стране, в чём я весьма сомневаюсь, то вашей собственной популярности с лихвой хватит на двоих, и вы сумеете протащить его на выборах без сучка, без задоринки. Способности же у него действительно незаурядные, в этом ему отказать нельзя!
В ответ Маквейг услышал лишь эхо собственных слов, как человек, говорящий в пустую бочку. К чему, чёрт побери, клонит Марк? И чего надо тут самому Маквейгу на вершине горы среди ночи, в восьмидесяти милях от дома? Ведь скоро уже рассветёт. И почему Эвелин Холленбах нет здесь, рядом с мужем? У Джима появилось ощущение, словно он сам стал чем-то невесомым и нереальным, как этот слабый лунный свет. Почему, кстати, Марк выключил единственную лампу? Он спросил.
— Просто одна из моих причуд, — ответил Холленбах. — В темноте мне легче думается, потом мне нравится этот вид из окна, как днём, так и ночью, а любая лампа отражается в стекле и всё портит.
По губам президента скользнула лёгкая улыбка.
— Однако вернёмся к теме нашего разговора, Джим. Пока что вы назвали только двух. А что вы скажете о губернаторах?
Теперь мне от него не отвязаться, подумал Маквейг. Наверное хочет, чтобы я дал ему исчерпывающую характеристику всех возможных кандидатов от демократической партии. Маквейг молча раздумывал над ответом, сосредоточив взгляд на камине, где неуклонно росла горка мерцающих бело-розовых углей. Президент, казалось, и не ожидал от него скоропалительного ответа. Маквейг стал лениво перебирать в уме всех знакомых ему губернаторов. Наконец он назвал троих, чьи имена были ему известны с самой благоприятной стороны.
Холленбах принялся оценивать каждого из них, беспристрастно анализируя их отрицательные и положительные качества. Эта способность президента безошибочно выявлять слабые стороны людей позабавила Маквейга. Ему приятно было сознавать, что ему, Джемсу Маквейгу, такой беспощадный анализ не угрожает. И, вообще, весь этот разговор напомнил ему о хирурге, искусно отстраняющем артерии и нервы, чтобы добраться острым скальпелем до поверхности подозрительного участка. В конце концов, недостатки у всех трёх губернаторов, названных Маквейгом, возобладали, как, впрочем, и ещё у одного губернатора, предложенного самим президентом.
— Может, губернаторы теперь просто не в моде, мистер президент? — Тепло камина убаюкивало, и Маквейгу опять невыносимо захотелось спать. Теперь он поддерживал беседу только из приличия и делал обобщения вовсе не из-за убеждённости в правоте своих слов. — Губернаторов теперь уже не связывают с важными национальными проблемами, которые так беспокоят людей. Теперь они больше строят дороги, колледжи и больницы, но даже и тут им приходятся зависеть от государственных субсидий. Так что все теперь ориентируются на Вашингтон, невзирая на нашего старого приятеля Барри Голдуотера.
— Правильно! — громогласно согласился президент, и голос его прозвучал с прежней неуёмной энергией. Неужели этот человек никогда не устаёт?
Маквейг протёр глаза и подавил в себе сильное желание зевнуть.
— Значит, эго опять-таки приводит нас к Сенату, — сказал Холленбах. Он доверительно наклонился к Маквейгу, руки его покоились на коленях, но пальцы непрерывно сгибались, точно выжимая губку.
— Ну, мистер президент, уж не заставляйте меня заниматься критикой моих коллег.
Маквейгу давно уже надоела эта игра, в которой он не видел никакой подходящей для себя роли. Ему хотелось скорее добраться до постели.
Но президент Холленбах был дотошный человек, увести его от разговора было невозможно.
— Что вы скажете о Хэмпстэде? — спросил он.
— Против него говорит сама фамилия, — ответил сенатор. — Холленбах и Хэмпстэд. Звучит как старинная адвокатская контора, давно растерявшая всех клиентов.
Холленбах усмехнулся, но сенатор видел, что ему совсем не весело. Марк не любил шуток и сам в частных разговорах очень редко вставлял шутливые замечания, хотя на публичных выступлениях так и сыпал отличными остротами. Как бы почувствовав нежелание сенатора называть новые имена, Холленбах сам назвал пять сенаторов-демократов и опять разобрал их по косточкам. Как много всё-таки он знает о личной жизни своих сенаторов, удивился Маквейг. Характеристики его были необычайно острыми, а чутьё, с каким он отыскивал в возможных кандидатах наиболее уязвимые места, было таким же верным, как и при разборе кандидатур губернаторов. Ритм президентского монолога и мерцание углей в камине совершенно заворожили Маквейга, и скоро ему стало казаться, что всё перед ним плывёт в каком-то тумане. Он поймал себя на том, что клюнул носом, и сильно тряхнул плечами, чтобы не заснуть окончательно.
— Итак, мы перебрали всех, — сказал наконец Холленбах и улыбнулся. — Всех, кроме одного…
— Кого же ещё? — На эти слова президента Маквейг отозвался почти автоматически.
— Вас, Маквейг!..
— Меня??? — Маквейг вдруг стремительно выпрямился, покинув уютную ямку в спинке дивана.
— Да, вас, а почему бы, собственно, нет? Раз уж мы обсуждаем такое генеалогическое древо, как наш Сенат, то почему бы не взглянуть на ветвь младшего сенатора из Айовы?
Правда, почему бы и нет, напряжённо соображал Маквейг. Сонливость его теперь как рукой сняло, и мозг лихорадочно заработал. Ведь фигурировало же его имя в одной из газет, которая, вдохновившись постигшей О’Мэлли неприятностью, тут же откликнулась соответствующей статьёй! Репортёр дажеупомянул о достоинствах молодого сенатора. Правда, писавший был его хороший приятель, Крейг Спенс, но достоинства — это всё-таки достоинства! Молодой, умный, красивый. Жизнерадостная жена и здоровый ребёнок. О его недостатках Спенс, конечно, не упомянул: чересчур легкомыслен, слишком склонен выбирать в жизни лёгкие пути, чересчур оптимистичен. И потом эта его связь с Ритой — впрочем, об этом никто не знал, да и с Ритой всё, можно считать, покончено.
— Я знаю, Джим, что вы ленивы, — прервал президент приятные размышления Маквейга о собственных достоинствах и недостатках. — И потом вы слишком быстро взлетели наверх, чтобы это могло пойти вам на пользу. И всё-таки безжалостный эксплуататор Холленбах согнал бы с вас жирок! В общем, мне кажется, вас тоже надо иметь в виду.
— Вы это серьёзно, мистер президент?
Холленбах снова встал с дивана, подошёл к каминной полке и оперся на неё локтем поблизости от часов. Джим взглянул на них, и ему почудилось, что стрелки показывают уже без пяти минут четыре, но из-за странного освещения в комнате он не был в этом уверен. Президент задумчиво смотрел на него сверху вниз оценивающим взглядом, словно на предмет меблировки.
— Серьёзно я об этом ещё не думал, — ответил он. — В вопросах политики вы человек с огоньком, но ведь вы же сами знаете, что ленивы…
— Вам это, возможно, и кажется ленью. Но я просто во многом очень медлителен. Я, как бы вам это сказать, двигаюсь всегда скачками.
— Не то, что я — всегда несусь на всех парах, да? — усмехнулся Холленбах.
Маквейг постарался поддержать этот лёгкий тон:
— Вы, мистер президент, не в счёт. Такой энергии, как у вас, ни от кого нельзя требовать.
— Да, пожалуй, вы и правы. Ладно, Джим, шутки в сторону, на этот раз я хочу сделать правильный выбор! И не только потому, что ноябрь уже на носу, хотя, конечно, мне ни к чему человек, который испортит мой бюллетень. Поймите, что это в первую очередь важно для страны. С президентом может случиться всё что угодно, и вице-президент должен тогда оказаться способным взять на себя управление уверенно и без лишнего шума, так, чтобы в стране не начался правительственный кризис, подобный тому, который получился у Джонсона после смерти Кеннеди, если хотите!
Щёки президента покрыл яркий лихорадочный румянец. По необъяснимому закону неожиданного смещения времён и событий Маквейгу вдруг вспомнились далёкие дни его солдатской службы во Вьетнаме, походная перевязочная палатка и помешавшийся, дико жестикулирующий капрал, но видение исчезло так же стремительно, как и возникло, и Джим несказанно удивился, почему это он вдруг вспомнил об этом.
Холленбах между тем успокоился и улыбнулся Маквейгу:
— Что ж, пожалуй, хватит на сегодня. Уже пятый час, и пора на покой. О’Мэлли подождёт до среды. Послушайте, Джим, я уже отдал распоряжение, чтобы вам приготовили постель в коттедже для гостей. Утром вам спешить некуда, так что можете поспать подольше.
Но Маквейга вдруг охватило нестерпимое желание уехать во что бы то ни стало.
— Нет, я лучше поеду домой, мистер президент, если вы, конечно, не возражаете. Так что если вы дадите мне Лютера Смита, чтобы он…
— Понимаю, Джим, — сказал президент и положил ему руку на локоть. — Я лично думаю, что катить сейчас в Вашингтон бессмысленно, но ничего не поделаешь, хороших сенаторов заполучить теперь так трудно, что приходится их задабривать.
— Да нет, просто после такой необычной ночи мне сейчас всего нужнее моя собственная постель.
Холленбах молча кивнул и прошёл к телефону. Джим услышал, как он снял трубку и сказал:
— Вставайте, Смит. У нас тут есть один сумасшедший, который настаивает, чтобы его немедленно отвезли в Вашингтон.
Ещё несколько минут президент поболтал с Маквейгом о его семье и о своём собственном сыне — Марке-младшем — старшекурснике Йельского университета. Мальчишка, по словам президента, смышлёный, беда только, что все студенты в последнем семестре всегда немного распускаются. Ну, ничего, скоро он с ним увидится и хорошенько на него поднажмёт.
Наконец послышался скрип автомобильных шин по твёрдому, утрамбованному снегу. Холленбах распахнул перед сенатором дверь:
— Очень рад, что вы согласились ко мне приехать, Джим. Думаю, что скоро нам придётся встретиться вновь.
— Спокойной ночи, мистер президент. Нечего и говорить, как я вам благодарен.
Дверь коттеджа оставалась открытой, и, обернувшись, Маквейг взглянул в последний раз на тёмную комнату, которую пересекали широкие мрачные тени. В это мгновение бледный лунный луч озарил большое окно, и сенатор увидел силуэт Марка Холленбаха. Президент стоял в дверях, плотно прижав к косяку костяшки пальцев обеих рук.
Маквейг удивлённо взглянул на соседа и уже собирался было возразить, но новое удачное словцо, ввёрнутое президентом, снова вовлекло его в водоворот красноречия Холленбаха.
— …итак, — говорил президент, — согласимся, что жизнь достаточно коротка и не стоит ждать, пока начнут развлекаться наши мрачные друзья. Вместо этого предлагаю вам, джентльмены, повеселиться по-настоящему, всласть, насчёт моей собственной партии и насчёт Белого дома, где, могу вас заверить, тоже происходят вещи довольно странные.
Ободрённый смехом слушателей, Марк Холленбах минут пять подвергал ядовитой критике свой собственный административный аппарат. Приводимые им примеры больно кололи, но, тем не менее, когда Холленбах закончил свою речь и сел, все пятьсот пятьдесят умиротворённых отличным обедом гостей поднялись и устроили ему дружную овацию. Потом эти сверкающие белыми рубашками представители сильного пола взялись за руки и, сомкнув ряды, спели немного вразнобой старинный хвалебный гимн. Этим и закончился девяносто первый ежегодный обед в клубе Гридирон.
Грянули барабаны и фанфары морского оркестра, раздался бравурный марш «Да здравствует шеф». Президент Холленбах встал и, шагая между двумя агентами личной охраны, как единица, заключённая в скобки, направился вдоль длинного стола к выходу. Проходя мимо сенатора Маквейга, президент наклонился к нему и тихо сказал:
— Джим, зайдите ко мне домой, как только выберетесь отсюда. Мне необходимо поговорить с вами. Виски найдётся.
— С удовольствием, мистер президент, — ответил сенатор.
Холленбах ускорил шаги, и, когда он подходил к дверям зала, его окружила стайка агентов охраны. Гул возбуждённых голосов в зале сразу стал громче. Стремясь прорваться к буфетам с послеобеденной выпивкой, гости толпились у выходов.
С трудом проложив путь через толпы разгорячённых гостей, младший сенатор от штата Айова Маквейг выбрался наконец из зала и присоединился к длинной очереди в гардероб. У входа в отель под ярким светом вывески и фонарей толпился народ, глазея на выходящих знаменитостей. Маквейга окликнул Сидней Карпер и предложил подвезти его в своём пентагонском лимузине. Сенатор поблагодарил его и с непокрытой головой вышел в холодную мартовскую ночь.
Завернув за угол 16-й улицы и шагая по направлению к парку Лафайет и Белому дому, Маквейг чувствовал, что находится в прекрасных отношениях со своей собственной персоной и в неплохих — со всем прочим миром. Выбранная им профессия политика вознесла его наверх быстро и без всяких с его стороны усилий, как воздушного змея, подхваченного порывом ветра. В возрасте тридцати восьми лет он уже был сенатором первого срока, на обеде его усадили за головным столом, и вот теперь пригласили в Белый дом, где он будет распивать коктейли в частной беседе с президентом США. По вашингтонским стандартам, это было неплохо, совсем неплохо, и если достигнутое положение и не удивляло его, то, надо сказать, оно всё-таки приятно щекотало самолюбие сенатора.
Маквейг свернул в парк Лафайет, где до сих пор ещё лежали не растаявшие после недавнего бурана глыбы снега. На одной из клумб парка он заметил крошечную дощечку с надписью: «Осторожно! Здесь спят тюльпаны!». Фраза поправилась Маквейгу, он решил попользовать её при удобном случае в какой-нибудь из своих речей в сенате. В серой и безрадостной бюрократической рутине такие всплески воображения заслуживали несомненного признания. Он поднял голову и увидел перед собой статую Эндрю Джексона. К крупу лошади, на которой восседал прославленный президент, прилип уродливый ком грязного снега. Металл статуи так потускнел, что и Джексон и его конь приобрели нездоровый цвет, как будто оба они страдали хроническим разлитием желчи. Старый Энди, как он был не похож на сложного, благовоспитанного человека, живущего в том же Белом доме напротив! Почему именно Маквейга пригласили сюда в субботний вечер? Правда, он был довольно хорошо знаком с президентом и как-то раз во время выборов дал ему ценный совет побольше играть на руку штатам Среднего Востока, но особо доверенным лицом президента он никогда не был. Да и вообще-то, был разве у президента такой доверенный человек? Впрочем, на такие сложные размышления Джим Маквейг чувствовал себя в настоящий момент неспособным. Он беззаботно пересёк Пенсильвания-авеню и кивнул полисмену, охранявшему высокие железные ворота западного входа в Белый дом.
— Джемс Маквейг, — назвал он себя.
— Знаю, сенатор, — ответил полисмен, подходя ближе и внимательно вглядываясь в его лицо. — О вашем приходе нас уже предупредили.
Маквейг прошёл в ворота и направился по извилистой подъездной дорожке мимо японских тисов, разодетых в снежные, точно горностаевые одежды. Во всём западном крыле здания огни были погашены, и только в центральной его части круг яркого света захватывал величественные вязы.
Войдя внутрь дома и очутившись в похожем на музей фойе, Маквейг начал было разматывать кашне, как вдруг увидел молодого человека с бронзовым от загара лицом. Человек улыбался, зубы его блестели как известняк, освещённый молнией во время бури. Маквейг узнал одного из агентов службы охраны, специально приставленных к президенту.
— Лютер Смит, — представился он. — Не спешите раздеваться, сенатор. Хозяин уехал в Кэмп Дэвид, и я получил распоряжение доставить вас туда же.
— В Кэмп Дэвид? — удивился Маквейг и невольно бросил взгляд на часы. Было уже без десяти двенадцать. Кэмп Дэвид, горное убежище президентов США, построенное ещё Франклином Делано Рузвельтом и первоначально носившее название Шангри-ла, находилось в штате Мэриленд, в отрогах Катоктинских гор, на расстоянии восьмидесяти километров от Вашингтона. — Боже милостивый, а он не сказал вам, почему? — спросил он вслух.
— Нет, спрашивать тут не принято, — улыбнулся Смит. — Президент недавно туда отбыл, а мне приказано завезти вас домой переодеться и доставить в Кэмп Дэвид.
— Приказано?
— Так точно, сэр, приказано, — ухмыльнулся Смит, снова обнажив ослепительно белые зубы. Маквейгу он, в общем, понравился.
— Что ж делать. Поехали, — сказал он.
На извилистой дорожке, у южного крыла Белого дома, их уже поджидал урчащий лимузин. Маквейг сел рядом со Смитом на переднее сиденье, и они помчались по Мемориалбридж, выехали на Джордж Вашингтон-паркуэй и устремились к дому Маквейга.
Большой каменный дом сенатора, казалось, присел под телевизионной антенной и напоминал часового с приподнятым ружьём, охраняющего какой-нибудь заметённый снегом пограничный пункт.
— Зайдите выпейте кофе, пока я переоденусь, — предложил Маквейг агенту. — Жена и дочь уехали на неделю в Айову, так что я теперь в основном только им и питаюсь.
— Спасибо, сенатор. Я лучше посижу в машине. Пусть мотор получше прогреется, ехать нам ещё порядочно.
При свете автомобильных фар Маквейг стал шарить в карманах ключи от входной двери. Если бы Марта была дома, фонари на крыльце теперь горели бы и бросали на крыльцо тёплые янтарные круги. Но Марты дома не было, а сам он, как всегда, забыл зажечь их перед уходом. В спальне Маквейг принялся быстро стаскивать с себя официальную амуницию, ругнулся, вынимая из рукавов и воротничка непослушные запонки, и сравнительно легко отыскал пару новых носков. Потом стал раздумывать, чтобы ему надеть, и, в конце концов, в шортах и нижней сорочке выглянул в парадную дверь.
— Эй, Лютер, — крикнул он агенту. Тот надавил кнопку, и стекло дверцы автомобиля опустилось.
— Что мне полагается надеть, как вы думаете? — крикнул Маквейг. — Я ведь ещё ни разу не бывал в Кэмп Дэвиде, не говоря о том, что сейчас уже ночь.
— Наденьте какой-нибудь старый костюм. Там хозяин всегда носит старые военные брюки и рваный свитер.
Подумав, Маквейг выбрал серые брюки, фланелевую рубашку и стёганую куртку, в которой в холодную погоду удил рыбу. Одевшись, он хотел было позвонить Марте в Де-смон, но потом решил, что время позднее, и поспешил к лимузину. Кивком головы Лютер указал ему на заднее сиденье.
— Там сможете заодно и вздремнуть, — бросил он. — Попадём мы туда не раньше двух.
Но заснуть Маквейгу удалось не сразу, в голове всё ещё шумели выпитые на обеде виски и вино. Поэтому с полчаса они с Лютером ещё поболтали о том, о сём и в частности об особенностях службы охраны при разных президентах. Теперешняя служба, по словам агента, была не из лёгких, потому что нынешний президент всегда настаивал, чтобы место его ночлега становилось известно только в последнюю минуту. Так же случилось и сегодня вечером: пришлось срочно звонить трём агентам, вытащить их из постелей и заставить прочесать всё шоссе перед выездом президента в Кэмп Дэвид. Да нет, оклад у них не бог весть какой, но зато пенсия потом солидная.
Они уже подъезжали к Фредерику, когда Маквейг наконец задремал.
Проснулся он оттого, что в лицо брызнул сноп яркого света. Потом фонарик погасили. Маквейг протёр глаза и увидел перед собой моряка-сержанта, торжественно отдававшего им честь со ступенек караульного помещения. Снег в горах лежал глубокий и нетронутый, в хрупком лунном свете слабо выделялись силуэты высоких как башни елей. Смит подъехал к кучке бревенчатых строений и остановил лимузин перед самым большим из них. Тёмно-зелёная окраска коттеджа мрачно гармонировала с тёмно-серой формой флотского экипажа, выделенного для охраны президентского убежища.
Марк Холленбах в рубашке с открытым воротом и в пушистом свитере подошёл к автомобилю и открыл Маквей-гу дверцу.
— Добро пожаловать в Аспен, Джим, — сказал он. — Проходите-ка скорее в дом. Стоять тут чертовски холодно.
Сенатор неуверенно поднялся на крыльцо, вошёл в дом и очутился в низкой, слабо освещённой комнате. На одном конце её мерцало неровное пламя камина, на другом — светила единственная в этой комнате лампа. Но главное, чем освещалась комната, были полосы лунного света, проникавшего через большое окно. Снаружи, на примыкающей к коттеджу каменной террасе была установлена подставка с подзорной трубой на треножнике, наподобие тех, которые можно встретить в городских парках для обозрения пейзажей. Внутри стояли мягкие диваны, деревянные столы и большое кресло-качалка. Вся эта мебель отбрасывала на стены комнаты громоздкие тени. Потирая озябшие руки, президент подошёл к камину. Джим последовал за ним, и они стали греться у огня.
— Хотите чего-нибудь выпить, Джим? — спросил Холленбах.
— Пить мне больше не хочется, мистер президент. Виски да ещё несколько бокалов вина — на сегодня совершенно достаточно. Но если у вас найдётся стакан томатного сока, я выпью с удовольствием.
— Это вы неплохо придумали, Джим! — Холленбах прошёл в соседнюю с комнатой кладовку и возвратился с двумя высокими стаканами, наполненными соком. — Заодно я добавил сюда немного перца. Как по-вашему?
— Превосходно, — сказал Маквейг и поднял стакан, чтобы чокнуться с президентом. — За вашу сегодняшнюю великолепную речь, мистер президент! Она была не в бровь, а прямо в глаз.
— Вот как? А им она, кажется, и впрямь пришлась по вкусу.
Что за этим всё-таки кроется? — думал Маквейг. Вот он стоит тут в два часа ночи, распивает томатный сок с президентом Соединённых Штатов и смотрит в окно, за которым виднеется только однообразная белая даль. Имение Аспен было расположено на склоне горы. Джим знал, что где-то рядом с домом находится площадка для игры в гольф, разбитая много лет назад для президента Эйзенхауэра. За площадкой стояли стеной вековые дубы, сквозь их голые ветви виднелась ещё одна горная цепь, уходящая вдаль и растворявшаяся на горизонте, словно флот в безбрежном море. На каминной полке тикали часы. Свет пылавшего камина бросал на лицо Холленбаха неверные тени, и неожиданно для себя Джим понял вдруг, что все его мысли заняты этим необыкновенным человеком в брюках цвета хаки и в сером заношенном свитере. Холленбах был всегда коротко подстрижен, и этот жёсткий ёжик песочных с проседью волос делал его значительно моложе его пятидесяти семи лет. Шея над открытым воротом зелёной спортивной рубашки была морщинистой, но не дряблой. Длинное, сухое и резкое лицо не было красивым, но от него исходила какая-то своеобразная чувственность, которая очаровывала его избирательниц. Да, светским это лицо не назовёшь, это было скорее лицо учёного. Глядя на него, Джим вдруг ясно представил себе, как этот человек читает лекции по американской литературе, раскрывая перед молодыми американцами особенности стиля Эдгара По и Готорна. И тут он вспомнил, что в давние времена, когда молодого Марка Холленбаха ещё не влекла политика, он и в самом деле преподавал в университете штата Колорадо.
Фигура у президента была стройная — ни живота, ни дряблых мускулов. Сохранять форму — входило в его кредо. Утром перед завтраком — десять минут яростных, укрепляющих физических упражнений, в полдень — обязательное плавание в бассейне Белого дома, и два раза в неделю при хорошей погоде — партия в гольф в клубе Горящего Дерева. Призыв к самосовершенствованию — таков был его предвыборный лозунг, и теперь у себя в Белом доме президент Холленбах старался вести жизнь, которая могла бы послужить примером для его сограждан. «Человек должен постоянно и во всём совершенствоваться, и в первую очередь — совершенствовать своё тело», — неустанно повторял президент.
Он первым нарушил молчание:
— Как вам понравился сегодняшний обед, Джим?
— Всё было грандиозно, Марк. Правда, скетч республиканцев получился, пожалуй, скучноватым, но зато скетчи в наш адрес были просто великолепны и действительно смешны. Они, конечно, прошлись по самым нашим уязвимым местам.
— Этот О’Мэлли оказался для них, безусловно, лакомым блюдом, — раздражённо бросил Холленбах. — И потом, безнаказанно поднимать на смех президента США нравится всякому. Все готовы свалить его, представься только случай.
— Ваша речь под конец обеда была просто потрясающа. И знаете почему? Потому что, разделавшись сначала с оппозицией, вы всю вторую половину речи посвятили самобичеванию.
— А как вам понравилось моё предложение подключаться ко всем телефонным разговорам в стране?
— Оно меня прямо как громом поразило, — усмехнулся Маквейг. Тут ему вдруг вспомнилось, как странно отреагировал на это предложение Сидней Карпер. — Впрочем, до многих это, по-видимому, так и не дошло, — добавил он. — Идея о подслушивании каждого разговора до того их потрясла, что они так и не поняли, что это всего лишь шутка.
— Но я вовсе не шутил, Джим, — тихо сказал Холленбах.
— То есть, как это не шутили? — уставился на него сенатор.
— О, конечно, когда я говорил о подслушивании республиканцев, я, разумеется, шутил… — поправился президент. — Но последнее время я много размышлял о том, что кривая преступности поднимается, и, поверьте мне, Джим, мы и впрямь должны принять радикальные меры. Доступ к каждому телефону дал бы ФБР и другим федеральным разведывательным органам сильнейшее оружие в борьбе с преступностью. А это, знаете, вполне осуществимо, если придать делу общегосударственный размах и поручить все монтажные работы Белл комьюникейшн систем.
— Не может быть, чтобы вы говорили серьёзно, мистер президент! — В голове сенатора пронеслись обрывки его собственных телефонных разговоров, и он вдруг подумал о Рите. — Боже милостивый, да ведь это же будет настоящее полицейское государство! И так личных тайн почти не осталось.
— Наоборот, я отношусь к этому как нельзя более серьёзно. Само собой, осуществлять такое мероприятие нам придётся очень осмотрительно, с большими предосторожностями. Но ни одному добропорядочному американцу опасаться тут нечего! Ведь охотиться мы, собственно, будем за хулиганами, ворами, торговцами наркотиками и главарями преступных синдикатов! Такое автоматическое подслушивание всех переговоров, да плюс ещё к этому вычислительнозапоминающая электронная аппаратура, которая сортировала и систематизировала бы все эти разговоры по специальным каталогам, — всё это сбросило бы их со счетов.
Маквейг стоял как оглушённый, тщетно стараясь отыскать хоть какие-нибудь слова для ответа. Он думал, что хорошо знает президента и может без труда угадывать направление его политической мысли, но последнее предложение Холленбаха грянуло как гром среди ясного неба, как гигантский камень, что сваливается во время циклона на шоссе и перекрывает давно знакомый вам путь.
— Мистер президент, — медленно произнёс он. — Я отнюдь не фанатический поборник гражданских свобод, но смысл нашей демократии мне ясен. То, что вы предлагаете, в плохих руках может оказаться страшным оружием. Кто поручится за человека, который может оказаться вашим преемником? И потом, не забудьте о политических пересудах, которые вызвало бы подобное предложение. Да оно просто погубило бы вас на нынешних осенних выборах!
Президент упрямо стиснул челюсти и нетерпеливо махнул рукой, давая понять, что не желает больше спорить на эту тему.
— Все новые идеи неизбежно связаны с риском, — сказал он. — И это меня не пугает. Впрочем, довольно об этом. Я бы хотел поговорить с вами кое о чём поважней.
Холленбах поставил пустой стакан на каминную полку и сильно прижал друг к другу концы пальцев обеих рук, Такие упражнения были важной частью его лозунга о физическом самосовершенствовании. Очень часто, сидя на какой-нибудь конференции, он начинал вдруг с силой сгибать кончики пальцев на ногах, вдавливая их в подмётки ботинок. А то прижимал локти к спинке стула, укрепляя тем самым бицепсы и грудные мускулы. Такая гимнастика проходила обычно незамеченной, с друзьями же он и не старался скрыть эти упражнения, тоже и теперь, в два часа ночи. Кивком головы президент указал Маквейгу на длинный диван, обитый белой материей, перед которым находилось широкое окно. Присев в углу дивана, он повернулся вполоборота к сенатору, усевшемуся на другом конце дивана, и сказал:
— Давайте поговорим теперь о деле, Джим. Эти корреспонденты в Гридироне обошлись с О’Мэлли по меньшей мере благородно. Они не использовали и половины своих возможностей. Наверное, пожалели его по принципу — лежачего не бьют. Но мы-то с вами хорошо знаем, что на осенних выборах республиканцы нам этого не спустят. И я просто не потерплю, чтобы фамилия О’Мэлли снова была напечатана рядом с моей на одном бюллетене.
Это заявление Холленбаха о его намерении относительно теперешнего вице-президента не явилось для Маквейга сюрпризом, хотя президент впервые заговорил об этом так открыто. Лидеры демократической партии не сомневались, что заявление президента о том, что О’Мэлли не будет его сокандидатом на осенней выборной кампании, было лишь вопросом времени. Когда сенатор-республиканец Брайс Робинсон затеял одностороннее расследование дела о строительстве городской спортивной арены в память покойного президента Кеннеди, выяснилось, что рыльце у вице-президента О’Мэлли сильно в пушку. Этот Робинсон, который рыскал повсюду как волк, подкарауливающий овечье стадо, обнаружил, что в контракте на строительство спортивной арены не обошлось без знакомств и влиятельных связей. Это не был случай открытого взяточничества. Ни подкупа, ни таинственным образом распухших банковских счетов никто не обнаружил. Скорее это был классический пример того, какого влияния могут добиться некоторые бизнесмены за деньги, жертвуемые ими на предвыборные кампании. Когда четыре года назад О’Мэлли и Холленбах остались основными кандидатами на пост президента США от демократической партии, один подрядчик, некий Жилинский, внёс в фонд предвыборной кампании значительную сумму денег. Жилинский, известный питсбургский демократ, был весьма заметной фигурой на всех партийных съездах. Роль О’Мэлли в этой нашумевшей истории не была особенно грязной. Он просто представил Жилинского председателю комиссии по делам искусств и потом звонил тому несколько раз, напоминая о своей просьбе заключить контракт с Жилинским. Если бы сам О’Мэлли не сделал из этого дела тайны, если бы тот год не был годом президентских выборов и если бы строительство стадиона не посвящалось памяти убитого президента, то после обычной сенатской перепалки инцидент этот, возможно, скоро бы забылся. Но год был выборным, стадион строили в память Кеннеди, а О’Мэлли не спешил с признаниями.
Сенатор Робинсон, заручившись показаниями личного секретаря председателя комиссии по делам искусств, выступил в Сенате и открыто обвинил О’Мэлли в том, что он трижды звонил председателю и справлялся, в какой стадии находятся переговоры по заключению контракта. Робинсон доказал, что после этих звонков контракт был передан именно Жилинскому и что возможные прибыли его были определены кругленькой суммой в шестьсот тысяч долларов.
О’Мэлли предъявил свой банковский счёт за последние пять лет, где были зарегистрированы поступления главным образом из его сенаторского, а позднее — вице-президентского жалованья. Ясно, что О’Мэлли на этом контракте не разбогател. Он сделал только то, что не выходило за рамки политических канонов, то есть за взятку в виде пожертвования на предвыборную кампанию позволил своему приятелю купить доступ в правительственное учреждение. Заправилы обеих политических партий отнеслись к проступку О’Мэлли весьма сочувственно, понимая, что поведение вице-президента отличалось от поведения тысяч выборных официальных лиц только неподходящим моментом да разве что более крупным масштабом сделки. Что ж, пожимали они плечами, ирландцу просто не повезло!
Ни президенту, ни сенатору, сидевшим сейчас вместе поздней ночью, не было нужды вспоминать эту недавнюю историю. Оба они достаточно внимательно следили за долгим расследованием политики подкупов, проводимой демократической партией. Оба полагали, что, несмотря на разразившийся скандал, личная репутация президента Холленбаха осталась незапятнанной, но оба знали, что страна ожидает от президента эффективных мер.
— Так вот, на пресс-конференции в среду я намерен объявить, что О’Мэлли решил не выставлять своей кандидатуры на предстоящих выборах, — сказал президент. — Но это, конечно, пока между нами.
— А что, он говорил с вами об этом?
— Нет. — Президент вытянул ноги, и Маквейг заметил, что они обуты в поношенные мокасины. — Но я позвоню ему завтра и потребую, чтобы он сделал такое заявление в письменной форме. Отказаться он не посмеет.
— Да, конечно, не посмеет… — Джим знал, что О’Мэлли всё равно не миновать отставки, но, услышав, что судьба вице-президента решена столь бесповоротно, не мог не пожалеть его. Пат не был взяточником, и Джим не сомневался, что за всю свою жизнь он не взял ни одного бесчестного доллара. Слабость Пата заключалась в его всегдашней готовности помочь приятелю, а Жилинский был одним из его приятелей. Это опасно для любого, кто решил заниматься ремеслом политика.
— А мне всё-таки жаль Пата, мистер президент! Он ведь просто неповоротливый ирландец, из тех, что живут по правилам, над которыми сами никогда особенно не задумываются. Но если бы случилось со мной несчастье, то я в первую очередь обратился бы к нему.
— Ну а я бы этого делать не стал! — Президент сказал это так громко и резко, словно выпалил из пушки. — Тем более что О’Мэлли сделал это исключительно с целью скомпрометировать меня перед выборами!
Президент пристально посмотрел на Маквейга, но сенатор выдержал взгляд и улыбнулся:
— Да что вы, мистер президент, быть этого не может. Ведь Пат познакомил Жилинского с председателем комиссии и звонил ему ещё в прошлом году. Сомневаюсь, чтобы тогда он вообще думал о выборах.
— Да нет, вы не поняли, — досадливо перебил его Холленбах. — Я ведь говорю не о его поступке, а о том, как он затем повёл всё это дело. Вместо того чтобы сразу же чистосердечно во всём признаться, он позволил этому Робинсону себя выпачкать, причём выпачкать постепенно, дюйм за дюймом, пока не стал выглядеть мошенником в глазах всех американцев. И это было сделано намеренно, Джим. О’Мэлли сделал это для того, чтобы я провалился в ноябре. Уж это я знаю точно.
Огорошенный этой странной, лихорадочной речью президента, Маквейг не знал, что и сказать. Холленбах выпалил всё это так стремительно, словно высыпал из мешка горох. Его даже бросило в краску.
— Но ведь это же нелогично, мистер президент, — возразил Маквейг и заметил, что голос его после яростного взрыва президента кажется приглушённым. — Поймите, если бы О’Мэлли провалил вас, то в первую голову он погубил бы себя! Никакого самостоятельного политического будущего, кроме как на избирательном бюллетене вместе с вами, у него нет и не может быть!
Холленбах встал с дивана и нервно зашагал по комнате. Дойдя до стенки, он выключил лампу, стоявшую на полу, и комната погрузилась в полумрак; теперь её освещали лишь слабый свет луны да ленивые оранжевые языки пламени в камине. Разглядеть выражение лица президента Маквейг теперь уже не мог, но у него появилось неприятное ощущение, что тот пытливо и пристально рассматривает его в темноте.
— Вам трудно понять этого человека. — Президент заговорил быстро, и слова его вылетали, как автоматные очереди, направленные в невидимого противника. — Для такого, как он, будущее — ничто по сравнению с поставленной целью… Он хотел растоптать меня… вернее, уничтожить… Ему повезло, когда он стал вице-президентом. Этот пост — предел для его ограниченных способностей. Большего ему всё равно не достичь! Так давайте же смотреть фактам в лицо! Главной его целью было вывалять меня в той же грязи, в которой он сам вывалялся, и заставить людей думать, будто я способен закрывать глаза на грязные политические подкупы в своём правительстве.
При последних словах Холленбах подошёл к сенатору совсем близко, и у Маквейга появилось беспокойное чувство, словно он ненамеренно проник в самую глубину мыслей этого человека. Он вдруг почувствовал себя неловко и угнетённо. Снег за окном лежал холодный и чистый. Сенатор смотрел на мёртвое дерево с голыми сучьями, и ему вдруг почудилось, что дерево пошевелилось. Он вгляделся получше и с облегчением увидел, что мнимое дерево это — часовой, по всей вероятности моряк. Часовой потёр озябшие руки и, шагнув в сторону, скрылся из поля зрения сенатора.
Холленбах подошёл к окну мелкими, нервными шажками, встал там и молча уставился в серый туман на горизонте. С минуту в комнате слышно было только тиканье часов на камине да потрескивание пылавших поленьев. И вдруг Маквейг услышал знакомый гулкий смех, такой глубокий и сильный по тембру, что ему всегда казалось, будто он не может исходить из худого, жилистого тела президента. Холленбах вернулся к дивану и, сгорбившись, снова уселся на своё место.
— Простите, Джим, что я так разошёлся, — бодро сказал он, — но этот человек всегда раздражал меня. Когда я говорил людям о самосовершенствовании, вся страна слушала меня с огромным вниманием, а вот О’Мэлли — нет. Я с одинаковым успехом мог бы говорить на наречии племени банту. Он меня никогда не слышал.
Холленбах улыбнулся и потеребил обтрепавшийся край свитера.
— Впрочем, О’Мэлли скоро отойдёт в историю, — сказал он спокойно. — Нам теперь предстоит найти наиболее достойного человека на пост вице-президента. Время не ждёт. До съезда в Детройте осталось каких-нибудь пять месяцев!
— Пять месяцев и восемь дней, — поправил его Маквейг. Оба рассмеялись, и Джим снова почувствовал себя легко и свободно.
— Пусть будет по-вашему, пять месяцев и восемь дней. Что вы мне посоветуете, Джим? Кто, по-вашему, мог бы быть подходящим кандидатом?
— Ну, это исключительно ваше дело, мистер президент.
— Хорошо, в таком случае я задам вопрос по-другому.
Прежняя натянутость между ними исчезла. Холленбах снова вытянул ноги в мокасинах и пристроил их на неполированном кофейном столике.
— Вообразите себя на моём месте, Джим. Кого бы вы тогда выбрали? Я ведь не собираюсь ничего вам навязывать. Просто подумайте за меня вслух.
В словах президента Маквейг увидел столь знакомое ему умение Холленбаха убеждать нужных ему людей. Когда президент переходил на такой неофициальный, но настойчиво-просительный тон, отказать ему было невозможно.
— Ничего не поделаешь — убедили, — покорно вздохнул Маквейг. — Что ж, по-моему, на этот пост годятся только два человека, но выбрать и между ними будет нелегко. Это Никольсон и Карпер.
Уильям Никольсон был способный, но несколько медлительный спикер палаты представителей Конгресса. Сидней Карпер — сосед сенатора на обеде в Гридироне, министр обороны, чьи порою едкие замечания по вопросам внешней политики страны приносили своеобразное удовлетворение американцам, живущим в весьма малоутешительном мире.
— Никольсон слишком уж тяжёл на подъём. — Президент выставил руку ладонью кверху, словно удерживая от падения невидимый предмет. — Своей слоновьей тяжеловесностью он меня иногда просто подавляет.
— Верно, — ответил Маквейг, — но зато он надёжен, а избирателям это чувство надёжности как раз по душе.
Холленбах пропустил замечание сенатора мимо ушей и продолжал:
— Вот относительно Карпера я с вами согласен, это, пожалуй, великолепный образец государственного деятеля, и в Вашингтоне он пользуется наибольшей популярностью. Но только для вице-президента еврея наша страна ещё не готова.
— Ну нет, мистер президент, позвольте с вами не согласиться. Взгляните-ка на результаты опросов. В отношении наиболее популярных американских качеств он идёт на втором месте после вас.
— Только как кабинетный чиновник. Но как ближайший кандидат в президенты страны — никогда! И потом он взял на себя смелость протащить один законопроект, который я не одобрял. Он повёл себя в этом деле слишком уж самостоятельно.
Маквейг вздохнул и тактично помолчал, ожидая дальнейших разъяснений, но президент предпочёл не развивать этой темы.
— Но даже если вы и правы в отношении его недостаточной популярности в стране, в чём я весьма сомневаюсь, то вашей собственной популярности с лихвой хватит на двоих, и вы сумеете протащить его на выборах без сучка, без задоринки. Способности же у него действительно незаурядные, в этом ему отказать нельзя!
В ответ Маквейг услышал лишь эхо собственных слов, как человек, говорящий в пустую бочку. К чему, чёрт побери, клонит Марк? И чего надо тут самому Маквейгу на вершине горы среди ночи, в восьмидесяти милях от дома? Ведь скоро уже рассветёт. И почему Эвелин Холленбах нет здесь, рядом с мужем? У Джима появилось ощущение, словно он сам стал чем-то невесомым и нереальным, как этот слабый лунный свет. Почему, кстати, Марк выключил единственную лампу? Он спросил.
— Просто одна из моих причуд, — ответил Холленбах. — В темноте мне легче думается, потом мне нравится этот вид из окна, как днём, так и ночью, а любая лампа отражается в стекле и всё портит.
По губам президента скользнула лёгкая улыбка.
— Однако вернёмся к теме нашего разговора, Джим. Пока что вы назвали только двух. А что вы скажете о губернаторах?
Теперь мне от него не отвязаться, подумал Маквейг. Наверное хочет, чтобы я дал ему исчерпывающую характеристику всех возможных кандидатов от демократической партии. Маквейг молча раздумывал над ответом, сосредоточив взгляд на камине, где неуклонно росла горка мерцающих бело-розовых углей. Президент, казалось, и не ожидал от него скоропалительного ответа. Маквейг стал лениво перебирать в уме всех знакомых ему губернаторов. Наконец он назвал троих, чьи имена были ему известны с самой благоприятной стороны.
Холленбах принялся оценивать каждого из них, беспристрастно анализируя их отрицательные и положительные качества. Эта способность президента безошибочно выявлять слабые стороны людей позабавила Маквейга. Ему приятно было сознавать, что ему, Джемсу Маквейгу, такой беспощадный анализ не угрожает. И, вообще, весь этот разговор напомнил ему о хирурге, искусно отстраняющем артерии и нервы, чтобы добраться острым скальпелем до поверхности подозрительного участка. В конце концов, недостатки у всех трёх губернаторов, названных Маквейгом, возобладали, как, впрочем, и ещё у одного губернатора, предложенного самим президентом.
— Может, губернаторы теперь просто не в моде, мистер президент? — Тепло камина убаюкивало, и Маквейгу опять невыносимо захотелось спать. Теперь он поддерживал беседу только из приличия и делал обобщения вовсе не из-за убеждённости в правоте своих слов. — Губернаторов теперь уже не связывают с важными национальными проблемами, которые так беспокоят людей. Теперь они больше строят дороги, колледжи и больницы, но даже и тут им приходятся зависеть от государственных субсидий. Так что все теперь ориентируются на Вашингтон, невзирая на нашего старого приятеля Барри Голдуотера.
— Правильно! — громогласно согласился президент, и голос его прозвучал с прежней неуёмной энергией. Неужели этот человек никогда не устаёт?
Маквейг протёр глаза и подавил в себе сильное желание зевнуть.
— Значит, эго опять-таки приводит нас к Сенату, — сказал Холленбах. Он доверительно наклонился к Маквейгу, руки его покоились на коленях, но пальцы непрерывно сгибались, точно выжимая губку.
— Ну, мистер президент, уж не заставляйте меня заниматься критикой моих коллег.
Маквейгу давно уже надоела эта игра, в которой он не видел никакой подходящей для себя роли. Ему хотелось скорее добраться до постели.
Но президент Холленбах был дотошный человек, увести его от разговора было невозможно.
— Что вы скажете о Хэмпстэде? — спросил он.
— Против него говорит сама фамилия, — ответил сенатор. — Холленбах и Хэмпстэд. Звучит как старинная адвокатская контора, давно растерявшая всех клиентов.
Холленбах усмехнулся, но сенатор видел, что ему совсем не весело. Марк не любил шуток и сам в частных разговорах очень редко вставлял шутливые замечания, хотя на публичных выступлениях так и сыпал отличными остротами. Как бы почувствовав нежелание сенатора называть новые имена, Холленбах сам назвал пять сенаторов-демократов и опять разобрал их по косточкам. Как много всё-таки он знает о личной жизни своих сенаторов, удивился Маквейг. Характеристики его были необычайно острыми, а чутьё, с каким он отыскивал в возможных кандидатах наиболее уязвимые места, было таким же верным, как и при разборе кандидатур губернаторов. Ритм президентского монолога и мерцание углей в камине совершенно заворожили Маквейга, и скоро ему стало казаться, что всё перед ним плывёт в каком-то тумане. Он поймал себя на том, что клюнул носом, и сильно тряхнул плечами, чтобы не заснуть окончательно.
— Итак, мы перебрали всех, — сказал наконец Холленбах и улыбнулся. — Всех, кроме одного…
— Кого же ещё? — На эти слова президента Маквейг отозвался почти автоматически.
— Вас, Маквейг!..
— Меня??? — Маквейг вдруг стремительно выпрямился, покинув уютную ямку в спинке дивана.
— Да, вас, а почему бы, собственно, нет? Раз уж мы обсуждаем такое генеалогическое древо, как наш Сенат, то почему бы не взглянуть на ветвь младшего сенатора из Айовы?
Правда, почему бы и нет, напряжённо соображал Маквейг. Сонливость его теперь как рукой сняло, и мозг лихорадочно заработал. Ведь фигурировало же его имя в одной из газет, которая, вдохновившись постигшей О’Мэлли неприятностью, тут же откликнулась соответствующей статьёй! Репортёр дажеупомянул о достоинствах молодого сенатора. Правда, писавший был его хороший приятель, Крейг Спенс, но достоинства — это всё-таки достоинства! Молодой, умный, красивый. Жизнерадостная жена и здоровый ребёнок. О его недостатках Спенс, конечно, не упомянул: чересчур легкомыслен, слишком склонен выбирать в жизни лёгкие пути, чересчур оптимистичен. И потом эта его связь с Ритой — впрочем, об этом никто не знал, да и с Ритой всё, можно считать, покончено.
— Я знаю, Джим, что вы ленивы, — прервал президент приятные размышления Маквейга о собственных достоинствах и недостатках. — И потом вы слишком быстро взлетели наверх, чтобы это могло пойти вам на пользу. И всё-таки безжалостный эксплуататор Холленбах согнал бы с вас жирок! В общем, мне кажется, вас тоже надо иметь в виду.
— Вы это серьёзно, мистер президент?
Холленбах снова встал с дивана, подошёл к каминной полке и оперся на неё локтем поблизости от часов. Джим взглянул на них, и ему почудилось, что стрелки показывают уже без пяти минут четыре, но из-за странного освещения в комнате он не был в этом уверен. Президент задумчиво смотрел на него сверху вниз оценивающим взглядом, словно на предмет меблировки.
— Серьёзно я об этом ещё не думал, — ответил он. — В вопросах политики вы человек с огоньком, но ведь вы же сами знаете, что ленивы…
— Вам это, возможно, и кажется ленью. Но я просто во многом очень медлителен. Я, как бы вам это сказать, двигаюсь всегда скачками.
— Не то, что я — всегда несусь на всех парах, да? — усмехнулся Холленбах.
Маквейг постарался поддержать этот лёгкий тон:
— Вы, мистер президент, не в счёт. Такой энергии, как у вас, ни от кого нельзя требовать.
— Да, пожалуй, вы и правы. Ладно, Джим, шутки в сторону, на этот раз я хочу сделать правильный выбор! И не только потому, что ноябрь уже на носу, хотя, конечно, мне ни к чему человек, который испортит мой бюллетень. Поймите, что это в первую очередь важно для страны. С президентом может случиться всё что угодно, и вице-президент должен тогда оказаться способным взять на себя управление уверенно и без лишнего шума, так, чтобы в стране не начался правительственный кризис, подобный тому, который получился у Джонсона после смерти Кеннеди, если хотите!
Щёки президента покрыл яркий лихорадочный румянец. По необъяснимому закону неожиданного смещения времён и событий Маквейгу вдруг вспомнились далёкие дни его солдатской службы во Вьетнаме, походная перевязочная палатка и помешавшийся, дико жестикулирующий капрал, но видение исчезло так же стремительно, как и возникло, и Джим несказанно удивился, почему это он вдруг вспомнил об этом.
Холленбах между тем успокоился и улыбнулся Маквейгу:
— Что ж, пожалуй, хватит на сегодня. Уже пятый час, и пора на покой. О’Мэлли подождёт до среды. Послушайте, Джим, я уже отдал распоряжение, чтобы вам приготовили постель в коттедже для гостей. Утром вам спешить некуда, так что можете поспать подольше.
Но Маквейга вдруг охватило нестерпимое желание уехать во что бы то ни стало.
— Нет, я лучше поеду домой, мистер президент, если вы, конечно, не возражаете. Так что если вы дадите мне Лютера Смита, чтобы он…
— Понимаю, Джим, — сказал президент и положил ему руку на локоть. — Я лично думаю, что катить сейчас в Вашингтон бессмысленно, но ничего не поделаешь, хороших сенаторов заполучить теперь так трудно, что приходится их задабривать.
— Да нет, просто после такой необычной ночи мне сейчас всего нужнее моя собственная постель.
Холленбах молча кивнул и прошёл к телефону. Джим услышал, как он снял трубку и сказал:
— Вставайте, Смит. У нас тут есть один сумасшедший, который настаивает, чтобы его немедленно отвезли в Вашингтон.
Ещё несколько минут президент поболтал с Маквейгом о его семье и о своём собственном сыне — Марке-младшем — старшекурснике Йельского университета. Мальчишка, по словам президента, смышлёный, беда только, что все студенты в последнем семестре всегда немного распускаются. Ну, ничего, скоро он с ним увидится и хорошенько на него поднажмёт.
Наконец послышался скрип автомобильных шин по твёрдому, утрамбованному снегу. Холленбах распахнул перед сенатором дверь:
— Очень рад, что вы согласились ко мне приехать, Джим. Думаю, что скоро нам придётся встретиться вновь.
— Спокойной ночи, мистер президент. Нечего и говорить, как я вам благодарен.
Дверь коттеджа оставалась открытой, и, обернувшись, Маквейг взглянул в последний раз на тёмную комнату, которую пересекали широкие мрачные тени. В это мгновение бледный лунный луч озарил большое окно, и сенатор увидел силуэт Марка Холленбаха. Президент стоял в дверях, плотно прижав к косяку костяшки пальцев обеих рук.
ГЛАВА 2. ДЖОРДЖТАУН
Приспущенные венецианские шторы пропускали в комнату только узкие полосы света. Джим лежал, распластавшись на животе и обхватив руками подушку. Пошатываясь, он вылез из постели, подошёл к окну и поднял шторы. День угасал, солнце клонилось к западу. Господи, неужели он проспал весь день? Наверное, уже не меньше четырёх. На позолоченном туалетном кресле Марты бесформенной грудой лежали его серые брюки и фланелевая рубашка. И тут он вдруг вспомнил. Он снова повалился на кровать и уставился в потолок. Возможность стать вице-президентом! Неужели Марк говорил это всерьёз? Во всяком случае, выглядело это именно так, хотя Марк и дал ясно понять, что Маквейг только один из многих. Но ведь Холленбах при нём расправился со всеми возможными кандидатами, во всех обнаружил недостатки, а ему, Джиму Маквейгу, поставил в вину только одно — лень. Неужели он и правда ленив? Да в общем-то, нет. Просто в жизни много чего другого, помимо работы и политики, которые Холленбаха поглощали целиком, как узника в камере, оставленного с одной-единственной книгой. Просто в тридцать восемь лет вкус к жизни у него нисколько не притупился. Как же это сказал Марк? «Итак, мы перебрали всех… всех, кроме одного.» Кажется, он говорил это серьёзно? Ответа на этот вопрос Джим найти не мог. Голова была словно набита ватой. Он зевнул и потянулся. Горячий душ приоткрыл отравленные поры, а когда Маквейг под конец пустил холодную воду, всё тело закололо ледяными иголочками, и ему стало так хорошо, что он принялся насвистывать. Потом насухо растёрся полотенцем, снова надел те же серые брюки, натянул чистую синюю рубашку джерси, сунул ноги в комнатные туфли и спустился вниз. Когда он уселся за стол, пища показалась ему пресной и невкусной. Маквейг отставил её почти нетронутой, досадливо подумав, что половина пятого дня — сумасшедший час для завтрака. Он переключился на чёрный кофе и долго сидел, потягивая его, за низеньким столиком в гостиной. При этом он лениво листал газеты, задерживаясь только на политических статьях, а остальное лишь бегло просматривая. Скоро у его ног выросла беспорядочная куча листов. Он чувствовал, что лицо его слегка припухло — всегдашний признак, что хорошая жизнь становится для него чересчур хороша, — и он потёр щёки тыльной стороной ладони. Он знал, что вес его колеблется около ста девяноста фунтов — слишком много для мужчины, рост которого не достигает шести футов. Но живот был по-прежнему впалый и плоский, никакого брюшка, характерного для мужчин среднего возраста. Голубые глаза под густыми чёрными бровями всё ещё нравились женщинам, так, по крайней мере, говорили ему некоторые из них. Чёрные волосы были всё так же густы. Хотя в жилах его текла шотландская кровь, все говорили ему, что внешность у него скорее галльская, и он задумался над тем, чьи гены перемешались в нём, где и при каких обстоятельствах. Надеюсь, кое-кто при этом испытал удовольствие, подумал он, и эта мысль развеселила его. Жизнь не так уж плоха, если тебе повсюду сопутствует удача и если не сидеть всё время дома. Что тебе действительно необходимо, Маквейг, подумал он, так это побольше свежего воздуха и поменьше спиртного с друзьями на вечеринках. Как ни старался он прогнать от себя мысль, что может стать вице-президентом, мысль эта возвращалась к нему снова и снова. Для того, чтобы стать вице-президентом, наружность у него была, как говорила его дочь Чинки, вполне «мужественная». Но разве мало в нём мальчишеского? А ведь там, где дело касалось секретных атомных кодов, ракет и счётно-вычислительных устройств, люди уже больше не доверяют мальчишкам! Серьёзно ли говорил вчера Холленбах? Если да, то Джо Доновану должно быть об этом что-нибудь известно. Джо Донован, председатель демократической партии, мог до умопомрачения разыгрывать свою излюбленную роль циника от политики, но то, что делалось в стране, бывало ему известно гораздо раньше, чем большинству остальных. Небольшой разговор с Джо мог бы прояснить многое. Маквейг подошёл к телефону в прихожей и разыскал в книжке частных вашингтонских телефонов незарегистрированный номер Донована. Джо Донован говорил густым, насмешливым голосом, нарочито небрежно. В молодости Джо учился в Пенне, но от души ненавидел манерность этого учебного заведения, и теперь единственное, что у него с тех времён осталось, была разве что неприязнь к спиртным напиткам. Джо постоянно играл в ярого ирландского политического деятеля, что-нибудь наподобие О’Мэлли, который, между прочим, сам этой роли никогда не играл. — Привет, приятель, — начал разговор Донован, и Маквейг мгновенно представил его бесцветные, почти прикрывающие глаза ресницы, его глаза, которые никогда не теряли выражения настороженной подозрительности, и приподнятые в заученной усмешке уголки губ. — Тебе что, опять кого-нибудь надо устроить? — Да нет, Джо, ничего особо важного у меня к тебе нет, просто захотелось поболтать. — Ладно, Джимми, хватит, давай-ка лучше начистоту. Если у тебя что-нибудь на уме, выкладывай лучше сразу. И не бойся шокировать меня, краснею я редко! — Тут кое-кто среди наших поговаривал о детройтском съезде. Ты ведь знаешь, до него осталось всего пять месяцев! — Пять месяцев и семь дней, — поправил Донован, и Джим невольно усмехнулся: поправка прозвучала, как эхо его собственных слов, сказанных вчера президенту Холленбаху, — с разницей в один день. — Правильно, — сказал он вслух. — Так ты ничего не слышал о новом вице-президенте? — У нас есть вице-президент! — проревел Донован. — Ты что, никогда не слыхал имя Патрика О’Мэлли? — Да, но ходят слухи, что О’Мэлли уже недолго царствовать… — Запомни, Джимми, это сказал ты. Я этого не говорил. — Не будь ребёнком, Джо! Ты что, думаешь после этого дела с Жилинским Холленбах оставит О’Мэлли в бюллетене? — Как председатель национальной демократической партии — я молчу, но как Джо Донован я думаю, что с О’Мэлли всё покончено. Ну, что, удовлетворил я твоё любопытство? — Только отчасти. Ведь если О’Мэлли вышел из игры, то кого-то должны взять вместо него! — Так ты спрашиваешь, кто будет вместо О’Мэлли, если он выйдет из игры? Запомни, я сказал «если»! Что ж, мне называли много имён. Называли Карпера, Никольсона, двоих губернаторов и нескольких сенаторов. То есть обычные предположения. — А сам президент пока никого не предлагал, Джо? — Такой вопрос ещё не поднимался. Кстати, на днях он спрашивал и о тебе, Джимми. Спрашивал, что я думаю о твоём характере. Характере!! Нашёл кого об этом спрашивать! — Ну и что ты ему на это ответил? — Маквейг спросил как мог безразличнее, но почувствовал, как сильно забилось у него сердце. — Не твоё дело. Своих бесед с президентом я никому не пересказываю. — Донован снова умолк. — Вообще-то, я могу сказать, что я о тебе думаю, Джимми. Ты не волнуйся, — если предложат твою кандидатуру, то с моей стороны возражений не будет. Парень ты красивый, волосы у тебя густые, чёрные, умеешь ухаживать за женщинами… — Спасибо, — ответил сенатор. — Очень тебе признателен. — Ну и, кроме того, у тебя ещё имеется масса превосходных качеств — цельность, искренность и всё такое прочее… — Спасибо, Джо. Я тебе очень благодарен. Я просто начал тут раздумывать над всей этой ситуацией и. — А ты разве что-нибудь слышал? — На этот раз Донован сам попытался позондировать почву. — Да нет, ничего особенного, — осторожно сказал Маквейг. — Просто из одного источника мне сообщили, что Холленбах, возможно, имеет в виду и меня, ну а я, естественно, заинтересовался. — Понятно. — В голосе Донована прозвучала нотка сочувствия. — Если что-нибудь услышу, я тебе позвоню. Мне кажется, что Холленбах обрушится на О’Мэлли со дня на день. Я его, конечно, не виню, но, господи, только бы он не заставил заниматься этой грязной работой меня! Стадионы стадионами, а Пат мне нравится. Впрочем, если хочешь знать, на сей раз Марк, по-моему, займётся этим делом сам. Ему просто не терпится поскорее за это взяться. — Что ты этим хочешь сказать? — У Марка на О’Мэлли порядочный зуб. Он считает, что ирландец подвёл всю партию, оставив отпечатки пальцев на обоях Белого дома. Так что, повторяю, винить Марка я не могу. Нельзя сказать, чтобы Пат особенно помог нам с этим своим стадионом. Маквейгу вспомнилась вспышка ярости у президента вчера ночью, когда он говорил об О’Мэлли. — А ты знаешь, ведь Марк считает, что О’Мэлли намеренно провалил свою защиту, сделал это специально для того, чтобы скомпрометировать партию и президента. — Намеренно? Ну нет, я этого не думаю. Но он зол на О’Мэлли как сукин сын. Не хотел бы я держать пари за избрание Пата вице-президентом! Никаких надежд у меня на это нет. — Спасибо за откровенный разговор, Джо! Кстати, мне понравилось, как президент отчитал тебя вчера на обеде! — Это насчёт того, чтобы я не совал носа в дела управления? — Да. Послушай, Джо, а вот мне бы хотелось иметь на своей стороне стоящего, трезвого человека. Я бы действовал по-другому, я всегда прислушивался бы к его советам. Донован рассмеялся: — Превосходно, Джимми, когда-нибудь мы с тобой будем делать дела. Пока. Руки в карманах, устремив взгляд на стоптанные шлёпанцы, Маквейг снова прошёл в гостиную. Итак, всё правильно, президент имел его в виду, и у него был шанс, хоть маленький, но шанс быть выдвинутым кандидатом в вице-президенты от демократической партии в августе в Кобо-холле. Какая же клоунада эта политика! Шесть лет назад он был просто легкомысленным членом законодательной комиссии штата Айова, унаследовавшим от отца страховое агентство. Контора давала ему хороший заработок и не требовала, чтобы он надрывался, клиенты доверяли Джиму так же, как привыкли доверять Маквейгу-отцу. Гражданские его обязанности тоже не были особенно тяжёлыми. А потом подоспел пересмотр закона о налогах в штате, молодой Джим Маквейг был избран председателем подкомиссии по реформам. Он проработал тогда в этой подкомиссии пять месяцев, неожиданно для себя увлёкся и работал с таким жаром, словно ему за это платили, и, о чудо из чудес, новый закон о налогах пришёлся по вкусу почти всем: фермерам, учителям, бизнесменам и чуть ли не малым детям. И когда заправилы демократической партии штата Айова попросили его выставить свою кандидатуру в Сенат, он легко согласился, не придав этому серьёзного значения. При этом он подумал, что избирательная кампания будет всё же каким-то развлечением, и, пусть даже он провалится на выборах, его страховому агентству это, несомненно, пойдёт на пользу. Он принял участие в кампании, беззаботный как жаворонок. Забеспокоился он только в конце последней недели, когда стало известно, что новичок Маквейг оказывается серьёзным соперником для избирающегося уже вторично кандидата от республиканской партии. И вдруг он потопил этого республиканца. Так он сделался сенатором. И вот теперь у него есть хоть небольшой, но шанс стать вице-президентом. Надо сообщить об этом Марте. В прихожей зазвонил телефон, и ему пришлось слезть с дивана, обитого материей цвета увядающей розы. Отшвырнув ногой газеты, он подошёл к телефону. — Я держала сама с собой пари, Джим, и проиграла, — раздался в трубке низкий, сочный голос. — Я думала, что после обеда в Гридироне ты сразу мне позвонишь. — Рита?? — В голосе сенатора прозвучало раздражение. Он думал, что у неё больше такта и чуткости и она не станет звонить ему домой. — Не расстраивай своё пуританское сердце, Джим, — утешила его Рита, угадав его настроение. — Я ведь тоже читаю газеты. И знаю, что миссис Маквейг с дочерью на неделю уехали в Айову. — Да, но… — Так ты приедешь? — Голос в трубке был такой же бархатный, но тон изменился, стал более напряжённым. — Ради бога, перестань ты говорить этим будуарным тоном, словно по радио о погоде объявляешь. — Ну так как, Джим? — Что — как? — В голосе его появилось недовольство, но на этот раз оно было направлено против самого себя. — Я спрашиваю: ты приедешь? От Маклина до Джорджтауна всего двадцать минут езды даже при воскресном движении. — Послушай, Рита! Я совершенно разбит. Мне так и не удалось лечь до самого утра, и меня теперь тошнит. — А ты выпей, дорогой. — Я уже выпил. — В таком случае выпей ещё. Когда ты выпьешь, ты всегда бываешь лучше. — Теперь она говорила нормальным голосом, сухим и безразличным, как у библиотекарши. По непостижимым причинам это всегда возбуждало Маквейга. Маквейг нерешительно молчал. Судный день, день, когда он должен будет окончательно порвать с Ритой, мог наступить и завтра! Ведь не обязательно это должно случиться сегодня вечером! Это не поздно будет сделать и завтра, или во вторник, или… — Хорошо, — глухо сказал он. — Я скоро приеду. Он стал собираться и провозился ещё минут десять, почистил зубы, прошёлся по подбородку электрической бритвой и два раза сбегал на кухню, чтобы хлебнуть там чистого, неразбавленного виски. Потом нерешительно постоял у телефона, думая, не позвонить ли ему Марте в Десмон, но мысль о том, что с Мартой или Чинки ему придётся говорить именно теперь, была нестерпима. Вместо этого он стал придумывать, что потом соврать Марте, если она позвонит домой в его отсутствие. Ладно, после он что-нибудь сообразит, какое-нибудь собрание или официальное совещание. В Вашингтоне всегда о чём-нибудь совещаются, даже по воскресеньям. Очутившись в своём «форде», он включил отопление и нажал педаль акселератора. Он уже миновал Чейн-бридж и мчался мимо дубов и клёнов, окаймлявших Кэнел-роуд, когда вдруг ему пришла в голову мысль, что теперь на любовное свидание едет уже не младший сенатор от штата Айова, а возможный кандидат в вице-президенты Соединённых Штатов. Ехать к Рите в то самое время, когда, возможно, обсуждается его кандидатура? Боже милостивый! Да ему просто необходимо показаться психиатру! Но он уже опять почувствовал знакомое напряжение мускулов, и в нём пело старое неуёмное желание. В комнате было темно. Стоял запах духов, густой, как запах перезрелых фруктов. Рядом лежала Рита, прижавшись к нему холёным, ленивым телом. Её голова покоилась на голом плече Маквейга, волосы слегка щекотали ему подбородок. — Ты проспал несколько минут, — сказала она шёпотом. — И даже стал храпеть. Ужас. — Угу. — Он снова прикрыл глаза, наслаждаясь ощущением удовлетворённого желания. Сколько же это продолжается у него с Ритой? Ведь уже три года прошло с тех пор как он познакомился с ней во время выборной кампании. И всё это время страсть их ничуть не ослабевает. Рита работала секретаршей у Джо Донована, и когда Донован, руководивший выборной кампанией Марка Холленбаха, сделался председателем демократической партии, Рита Красицкая последовала за ним в здание на Кэй-стрит. Ухаживать за Ритой Джим начал давно, но флирт у них носил случайный характер и происходил главным образом по телефону либо же когда Маквейг приходил на приём к Доновану. Потом они пообедали несколько раз в ресторане у Поля Янга и в Ле Бистро и, наконец, прошлой осенью Джим провёл свою первую ночь в этой квартире. Но неожиданно для самого сенатора простая интрижка приобрела вдруг силу лихорадочной страсти. Рита была крупная, здоровая женщина, с широкими бёдрами и тяжёлой грудью. Кожа её была смуглого, оливкового цвета. Чёрные глаза необыкновенно шли к волосам, точно пара эбонитовых серёг. Мать Риты была итальянка, а отец — поляк, и детство её прошло в Буффало, в отвратительном польском районе этого города, куда впоследствии она старалась ездить как можно реже. На мужчин Рита действовала возбуждающе. Даже склонённое над пишущей машинкой тело её неотразимо притягивало, давая пищу воображению. Поэтому посещавшие Донована политические деятели никогда не протестовали, если председатель заставлял их ждать, и прозвали его приёмную «сексуальным отделом Донована». Однако отношение самой Риты к своему телу и к вожделениям, которые оно вызывало, было настолько простосердечным, что исключало всякие шутки. Рита Красицкая была убеждена, что мужчина и женщина созданы для того, чтобы жить друг с другом, и что любовь — закон природы. Поскольку она была католичкой и притом весьма верующей, Маквейг часто задумывался, в каких грехах исповедуется она священникам в соборе святого Мэтью, где она, как правило, не пропускала ни одной мессы. Как-то в момент близости он спросил её об этом. — В постели я не исповедуюсь! — последовал короткий ответ. Больше он, разумеется, никогда об этом не спрашивал. Маквейг так и не мог понять, почему Рита больше не вышла замуж после смерти молодого мужа, о котором она никогда ему не рассказывала. Замуж она, конечно, ещё выйдет, думал он, а, впрочем, ей ведь уже тридцать один, и она, кажется, вовсе и не ищет другого, узаконенного партнёра. Любит ли она его? Этого Маквейг не знал. И потом, разве не все женщины всегда немного влюблены в кого-нибудь? В Рите его привлекала чувственность, её ненасытное желание околдовывало его и поглощало целиком. С Мартой у него не было ничего похожего на ту всепоглощающую страсть, которую он познавал с Ритой, — чувство такое полное, что они потом подолгу лежали опустошённые и безмолвные. Почему так? И справедливо ли это по отношению к Марте? В глубине души Джим подозревал, что к Марте он подходит с подсознательным требованием того, какою должна быть жена и мать и что она должна или не должна делать. С Ритой всё было иначе. Но Джим старательно прогонял от себя это сравнение, как и всегда, когда чувствовал, что мысли его касаются чего-то более глубокого, чем поверхностный самоанализ. Они оделись, и потом Маквейг сидел в крошечной кухне за розовым, крытым пластиком столом, дожидаясь пока Рита приготовит кофе. Она надела ярко-красную блузку, которая резко контрастировала с пышной серой юбкой, скрадывавшей её статную фигуру. Смуглые ноги были голы. Ногти на ногах, обутых в египетские верёвочные сандалии, были покрыты густо-красным лаком, в тон блузке. Эти красивые ногти напомнили Джиму об их первой ночи. Он тогда ласкал пальцы её ног и лениво заметил, что красное на фоне смуглой кожи — возбуждающая комбинация цветов. С тех пор эта ласка превратилась у них в ритуал. Он знал, что расскажет ей всё. Пересказать беседу с президентом любой другой женщине в Вашингтоне было бы непростительной глупостью. С одинаковым успехом можно было объявить об этом на пресс-конференции, ибо через двадцать четыре часа об этом знал бы весь город. Другое дело с Ритой, для неё политика прежде всего — профессия. Ей было известно всё, о чём знал Джо Донован, а иногда и больше. Она была начинена политическими сенсациями, большей частью которых делилась с Джимом, и её рассказы о последних событиях помогали ему наполнять кладовую памяти массой сведений; как у белки, набивающей с осени своё дупло орехами, его запас был всегда полон — всё, необходимое политическому деятелю, чтобы быть готовым к любому неизвестному будущему. Но он знал, что Рита умеет держать язык за зубами и никогда никому не рассказывает, о чём разговаривал с ней Джим в тиши её квартиры. Напоминать об этом молчаливом соглашении у них было не принято. Даже простое упоминание о необходимости соблюдать тайну было бы упрёком их кодексу. Словом, оба занимались политикой. — Вчера после обеда Марк пригласил меня в Кэмп Дэвид, — сказал он. — Обстановка у него там была весьма странная, но дело не в этом. Она рассмеялась низким горловым смехом: — Ты говоришь о погашенном свете и о заколдованных горах в предрассветный час? Он пристально посмотрел на неё: — Уж не хочешь ли ты сказать, что тоже бывала там среди ночи? — Нет, Джим. Мы с президентом разговариваем только по телефону, когда он звонит Джо. Так значит… Джим был неприятно удивлён. Значит, в Вашингтоне давно уже поговаривают о странностях президента, а он никогда ни от кого не слышал о его привычке сидеть в темноте в своём горном убежище. — У меня ведь свои источники информации! — Длинные ресницы Риты задорно взлетели. Она явно его поддразнивала. — Конечно, дорогая, я убеждён, лучших и не бывает. Но и у меня неплохие, и, тем не менее, я до сих пор ничего об этом не знал. — Может это потому, что среди твоих знакомых нет агентов секретной службы? Насколько я понимаю, у него это не так, как бывало у Линдона Джонсона. Линдон выключал свет из экономии. Марк же гасит его потому, что ему нравится размышлять в темноте или что-то в этом роде. Впрочем, расскажи-ка лучше об этом сам. Сведения из первоисточника всегда самые надёжные. Так ты говоришь, от всего этого попахивало мистикой?
— Да нет, не совсем так… Как бы тебе объяснить… — Он задумчиво нахмурил брови. — Просто он выключил в комнате электричество, а свет от луны был совсем слабый. За окном лежал белый снег. То, что я, было, принял за ствол дерева, оказалось часовым. Но камин в комнате горел вполне бодро. Да нет, какого чёрта, если бы это не был президент, то я, пожалуй, и внимания бы не обратил. И всё-таки это было странно.
— Ну а я, например, считаю, что это просто великолепно! Подумать только, Марк Холленбах, наш мистер Совершенство! Как приятно сознавать, что у него тоже бывают странности, как и у всех нас, простых смертных! Но что там всё-таки произошло?
— Не хочу раздувать это в общегосударственное дело, но только Марк говорил там не совсем обычные вещи. — И он пересказал ей содержание разговора с президентом, стараясь припомнить всё по возможности точнее.
— Итак, значит Джим Маквейг тоже в списке? — В голосе её прозвучало такое недоверие, что он удивлённо поднял голову.
— Неужели это так удивительно?
— Удивительно? — С минуту она смотрела на него долгим, изучающим взглядом. Опять у неё вид статистика, чёрт бы её побрал, подумал он раздражённо, как у неё успело перемениться настроение за пять минут.
— Да нет, если знать, как работает голова у Холленбаха, то неудивительно. — Она снова ласково на него посмотрела, как будто обдала волною нежности. — Джим Маквейг — возможный кандидат в вице-президенты? Да, привыкнуть к такой мысли нелегко. Джим, радость моя, да ты ведь так же подходишь для этой кандидатуры, как, скажем, я! Ты очаровательный увалень, у тебя изумительная ямочка на упрямом шотландском подбородке. Ты очень милый и добрый — прямо-таки ангел небесный, если только такое представление об ангелах отвечает запросам фермеров штата Айова, выращивающих пшеницу. Но едва ли ты пользуешься и половиной мозгов, которыми наградил тебя господь. И потом, милый, ты же лентяй.
— Спасибо, дорогая! — Сенатор поднял брови, притворяясь обиженным. — Тебе бы только быть председательницей клуба «Долой Маквейга»!
— Ну, хорошо, скажи мне сам: разве ты не лентяй?
— Наверное, да. — Он задумчиво потёр переносицу. — По крайней мере, вчера ночью Марк сказал мне то же самое.
— Ну и как ты воспринял разговор? Серьёзно?
— Нет. Пожалуй, что нет. И всё-таки, как сказал один джентльмен, — чем дальше в лес, тем больше дров!
Рита наклонилась через стол и ласково сжала обеими руками лицо сенатора, как сделала бы мать, ласково укоряющая непослушного ребёнка:
— Джим, если ты не хочешь говорить серьёзно, то позволь это сделать мне. Я много думала о тебе, Джим, — ведь я наблюдаю за тобой уже много месяцев подряд. По-моему, ты очень хороший сенатор, но только, прошу тебя, милый, не давай волю тщеславию, не позволяй себя кусать этому клопу вице-президентства. О, я знаю, ты был бы очаровательным, великолепным кандидатом, но пойми, дорогой, если с президентом что-нибудь случится, вице-президент может в одну минуту стать президентом! Неужели ты действительно считаешь себя подходящим для этого человеком? Ну, скажи мне, задумываешься ли ты всерьёз над внешней политикой, над тем, что мы должны делать в Европе, в Азии, в Африке? Способен ли ты расшевелить экономику страны, утихомирить расовую борьбу, быть благоразумным и непреклонным в вопросах применения атомной бомбы? Ну как, достаточно в тебе мудрости для всех этих дел и может быть ещё более сложных?
Она отпала от его лица руки и смотрела теперь ему в глаза, смотрела с пытливой настойчивостью, но совсем не зло. Он был так удивлён, что не знал, как ответить.
— Тебе не следует надеяться, Джим. Во-первых, Марк тебя не выберет, уж в этом ты можешь мне поверить! Во-вторых, если бы он тебя даже и выбрал, то сам-то ты для этого не создан, не из того ты материала! Ты добр, ты очень хорош в постели, и тебя приятно иметь в любом доме, но только не в Белом. Ты не привык работать над жизнью, Джим! Ты привык играть в неё!
Голос её звучал по-прежнему ласково, и поэтому слова, которые она говорила, кололи как иголки, укутанные в нежный мех. И всё же Джим не на шутку разозлился. Анализ его личности в устах Риты — это было что-то новое!
— Тебе, по-видимому, нравится делать из меня дурака.
Она обошла вокруг столика, снова стиснула в ладонях его лицо и поцеловала с такой жадной силой, что он почувствовал острые края её зубов. Потом резко его оттолкнула:
— Эх, Джим, ты совсем ничего не понимаешь в женщинах! И, может быть, отчасти в этом и заключается твоя прелесть. Ведь как только ты рассказал мне твою беседу с Марком, я сразу же подумала о нас с тобой! Пойми, если тебе придётся баллотироваться в вице-президенты, между нами всё кончено!
— Кончено? — В этот вопрос он постарался вложить всё удивление, на какое был способен, но тут же понял, что вопрос его прозвучал фальшиво.
— Конечно. И ты сам прекрасно это понимаешь. Если Марк выберет тебя, то куда бы ты ни пошёл, за тобою всюду хвостом потащатся репортёры! И если они пронюхают, что ты оставляешь свой «форд» в трёх кварталах от моего дома, то никому из нас пользы это не принесёт! Джим, это будет концом всему!
— Рита! — В голосе его прозвучала мольба. Он поднялся из-за стола и попытался её обнять, но она крепко схватила его за руки и удержала на расстоянии.
— Впрочем, всё равно, это ведь только вопрос времени, дорогой! Ты и сам собирался со всем этим покончить в недалёком будущем. Я это чувствовала. Завтра, на будущей неделе, в следующем месяце… Какая, собственно, разница?
Она выпустила его руки и выбежала из комнаты, глухо хлопая сандалиями. Из-за раскрытой двери Джим услышал сдавленные звуки и понял, что она плачет.
Ему вдруг стало необыкновенно одиноко и тоскливо, как в детстве, когда мальчишкой приходилось возвращаться в школу из летнего лагеря. Он поднял глаза, обвёл взглядом до смешного крохотную кухоньку и вдруг остро почувствовал, что ему тут не место. В углублении стены он увидел высокую деревянную солонку и перечницу — точно такие же были и у Марты. Какой же ты всё-таки мерзавец, Маквейг, мысленно сказал он себе. И в этот момент он действительно так думал.
Когда она вернулась на кухню, он увидел, что она привела в порядок лицо: подкрасила губы и ресницы. Сидя за розовым столом, он сосредоточенно потирал рукой переносицу и думал о тёмном коттедже в Кэмп Дэвиде, о пляшущих языках пламени в камине, о президенте, громящем в пух и прах злополучного Пата.
— Какие-нибудь неприятности? — спросила Рита.
— Да как тебе сказать… Меня это не касается, но… Просто я вспоминаю, как говорил и вёл себя президент. Я ведь тебе не рассказывал, что ещё раньше, в Гридироне, он сострил насчёт того, что необходимо ввести закон о всеобщем подслушивании телефонных переговоров, чтобы ФБР имело возможность подключаться к любому телефону. Тогда я думал, он шутит. Но позже, в Кэмп Дэвиде, он сказал, что говорил об этом всерьёз, и ты знаешь, я ему поверил. Нет, ты только представь, как это будет выглядеть, если ФБР будет подслушивать все разговоры!
— Особенно наши! — легкомысленно вставила она.
И он понял, что до неё так и не дошло, какими серьёзными последствиями может быть чревато это странное предложение.
— И потом, знала бы ты, как он обрушился вчера на О’Мэлли! Он даже обвинил Пата, что тот намеренно пытался опозорить его и всё правительство! Это уж совсем бессмысленно. Господи, Пат пытался только спасти свою шкуру, да и это у него получилось не бог весть как умно. Но Марк вбил себе в голову, что Пат пытался скомпрометировать лично его, Холленбаха.
Она расхохоталась и покачала головой:
— Я уже говорила тебе, дорогой, всем нам иногда что-нибудь мерещится. Значит, наш мистер Совершенство тоже не исключение. Никогда не забуду, как однажды он взвился как ракета из-за совершеннейшего пустяка, так мне, по крайней мере, показалось.
— Так Марк однажды набросился и на тебя?
— Да нет, не на меня. Со мною он только флиртует иногда по телефону, но слышать всякие милые пустячки от президента, конечно, весьма лестно.
— Кто же это вывел его из себя?
— Месяца два назад, в январе, кажется, президент позвонил и попросил соединить его с Джо. И никаких любезностей я на этот раз от него не услышала. Я сказала ему, что он, по-видимому, забыл — Джо сейчас объезжает западные штаты. О да, правильно, говорит он и тут же спрашивает, не известно ли мне чего-либо о назначении Дэвиджа. Тогда как раз рассматривался вопрос о назначении его заместителем министра финансов.
— Это чикагский банкир?
— Да, он самый. Этот Дэвидж был давнишним приятелем Джо, и Джо попросил президента сделать ему личное одолжение и предоставить Дэвиджу этот пост. Марк дал понять, что такая идея ему по душе и что он подумает. И вот в тот день он вдруг без всяких своих обычных любезностей заявляет мне, что о Дэвидже не может быть и речи, что Дэвидж пытается его погубить, что ему только и надо как проникнуть в министерство, чтобы оттуда удобнее было шпионить за ним, за президентом.
— Это Дэвидж-то?
— Вот именно. Он накинулся на этого Дэвиджа так, что остановить его было невозможно. Его как будто прорвало. Это надо было слышать, — прямо извержение действующего вулкана. Он обвинял Дэвиджа в произнесении какой-то предательской речи об управлении страной, и будто бы эта речь явилась саморазоблачением этого злонамеренного человека, да, примерно так он и сказал, и будто бы Дэвидж хотел выжить его с поста президента. Ну а когда неделю спустя Джо возвратился из своей поездки, он рассказал, что президент позвонил и объявил, что Дэвидж ему решительно не подходит. И вот тогда и предложили, чтобы сенат рассмотрел кандидатуру Лавалье, и вы выбрали его. Но эта вспышка по поводу речи Дэвиджа заинтриговала меня. Я позвонила в Чикаго, связалась с секретаршей Дэвиджа и попросила её прислать мне все его выступления примерно за год. Прочитала их все очень внимательно, ни строчки не пропустила, и нашла в них одну-единственную фразу, которая содержала критику на администрацию. Да и критика-то была весьма слабая, какая-то фразочка, которую сразу и не заметишь. Он сказал всего-навсего, что правительству Холленбаха следует пересмотреть политику в отношении механики увеличения акционерных прибылей. Всего-то, дай бог памяти, слов, наверное, пятнадцать.
— А Доновану ты об этом сказала?
— Нет. Я никогда не пересказываю того, что мне говорят, разве только меня не начнёт уговаривать какой-нибудь красавец с густыми чёрными волосами и прелестным подбородком! Но вот что мне тогда показалось странным. Уж больно эта вспышка была непохожа на Холленбаха. Он тогда, наверное, просто переработался. А может, этот Дэвидж сыграл с ним когда-то грязную шутку и мы ничего не знаем? Но как бы там ни было, ясно одно: при всех разглагольствованиях о самосовершенствовании нашему президенту не чуждо всё человеческое! И, если хочешь знать, он мне теперь даже больше стал нравиться, когда я узнала, что он, как и все мы, тоже может иногда сорваться. Тебе этого не кажется?
Она откинула занавески и выглянула в окно. Там, в крохотном, размером с носовой платок, дворике виднелся квадрат грязного снега. Уже вечерело, и Джим видел, как стекают капли дождя с веток сикаморы. Как и в большинстве резиденций Джорджтауна, заборы тут скрывали за собой по нескольку квадратных футов частных владений и, словно тюремные стены, огораживали крошечные дворики. Джим вдруг почувствовал, что всё это нестерпимо давит на него. Рита опустила занавески.
— Мерзкий вечер, — сказала она. — Не знаю, как ты, а я страшно рада, что сегодня мне никуда не придётся идти.
Джим неловко потянулся. Ему не терпелось поскорее уехать, снова вернуться к знакомой обстановке своего дома в Маклине, снова почувствовать себя простым сенатором от штата Айова. Од подумал о Марте и о Чинки и снова испытал угрызение совести.
— Мне пора, Рита! — Он поднялся и взглянул на часы.
— Уже десять минут десятого. Завтра в десять у нас будет заседание комитета, и мне надо ещё просмотреть кипу докладов.
Она понимающе улыбнулась, и от этого он почувствовал себя ещё более неловко.
— Ладно, Джим, — сказала она. — Я всё понимаю.
Конечно, она всё понимает, думал он. Ей хорошо знакомы в нём эта виноватая напряжённость и лихорадочное нетерпение, и то, как он старается не думать о ней, даже когда смотрит, как тяжело поднимается и опускается её грудь. Он шагнул вперёд, крепко обнял её и поцеловал в губы. Тело её сразу сделалось безвольным, и груди прижались к его груди как две тёплые подушки. Но мускулы его рук продолжали оставаться напряжёнными, и знакомого ослабления не последовало. Когда он отпустил её, она потянулась к заднему карману его брюк, достала носовой платок и старательно стёрла с его губ следы помады.
— Ну вот, теперь наш честолюбивый сенатор снова безупречен и чист!
Уже в дверях она взяла его за руки и тихо сказала:
— Послушай, Джим, я знаю, что за вредное насекомое кусает тебя теперь. Ты сейчас твердишь себе, что наши отношения пора кончать. Но если Марк обойдёт тебя, то ты всё-таки помни, что номер моего телефона 9-88-77. Сел на горку — и катись вниз! Запомнишь?
— Да я, в общем-то, не уверен, что между нами всё кончено, дорогая, — бодро сказал он.
— Ты знаешь, что кончено… — Голос её прервался. — Только давай без сожалений! Ведь так лучше, Джим?
— Да, Рита, так будет лучше.
Он открыл дверь и вышел на боковое крыльцо, служившее отдельным входом в её квартиру на первом этаже.
Перед тем как спуститься, он по привычке посмотрел в обе стороны улицы. Не заметив ничего подозрительного, он сбежал по четырём кирпичным ступенькам и быстро зашагал к Висконсин-авеню, к платной стоянке, где оставил свой «форд».
Маквейг мчался домой на продельной скорости, шины автомобиля шуршали по кашице талого снега, разбрызгивая воду по краям мостовой. Он думал о президенте, о его неожиданной вспышке гнева против О’Мэлли и о том, как он точно так же набросился на Дэвиджа, человека, вряд ли способного кого-нибудь разозлить. Обе сцены были одинаково бессмысленны. А эта бредовая идея о подслушивании всех разговоров! Что происходит с Марком?
Дома он вспомнил, что хотел позвонить Марте. Ему пришла в голову мысль, что всего два часа назад он лежал с Ритой в постели, — времени прошло до непристойности мало. Но ведь не он звонил Рите, принялся он себя успокаивать, она сама ему позвонила. Это несколько утешило его. Он снял трубку и попросил телефонистку соединить его с Десмоном, с домом Свенсонов. Нет, спасибо, сам набирать номер их телефона он не хочет, он предпочитает, чтобы его соединили.
Марта подошла к телефону, и он услышал, как радостно она ахнула, когда оператор сказал, что вызывает Вашингтон.
— Не волнуйся, Марта, у меня всё в порядке. Просто захотелось тебе позвонить — у меня есть одна небольшая новость.
— Ох, Джим! — Марта была единственной женщиной, у которой этот возглас получался непритворным и от чистого сердца. — Что за новость?
— А ты можешь мне поклясться, что будешь молчать? Никому ни слова. Даже Чинки. И особенно твоей матери. Это придётся держать в строгом секрете, возможно очень долго…
— Конечно, клянусь, говори же скорей! — нетерпеливо перебила она. Джим представил, как она от нетерпения выгнула дугой брови. Любопытство преображало её лицо, и оно становилось совсем детским. Он представил себе её маленький, типично шведский носик и мягкие пряди волос, которые выбивались из короткой причёски и лезли ей на уши и шею.
— А ты побожись! — Это была их старая игра ещё со времён его ухаживания.
— Клянусь жизнью, что никогда, никому… Ну, Джим, говори же скорей!
— Ладно уж, слушай меня внимательно, — весело сказал он. — Вчера после обеда в Гридироне Марк вызвал меня в Кэмп Дэвид и сказал, что подумывает, не выдвинуть ли мою кандидатуру в вице-президенты!
— Куда? — Восторг её был так непритворен, что она даже взвизгнула.
— В вице-президенты, — гордо повторил он. — Или, точнее, в кандидаты на этот пост от демократической партии. Правда, он рассматривает примерно с десяток и других кандидатур.
— Ох, Джим, ты просто представить себе не можешь, как я тобой горжусь! Я уверена, что в этом списке ты непременно идёшь первым!
Он невольно сравнил такое быстрое признание его шансов с критической оценкой Риты — мнением профессионала — и почувствовал себя немного подавленным. Восторг Марты был не чем иным, как знаком слепой супружеской преданности.
— Ну нет, шансов у меня, я думаю, немного, — сказал он и вздохнул. — Но предположение твоё очень мило.
— А я знаю, что ты пройдёшь, Джим! У меня такое предчувствие, милый! Вице-президент из тебя получится великолепный. У тебя для этого все данные.
Маквейг усмехнулся. Марта говорит ему, что он самый подходящий для этого человек, а Рита — что у него неподходящие мозги. Возможно, обе они по-своему правы.
— Попроси-ка к телефону Чинки. Только ничего ей пока не говори.
— Джейн! — крикнула она нараспев. — С тобой хочет говорить твой папочка.
Послышалось хлопанье по паркету больших, не по ноге, комнатных туфель, и к телефону подлетела его дочка, ещё более запыхавшаяся, чем мать:
— Привет, первый! Ты почему всегда звонишь, когда меня нет поблизости?
Услышав её голос, он невольно улыбнулся и представил себе её карие глаза и здоровый румянецво всю щёку. Он вспомнил, как прозвал её Чинки, когда она была маленьким увальнем, толстушкой с умоляющими глазами и дрожащим подбородком. Неизвестно почему, у неё долго не получался звук «п», который она всегда заменяла на «ч», и когда ей хотелось пить, она жалобно протягивала крохотную ладошку и просила: «Чить хочу, чить». Теперь она ходила, широко расставляя ноги, как манекенщицы в модных журналах, и конский хвост причёски доходил ей до самой попки. Волосы у неё были перевязаны широкими резиновыми лентами.
— Я так по тебе соскучился, Чинки, — сказал он. — Если бы у меня была орхидея, то сегодня вечером я бы поставил её перед твоим портретом!
— Ты всегда шутишь, пап! — радостно засопела она. — И отчего это только я так тебя люблю! Наверное от слабоумия.
— Ты ещё не раздумала возвратиться во вторник? Хоть коэффициент умственного развития у тебя сто двадцать, но пропускать школу по целым неделям — это уж слишком!
— Сто двадцать четыре, противный ты гангстер! — взвизгнула Чинки. — Ой, пап, ты ещё не слышал Порки Джонса на долгоиграющих?
— Ещё не имел такого удовольствия, вернее такого наказания. А кто он такой?
— Кто такой Порки Джонс? Да на каких задворках цивилизации ты скрываешься? Наверное прячешься с какой-нибудь скво? — Джим съёжился, словно получил пощёчину. — Да ведь Порки — это же ударник, глупый, он просто чудо! Ма разрешила мне купить альбом. Весь целиком. Вот подожди, скоро послушаешь.
— О’кэй, Чинки. Значит во вторник вечером, так, что ли?
— Правильно, пап. Мы прилетим на самолёте. Пока.
Джиму стало так хорошо, что он нехотя положил трубку, — отпускать возникший перед ним образ Чинки ему не хотелось. Потом он вспомнил о проекте доклада, который дожидался его наверху в кабинете. Чёрт с ним, подумал он. Можно будет приготовить его и завтра. Он переоделся в пижаму, откинул шторы и увидел, что на улице падает лёгкий, пушистый снег. Танцующие снежинки освещались на мгновение светом из его окна и снова пропадали где-то внизу. Сенатор заснул сразу же, как только очутился в неубранной постели, и последней его мыслью было то, что у президента Холленбаха имеется список и что его имя тоже стоит в этом списке.
В среду, за полчаса до начала пресс-конференции президента Холленбаха, под высокими сводами конференц-зала госдепартамента стали собираться корреспонденты. У входа они предъявляли охране удостоверения с наклеенными на них цветными фотографиями и с треском захлопывали бумажники, разбившись на небольшие группы, оживлённо болтали в застеклённом холле, а затем растекались вдоль проходов.
— Может это потому, что среди твоих знакомых нет агентов секретной службы? Насколько я понимаю, у него это не так, как бывало у Линдона Джонсона. Линдон выключал свет из экономии. Марк же гасит его потому, что ему нравится размышлять в темноте или что-то в этом роде. Впрочем, расскажи-ка лучше об этом сам. Сведения из первоисточника всегда самые надёжные. Так ты говоришь, от всего этого попахивало мистикой?
— Да нет, не совсем так… Как бы тебе объяснить… — Он задумчиво нахмурил брови. — Просто он выключил в комнате электричество, а свет от луны был совсем слабый. За окном лежал белый снег. То, что я, было, принял за ствол дерева, оказалось часовым. Но камин в комнате горел вполне бодро. Да нет, какого чёрта, если бы это не был президент, то я, пожалуй, и внимания бы не обратил. И всё-таки это было странно.
— Ну а я, например, считаю, что это просто великолепно! Подумать только, Марк Холленбах, наш мистер Совершенство! Как приятно сознавать, что у него тоже бывают странности, как и у всех нас, простых смертных! Но что там всё-таки произошло?
— Не хочу раздувать это в общегосударственное дело, но только Марк говорил там не совсем обычные вещи. — И он пересказал ей содержание разговора с президентом, стараясь припомнить всё по возможности точнее.
— Итак, значит Джим Маквейг тоже в списке? — В голосе её прозвучало такое недоверие, что он удивлённо поднял голову.
— Неужели это так удивительно?
— Удивительно? — С минуту она смотрела на него долгим, изучающим взглядом. Опять у неё вид статистика, чёрт бы её побрал, подумал он раздражённо, как у неё успело перемениться настроение за пять минут.
— Да нет, если знать, как работает голова у Холленбаха, то неудивительно. — Она снова ласково на него посмотрела, как будто обдала волною нежности. — Джим Маквейг — возможный кандидат в вице-президенты? Да, привыкнуть к такой мысли нелегко. Джим, радость моя, да ты ведь так же подходишь для этой кандидатуры, как, скажем, я! Ты очаровательный увалень, у тебя изумительная ямочка на упрямом шотландском подбородке. Ты очень милый и добрый — прямо-таки ангел небесный, если только такое представление об ангелах отвечает запросам фермеров штата Айова, выращивающих пшеницу. Но едва ли ты пользуешься и половиной мозгов, которыми наградил тебя господь. И потом, милый, ты же лентяй.
— Спасибо, дорогая! — Сенатор поднял брови, притворяясь обиженным. — Тебе бы только быть председательницей клуба «Долой Маквейга»!
— Ну, хорошо, скажи мне сам: разве ты не лентяй?
— Наверное, да. — Он задумчиво потёр переносицу. — По крайней мере, вчера ночью Марк сказал мне то же самое.
— Ну и как ты воспринял разговор? Серьёзно?
— Нет. Пожалуй, что нет. И всё-таки, как сказал один джентльмен, — чем дальше в лес, тем больше дров!
Рита наклонилась через стол и ласково сжала обеими руками лицо сенатора, как сделала бы мать, ласково укоряющая непослушного ребёнка:
— Джим, если ты не хочешь говорить серьёзно, то позволь это сделать мне. Я много думала о тебе, Джим, — ведь я наблюдаю за тобой уже много месяцев подряд. По-моему, ты очень хороший сенатор, но только, прошу тебя, милый, не давай волю тщеславию, не позволяй себя кусать этому клопу вице-президентства. О, я знаю, ты был бы очаровательным, великолепным кандидатом, но пойми, дорогой, если с президентом что-нибудь случится, вице-президент может в одну минуту стать президентом! Неужели ты действительно считаешь себя подходящим для этого человеком? Ну, скажи мне, задумываешься ли ты всерьёз над внешней политикой, над тем, что мы должны делать в Европе, в Азии, в Африке? Способен ли ты расшевелить экономику страны, утихомирить расовую борьбу, быть благоразумным и непреклонным в вопросах применения атомной бомбы? Ну как, достаточно в тебе мудрости для всех этих дел и может быть ещё более сложных?
Она отпала от его лица руки и смотрела теперь ему в глаза, смотрела с пытливой настойчивостью, но совсем не зло. Он был так удивлён, что не знал, как ответить.
— Тебе не следует надеяться, Джим. Во-первых, Марк тебя не выберет, уж в этом ты можешь мне поверить! Во-вторых, если бы он тебя даже и выбрал, то сам-то ты для этого не создан, не из того ты материала! Ты добр, ты очень хорош в постели, и тебя приятно иметь в любом доме, но только не в Белом. Ты не привык работать над жизнью, Джим! Ты привык играть в неё!
Голос её звучал по-прежнему ласково, и поэтому слова, которые она говорила, кололи как иголки, укутанные в нежный мех. И всё же Джим не на шутку разозлился. Анализ его личности в устах Риты — это было что-то новое!
— Тебе, по-видимому, нравится делать из меня дурака.
Она обошла вокруг столика, снова стиснула в ладонях его лицо и поцеловала с такой жадной силой, что он почувствовал острые края её зубов. Потом резко его оттолкнула:
— Эх, Джим, ты совсем ничего не понимаешь в женщинах! И, может быть, отчасти в этом и заключается твоя прелесть. Ведь как только ты рассказал мне твою беседу с Марком, я сразу же подумала о нас с тобой! Пойми, если тебе придётся баллотироваться в вице-президенты, между нами всё кончено!
— Кончено? — В этот вопрос он постарался вложить всё удивление, на какое был способен, но тут же понял, что вопрос его прозвучал фальшиво.
— Конечно. И ты сам прекрасно это понимаешь. Если Марк выберет тебя, то куда бы ты ни пошёл, за тобою всюду хвостом потащатся репортёры! И если они пронюхают, что ты оставляешь свой «форд» в трёх кварталах от моего дома, то никому из нас пользы это не принесёт! Джим, это будет концом всему!
— Рита! — В голосе его прозвучала мольба. Он поднялся из-за стола и попытался её обнять, но она крепко схватила его за руки и удержала на расстоянии.
— Впрочем, всё равно, это ведь только вопрос времени, дорогой! Ты и сам собирался со всем этим покончить в недалёком будущем. Я это чувствовала. Завтра, на будущей неделе, в следующем месяце… Какая, собственно, разница?
Она выпустила его руки и выбежала из комнаты, глухо хлопая сандалиями. Из-за раскрытой двери Джим услышал сдавленные звуки и понял, что она плачет.
Ему вдруг стало необыкновенно одиноко и тоскливо, как в детстве, когда мальчишкой приходилось возвращаться в школу из летнего лагеря. Он поднял глаза, обвёл взглядом до смешного крохотную кухоньку и вдруг остро почувствовал, что ему тут не место. В углублении стены он увидел высокую деревянную солонку и перечницу — точно такие же были и у Марты. Какой же ты всё-таки мерзавец, Маквейг, мысленно сказал он себе. И в этот момент он действительно так думал.
Когда она вернулась на кухню, он увидел, что она привела в порядок лицо: подкрасила губы и ресницы. Сидя за розовым столом, он сосредоточенно потирал рукой переносицу и думал о тёмном коттедже в Кэмп Дэвиде, о пляшущих языках пламени в камине, о президенте, громящем в пух и прах злополучного Пата.
— Какие-нибудь неприятности? — спросила Рита.
— Да как тебе сказать… Меня это не касается, но… Просто я вспоминаю, как говорил и вёл себя президент. Я ведь тебе не рассказывал, что ещё раньше, в Гридироне, он сострил насчёт того, что необходимо ввести закон о всеобщем подслушивании телефонных переговоров, чтобы ФБР имело возможность подключаться к любому телефону. Тогда я думал, он шутит. Но позже, в Кэмп Дэвиде, он сказал, что говорил об этом всерьёз, и ты знаешь, я ему поверил. Нет, ты только представь, как это будет выглядеть, если ФБР будет подслушивать все разговоры!
— Особенно наши! — легкомысленно вставила она.
И он понял, что до неё так и не дошло, какими серьёзными последствиями может быть чревато это странное предложение.
— И потом, знала бы ты, как он обрушился вчера на О’Мэлли! Он даже обвинил Пата, что тот намеренно пытался опозорить его и всё правительство! Это уж совсем бессмысленно. Господи, Пат пытался только спасти свою шкуру, да и это у него получилось не бог весть как умно. Но Марк вбил себе в голову, что Пат пытался скомпрометировать лично его, Холленбаха.
Она расхохоталась и покачала головой:
— Я уже говорила тебе, дорогой, всем нам иногда что-нибудь мерещится. Значит, наш мистер Совершенство тоже не исключение. Никогда не забуду, как однажды он взвился как ракета из-за совершеннейшего пустяка, так мне, по крайней мере, показалось.
— Так Марк однажды набросился и на тебя?
— Да нет, не на меня. Со мною он только флиртует иногда по телефону, но слышать всякие милые пустячки от президента, конечно, весьма лестно.
— Кто же это вывел его из себя?
— Месяца два назад, в январе, кажется, президент позвонил и попросил соединить его с Джо. И никаких любезностей я на этот раз от него не услышала. Я сказала ему, что он, по-видимому, забыл — Джо сейчас объезжает западные штаты. О да, правильно, говорит он и тут же спрашивает, не известно ли мне чего-либо о назначении Дэвиджа. Тогда как раз рассматривался вопрос о назначении его заместителем министра финансов.
— Это чикагский банкир?
— Да, он самый. Этот Дэвидж был давнишним приятелем Джо, и Джо попросил президента сделать ему личное одолжение и предоставить Дэвиджу этот пост. Марк дал понять, что такая идея ему по душе и что он подумает. И вот в тот день он вдруг без всяких своих обычных любезностей заявляет мне, что о Дэвидже не может быть и речи, что Дэвидж пытается его погубить, что ему только и надо как проникнуть в министерство, чтобы оттуда удобнее было шпионить за ним, за президентом.
— Это Дэвидж-то?
— Вот именно. Он накинулся на этого Дэвиджа так, что остановить его было невозможно. Его как будто прорвало. Это надо было слышать, — прямо извержение действующего вулкана. Он обвинял Дэвиджа в произнесении какой-то предательской речи об управлении страной, и будто бы эта речь явилась саморазоблачением этого злонамеренного человека, да, примерно так он и сказал, и будто бы Дэвидж хотел выжить его с поста президента. Ну а когда неделю спустя Джо возвратился из своей поездки, он рассказал, что президент позвонил и объявил, что Дэвидж ему решительно не подходит. И вот тогда и предложили, чтобы сенат рассмотрел кандидатуру Лавалье, и вы выбрали его. Но эта вспышка по поводу речи Дэвиджа заинтриговала меня. Я позвонила в Чикаго, связалась с секретаршей Дэвиджа и попросила её прислать мне все его выступления примерно за год. Прочитала их все очень внимательно, ни строчки не пропустила, и нашла в них одну-единственную фразу, которая содержала критику на администрацию. Да и критика-то была весьма слабая, какая-то фразочка, которую сразу и не заметишь. Он сказал всего-навсего, что правительству Холленбаха следует пересмотреть политику в отношении механики увеличения акционерных прибылей. Всего-то, дай бог памяти, слов, наверное, пятнадцать.
— А Доновану ты об этом сказала?
— Нет. Я никогда не пересказываю того, что мне говорят, разве только меня не начнёт уговаривать какой-нибудь красавец с густыми чёрными волосами и прелестным подбородком! Но вот что мне тогда показалось странным. Уж больно эта вспышка была непохожа на Холленбаха. Он тогда, наверное, просто переработался. А может, этот Дэвидж сыграл с ним когда-то грязную шутку и мы ничего не знаем? Но как бы там ни было, ясно одно: при всех разглагольствованиях о самосовершенствовании нашему президенту не чуждо всё человеческое! И, если хочешь знать, он мне теперь даже больше стал нравиться, когда я узнала, что он, как и все мы, тоже может иногда сорваться. Тебе этого не кажется?
Она откинула занавески и выглянула в окно. Там, в крохотном, размером с носовой платок, дворике виднелся квадрат грязного снега. Уже вечерело, и Джим видел, как стекают капли дождя с веток сикаморы. Как и в большинстве резиденций Джорджтауна, заборы тут скрывали за собой по нескольку квадратных футов частных владений и, словно тюремные стены, огораживали крошечные дворики. Джим вдруг почувствовал, что всё это нестерпимо давит на него. Рита опустила занавески.
— Мерзкий вечер, — сказала она. — Не знаю, как ты, а я страшно рада, что сегодня мне никуда не придётся идти.
Джим неловко потянулся. Ему не терпелось поскорее уехать, снова вернуться к знакомой обстановке своего дома в Маклине, снова почувствовать себя простым сенатором от штата Айова. Од подумал о Марте и о Чинки и снова испытал угрызение совести.
— Мне пора, Рита! — Он поднялся и взглянул на часы.
— Уже десять минут десятого. Завтра в десять у нас будет заседание комитета, и мне надо ещё просмотреть кипу докладов.
Она понимающе улыбнулась, и от этого он почувствовал себя ещё более неловко.
— Ладно, Джим, — сказала она. — Я всё понимаю.
Конечно, она всё понимает, думал он. Ей хорошо знакомы в нём эта виноватая напряжённость и лихорадочное нетерпение, и то, как он старается не думать о ней, даже когда смотрит, как тяжело поднимается и опускается её грудь. Он шагнул вперёд, крепко обнял её и поцеловал в губы. Тело её сразу сделалось безвольным, и груди прижались к его груди как две тёплые подушки. Но мускулы его рук продолжали оставаться напряжёнными, и знакомого ослабления не последовало. Когда он отпустил её, она потянулась к заднему карману его брюк, достала носовой платок и старательно стёрла с его губ следы помады.
— Ну вот, теперь наш честолюбивый сенатор снова безупречен и чист!
Уже в дверях она взяла его за руки и тихо сказала:
— Послушай, Джим, я знаю, что за вредное насекомое кусает тебя теперь. Ты сейчас твердишь себе, что наши отношения пора кончать. Но если Марк обойдёт тебя, то ты всё-таки помни, что номер моего телефона 9-88-77. Сел на горку — и катись вниз! Запомнишь?
— Да я, в общем-то, не уверен, что между нами всё кончено, дорогая, — бодро сказал он.
— Ты знаешь, что кончено… — Голос её прервался. — Только давай без сожалений! Ведь так лучше, Джим?
— Да, Рита, так будет лучше.
Он открыл дверь и вышел на боковое крыльцо, служившее отдельным входом в её квартиру на первом этаже.
Перед тем как спуститься, он по привычке посмотрел в обе стороны улицы. Не заметив ничего подозрительного, он сбежал по четырём кирпичным ступенькам и быстро зашагал к Висконсин-авеню, к платной стоянке, где оставил свой «форд».
Маквейг мчался домой на продельной скорости, шины автомобиля шуршали по кашице талого снега, разбрызгивая воду по краям мостовой. Он думал о президенте, о его неожиданной вспышке гнева против О’Мэлли и о том, как он точно так же набросился на Дэвиджа, человека, вряд ли способного кого-нибудь разозлить. Обе сцены были одинаково бессмысленны. А эта бредовая идея о подслушивании всех разговоров! Что происходит с Марком?
Дома он вспомнил, что хотел позвонить Марте. Ему пришла в голову мысль, что всего два часа назад он лежал с Ритой в постели, — времени прошло до непристойности мало. Но ведь не он звонил Рите, принялся он себя успокаивать, она сама ему позвонила. Это несколько утешило его. Он снял трубку и попросил телефонистку соединить его с Десмоном, с домом Свенсонов. Нет, спасибо, сам набирать номер их телефона он не хочет, он предпочитает, чтобы его соединили.
Марта подошла к телефону, и он услышал, как радостно она ахнула, когда оператор сказал, что вызывает Вашингтон.
— Не волнуйся, Марта, у меня всё в порядке. Просто захотелось тебе позвонить — у меня есть одна небольшая новость.
— Ох, Джим! — Марта была единственной женщиной, у которой этот возглас получался непритворным и от чистого сердца. — Что за новость?
— А ты можешь мне поклясться, что будешь молчать? Никому ни слова. Даже Чинки. И особенно твоей матери. Это придётся держать в строгом секрете, возможно очень долго…
— Конечно, клянусь, говори же скорей! — нетерпеливо перебила она. Джим представил, как она от нетерпения выгнула дугой брови. Любопытство преображало её лицо, и оно становилось совсем детским. Он представил себе её маленький, типично шведский носик и мягкие пряди волос, которые выбивались из короткой причёски и лезли ей на уши и шею.
— А ты побожись! — Это была их старая игра ещё со времён его ухаживания.
— Клянусь жизнью, что никогда, никому… Ну, Джим, говори же скорей!
— Ладно уж, слушай меня внимательно, — весело сказал он. — Вчера после обеда в Гридироне Марк вызвал меня в Кэмп Дэвид и сказал, что подумывает, не выдвинуть ли мою кандидатуру в вице-президенты!
— Куда? — Восторг её был так непритворен, что она даже взвизгнула.
— В вице-президенты, — гордо повторил он. — Или, точнее, в кандидаты на этот пост от демократической партии. Правда, он рассматривает примерно с десяток и других кандидатур.
— Ох, Джим, ты просто представить себе не можешь, как я тобой горжусь! Я уверена, что в этом списке ты непременно идёшь первым!
Он невольно сравнил такое быстрое признание его шансов с критической оценкой Риты — мнением профессионала — и почувствовал себя немного подавленным. Восторг Марты был не чем иным, как знаком слепой супружеской преданности.
— Ну нет, шансов у меня, я думаю, немного, — сказал он и вздохнул. — Но предположение твоё очень мило.
— А я знаю, что ты пройдёшь, Джим! У меня такое предчувствие, милый! Вице-президент из тебя получится великолепный. У тебя для этого все данные.
Маквейг усмехнулся. Марта говорит ему, что он самый подходящий для этого человек, а Рита — что у него неподходящие мозги. Возможно, обе они по-своему правы.
— Попроси-ка к телефону Чинки. Только ничего ей пока не говори.
— Джейн! — крикнула она нараспев. — С тобой хочет говорить твой папочка.
Послышалось хлопанье по паркету больших, не по ноге, комнатных туфель, и к телефону подлетела его дочка, ещё более запыхавшаяся, чем мать:
— Привет, первый! Ты почему всегда звонишь, когда меня нет поблизости?
Услышав её голос, он невольно улыбнулся и представил себе её карие глаза и здоровый румянецво всю щёку. Он вспомнил, как прозвал её Чинки, когда она была маленьким увальнем, толстушкой с умоляющими глазами и дрожащим подбородком. Неизвестно почему, у неё долго не получался звук «п», который она всегда заменяла на «ч», и когда ей хотелось пить, она жалобно протягивала крохотную ладошку и просила: «Чить хочу, чить». Теперь она ходила, широко расставляя ноги, как манекенщицы в модных журналах, и конский хвост причёски доходил ей до самой попки. Волосы у неё были перевязаны широкими резиновыми лентами.
— Я так по тебе соскучился, Чинки, — сказал он. — Если бы у меня была орхидея, то сегодня вечером я бы поставил её перед твоим портретом!
— Ты всегда шутишь, пап! — радостно засопела она. — И отчего это только я так тебя люблю! Наверное от слабоумия.
— Ты ещё не раздумала возвратиться во вторник? Хоть коэффициент умственного развития у тебя сто двадцать, но пропускать школу по целым неделям — это уж слишком!
— Сто двадцать четыре, противный ты гангстер! — взвизгнула Чинки. — Ой, пап, ты ещё не слышал Порки Джонса на долгоиграющих?
— Ещё не имел такого удовольствия, вернее такого наказания. А кто он такой?
— Кто такой Порки Джонс? Да на каких задворках цивилизации ты скрываешься? Наверное прячешься с какой-нибудь скво? — Джим съёжился, словно получил пощёчину. — Да ведь Порки — это же ударник, глупый, он просто чудо! Ма разрешила мне купить альбом. Весь целиком. Вот подожди, скоро послушаешь.
— О’кэй, Чинки. Значит во вторник вечером, так, что ли?
— Правильно, пап. Мы прилетим на самолёте. Пока.
Джиму стало так хорошо, что он нехотя положил трубку, — отпускать возникший перед ним образ Чинки ему не хотелось. Потом он вспомнил о проекте доклада, который дожидался его наверху в кабинете. Чёрт с ним, подумал он. Можно будет приготовить его и завтра. Он переоделся в пижаму, откинул шторы и увидел, что на улице падает лёгкий, пушистый снег. Танцующие снежинки освещались на мгновение светом из его окна и снова пропадали где-то внизу. Сенатор заснул сразу же, как только очутился в неубранной постели, и последней его мыслью было то, что у президента Холленбаха имеется список и что его имя тоже стоит в этом списке.
В среду, за полчаса до начала пресс-конференции президента Холленбаха, под высокими сводами конференц-зала госдепартамента стали собираться корреспонденты. У входа они предъявляли охране удостоверения с наклеенными на них цветными фотографиями и с треском захлопывали бумажники, разбившись на небольшие группы, оживлённо болтали в застеклённом холле, а затем растекались вдоль проходов.
ГЛАВА 3. СПИСОК
По неписаному закону, представители прессы, аккредитованные при Белом доме, имели свои постоянные места. Металлические дощечки на спинках кресел первого ряда свидетельствовали о приоритете крупнейших органов печати и радио: Ассошиэйтед пресс, Радиовещательная компания Колумбия, Национальная радиовещательная компания, Американская радиовещательная корпорация, «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», «Вашингтон стар», «Балтимора сан», чикагские, лос-анжелесские газеты и десятки других, включая такие крупные журнальные издательства, как Скрипс-Говард, Ньюхауз, Каулз, Херст, Найт, Гэннет и Копли. Корреспонденты иностранных газет собирались обособленными кружками, в которые лишь иногда прорывался какой-нибудь местный репортёр, прикреплённый к тому или иному посольству и желавший усовершенствовать своё французское или итальянское произношение. В заднем ряду сидели человек десять японских бизнесменов. Все они были в очках в чёрной роговой оправе и все как один расточали вокруг ослепительные улыбки. В Штаты они приехали в составе торговой делегации, а на пресс-конференцию явились по личному приглашению президента. В десять тридцать утра пресс-конференцию должны были транслировать по телевидению, поэтому за пять минут до начала все корреспонденты и гости уже сидели на местах. Вдоль первого прохода расхаживал служащий галереи представителей печати Конгресса. В поднятой руке он держал белый картон с цифрой 412 — общим числом присутствующих в зале. Это необычно высокое число уже само по себе свидетельствовало о предстоящей сенсации. Со времени последней пресс-конференции президента прошло три недели, и скандальная атмосфера, связанная с делом вице-президента Патрика О’Мэлли, накалилась до предела. В зале нависло злорадное ожидание. Один из операторов телестудии встал в последний раз позади президентского подиума с гербом Соединённых Штатов, чтобы его коллеги смогли проверить настройку экспонометров и фокусировку телекамер. Наверху, в застеклённых будках, радиокомментаторы бросали беспокойные взгляды на секундную стрелку часов и лихорадочно импровизировали в свои микрофоны. По обеим сторонам сцены появились два агента секретной службы. В зале воцарилась тишина. Часы громко пробили десять тридцать. При первом их ударе из левого угла сцены вышел президент Холленбах и быстро проследовал к президентскому подиуму. Президент шагал упруго и стремительно. Двум его пресс-секретарям — негру и белому — приходилось почти бежать, чтобы поспеть за ним. На президенте был безукоризненно отутюженный коричневый однобортный костюм. Галстук был тонкой ручной работы, в тон костюму. Волосы цвета гравия были аккуратно подстрижены. Президент поднялся в подиум, и мгновенно послышался дружный скрип кресел — все присутствовавшие одновременно поднялись. Холленбах сморщил худощавое лицо в признательной улыбке в ответ на этот традиционный салют. Он извлёк из папки отпечатанный на машинке лист и заговорил в обращённые к нему многочисленные микрофоны: — Благодарю вас, леди и джентльмены! Прошу всех сесть. Сейчас я прочитаю заявление. Записывать ничего не нужно, при выходе из зала вам будут розданы копии. Хочу вас заранее предупредить, что это заявление — окончательное. Я отнюдь не желаю пресекать вашу ревностную охоту за новостями, но после того как заявление будет зачитано, ни на какие вопросы на эту тему я отвечать не буду. Итак, заявление. «Вчера вечером у меня состоялась беседа с вице-президентом Патриком О’Мэлли. Во время этой беседы вице-президент вручил мне письмо, в котором заявляет, что он ни при каких обстоятельствах не может допустить повторного выдвижения его кандидатуры в вице-президенты страны на предстоящем съезде демократической партии в Детройте. Поскольку это письмо носит личный характер, я не имею возможности раскрыть вам его полного содержания. В своём письме мистер О’Мэлли признаёт, что его поведение при строительстве спортивной арены стадиона Кеннеди не отвечает моральному кодексу должностных лиц, объявленному правительством вскоре после моего вступления на пост президента. Этот кодекс был в своё время опубликован. Во время вчерашней беседы вице-президент О’Мэлли изложил мне свою точку зрения устно. Хотя мне и жаль, что известные обстоятельства непоправимо скомпрометировали вице-президента, я, тем не менее, считаю, что мистер О’Мэлли поступил правильно, выбрав единственно открытый перед ним путь чести. Я приветствую его решение отказаться от личной карьеры во имя страны и партии. Вместе с тем излишне говорить, что я решительно не одобряю всей этой истории со спортивной ареной. Как президент страны и как кандидат на этот пост на ближайших выборах, я принимаю заявление вице-президента. И хотя решающее слово здесь принадлежит съезду демократической партии, я в своё время представлю делегатам съезда рекомендации касательно того, чью кандидатуру я считаю наиболее пригодной для занятия поста вице-президента США». Человек десять репортёров стремительно вскочили с мест. Соблюдая традиции, Холленбах кивнул корреспонденту Ассошиэйтед пресс — представителю старейшего органа прессы, аккредитованному при Белом доме и занимавшему почётное место в первом ряду. — Мистер президент, не было ли письмо вице-президента подсказано предварительным разговором с вами? Холленбах так вцепился в перила подиума, что в передних рядах было видно, как побелели у него костяшки пальцев. — Отдавая должное вашей старательности, — сказал он, — я всё же попрошу придерживаться официального заявления. Я уже предупреждал: на подобные вопросы я отвечать не буду. Холленбах отвернулся и кивнул Крейгу Спенсу, который приподнялся с места уже при последних словах президента, готовясь задать свой вопрос: — При всём уважении к наложенному вами ограничению, сэр, мы хотели бы знать, когда именно вы собираетесь объявить кандидатуру человека, которого вы желали бы видеть своим помощником? Холленбах любезно кивнул: — Я поставлю делегатов съезда в известность самое позднее в конце июня, то есть за два месяца до съезда. Но имейте в виду, Крейг, последнее слово остаётся за съездом. Я могу лишь рекомендовать. В зале раздался дружный смех. Холленбах едва улыбнулся в ответ, но в его искристых зелёных глазах мелькнул злой огонёк. Согнутым пальцем он подал знак корреспонденту в заднем ряду зала. — Скажите, мистер президент, имеется у вас список кандидатов, которые отвечают вашим требованиям? — Да, имеется. — Не могли бы вы сказать нам, сэр, сколько человек в списке? — Семь. — Только семь? — Это количество может, безусловно, измениться. К счастью, господь наделил вашу партию (я хотел бы иметь возможность сказать то же самое и о республиканцах) таким количеством талантов, что кандидатов хоть отбавляй! Сидевший справа от Крейга представитель прессы прошептал: — Марк раскрылся, как боксёр на ринге. Завтра же все республиканские газеты напечатают отчёт о сегодняшней конференции под заголовком «Белоснежка и семь гномов»! Крейг лучезарно улыбнулся: — Этого не случится, если мне удастся напечатать свой материал первым. Я украду у вас этот восхитительный заголовок. Следующие пятнадцать минут корреспонденты старались выведать у Холленбаха как можно больше, но президент решительно пресекал все их попытки. Нет, имён он не назовёт. У себя в кабинете, в старом здании Сената, Джим Маквейг выключил портативный телевизор и задумчиво уставился на экран, наблюдая, как конференц-зал госдепартамента превращается в светящуюся точку. Итак, десяток возможных, по словам Джо Донована, кандидатур, сократился теперь до семи. И один из этих семи — он. Только так ли это? Да, он уверен, что так, и значит шансы его теперь один к шести. Судя по тому, что говорил ему Марк в ночь с субботы на воскресенье, Карпера и Никольсона в этом списке нет. Это устраняет весьма серьёзных соперников. Кто же всё-таки шестеро других? Он снял с книжной полки справочник конгресса и стал просматривать списки сенаторов, членов кабинета министров, затем список губернаторов. Шесть кандидатов? Ему удалось найти только трёх, которые, по его мнению, могли бы найти контакт с такой сложной личностью, как президент Холленбах. Он ощутил жар, похожий на предвестник лихорадки. Господи, как мучительно это неведение! Он подошёл к окну и стал смотреть вниз на уличное движение по Конститьюшн-авеню. Рита оказалась права. Клоп тщеславия кусал его во всю мочь, и от него было невозможно отделаться. Рита! Как нужна она ему сегодня вечером! Мысленно он упрекнул Марту за то, что она позвонила ему утром и сказала, что они с Чинки не смогут вернуться домой до субботы. Мама подхватила грипп, сказала Марта, и она не будет чувствовать себя спокойно, если оставят её в таком состоянии. У женщин её возраста простуда так легко переходит в пневмонию, добавила Марта, и он согласился с этим, а про себя подумал: чёрт бы её побрал, надо же было простудиться именно теперь. Это делало его беззащитным и уязвимым. Марта могла защитить его от искушения уже одним своим присутствием. Он разозлился. Не раздумывая, Маквейг потянулся к своему личному телефону, не связанному с коммутаторной станцией Капитолия, и набрал номер национального комитета демократической партии. — Попросите, пожалуйста, миссис Красицкую. Она ответила своим обычным грудным голосом, и он словно ощутил прикосновение атласа к коже. — Приёмная мистера Донована. — Рита, это я. Что ты думаешь делать сегодня вечером? Наступило молчание. Слышно было только звяканье тонких золотых браслетов у неё на запястье. — Я зайду к тебе после работы. Принесу с собой чего-нибудь перекусить. В ответ она заговорила очень тихо, и он догадался, что Рита повернулась спиной к кому-то в приёмной. — Ведь мы же решили, что с этим всё покончено! Было слышно, как она тяжело и прерывисто дышит. — Ведь рана ещё совсем свежая, Джим, она не затянулась. — Это всего лишь царапина, детка, — утешил он. — Мы быстро её залечим. Я знаю хорошее средство. — Джим, прошу тебя. Ты хочешь, чтобы мне потом опять было больно? — Ты мне нужна, Рита! — Это что, необходимость или желание? — А какая разница? — Очень большая. — Она продолжала говорить шёпотом. — Не будь жестоким, Джим! — Но я вовсе не жесток. Я добрый, ведь ты сама мне в этом призналась. — Милый, я так хочу тебя видеть! — Значит, решено, в половине седьмого? — Нет, давай лучше в семь. Денёк тут у нас выдался сегодня — ой-ой. — Есть. Коктейли будут поданы ровно в семь. До скорой встречи! — До вечера, милый! Повесив трубку, он почувствовал, что не испытывает привычного напряжённого ожидания, которое всегда возникало в нём в предвкушении встречи. Наоборот, он ощущал какую-то подавленность. Она сказала, что ей больно! Он вдруг подумал, что в воскресенье нисколько не щадил её. Он просто сбежал по ступенькам, почти не думая о том, что оставляет позади, и всю обратную дорогу в Маклин мысли его были сосредоточены только на вице-президентстве, на своей собственной персоне и на том, как хорошо, что между ним и Ритой всё кончено. А теперь он снова вернётся в Джорджтаун и вонзит нож в женщину, которая согласилась расстаться без слова упрёка. Резко задребезжал звонок — в Сенате начиналось очередное заседание. Маквейг заглянул в настольный календарь, чтобы узнать, какой вопрос будет сегодня обсуждаться. Оказалось — законопроект об ассигнованиях на строительство государственных зданий в некоторых штатах. Ему надо было находиться на своём месте в сенатской комиссии. Он нажал кнопку звонка и стал дожидаться появления своего секретаря, Роджера Карлсона. Карлсон, громадного роста молодой человек с волосами цвета спелой пшеницы, бывший нападающий баскетбольной команды университета штата Айова, вошёл в кабинет, держа в руках толстую папку. — Большая часть этой белиберды касается строительства в Дэйвенпорте, — сказал он, — но тут вы найдёте материалы по остальным проектам. Карлсон передал сенатору папку и остался стоять перед ним, упираясь своими большими ладонями в край письменного стола. Карлсон явился без пиджака, в одной рубашке, галстук под расстёгнутым воротом сбился набок. Три года жизни в Вашингтоне сделали своё — Карлсон разжирел. — Держу пари, вы тоже в этом списке, Джим! Правильно? — Он посмотрел на Маквейга, стараясь прочитать в его взгляде подтверждение. Карлсон был без ума от политических интриг, и если его не информировали о каком-нибудь событии, считал это личным оскорблением. — Как вы до этого додумались, Флип? — Сенатору нравился его секретарь, его всегда забавлял жар, с которым тот играл в игру, называемую политикой. Иногда Джиму приходила в голову забавная мысль: если бы они с Карлсоном поменялись ролями, толку было бы больше. Сенатор давно подозревал, что та же мысль приходила в голову и Карлсону. — Методом исключения, Джим. Может, хотите пари? — Нет, уж лучше не надо. Доказать всё равно ничего нельзя. Когда Марк объявит о своём выборе, мы всё равно не узнаем, кто были остальные шестеро. — Как хотите. А то могу поставить своп десять долларов против ваших тридцати. — Чтобы я поставил тридцать монет против самого себя? Нет, увольте, Флип, у меня есть заботы поважнее. А теперь убирайте-ка со стола свои окорока и дайте мне пройти. Я иду на заседание. Карлсон открыл перед ним дверь и, уже стоя на пороге, спросил: — Признайтесь, Джим, вас ведь тоже немного покусывает? — Угадали, немного покусывает, но, к сожалению, не так сильно, как вас. Он спустился вниз, сел в вагончик метро, соединяющего здание сената с Капитолием. Войдя в здание Капитолия, он направился к лифту с надписью «Только для сенаторов», поднялся до этажа, где происходило заседание, и уселся в заднем ряду демократической фракции за столом красного дерева. Неподалёку лидеры обеих партий пререкались но поводу какого-то неясного процедурного пункта. Они стояли друг против друга с выражением вежливой непреклонности и говорили такими слабыми голосами, словно проспорили относительно этого пункта всю ночь, но, впрочем, готовы продолжать спор сколько угодно, пока не рассеется туман неясности. Джим поднёс ко рту руку и украдкой зевнул. Парламентская рутина давно уже надоела ему до смерти. Наверное, он так никогда и не привыкнет к ней. Из-за незнания парламентского устава он уже умудрился проиграть несколько стычек, после чего стал приводить с собой Флипа Карлсона и сажать его рядом на тот случай, если парламентская путаница станет угрожать его редким законодательным дерзаниям. Карлсон знал парламентский устав назубок, как мальчишки знают всех игроков сборной по хоккею. К Маквейгу подошёл служащий сената, одетый в чёрные брюки и белую рубашку, и почтительно зашептал ему на ухо. В вестибюле его желал видеть старший корреспондент Юнайтед пресс интернейшнл, аккредитованный при Белом доме. Обрадовавшись тому, что он хоть на время избавится от гнусавого спора лидеров относительно правильного толкования устава, Маквейг вышел в комнату президента, где висел огромный золочёный канделябр и поблёкшие стены были расписаны в стиле рококо. Корреспондента Юнайтед пресс интернейшнл интересовало, кого Маквейг считает наиболее подходящим кандидатом на пост вице-президента, что он думает по поводу отставки О’Мэлли, имеет ли он основания полагать, что его имя тоже находится в списке президента, догадывается ли, на кого падёт окончательный выбор Холленбаха. Маквейг отвечал ему бойко, но осторожно, умело обходя острые углы и стараясь отвечать вполне искренне, не говоря по существу ничего. Давать интервью — было своего рода искусством, и Джима радовало, что это искусство ему по плечу. Корреспондент, малорослый и худосочный человечек, быстро записывал ответы сенатора полустенографией, изредка отрываясь от блокнота и взглядывая на Маквейга. Затем, поблагодарив его и пожав на прощание руку, он с такой прытью помчался к лифту для представителей прессы, словно за ним гнались демоны. Интервью Маквейга послужило как бы сигналом. По мере того как среди представителей прессы назревала реакция на заявление президента Холленбаха — величайшую политическую сенсацию года, — был опрошен каждый сенатор, попавший в поле зрения репортёров. Сенаторы наслаждались этой азартной политической игрой. И общественные работы на благо нации оказались забыты. Этот яростный натиск представителей прессы на сенаторов объяснялся ещё и тем, что корреспонденты не могли разыскать вице-президента О’Мэлли, скрывшегося неизвестно куда. Маквейгу столько раз пришлось отвечать на одни и те же вопросы, что он успел отработать свои ответы и даже ввёртывал неплохие остроты. В полдень Маквейга вызвал из зала заседания Крейг Спенс. Они встретились в малом вестибюле у центрального входа. По бокам находились глубокие ниши, первоначально предназначавшиеся для статуй. Теперь в них стояли кожаные кресла, и сенаторы могли принимать там посетителей. Корреспондент стоял, засунув руки в карманы. Спенс нравился сенатору, с ним он всегда чувствовал себя непринуждённо. Обычно само собой разумелось, что разговор их не предназначается для печати, кроме тех случаев, когда журналист просил разрешения опубликовать тот или иной материал. — Здравствуйте, Джим! У меня есть сведения, что во время вчерашней беседы Марк вытряхнул душу из О’Мэлли. Вы ничего не слыхали? — Нет, не слыхал. Но я бы нисколько не удивился. Мне известно, что Холленбах чертовски зол на Пата, я бы даже сказал — чересчур. Пат, конечно, здорово себя скомпрометировал, но ведь, в конце концов, он не ограбил казначейство и не раздел никого на улице! — Вы хотите сказать, что президент злится больше, чем на то есть причины? — Спенс прислонился к стенке и настороженно посмотрел на сенатора. Маквейг вспомнил Аспенлодж, мерцающий огонь в камине и красные пятна на лице Холленбаха, когда он обрушился на О ’Молли.
— Да, мне кажется, это так. Только почему — не знаю.
— Забавно! — сказал Спенс. — Такой же слушок дошёл до меня сегодня из другого источника. Интересно, какая муха его укусила?
— Мне тоже хотелось бы это знать. Тем более что это не в характере Марка. Обычно он идеально владеет собой.
— Кстати, Джим. Если вспомнить о «белоснежке и семи гномах…» У вас есть основания надеяться, что вы тоже в списке?
Маквейг задумался. Вводить Крейга в заблуждение ему не хотелось, но рассказывать ему о свидании с президентом было опасно.
— Про список мне ничего неизвестно, Крейг. Вот Флип Карлсон уверен, что я в нём есть, но это всего лишь его фантазия. Говорит, что додумался до этого методом исключения. Так лучше считать, что ничего определённого мне не известно.
— Вы должны быть в этом списке, за это говорит сама логика!
— Скажите, Крейг, только на этот раз не как друг, а как посторонний человек, понимающий в этом толк. Считаете вы меня подходящим кандидатом? Только прошу вас ответить честно.
Крейг удивился:
— Так значит вы относитесь к этому серьёзно? Что ж, Джим, вы просите честного ответа, и я постараюсь ответить честно. Думаю, что для этого у вас есть все данные. Вы человек неглупый, честный, стараетесь поступать правильно. Но только, как бы это, чёрт побери, вам сказать! В общем, вы плохо справляетесь с домашними заданиями, Джим. В вас ещё очень много от мотылька.
— Мотылька?
Крейг пожал плечами:
— Я не имею в виду женщин. Равнодушны вы к ним или нет, это меня не касается. — Он подмигнул. — Об этом я ничего не знаю. Я говорю о вашем поведении в целом. Вы очень легкомысленно ко всему относитесь.
Маквейг улыбнулся, но улыбка получилась невесёлая:
— Вы все прямо как сговорились. Двое других друзей сказали мне недавно то же самое.
— Но не забывайте о ваших данных, дорогой. — Спенс игриво ткнул сенатора кулаком в плечо. — Лично я с удовольствием поглядел бы, как вы приметесь за работу!
С минуту оба помолчали, смущённые этим неожиданным углублением в характер Маквейга. Старые друзья обычно принимают друг друга такими, как есть, — Маквейг пожалел, что заставил Крейга преступить границу.
— Позвольте мне задать вам ещё один вопрос, Джим. Допустим, Марк на этот раз действительно вышел; из себя. А не приходилось ли вам слышать, что такое с ним бывало и раньше?
— Нет… не приходилось. А почему вы спрашиваете?
— Да просто так. Непохоже на Марка, чтобы он терял над собой власть.
Сквозь вертящиеся двери вестибюля проскочил рассыльный и почтительно остановился невдалеке, ожидая, когда сенатор закончит разговор. Крейг показал на него глазами, пожал Маквейгу руку и ушёл.
— Вас вызывает Белый дом, сэр, — сказал служащий. — Кабина номер пять в гардеробе.
Сняв трубку, Маквейг услышал голос Роз Эллен, личного секретаря президента. Роз говорила с мягким акцентом уроженки Алабамы, в котором отсутствовал звук «р».
— Сенатог’ Маквейг, пг’езндент пг’осит вас зайти к нему в четыг’е тг’идцать. Если это, конечно, не повг’едит вашему г’асписанию, сэ’г.
— Непременно зайду, Роз Эллен, если бы даже и повредило. Вы сказали — в четыре тридцать?
— Да. Пг’езидент ещё пг’осил вас поставить автомобиль у задних вог’от и пг’ойти к нему чег’ез г’озовый сад. Мы сегодня немного не в себе, сенатог’, — добавила она, хихикнув.
Что это? За пять дней два вызова подряд, больше, чем ему приходилось говорить с президентом за весь прошлый год. Не переставая размышлять об этом, он вернулся к себе в кабинет, подиктовал с полчаса стенографистке, потом вышел на Конститьюшен-авеню, нанял такси и поехал в Белый дом.
У задних ворот Белого дома, выходящих на Ист Экзе-кьютив-авеню, его пропустил агент охраны, и он направился по извилистой асфальтированной дорожке к заднему подъезду дома. Снег давно уже растаял, ярко светило послеполуденное солнце, заливая лужайку перед подъездом золотистым светом. В воздухе ещё не пахло весной, но вода в фонтане уже рассыпалась бесчисленными пузырьками, и влажно блестели широкие листья магнолий. От этой картины веяло пасторальным покоем, шум транспорта, доносившийся из-за железной ограды, почти не был слышен. У входа в розовый сад дежурил агент секретной службы. Это был Лютер Смит. Завидев сенатора, он улыбнулся ему как старому знакомому, обнажив ослепительные зубы, выделявшиеся на его тёмном лице.
— Он вас уже ожидает. — Смит кивнул головой на кабинет Холленбаха под аркой.
Марк Холленбах вышел ему навстречу. Они обменялись рукопожатием, и Джим невольно поморщился; пожатие руки президента оказалось железным. Потом они прошли в овальный кабинет, и президент усадил Маквейга в кресло с короткой спинкой, стоявшее перед его столом. Зелёные глаза Холленбаха излучали свет, сухощавое лицо дышало энтузиазмом. Опять загорелся новым проектом, подумал Маквейг. И где только он черпает свою неослабевающую энергию? Было уже половина пятого, и человек в его возрасте, казалось, должен бы испытывать усталость после напряжённого рабочего дня.
— Итак, Джим, я уже решил, кого мне рекомендовать в вице-президенты! — Холленбах крепко сжал концы пальцев обеих рук вместе, сложив из них треугольник.
Маквейг выжидающе молчал.
— Сегодня на пресс-конференции я заявил, что рассматриваю семь кандидатур. И я сказал им правду, но чем больше я задумываюсь над этим вопросом, тем больше мои мысли обращаются к вам.
Маквейга вдруг пронизала дрожь, как будто сквозь него пропустили электрический ток. Потрясение было настолько сильным, что он долго не мог вымолвить ни слова. Холленбах улыбнулся, видя его реакцию, потом встал и остался стоять у стола, доложив руки на спинку вращающегося кожаного кресла.
— Прежде всего вы человек с политическим чутьём, Джим, но дело не только в этом. У меня есть несколько генеральных планов, которые я намерен провести в жизнь во время второго срока. Поэтому мне совершенно необходим партнёр с вашей молодостью, энергией, ну и, конечно, умом. У вас есть все эти три качества, Джим, и, кроме того, вы обладаете ещё одним большим достоинством. Вы не связали себя накрепко ни с какой определённой идеологией, не имеете предубеждений, не завязли в трясине философии. Короче говоря, у вас свободный, ничем не ограниченный ум — именно то, что мне так будет нужно во время второго срока.
Свободный ум? Джим еле понимал, что говорил ему президент, слова текли с такой быстротой. А вот Рита считает, что его ум непривычен к работе, да и Крейг Спенс, по-видимому, тоже с нею согласен. Итак, у него свободный ум? Это его порадовало.
— Пока ещё рано объявлять о вас открыто. — Президент говорил торопливо, увлечённый собственными планами. — Сегодня утром я сказал корреспондентам, что это успеется и в июне. За это время обстановка может, конечно, перемениться, но пока я считаю, что вы — единственно подходящий человек. А теперь слушайте, как, по-моему, следует действовать.
Джим почувствовал, что голова у него идёт кругом. Президент стоял на фоне большого окна, освещаемый закатом, который смягчал очертания кустарника и расстилался по лужайке оранжевой дымкой. Маквейг смотрел на президента не отрываясь, как загипнотизированный.
— Сегодня вечером я хочу осторожно намекнуть Доновану, что считаю вас подходящей кандидатурой, — пусть в комитете партии привыкнут к этой мысли. Потом мы выберем вас на первичных выборах. В штате Нью-Хэмшпир об этом, конечно, не может быть и речи. Мы постараемся провести вашу кандидатуру в Висконсине и Индиане, а возможно, и в Орегоне. Когда распространится слух, что я поддерживаю вашу кандидатуру, комитет национальной демократической партии нажмёт на все педали. Ну а если меня спросят об этом на пресс-конференции, то я ничем себя не выдам, просто отвечу, что у нас — свободная страна и независимая партия. Таким образом, всё произойдёт как бы само собой, и когда в ноябре мы победили на выборах, то вы просто займёте этот пост.
Возбуждение постепенно прошло, и Джим стал внимательно прислушиваться. Ах ты, старая лиса, думал он. Выходит, если я провалюсь на первичных выборах, это будет целиком моя вина, а если выиграю — целиком твоя заслуга, и, значит, я буду обязан тебе на весь срок правления! Какое же отвратительное ремесло — эта политика!
— Итак, всё устроится самым наилучшим образом. — Холленбах уселся за стол и внимательно посмотрел на Маквейга. — Когда в конце июня я объявлю о своём выборе, все скажут, что мне просто ничего другого не оставалось делать. Скажут, что вы это заслужили.
— Ну а как мне вести себя? До июня никому нельзя будет говорить, что вы решили рекомендовать меня?
— Ни в коем случае. Надо, чтобы этот спектакль был целиком ваш — демонстрацией вашей силы в партии!
Моей силы? Джим мысленно рассмеялся. Нечего сказать — его спектакль!
— Слушайте меня, Джим! Мне не даёт покоя новая идея. И я хочу, чтобы вы внимательно меня выслушали! — Джим посмотрел на президента и увидел, что глаза Марка впились в него. Новая идея, по-видимому, сжигала Марка, лицо его пылало. — Вы не смогли бы опять приехать ко мне в Кэмп Дэвид в субботу вечером? Скажем, около девяти?
— Конечно, мистер президент, — ответил Маквейг и подумал, что он скажет Марте и Чинки, которые приезжают домой как раз в субботу.
— Значит, решено! Я скажу Лютеру Смиту, чтобы он заехал за вами домой в начале восьмого. Там, подальше от всего этого, мы всё спокойно обсудим. — И Холленбах обвёл рукой овальный кабинет, как бы указывая на тысячи досадных неприятностей, связанных с его должностью.
Президент вышел из-за стола, мягко взял сенатора за локоть, увлекая его через дверь в розовый сад.
— Я рад, что мы сможем обделать это дельце без излишних проволочек, Джим! Я немедленно позвоню Доновану и узнаю, что мы можем сделать для вас в Висконсине.
Это было как сон наяву. Маквейг шёл по лужайке, не чувствуя под собой ног. Он уже прошёл половину асфальтовой дорожки, когда вспомнил, что его так и не спросили, согласен ли он занять этот пост. Ему просто приказали занять его. При этой мысли он мгновенно ощетинился. Но тут же досада снова уступила место ликованию. Он перешёл Ист Экзекъютив-авеню и направился в сторону министерства финансов. Наступил вечер, на улицах появились оранжевые круги фонарей, кругом нетерпеливо сновали автомобили. Он подумал, не подняться ли ему по Пенсильвания-авеню к Капитолию, но потом передумал и зашёл в бар Виллард-отеля.
С первым глотком крепкого мартини он вспомнил о Рите. Именно мартини договорились они пить у неё в семь часов. Господи, но её мог же он ехать к ней теперь, когда до вице-президентства рукой подать! Риск был слишком велик. Да и Марку он не мог рассказать об этом! Хорошо бы он выглядел!
Одним глотком он осушил бокал мартини и заказал новую порцию. Так же лихорадочно он проглотил и второй бокал, и стал рыться в карманах в поисках монеты.
К тому времени, когда он добрался до телефонной будки, он уже чувствовал горячее участие к простофилям-мужчинам. Будь она проклята, вся эта женская чувствительность!
Когда Рита сияла трубку, голос у неё был подавленный.
— Это опять Джим, — сказал он, — всё тот же обманщик. Знаешь, нашу сегодняшнюю встречу всё-таки придётся отменить. Мне страшно не хочется этого делать, но произошло нечто очень важное.
— Я уже знаю. — Тон был ледяной. — Мистеру Доновану только что звонили из Белого дома.
— Я знал, что ты поймёшь, Рита. Что ж, значит, говорить нам больше не о чем.
— Вот как! Ну а я считаю, что есть!
Теперь она говорила с такой яростью, что каждое слово отдавалось у него в мозгу, как удары молота.
— Нет, ты не просто обманщик! Ты молокосос, себялюбивый выродок, у которого столько же характера, сколько у мокрой курицы! Будь я на месте твоей жены, я бы вышвырнула тебя из дому. — Её так и распирало от злости, она с трудом перевела дыхание. — Вот что я тебе скажу, любовничек! Если ты хоть раз ещё мне позвонишь — под любым предлогом, — то я вызову полицию и корреспондента Ассошиэйтед пресс одновременно!
Она швырнула трубку на рычаг. Джим глупо уставился на аппарат. Голос её продолжал звенеть в ушах, отдаваясь в скуле, как зубная боль.
Он не помнил, как нашёл такси и добрался до дома. В эту ночь он по-настоящему напился, впервые за два последних года. Последней его мыслью перед тем, как он заснул пьяным сном, была мысль о Кобо-холле и о блестящей вступительной речи, которую он произнесёт в ноябре перед избирателями, и о том, что Рита Красицкая, Марк Холленбах и шесть неизвестных гномов могут убираться ко всем чертям!
Маквейг вспомнил Аспенлодж, мерцающий огонь в камине и красные пятна на лице Холленбаха, когда он обрушился на О ’Молли.
— Да, мне кажется, это так. Только почему — не знаю.
— Забавно! — сказал Спенс. — Такой же слушок дошёл до меня сегодня из другого источника. Интересно, какая муха его укусила?
— Мне тоже хотелось бы это знать. Тем более что это не в характере Марка. Обычно он идеально владеет собой.
— Кстати, Джим. Если вспомнить о «белоснежке и семи гномах…» У вас есть основания надеяться, что вы тоже в списке?
Маквейг задумался. Вводить Крейга в заблуждение ему не хотелось, но рассказывать ему о свидании с президентом было опасно.
— Про список мне ничего неизвестно, Крейг. Вот Флип Карлсон уверен, что я в нём есть, но это всего лишь его фантазия. Говорит, что додумался до этого методом исключения. Так лучше считать, что ничего определённого мне не известно.
— Вы должны быть в этом списке, за это говорит сама логика!
— Скажите, Крейг, только на этот раз не как друг, а как посторонний человек, понимающий в этом толк. Считаете вы меня подходящим кандидатом? Только прошу вас ответить честно.
Крейг удивился:
— Так значит вы относитесь к этому серьёзно? Что ж, Джим, вы просите честного ответа, и я постараюсь ответить честно. Думаю, что для этого у вас есть все данные. Вы человек неглупый, честный, стараетесь поступать правильно. Но только, как бы это, чёрт побери, вам сказать! В общем, вы плохо справляетесь с домашними заданиями, Джим. В вас ещё очень много от мотылька.
— Мотылька?
Крейг пожал плечами:
— Я не имею в виду женщин. Равнодушны вы к ним или нет, это меня не касается. — Он подмигнул. — Об этом я ничего не знаю. Я говорю о вашем поведении в целом. Вы очень легкомысленно ко всему относитесь.
Маквейг улыбнулся, но улыбка получилась невесёлая:
— Вы все прямо как сговорились. Двое других друзей сказали мне недавно то же самое.
— Но не забывайте о ваших данных, дорогой. — Спенс игриво ткнул сенатора кулаком в плечо. — Лично я с удовольствием поглядел бы, как вы приметесь за работу!
С минуту оба помолчали, смущённые этим неожиданным углублением в характер Маквейга. Старые друзья обычно принимают друг друга такими, как есть, — Маквейг пожалел, что заставил Крейга преступить границу.
— Позвольте мне задать вам ещё один вопрос, Джим. Допустим, Марк на этот раз действительно вышел; из себя. А не приходилось ли вам слышать, что такое с ним бывало и раньше?
— Нет… не приходилось. А почему вы спрашиваете?
— Да просто так. Непохоже на Марка, чтобы он терял над собой власть.
Сквозь вертящиеся двери вестибюля проскочил рассыльный и почтительно остановился невдалеке, ожидая, когда сенатор закончит разговор. Крейг показал на него глазами, пожал Маквейгу руку и ушёл.
— Вас вызывает Белый дом, сэр, — сказал служащий. — Кабина номер пять в гардеробе.
Сняв трубку, Маквейг услышал голос Роз Эллен, личного секретаря президента. Роз говорила с мягким акцентом уроженки Алабамы, в котором отсутствовал звук «р».
— Сенатог’ Маквейг, пг’езндент пг’осит вас зайти к нему в четыг’е тг’идцать. Если это, конечно, не повг’едит вашему г’асписанию, сэ’г.
— Непременно зайду, Роз Эллен, если бы даже и повредило. Вы сказали — в четыре тридцать?
— Да. Пг’езидент ещё пг’осил вас поставить автомобиль у задних вог’от и пг’ойти к нему чег’ез г’озовый сад. Мы сегодня немного не в себе, сенатог’, — добавила она, хихикнув.
Что это? За пять дней два вызова подряд, больше, чем ему приходилось говорить с президентом за весь прошлый год. Не переставая размышлять об этом, он вернулся к себе в кабинет, подиктовал с полчаса стенографистке, потом вышел на Конститьюшен-авеню, нанял такси и поехал в Белый дом.
У задних ворот Белого дома, выходящих на Ист Экзе-кьютив-авеню, его пропустил агент охраны, и он направился по извилистой асфальтированной дорожке к заднему подъезду дома. Снег давно уже растаял, ярко светило послеполуденное солнце, заливая лужайку перед подъездом золотистым светом. В воздухе ещё не пахло весной, но вода в фонтане уже рассыпалась бесчисленными пузырьками, и влажно блестели широкие листья магнолий. От этой картины веяло пасторальным покоем, шум транспорта, доносившийся из-за железной ограды, почти не был слышен. У входа в розовый сад дежурил агент секретной службы. Это был Лютер Смит. Завидев сенатора, он улыбнулся ему как старому знакомому, обнажив ослепительные зубы, выделявшиеся на его тёмном лице.
— Он вас уже ожидает. — Смит кивнул головой на кабинет Холленбаха под аркой.
Марк Холленбах вышел ему навстречу. Они обменялись рукопожатием, и Джим невольно поморщился; пожатие руки президента оказалось железным. Потом они прошли в овальный кабинет, и президент усадил Маквейга в кресло с короткой спинкой, стоявшее перед его столом. Зелёные глаза Холленбаха излучали свет, сухощавое лицо дышало энтузиазмом. Опять загорелся новым проектом, подумал Маквейг. И где только он черпает свою неослабевающую энергию? Было уже половина пятого, и человек в его возрасте, казалось, должен бы испытывать усталость после напряжённого рабочего дня.
— Итак, Джим, я уже решил, кого мне рекомендовать в вице-президенты! — Холленбах крепко сжал концы пальцев обеих рук вместе, сложив из них треугольник.
Маквейг выжидающе молчал.
— Сегодня на пресс-конференции я заявил, что рассматриваю семь кандидатур. И я сказал им правду, но чем больше я задумываюсь над этим вопросом, тем больше мои мысли обращаются к вам.
Маквейга вдруг пронизала дрожь, как будто сквозь него пропустили электрический ток. Потрясение было настолько сильным, что он долго не мог вымолвить ни слова. Холленбах улыбнулся, видя его реакцию, потом встал и остался стоять у стола, доложив руки на спинку вращающегося кожаного кресла.
— Прежде всего вы человек с политическим чутьём, Джим, но дело не только в этом. У меня есть несколько генеральных планов, которые я намерен провести в жизнь во время второго срока. Поэтому мне совершенно необходим партнёр с вашей молодостью, энергией, ну и, конечно, умом. У вас есть все эти три качества, Джим, и, кроме того, вы обладаете ещё одним большим достоинством. Вы не связали себя накрепко ни с какой определённой идеологией, не имеете предубеждений, не завязли в трясине философии. Короче говоря, у вас свободный, ничем не ограниченный ум — именно то, что мне так будет нужно во время второго срока.
Свободный ум? Джим еле понимал, что говорил ему президент, слова текли с такой быстротой. А вот Рита считает, что его ум непривычен к работе, да и Крейг Спенс, по-видимому, тоже с нею согласен. Итак, у него свободный ум? Это его порадовало.
— Пока ещё рано объявлять о вас открыто. — Президент говорил торопливо, увлечённый собственными планами. — Сегодня утром я сказал корреспондентам, что это успеется и в июне. За это время обстановка может, конечно, перемениться, но пока я считаю, что вы — единственно подходящий человек. А теперь слушайте, как, по-моему, следует действовать.
Джим почувствовал, что голова у него идёт кругом. Президент стоял на фоне большого окна, освещаемый закатом, который смягчал очертания кустарника и расстилался по лужайке оранжевой дымкой. Маквейг смотрел на президента не отрываясь, как загипнотизированный.
— Сегодня вечером я хочу осторожно намекнуть Доновану, что считаю вас подходящей кандидатурой, — пусть в комитете партии привыкнут к этой мысли. Потом мы выберем вас на первичных выборах. В штате Нью-Хэмшпир об этом, конечно, не может быть и речи. Мы постараемся провести вашу кандидатуру в Висконсине и Индиане, а возможно, и в Орегоне. Когда распространится слух, что я поддерживаю вашу кандидатуру, комитет национальной демократической партии нажмёт на все педали. Ну а если меня спросят об этом на пресс-конференции, то я ничем себя не выдам, просто отвечу, что у нас — свободная страна и независимая партия. Таким образом, всё произойдёт как бы само собой, и когда в ноябре мы победили на выборах, то вы просто займёте этот пост.
Возбуждение постепенно прошло, и Джим стал внимательно прислушиваться. Ах ты, старая лиса, думал он. Выходит, если я провалюсь на первичных выборах, это будет целиком моя вина, а если выиграю — целиком твоя заслуга, и, значит, я буду обязан тебе на весь срок правления! Какое же отвратительное ремесло — эта политика!
— Итак, всё устроится самым наилучшим образом. — Холленбах уселся за стол и внимательно посмотрел на Маквейга. — Когда в конце июня я объявлю о своём выборе, все скажут, что мне просто ничего другого не оставалось делать. Скажут, что вы это заслужили.
— Ну а как мне вести себя? До июня никому нельзя будет говорить, что вы решили рекомендовать меня?
— Ни в коем случае. Надо, чтобы этот спектакль был целиком ваш — демонстрацией вашей силы в партии!
Моей силы? Джим мысленно рассмеялся. Нечего сказать — его спектакль!
— Слушайте меня, Джим! Мне не даёт покоя новая идея. И я хочу, чтобы вы внимательно меня выслушали! — Джим посмотрел на президента и увидел, что глаза Марка впились в него. Новая идея, по-видимому, сжигала Марка, лицо его пылало. — Вы не смогли бы опять приехать ко мне в Кэмп Дэвид в субботу вечером? Скажем, около девяти?
— Конечно, мистер президент, — ответил Маквейг и подумал, что он скажет Марте и Чинки, которые приезжают домой как раз в субботу.
— Значит, решено! Я скажу Лютеру Смиту, чтобы он заехал за вами домой в начале восьмого. Там, подальше от всего этого, мы всё спокойно обсудим. — И Холленбах обвёл рукой овальный кабинет, как бы указывая на тысячи досадных неприятностей, связанных с его должностью.
Президент вышел из-за стола, мягко взял сенатора за локоть, увлекая его через дверь в розовый сад.
— Я рад, что мы сможем обделать это дельце без излишних проволочек, Джим! Я немедленно позвоню Доновану и узнаю, что мы можем сделать для вас в Висконсине.
Это было как сон наяву. Маквейг шёл по лужайке, не чувствуя под собой ног. Он уже прошёл половину асфальтовой дорожки, когда вспомнил, что его так и не спросили, согласен ли он занять этот пост. Ему просто приказали занять его. При этой мысли он мгновенно ощетинился. Но тут же досада снова уступила место ликованию. Он перешёл Ист Экзекъютив-авеню и направился в сторону министерства финансов. Наступил вечер, на улицах появились оранжевые круги фонарей, кругом нетерпеливо сновали автомобили. Он подумал, не подняться ли ему по Пенсильвания-авеню к Капитолию, но потом передумал и зашёл в бар Виллард-отеля.
С первым глотком крепкого мартини он вспомнил о Рите. Именно мартини договорились они пить у неё в семь часов. Господи, но её мог же он ехать к ней теперь, когда до вице-президентства рукой подать! Риск был слишком велик. Да и Марку он не мог рассказать об этом! Хорошо бы он выглядел!
Одним глотком он осушил бокал мартини и заказал новую порцию. Так же лихорадочно он проглотил и второй бокал, и стал рыться в карманах в поисках монеты.
К тому времени, когда он добрался до телефонной будки, он уже чувствовал горячее участие к простофилям-мужчинам. Будь она проклята, вся эта женская чувствительность!
Когда Рита сияла трубку, голос у неё был подавленный.
— Это опять Джим, — сказал он, — всё тот же обманщик. Знаешь, нашу сегодняшнюю встречу всё-таки придётся отменить. Мне страшно не хочется этого делать, но произошло нечто очень важное.
— Я уже знаю. — Тон был ледяной. — Мистеру Доновану только что звонили из Белого дома.
— Я знал, что ты поймёшь, Рита. Что ж, значит, говорить нам больше не о чем.
— Вот как! Ну а я считаю, что есть!
Теперь она говорила с такой яростью, что каждое слово отдавалось у него в мозгу, как удары молота.
— Нет, ты не просто обманщик! Ты молокосос, себялюбивый выродок, у которого столько же характера, сколько у мокрой курицы! Будь я на месте твоей жены, я бы вышвырнула тебя из дому. — Её так и распирало от злости, она с трудом перевела дыхание. — Вот что я тебе скажу, любовничек! Если ты хоть раз ещё мне позвонишь — под любым предлогом, — то я вызову полицию и корреспондента Ассошиэйтед пресс одновременно!
Она швырнула трубку на рычаг. Джим глупо уставился на аппарат. Голос её продолжал звенеть в ушах, отдаваясь в скуле, как зубная боль.
Он не помнил, как нашёл такси и добрался до дома. В эту ночь он по-настоящему напился, впервые за два последних года. Последней его мыслью перед тем, как он заснул пьяным сном, была мысль о Кобо-холле и о блестящей вступительной речи, которую он произнесёт в ноябре перед избирателями, и о том, что Рита Красицкая, Марк Холленбах и шесть неизвестных гномов могут убираться ко всем чертям!
ГЛАВА 4. АСПЕН
В субботу, когда Лютер Смит подъехал в начале восьмого на лимузине и остановился на асфальтовой дорожке у крыльца его дома, Джим был уже наготове, облачённый в вельветовые брюки, фланелевую рубашку и стёганую куртку. Вся минувшая неделя пронеслась как на скачках. Во вторник председатель демократической партии объявил в Эплтоне, что он открывает кампанию в пользу сенатора Джемса Маквейга, который выставит свою кандидатуру на первичных выборах в Висконсине в апреле. На следующий день оказалось, что два бизнесмена из Милуоки создали комитет по агитации среди членов демократической партии в пользу сенатора Маквейга — кандидата на пост вице-президента. Всю субботу Джим проторчал у телефона, отбиваясь от корреспондентов и уверяя их, что он вовсе и не думает выставлять свою кандидатуру. — Я, конечно, польщён дружеским жестом комитета в Висконсине, но я заверяю вас, что эта кампания нисколько мною не поощряется, да и не может поощряться. Рекомендовать демократической партии кандидата на этот пост может только президент Холленбах. Марта и Чинки, прибывшие из Десмона в субботу утром, сначала запротестовали, узнав о его вечерней поездке в Кэмп Дэвид, но когда Джим рассказал Марте о решении президента Холленбаха, жена поцеловала его, немного всплакнула, выстирала и выутюжила его фланелевую рубаху и старые брюки, сокрушаясь между делом, что это совсем неподобающая одежда для свидания с президентом. И Марта и Чинки были очень возбуждены — шквал телефонных звонков взбудоражил весь дом. По дороге в Катоктинские горы Джим сидел вместе со Смитом на переднем сиденье и оживлённо болтал. Он что-то шутливо заметил о привычке Холленбаха сидеть в темноте в своём горном убежище, и Смит ответил, что охране это даже нравится. Несмотря на все предосторожности и соблюдение безопасности, какой-нибудь псих с винтовкой в руках всегда мог взобраться на дальний склон горы. При зажжённом свете силуэт президента в рамке большого окна оказался бы превосходной мишенью. Нет, уж если президенту обязательно надо иметь какую-нибудь причуду, то эта как нельзя лучше устраивает агентов охраны. Услышав таким образом подтверждение рассказа Риты о частых бдениях президента при погашенном свете, Маквейг невольно подумал, не был ли источником её сведений сидящий с ним рядом красивый смуглолицый агент с ослепительной улыбкой. На этот раз никто не вышел его встретить, и Маквейгу пришлось самому постучать в дверь. Приглушённый голос попросил его войти. В комнате опять было темно, и вошедший со света сенатор с трудом разглядел в темноте фигуру президента. Холленбах стоял спиною к Маквейгу в дальнем углу комнаты и смотрел в окно. Снег в долине теперь растаял, остались лишь неровные глыбы поблизости от коттеджа да кое-где вдоль шоссе, под соснами. Высоко над слоем облаков плыл месяц, и тени на вершине горы были очерчены резко, как на гравюре. На яркой горке пылающих углей в камине дымилось большое полено. В комнате пахло горящим орешником. Холленбах отвернулся от окна и подошёл к Маквейгу. Удлинённое лицо его было злым, никакого приветствия на этот раз не последовало. На Холленбахе были брюки цвета хаки и чёрный свитер с высоким воротом, отчего вид у президента был такой, будто он сошёл с фотографии футбольной команды какого-нибудь колледжа. Холленбах порылся в кармане брюк и протянул сенатору измятую газетную вырезку. — Скажите, что за человек Крейг Спенс? — Голос президента звучал резко. Маквейг попытался рассмотреть газетную вырезку, но никак не мог разобрать мелкого шрифта в полумраке комнаты. — Стоило мне сказать на пресс-конференции, что в настоящее время мною рассматриваются семь кандидатур в вице-президенты, как этот Спенс возымел наглость сравнить ситуацию с «Белоснежкой и семью гномами»! Ради дешёвого красного словца он позволяет себе насмехаться над президентом Соединённых Штатов и его правительством! Он, кажется, ваш приятель? — Совершенно верно, мистер президент. — Маквейг хмыкнул. Поведение президента его изумляло. — Но ведь название-то весьма удачно характеризует создавшееся положение. Согласитесь, что это так, сэр. — Так вы, значит, тоже считаете, что это смешно? — гневно уставился на него президент. — Как вам сказать… вообще-то, конечно, это остроумно. — Маквейг неловко замолчал. Если Холленбах сейчас валял дурака, то лучшего актёра не найти в целом мире. — Ну а я тут ничего смешного не вижу! — Голос президента скрежетал. — Я считаю, что это пошлая, недостойная острота, рассчитанная на то, чтобы унизить президента! Белоснежка! Он пытался принизить президента, низвести его до своего собственного уровня, изобразить его таким же ловкачом, как он сам! Маквейг был так ошарашен, что не находил слов. Ему почудилось, что от президента так и пышет яростью, но в темноте ярость эта казалась нереальной, как река без источника. Наступило тягостное молчание. Президент тяжело опустился на диван и кивком головы показал Маквейгу на место рядом с собой. Когда он заговорил, голос его стал ещё более резок: — Я начинаю думать, Джим, нет ли тут заговора, не хотят ли меня дискредитировать в глазах страны… Сначала безобразный поступок О’Мэлли, а теперь вот ещё и это. И, поверьте, всё это не единичные случаи. Я бы мог рассказать вам и о других примерах. — Голос его сорвался, и он перешёл на шёпот. — Многие уже пытались. Я знаю. Мне приходится всё время быть начеку. Это, как сеть, которая стягивается вокруг. Холленбах умолк. Он протянул ноги к камину и мрачно задумался. Маквейг поднял глаза и увидел перед собой его худое лицо в суровых морщинах. Молчание становилось нестерпимым. — К чёртовой матери!!! — взорвался президент. Маквейг никогда ещё не слышал, чтобы Холленбах ругался. — Будь они все прокляты! И этот подонок О’Мэлли! Он был больше, чем вице-президентом, он был членом моей семьи, он знал все секреты правительства! Никогда никакой президент не обращался со своим вице-президентом с такой вежливостью и предупредительностью! И после этого он, как Иуда, повернулся ко мне спиной и пытался принести меня в жертву своим мелким, грязным делишкам. — Президент с трудом перевёл дыхание и продолжал: — Это ещё раз наглядно доказывает необходимость закона, позволяющего таким службам безопасности, как ФБР, следить за телефонными переговорами. Будь у нас такой закон, О’Мэлли никогда не удалось бы состряпать эту сделку. Подключить телефон вице-президента? Джим онемел. Ему показалось, что он ослышался, что это сон, в котором повторяются одни и те же сцены без конца. Человек, сидевший рядом и говоривший с холодной яростью, показался ему вдруг совершенно незнакомым, от самоуверенности и блеска президента Холленбаха не осталось и следа. Какова бы ни была цель этого субботнего совещания, подумал сенатор, цель эта сорвалась. Марку необходимо выспаться и отдохнуть. — Я думаю, мне лучше уехать. Мы сможем поговорить в другой раз. Холленбах вздрогнул. Он круто повернулся к Маквейгу, уставился на него и вдруг расхохотался. Это был тот глубокий, от всего сердца, смех, который сенатору приходилось слышать десятки раз. — Ради бога, простите меня, Джим, — сказал он. — Я не имел права навязывать вам своё плохое настроение. Ведь я пригласил вас сюда для того, чтобы посвятить в свои планы. Слава богу, что вы принадлежите к новому поколению людей! В январе у нас будет абсолютно новенькое правительство с Холленбахом и Маквейгом — со старым и новым игроком в команде. О’Мэлли, Спенсы и прочие будут навсегда забыты. Нам с вами предстоит свершить кучу великих дел, мой мальчик! Холленбах поднялся, сделал несколько больших шагов по комнате и круто повернулся, став спиною к камину. Он стоял, стиснув кулаки, освещаемый лёгким розовым светом тлеющих углей, и странная, одухотворённая улыбка блуждала по его лицу. Джим облегчённо вздохнул, от его неловкого напряжения не осталось и следа, — так бывает, когда в минуту страха кто-нибудь дружески хлопнет тебя по плечу. Перед ним снова стоял тот Марк Холленбах, которого он так хорошо знал и которым восхищался. — Джим, я хочу, — торжественно проговорил президент, — чтобы второй срок моего правления стал сроком величайших свершений! Я хочу окружить себя умными людьми, способными заглянуть далеко вперёд, и, как я уже говорил, вице-президент мне нужен такой, чтобы он не был отягощён предрассудками, легко усваивал новые идеи. Несмотря на процветание нашей страны, наша внешняя политика неблагополучна. Все мы это признаём. В мире происходят огромные, бурные перемены, они нарастают со скоростью, неизвестной доселе в истории! Чтобы выдержать этот яростный шторм, нам необходим прочный якорь. Мы беспрерывно ищем его с конца второй мировой войны! Мы перепробовали всё возможное — помощь малоразвитым странам, военные союзы, политику невмешательства, таможенную войну, но до сих пор прочного якоря так и не нашли! И вот, Джим, мне, кажется, удалось отыскать этот якорь! Я никому не могу рассказать об этом до выборов. Но после вторичного переизбрания я расскажу об этом всем! Президента опять прорвало. На щеках его выступил знакомый румянец, глаза светились, как угли в камине. Теперь он говорил стремительно, лишь изредка поглядывая на Маквейга, а больше обращаясь к широкому окну, словно адресуясь к стоявшей за ним толпе слушателей. — Я назвал эту идею Великимпланом, Джим, или планом Аспена, ибо именно здесь в одну из ночей у меня впервые зародилась эта мысль. Джим смотрел на президента как загипнотизированный. Нервная дрожь пробежала по его телу. Он невольно подался вперёд. — Идея эта состоит в том, чтобы сколотить ядро такой силы, какой ещё не знал мир. Это будет не простой союз, это будет союз политический, экономический и общественный, союз величайших свободных наций земного шара! Холленбах взглянул на Маквейга, и тот понял, что от него ожидается реплика. — Если вы можете назвать такие нации, мистер президент, то вы гений. — Джим старался, чтобы слова его прозвучали беззаботно, но на самом деле энтузиазм президента невольно захватил и его. — Не считая Соединённых Штатов, я могу назвать только Советскую Россию и красный Китай, но, насколько я понимаю, вы ведь говорите не о коммунизме? — Нет! — Холленбах выпрямился и выбросил руку в направлении одного из углов комнаты. — Посмотрите на север, Джим! Канада… Вот где наше спасение! — Союз с Канадой??? — Джим покосился на свои часы: четверть одиннадцатого. Поздновато для таких эксцентрических шуток, подумал он. — Именно с Канадой!!! — Президент привстал и посмотрел на сенатора. В темноте Джим почувствовал всю напряжённость этого взгляда. — Ведь Канада — одна из богатейших стран мира, в недрах её таятся невероятные, неисчислимые богатства! Даже при современном спросе богатства эти неистощимы! Верьте мне, Джим, в следующем веке именно Канада сделается средоточием мирового могущества, и если богатства этой страны правильно эксплуатировать, то их хватит ещё на тысячу лет! В глазах Холленбаха снова появилось то странное выражение, которое вспыхивало в них во время разговора об О’Мэлли и Спенсе. Казалось, президент излучает жар, наполняющий собой всю комнату, такой же реальный, как жар от камина. Джим подивился, почему ему самому никогда не приходилось испытывать такого волнения. Может, именно в этом и заключается разница между вождём и толпой? Пытаясь стряхнуть с себя наваждение, он прервал торопливый монолог президента: — Как я понимаю, это будет некая новая форма империализма? — Да, если хотите, именно так — просвещённый империализм! А в действительности — союз, который поможет выжить обеим странам. Но Канада — лишь часть этого плана, Джим! Канада — это скрытые энергетические ресурсы. Но для идеального союза нам необходима также Скандинавия! — Как вы сказали? — При последних словах президента Маквейг испытал странное ощущение, которое часто появлялось у него во время заседаний его сенатской подкомиссии, когда выступавшие свидетели впадали в непонятный жаргон атомного века. — Скандинавия, Джим! — Голос президента дрожал, он упёрся ладонями в бока. — А точнее — Швеция, Дания, Норвегия и Финляндия. Только они могут дать нам дисциплину и твёрдость характера, в которых мы так отчаянно нуждаемся. Я хорошо знаю эти нации, Джим. Сам я родом из Германии, но предки мои был и шведами, которые впоследствии эмигрировали в Германию… Ведь ваша жена тоже родом из Швеции? Маквейг кивнул, словно в гипнотическом сне. — В таком случае вам должно быть понятно, что я хочу сказать. Канада привнесёт в наш союз мощь, Скандинавия — непоколебимую твёрдость характера. Мой великий план даст нам возможность выжить. Это будет союз практиков, то есть Штатов, — с мощью и непоколебимым характером! Стремительность речи Холленбаха можно было сравнить разве что со скоростью сошедшего с рельсов поезда — не оставалось никаких зазоров, куда Маквейг мог бы всунуться с вопросом. Впрочем, вопросы задавал президент и сам же отвечал на них. Вы спросите, почему не Англия, Джим? Всё, что смогла дать Англия, а в своё время это было немало, Америка уже поглотила. Англия сникла, она занимается теперь самоанализом да предаётся воспоминаниям о своей былой славе. Франция? Франция чересчур легкомысленна и самолюбива, она готова вцепиться в горло из-за любого решения, если оно не исходит от Парижа. Италия обладает культурой, но уж никак не стабильностью и не мощью. Германия, гордая своим индустриальным ростом, опять надменно стремится к мировому господству! Только при слиянии таких держав, как Соединённые Штаты, Канада и Скандинавия, в единый союз, руководимый единым парламентом и возглавляемый одним президентом, мог бы сохраниться мир на века. Президентом такого союза должен стать человек, который живёт великими идеями. Таков этот великий план. Именно ему посвятит Холленбах весь второй срок своего правления, а если понадобится — и всю свою жизнь! Это единственно осмысленный оплот против проникновения коммунизма в Африку, Азию и Латинскую Америку! Во главе такого союза Америка сможет устоять и увидеть новый расцвет. Одна, прикрытая лишь бумажными щитами НАТО и СЕАТО, она не выживет. Когда Холленбах окончил свою речь, был уже двенадцатый час. Лицо его пылало огнём, кулаки были сжаты, на лбу проступил пот. Хотя сенатор молчал и только слушал, он чувствовал себя обессиленным. Речь президента настолько ошарашила его, что в голове было пусто, в ушах шумело. Он мучительно пытался подыскать какие-то слова. — Не очень-то легко вобрать в себя столько сразу, за один вечер, мистер президент. — Конечно, нелегко. — Президент сказал это мягко, понимающе, по-видимому накал чувств стал постепенно спадать. — Но я всё-таки не вижу, почему вы исключаете из этого союза Англию, Францию и Германию, — сказал Маквейг. Непонятно ему было не только это, но он казался себе муравьём, который стоит перед огромным тортом и не знает, с какого края ему откусить. Поэтому он откусил наугад. — Европу я исключаю только в самом начале, — сказал президент. Он опять одушевился. — Европа в настоящий момент ничего не может нам дать. Но как только мы создадим нашу ось Аспен — Канада — скандинавские страны, я предсказываю, что все страны Европы будут стучаться у наших дверей, умоляя впустить их. Если же нет — к тому времени мы будем располагать достаточной силой, чтобы заставить их примкнуть к новому союзу. — Заставить? — Маквейг выговорил это слово так тихо, что сам едва расслышал собственный голос. — Да, заставить! — В голосе Холленбаха прозвучал металл, он выразительно ударил кулаком в ладонь. — Вы говорите о военной силе, мистер президент? — Только в случае необходимости. Впрочем, я сомневаюсь, что такая необходимость может когда-нибудь возникнуть. Имеются другие формы давления — торговые обязательства, ограничения, финансовые меры, наконец, экономические санкции. Но вы не бойтесь, Джим. Англию, Францию и Германию, а также страны Южной Европы мы заставим ходить на цыпочках. Союз Аспен будет обладать достаточной силой, чтобы оказывать давление. На многие века мы станем маяком всего мира! — А вы уже обдумали, какого типа человек мог бы возглавить такой союз, будь то премьер-министр или президент? — Обдумал, Джим. — Холленбах запрокинул лицо, глаза его, казалось, видели невидимый другим свет. — Этот человек должен быть, конечно, выше национальных ограничений, беззаветно преданный делу, может быть идеалист, но непременно политик-практик. Скандинавы дали много людей такого типа, некоторые из них преданно служили Объединённым Нациям. Я не могу быть ни в чём уверен, Джим, но если этот союз возникнет во время моего второго срока, я, конечно, сделаю всё возможное, чтобы помочь его формированию. И если бы меня призвали возглавить этот союз, я не уклонился бы от ответственности! — Понимаю. — Маквейг посмотрел на президента и увидел на его лице такое экстатическое выражение, словно Холленбаху виделось нечто недоступное взору Маквейга. — Только повторяю, мистер президент, то, что вы мне сейчас сказали, трудновато переварить за один присест. — Вы правы, вам надо хорошенько отдохнуть и всё обдумать. Вы первый, кому я доверил свой план, и сделал я это потому, что хочу, чтобы мы с вами были настоящими партнёрами в правительстве. Вполне естественно, постичь этот Великий план за один приём немыслимо. Но я уверен, что вы придёте к тому же заключению, что и я. Вместе с вами, Джим, мы спасём нашу страну и изменим ход истории для грядущих столетий! — Конечно, я непременно обо всём подумаю, мистер президент. — Джим знал, что говорит вымученные, банальные слова, но ни до чего лучшего он сейчас додуматься не мог. В голове был туман, мысли разбегались. Холленбах предупреждающе поднял руку: — Только всё это строго между нами, Джим! Никому не говорите об этом. Есть люди, которые всё время начеку и хотят до меня добраться, так что, если Великий план просочится и его неправильно истолкуют, он может быть использован против меня. Если эти жалкие и мелочные людишки, вроде Спенсов, О’Мэлли и им подобных, пронюхают об этом плане, они будут рады сделать из меня дурака. — Он резко вскинул голову, словно хотел стряхнуть с себя всякое воспоминание об этих людях. — Понимаю, мистер президент, — сказал Маквейг. Холленбах мягко обнял его за плечи и повёл к двери: — Вы теперь, наверное, хотите поскорее попасть домой, к жене. Моя Эвелин приедет завтра утром. Мы попытаемся отдохнуть в это воскресенье. Я должен подарить ей этот день, она его заслужила. Не много ей выпадает теперь таких дней. Холленбах позвонил, чтобы подали автомобиль, и, пока они ждали, он подвёл Маквейга к вделанному в стену книжному шкафу и извлёк из маленького ящичка, стоявшего на полке, какой-то предмет. Он протянул его Маквейгу, и в отблесках пламени Джим увидел серебряную авторучку. — Этой авторучкой я подписал последний договор о сокращении атомного вооружения, — торжественно сказал Холленбах, — но я мечтаю подписать когда-нибудь ею договор об образовании нового союза. И мне бы очень хотелось, чтобы этот договор был подписан здесь, в Аспене. Президент вскинул руку в направлении окна, и Джим увидел длинные спутанные тени голых деревьев в лунном свете. Над далёкой горной цепью виднелось серое небо в диадеме крошечных звёзд. Холленбах вздохнул: — Люблю это место. Только тут можно вдохнуть жизнь в новый союз. А пока, Джим, я хочу, чтобы вы сохранили эту ручку у себя. Пусть она станет нашим талисманом и принесёт удачу президенту и вице-президенту, которым предстоит ещё свернуть горы работы. — Спасибо, сэр! — Маквейг повертел перо в руке и сунул его в карман куртки. Президент открыл дверь. У крыльца их уже поджидал автомобиль с неизменным Смитом за рулём. Холленбах протянул сенатору руку: — Помните, Джим, вместе мы сможем совершить для нашей родины великий подвиг! — Спокойной ночи, сэр. Маквейг полез на заднее сиденье лимузина. Когда они миновали караульное помещение и салютующего моряка, Смит попытался было завязать разговор, но Маквейг уставился в окно автомобиля. Он стиснул рукою подбородок и сидел в каком-то трансе, едва замечая, как проносятся мимо стволы деревьев. Автомобиль устремился вниз по горному шоссе и промчался через затемнённый Турмонт. Мысли в голове беспрерывно сменялись, как картинки в калейдоскопе. Швеция — окрашенный в каштановый цвет участок карты, Норвегия — зелёный цвет… Вице-президент с женою шведского происхождения. Боже, ведь он, кажется, не уловил самого важного! Именно в этом, наверное, и заключалась его связь с великим планом. Марк Холленбах в чёрном свитере с пушистым воротником скользит по Гудзонову заливу. Идёт и идёт куда-то с надетыми на голову наушниками, в которых раздаются обрывки самых невероятных разговоров со всех телефонных линий континента… О’Мэлли, Спенс и чикагский банкир Дэвидж, молчаливо застывшие на заднем плане. Холленбах за перилами подиума в Стокгольме, облачённый в королевские пурпурные одежды, изучает военную карту Европы, позади него — целый выводок генералов в странных мундирах. Потом перед ним вдруг снова возникло видение походной палатки во Вьетнаме, только теперь он не стал прогонять видение прочь. Снова и снова вскакивал со своего матраца капрал в приступе лихорадки и кричал, дико размахивая руками, что его преследуют змеи. Потом капрал стал затихать, бессмысленно бормоча что-то. Доктор и два дюжих санитара крепко держали его за руки, и скоро он опять свалился на матрац, дрожа от озноба. Но чудовищная сцена надолго запечатлелась в мозгу и продолжала маячить в памяти. А позже, когда они проносились по шоссе где-то за Фредериком, в сознания сенатора возникла новая, зловещая мысль. Она настойчиво его преследовала. У него противно заныло под ложечкой, как всегда бывало с ним, когда од испытывал страх. Он почувствовал себя разбитым, смертельно усталым. К кому же теперь обратиться за советом, кому довериться? Пату О’Мэлли? Нет, Пат отпадает. Какая ирония воображения заставила его в первую очередь подумать о человеке, преемником которого он собирался стать? Грэди Кава-ног, судья из Верховного суда, с которым он не раз ловил рыбу и философствовал? Нет, эта проблема не для него! А может, Поль Гриском? Да, именно Гриском, ловкий политик и адвокат, на котором одежда сидела, как на корове седло. Со времён Гарри Трумэна с ним советовалось каждое правительство, и его клиентура тянулась от Сиэтла до Нью-Дели. Первое, что он сделает завтра утром, это позвонит Грискому! И вдруг он понял, почему выбрал именно Гриско-ма. Старый адвокат был не только его другом, но и старинным другом семьи президента Марка Холленбаха. В кармане куртки Маквейг нащупал авторучку — талисман Аспена. С задней батареи отопления на него веяло теплом, но од вдруг заметил, что дрожит, и понял отчего: это был страх. Джим Маквейг пришёл к выводу, что президент Соединённых Штатов безумен.ГЛАВА 5. УОРЛД-ЦЕНТР
В понедельник утром сенатор Джим Маквейг шагал по направлению к Уорлд-центр-билдинг, в нижней части Вашингтона. Шёл сильный дождь. Он барабанил по белому, непромокаемому пальто и ручьями стекал вдоль складок. Джим шёл, как всегда, без шляпы. Шёл, не замечая, что дождь давно уже превратил его шевелюру в мокрый колтун. Он чувствовал себя опустошённым и разбитым. Ночь с субботы на воскресенье прошла без сна. В воскресенье утром, тотчас после завтрака, он позвонил Полю Грискому, и адвокат согласился принять его в понедельник, в одиннадцать утра. И минувшую ночь он тоже провёл почти без сна. Короткие мгновения, когда удавалось забыться, были наполнены нелепыми, дикими кошмарами. Марте даже пришлось раз толкнуть его в бок. Когда он очнулся, оказалось, что во сне он кричал и плакал. Маквейг не без труда отвязался от заседания сенатской подкомиссии, на котором должен был председательствовать, и теперь, шагая на свидание с Грискомом, мучительно пытался привести спутанные мысли в маломальский порядок. В конторе адвокатской фирмы Гриском, Фоттерингил и Хэдли были налицо все внешние признака состоятельности. Фирма, хоть и не самая крупная в Вашингтоне, считалась, тем не менее, наиболее влиятельной, особенно, когда к власти приходили демократы. В приёмной ноги клиентов сразу утопали в толстом, толщиной в дюйм, китайском ковре — настоящем произведении искусства, устилавшем весь пол от стены до стены. Ковёр хорошо гармонировал с панелями тёмного ореха, которыми были обиты стены комнаты. Кое-где на стенах висели эстампы в изящных зелёных рамках. Секретарша фирмы, миловидная, не первой молодости блондинка, печатала на бесшумной электрической машинке. С её губ не сходила любезная улыбка. — Сенатор Маквейг? Вероятно, на приём к мистеру Грискому? Говорила она стремительно, проглатывая окончания слов, а иногда и сами слова, — порок, одинаково свойственный как низшим, так и самым аристократическим классам Англии. Маквейг кивнул. Секретарша сняла трубку и, набрав номер, певуче проговорила в неё что-то. — Может быть, вы присядете? Мистер Гриском явится сию минуту. Вскоре он увидел Поля Грискома, торопливо шагавшего ему навстречу по длинному коридору. Это был высокий, худой мужчина лет шестидесяти. Загорелое лицо его было сплошь испещрено глубокими морщинами. Казалось, его изгрызло время, и, хоть раны зарубцевались, они оставили неизгладимые следы. В пенсне адвоката отражались лучи утреннего солнца, а пронизанные фиолетовыми прожилками мешки под глазами могли быть как признаками чрезмерного для его возраста утомления, так и плачевными результатами бурно проведённой молодости. На Грискоме был доношенный серый костюм, брюки на коленях отвисли. Поль Гриском прибыл в Вашингтон изучать право лет сорок назад, но по-прежнему любил называть себя «деревенщиной из Вайоминга». — А, это ты, Джим! Очень рад. Ну и вымок же ты! Пойдём-ка ко мне в кабинет. Я дам тебе полотенце, вытрешь волосы. Он повёл Джима по коридору мимо множества раскрытых дверей. Там, в комнатах поменьше, но тоже обитых ореховыми панелями и устланных роскошными коврами, трудились молодые адвокаты. Большое окно кабинета Грискома выходило на угол 16-й улицы и Кэй-стрит. Стены в кабинете были голые, окрашенные в безупречно белый цвет, а шаткая, рахитичная мебель наводила на мысль о дешёвых распродажах. Создавалось впечатление, будто Гриском, проведя клиента через великолепную, похожую на храм приёмную, всем видом скромной и строгой обстановки кабинета как бы говорил: «Ну вот, а здесь поговорим о деле». Единственным украшением стен были портреты с автографами — в основном изображения президентов Соединённых Штатов. На большом портрете Марка Холленбаха Джим разобрал надпись: «Старому другу Полю». Рядом красовался портрет Марка Холленбаха-младшего, который был подписан: «Дяде Полю, мировому парню и мировому другу». Маквейг мысленно порадовался, что явился сюда не как клиент. Эта странная смесь сдержанной элегантности, адвоката-деревенщины в мятых брюках и президентских автографов наводила на мысль о сумасшедших гонорарах. Словно прочитав его мысли, Гриском сказал: — Ты просто не поверишь, как всё это действует! И что самое забавное — на эту удочку попадаются буквально все, независимо от того, заправляют они крупнейшими корпорациями Нью-Йорка или только что явились из Пеории. Гриском сказал это просто, будто делясь своими наблюдениями с компаньоном фирмы. Он достал полотенце, подал его Джиму, и, пока тот старательно вытирал волосы, адвокат принялся деловито набивать табаком прокуренную оправленную в серебро трубку, с которой он ни при каких обстоятельствах не расставался. Затем он уселся за стол, вытащил из брюк полу рубашки и, дохнув на пенсне, стал старательно протирать ею стёкла. Пока они обменивались ничего не значащими замечаниями, Джим вспоминал, как он познакомился с Полем Грискомом, когда тот приехал в Десмон, чтобы рекомендовать комиссии Маквейга законопроект о налогах штата Айова. С тех пор они часто встречались на партиях в гольф, и вскоре по рекомендации Грискома Маквейг стал членом двух виднейших в Вашингтоне клубов. Сам Гриском был непременным членом всех лучших клубов города, включая такие, как фешенебельный клуб на Эф-стрит, Метрополитен, Сэлгрейв и даже Вальс-клуб. Помимо всего прочего, Гриском являлся крупнейшим в стране экспертом по налоговому обложению, и Джим подозревал, что именно этим объяснялось членство адвоката во всех этих клубах. Налоги снова начинали играть чрезвычайную роль во внутренней политике страны. На углу стола у адвоката лежала аккуратная стопка папок. На верхней был приклеен ярлычок с надписью: «Холленбах, Марк и Эллен». — Ну, Джим, рассказывай, что за нужда привела тебя ко мне? Гриском вгляделся в сенатора сквозь густую завесу трубочного дыма. — Право не знаю, с чего и начать… В общем, я пришёл к тебе. потому что у тебя есть голова на плечах. Можешь назвать это доверием, если хочешь. Я глубоко встревожен, Поль. Никогда в жизни мне не приходилось переживать ничего подобного. И я даже не уверен, сможешь ли ты мне помочь. — Ну, уж об этом предоставь судить мне. — Видишь ли, Поль. — Джим почувствовал, как сердце его учащённо забилось. — Я пришёл к твёрдому убеждению, что один из влиятельнейших членов нашего правительства болен тяжёлой формой психического расстройства. — Не он первый, не он последний, — проворчал Гриском и, ничего больше не сказав, стал старательно разминать большим пальцем табак в трубке, внимательно разглядывая его, словно прикидывая на глаз, какой в нём процент брака. — Я совершенно растерялся. просто не знаю, что предпринять в связи с этим и надо ли вообще что-либо предпринимать! Дело это не юридическое, я пришёл к тебе не как клиент. Мне нужен сонет друга, Поль. Гриском усмехнулся, отчего в уголках его глаз собрались озорные морщинки, а мешки под глазами расправились: — Не беспокойся, Джим. Мы составили прейскурант так, чтобы он был по карману любому клиенту. Давай-ка выкладывай всё, и разберёмся что к чему. Времени у меня сколько хочешь. Маквейг уселся поудобнее и стал задумчиво тереть переносицу, соображая, с чего лучше начать: — Я хочу, Поль, чтобы ты сразу уяснил себе самое главное. Если бы это был какой-нибудь простой человек, я бы не стал отнимать у тебя время. Беда в том, что человек этот — известная в Вашингтоне фигура и занимает такое положение, что может оказывать громадное влияние и на внутреннюю и на внешнюю политику Штатов. В течение последних нескольких дней мне представился случай близко наблюдать его и, скажу тебе честно, Поль, разум его, видимо, помутился. Я не на шутку встревожен, даже напуган всем тем, что мне привелось увидеть и услышать. Позволь мне посвятить тебя в некоторые подробности. Не упоминая имён и искусно маскируя места действия, Маквейг поведал адвокату о вспышках ярости против О’Мэлли, Спенса и Дэвиджа. Передавая инцидент с Дэвиджем, он на мгновение запнулся, так как ему хотелось получше вспомнить слова Риты. Он описал, как выглядел Холленбах, когда шагал по комнате и громил воображаемых противников. Гриском снова извлёк из брюк полу рубашки и принялся полировать стёкла пенсне. — Скажи мне, — сказал он, придирчиво осматривая результаты своего труда, — не намекал ли твой друг, что все его преследователи сплотились в союз? — Нет, — начал было Джим, но вдруг вспомнил и быстро закивал головой, — то есть, я хочу сказать да, да, намекал. Один раз он перешёл на шёпот и стал бормотать что-то о «конспирации» и о том, что вокруг него «стягивается сеть», кажется, именно так он тогда сказал. И ещё — что он вынужден принять меры для своей защиты. — Ну а что ещё он говорил? — Много. Он охвачен идеей спасти человечество посредством нового союза наций, и ты бы только послушал, какие страны вошли у него в этот союз! Маквейг подробно рассказал Грискому о сущности «Великого плана», который был должен объединить Штаты с Канадой и скандинавскими странами, стараясь как можно точнее передать адвокату тот пыл, с каким защищал этот план Холленбах. Откинувшись в обшарпанном вращающемся кресле, в котором то и дело скрипели пружины, Гриском молча и, казалось, безучастно попыхивал трубкой. — И это ещё не всё. Чтобы заставить европейские страны присоединиться к этому небывалому союзу, он буквально предложил воспользоваться военной силой. А потом несколькими вскользь брошенными фразами дал ясно понять, что главою этого грандиозного союза он мыслит себя. Ты пойми, Поль, всё это он говорил как какой-нибудь фанатичный мессия, и я не боюсь признаться, у меня прямо мороз прошёл по коже. — Постой, постой, Джим, ты, кажется, сказал, что человек этот занимает такое положение, что может влиять на политику правительства? Правильно я тебя понял? Маквейг кивнул. Конечно, Гриском ожидает, что он назовёт имя. На какой-то момент он заколебался и уже готов был это сделать, но ему просто не хватило мужества. Да и как мог он открыто обвинить в безумии президента Соединённых Штатов? Во-первых, он и сам ещё толком ни в чём не уверен. Выдвинуть такое обвинение, не имея многих уличающих доказательств, не посмел бы, пожалуй, никто, даже в такой частной беседе. Во-вторых, существовало ещё благоговение перед правительством и страх при мысли, что может произойти с ним, если его подозрения окажутся необоснованными. Он почти желал теперь, чтобы адвокат сам обо всём догадался. Ведь догадаться было, в конце концов, не так уж трудно, но адвокат, по-видимому, и не подозревал, о ком идёт речь. Гриском неторопливо поднялся с кресла: — Пройдём-ка в соседнюю комнату, Джим. Посмотрим, что у нас там найдётся по интересующему нас вопросу. Соседняя комната была выдержана в тех же глубоких коричневых тонах, что и все помещения фирмы, за исключением скромного кабинета её владельца. Всю длину комнаты занимал стол орехового дерева с несколькими настольными лампами. Стены были снизу доверху заняты полками с книгами. — Вот раздел психологии, — сказал Гриском. — Теперешние законники всё равно, что психоаналитики. Чего только не приходится знать, выступая в Верховном суде: рефлексологию, и психиатрию, и неврологию, и ещё чёрт знает что, начиная с простейшей травмы и кончая динамикой климактерического периода. Пройдёт через твои руки одно из таких вот дел со свидетельством психиатра о рефлексе самосохранения, и начинаешь думать, что весь мир состоит из одних помешанных. — Гриском перебирал корешки книг. — Но я бы сказал, что этот твой приятель не слишком уж сложный случай… А, вот она, наконец. — Он снял с полки толстый том в кожаном переплёте и усмехнулся, отчего по его лицу разбежались морщимы. — Если бы ты был таким же экспертом, как я, Джим, я разыскал бы для тебя что-нибудь более экзотическое, но для невежды прекрасно сойдёт и это. Гриском раскрыл книгу, и Маквейг прочитал на титульном листе: «Современная жизнь и отклонения от нормальной психики, Джеймс Коулман, Калифорнийский университет, Лос-Анжелос». Гриском водрузил пенсне на тонкий нос и стал листать книгу. — Да, вот оно! Страница двести восемьдесят девять. Параноидальные реакции. А теперь посмотрим, не окажется ли тут знакомых нам признаков. Адвокат отошёл к окну и стал громко читать: — «Индивидууму начинает казаться, что его выделяют из общей массы, что к нему плохо относятся, стремятся злоупотребить его доверием, замышляют против него недоброе, обворовывают, игнорируют, шпионят за ним и даже хотят погубить». Гриском остановился и бросил взгляд на сенатора. — Теперь пропускаем вот это, — сказал он, переворачивая страницу, — и читаем дальше: — «Хотя доказательства, которыми параноик старается обосновать свои утверждения, как правило, чрезвычайно неубедительны, тем не менее он не желает слушать никакого другого возможного объяснения и обычно не поддаётся никаким уговорам». Ты ведь сказал, что спорил со своим приятелем относительно его так называемых «преследователей», но он оставил без внимания твои доводы? Ну, так что, похоже это на него? Маквейг кивнул. Гриском перевернул ещё несколько страниц: — А теперь почитаем о других фазах. Слушай!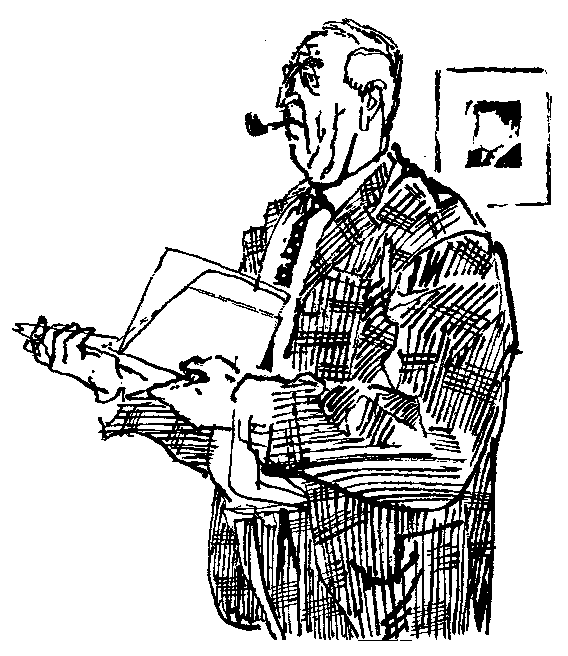 «Хотя идеи преследования и являются преобладающими в реакциях параноика, у многих представителей этого типа развивается мания величия, в результате чего они наделяют себя уникальными, сверхчеловеческими способностями. Такие идеи величия концентрируются, как правило, на разного рода пророческих миссиях, социальных реформах и замечательных открытиях… Эти индивидуумы обычно с головой окунаются в какое-либо социальное движение, скажем запрет продажи спиртных напитков, и превращаются в столь неутомимых и фанатичных крестоносцев этой идеи, что своей безапелляционной уверенностью в собственной правоте и поголовным осуждением других они зачастую приносят делу больше вреда, нежели пользы».
Гриском выдержал паузу и воззрился на Маквейга поверх пенсне:
— Ты, кажется, говорил, что обычно твой приятель ведёт себя совершенно нормально, что он человек живого ума, полон здравых мыслей?
— Да, правильно. Я бы сказал, что это определение совершенно точно характеризует как самого человека, так и всю ситуацию.
Гриском захлопнул книгу, поставил её на полку и вернулся с Маквейгом в кабинет. Там он снова уселся в кресло и тщательно выколотил трубку.
— Да, у этого человека, несомненно, налицо некоторые симптомы параной, — сказал он. — Беда только в том, что мы не знаем, является ли это состояние у него временным или же это тяжёлый случай, и он нуждается в немедленном психиатрическом лечении. Ты говоришь, что твой приятель играет очень важную роль во внутренней политике страны? В таком случае проще всего было бы обратиться к президенту Холленбаху и потребовать от него отставки этого человека. Пусть даже это временное заболевание, что ж, возможно, ему просто необходимо отдохнуть, переменить обстановку.
— Всё не так просто, как кажется, Поль. — Последние слова Грискома заставили Маквейга насторожиться. — Он занимает официальную, выборную должность. Убрать его с поста таким способом невозможно.
— Неужели кто-нибудь из конгресса?
— Я предпочёл бы не говорить об этом.
— Э, Джим, что-то ты сегодня не очень сообразителен. — Гриском улыбнулся. — Раз это выборное лицо, то он непременно должен быть членом конгресса, если только ты не говоришь о Патрике О’Мэлли.
— Не беспокойся, это не О’Мэлли, хотя при сложившейся обстановке подумать на него было бы проще всего.
Мысленно Джим не преминул отметить, что Гриском упомянул О’Мэлли, а не Холленбаха. Но очевидно даже ко всему привычному Грискому не пришло в голову связать президента с такой историей. Маквейг улыбнулся и беспомощно развёл руками:
— Ты загнал меня в угол, Поль. Сегодня я и впрямь плоховато соображаю.
Гриском откинулся в кресле и скрестил руки на груди. Пристально взглянув на Маквейга, он сказал:
— По какой-то таинственной причине ты отказываешься назвать имя. С адвокатами, к которым обращаются за советом, так поступать не принято, и при других обстоятельствах я бы немедленно отказался от такого дела. — Гриском улыбнулся сенатору и продолжал: — Но ты с самого начала сказал мне, как глубоко это тебя тревожит, и я хорошо тебя понимаю. Кстати, Джим, а ты уверен, что не преувеличиваешь?
— Совершенно уверен.
— Ведь время от времени всех нас что-нибудь терзает по тому или иному поводу. В этом кабинете мне часто приходится встречаться с такими людьми. Надломится в них что-то, и вот они уже растерялись и бегут сюда искать помощи у закона. Впрочем, многие из них берут себя в руки, и им удаётся вернуться к нормальной жизни.
Гриском опустил глаза и, казалось, целиком занялся изучением своей трубки, как будто перед ним была логарифмическая линейка и именно в ней он пытался отыскать ответ.
— Вот, например, ты, конечно, знаешь, что я живу на Оу-стрит, в Джорджтауне?
Маквейг удивлённо вскинул голову:
— Я совсем забыл об этом.
— Я так и думал, — мягко ответил Гриском. — Во всяком случае, мне несколько раз приходилось видеть там одного человека, который очень похож на известного сенатора. Я видел его, когда он выходил из одного дома на моей улице. Покидая этот дом, он всегда украдкой оглядывается кругом и затем поспешно удаляется. И представь себе, Джим, что именно в этом доме живёт очень красивая, обаятельная женщина, которая работает у известного нам обоим политического деятеля. Так вот, Джим, этот мужчина, если он только тот сенатор, за которого я его принимаю, имеет прелестную жену и чудесную дочку. Совершенно очевидно, что с женщиной, которая живёт на моей улице, у него любовная связь. Ну и как, Джим, ты объяснил бы такое поведение? Дело это, конечно, обычное и случается сплошь и рядом, но всё-таки, как бы ты объяснил это с точки зрения психики?
Маквейг похолодел и, не мигая, уставился на адвоката. Куда же он клонит? Он старался, чтобы голос его звучал спокойно, но, когда он заговорил, голос его прозвучал скорее злобно:
— Объяснить я тебе, пожалуй, ничего не смогу, но одно я знаю точно, — ты сейчас находишься в чрезвычайно удобном положении для шантажа, если бы только тебе этого захотелось.
Гриском печально улыбнулся, и морщинистое лицо его приняло выражение ласкового участия:
— Ну что ты, ничего подобного у меня нет и в мыслях. Ты ведь знаешь, я не такой человек. Да и потом, я не мог бы решительно опознать этого мужчину. Я ведь просто пользуюсь им в качестве примера.
Маквейг был оглушён, слова застряли у него в горле. Боже мой, мелькнуло у него, уж не думает ли Поль, что я описал самого себя, и теперь пытается показать мне и, по правде говоря, не очень тонко, что я и есть тот самый человек с психической травмой? Джиму захотелось немедленно опровергнуть это подозрение, но он вовремя опомнился. Какая будет от этого польза? Поль просто решит, что он выпутывается в целях самозащиты. И потом, чтобы провести различие между этими двумя личностями, между собой и Холленба-хом, ему пришлось бы сознаться относительно Риты. Мысль о том, что о Рите придётся рассказать третьему лицу, была нестерпима. Пусть она и визжала на него по телефону как дикая кошка, предать её он всё равно не может.
А Гриском, между тем, продолжал говорить всё так же тихо и неторопливо:
— Так что в случае с твоим приятелем, Джим, я бы не стал торопиться. Да и к чему спешить? Насколько мне известно, правительство не переживает кризиса, да и потом я сомневаюсь, чтобы этот твой знакомый мог сильно повлиять на ход международных событий, во всяком случае — за такой короткий срок.
— Пожалуй ты прав, — пробормотал Джим. Господи, как же ему теперь выпутаться из этой хитроумной паутины, которую плетёт Гриском?
— У меня есть конкретное предложение, Джим. Почему бы не покопаться в биографии этого человека? Психологи говорят, что корни душевных срывов у взрослых людей частенько надо искать в те годы, когда происходило формирование личности.
Гриском пристально посмотрел на сенатора:
— В данном случае, Джим, я не думаю, что тебе будет очень трудно установить факты биографии этого человека…
Маквейга охватила бессильная ярость, он почувствовал, что лицо его заливает краска. Бог ты мой, да ведь он и впрямь думает, будто я явился к нему рассказывать о самом себе. Думает, наверное, что я болен какой-нибудь чёртовой идеей самоочищения, либо что я пришёл к нему специально, чтобы получить эту информацию о психах. Это я-то, самый нормальный человек в городе! Джимом овладело желание как следует выругать Грискома, чтобы этот пронырливый адвокат, который умело извлекал выгоду из высокопоставленных знакомств и не гнушался намёками на шантаж, перестал прикидываться деревенским простачком из Вайоминга. Маквейга так и распирало от злости.
— Очень благодарен тебе за совет, Поль. — Он знал, что слова его прозвучали сухо, но теперь ему было наплевать. — Очень любезно было с твоей стороны уделить мне столько времени.
Гриском поднялся, обошёл вокруг стола, схватил Маквейга за руку и крепко её пожал.
— Знаешь, Джим, я видел в газетах несколько заметок о тебе и о твоей кандидатуре. Какие-то лидеры в Висконсине, по-видимому, начинают кампанию в твою пользу.
Маквейг был не в настроении говорить на политические темы, поэтому он ограничился тем, что коротко кивнул:
— У меня действительно есть там друзья. Но это, конечно, ничего не значит. Решать в этом деле может один президент.
— Это мне известно, — сказал Гриском, не отпуская его руки. — И всё же ясно, что тебя определённо имеют в виду. Поздравляю. Ведь это высокая оценка твоих способностей, Джим!
— Спасибо.
— Слушай, Джим, я понимаю, что ты сейчас расстроен из-за своего… из-за своего друга. У меня ведь у самого бывали в жизни тяжёлые минуты, и я хорошо знаю, что это такое. Положись во всём на время, Джим. Оно самый лучший целитель. Во всяком случае подождать стоит. Ну, а если уж ничего не выйдет, если наш человек не поправится, тогда приходи опять. Я очень уважаю тебя, Джим, и мне очень хочется сделать для тебя всё, что в моих силах.
Он говорил с искренностью человека, старость которого близка и которому ничего теперь не нужно от жизни, кроме хорошего мнения людей, которых он любит или уважает. Но Джим всё ещё злился. Он решительно высвободил руку: — Ещё раз спасибо, Поль. Ты мне очень помог.
В приёмной секретарша-англичанка улыбалась ещё любезней, очевидно одобряя то, что у него хватило здравого смысла явиться со своими затруднениями к Грискому, Фоттерингилу и Хэдли. Маквейг вышел из приёмной не попрощавшись, хлопнув дверью. Но дверь не хлопнула. Пневматическое устройство замедлило её движение, и Джим услышал, как она мягко закрылась за ним.
Когда он вошёл к себе в кабинет, он всё ещё был в отвратительном настроении. Мысль о том, что сенатор Джим Маквейг может свихнуться на почве связи с Ритой Красицкой, казалась ему настолько смехотворной, что Джим просто не мог понять, как это проницательный Гриском сумел додуматься до такой ерунды.
Зазвонил внутренний телефон. Маквейг снял трубку и услышал голос своего помощника. Флип сообщил новость: ещё один мэр в штате Висконсин выступил с кампанией в пользу сенатора Маквейга. Джим нетерпеливо оборвал своего секретаря.
— После, — сказал он. Сейчас ему было не до того.
Потом он уселся за свой стол и стал ковырять ножом для разрезания бумаги большое пресс-папье. Гнев его постепенно стал проходить. В конце концов Гриском сделал вполне логический вывод, особенно если принять во внимание, что Маквейг отказался назвать имя.
Надо было немедленно действовать, но как? Что ж, он засядет, пожалуй, за «домашние задания», в невыполнении которых обвинил его Крейг Спенс. Для начала надо будет срочно узнать, что предусматривается законом в случаях, когда физическое или психическое здоровье президента внушает опасение. Как же фамилия того малого, который заведует законодательным отделом библиотеки конгресса? А, да, мистер Брэнтон, один из многих сотен безликих служащих, которым известно всё то, чего не знают сенаторы.
Он позвонил в библиотеку конгресса и услышал приветливый, невыразительный голос Брэнтона.
— Здравствуйте, мистер Брэнтон, это говорит сенатор Джим Маквейг из Айовы. Понимаете ли, мне нужно просмотреть всё, что у вас имеется по вопросу о неспособности президента управлять страной. Что? Для речи? Нет, простая служебная справка.
С минуту он молча слушал, что говорил ему заведующий.
— Да, да, именно это. Ранние соглашения между Эйзенхауэром и Никсоном, Кеннеди и Джонсоном, а также последнее — между президентом Холленбахом и мистером О’Мэлли. И все протоколы сенатских заседаний под председательством сенатора Бирча Бэя из Индианы. И рекомендации Американской ассоциации адвокатов. Короче говоря, всё, что у вас есть.
— Я сегодня же пришлю всё, что у нас имеется, сенатор. — Брэнтон говорил извиняющимся тоном. — К сожалению, большая часть материала находится сейчас у другого абонента. Вы ведь понимаете, интерес к этой теме всегда большой. Но как только мне вернут остальной материал, я немедленно пришлю его вам.
Джим откинулся в кресле. Вот так штука! Что же теперь делать? Снова его охватил прежний страх. Неужели Марк действительно?.. Он даже мысленно не посмел произнести это слово. Однако время не ждёт, необходимо срочно действовать. И тут он вспомнил совет Поля Грискома.
Около получаса он всё продумывал и взвешивал. Потом снял трубку и вызвал своего помощника:
— Флип, зайдите сейчас ко мне. Вам предстоит срочно выехать в командировку.
«Хотя идеи преследования и являются преобладающими в реакциях параноика, у многих представителей этого типа развивается мания величия, в результате чего они наделяют себя уникальными, сверхчеловеческими способностями. Такие идеи величия концентрируются, как правило, на разного рода пророческих миссиях, социальных реформах и замечательных открытиях… Эти индивидуумы обычно с головой окунаются в какое-либо социальное движение, скажем запрет продажи спиртных напитков, и превращаются в столь неутомимых и фанатичных крестоносцев этой идеи, что своей безапелляционной уверенностью в собственной правоте и поголовным осуждением других они зачастую приносят делу больше вреда, нежели пользы».
Гриском выдержал паузу и воззрился на Маквейга поверх пенсне:
— Ты, кажется, говорил, что обычно твой приятель ведёт себя совершенно нормально, что он человек живого ума, полон здравых мыслей?
— Да, правильно. Я бы сказал, что это определение совершенно точно характеризует как самого человека, так и всю ситуацию.
Гриском захлопнул книгу, поставил её на полку и вернулся с Маквейгом в кабинет. Там он снова уселся в кресло и тщательно выколотил трубку.
— Да, у этого человека, несомненно, налицо некоторые симптомы параной, — сказал он. — Беда только в том, что мы не знаем, является ли это состояние у него временным или же это тяжёлый случай, и он нуждается в немедленном психиатрическом лечении. Ты говоришь, что твой приятель играет очень важную роль во внутренней политике страны? В таком случае проще всего было бы обратиться к президенту Холленбаху и потребовать от него отставки этого человека. Пусть даже это временное заболевание, что ж, возможно, ему просто необходимо отдохнуть, переменить обстановку.
— Всё не так просто, как кажется, Поль. — Последние слова Грискома заставили Маквейга насторожиться. — Он занимает официальную, выборную должность. Убрать его с поста таким способом невозможно.
— Неужели кто-нибудь из конгресса?
— Я предпочёл бы не говорить об этом.
— Э, Джим, что-то ты сегодня не очень сообразителен. — Гриском улыбнулся. — Раз это выборное лицо, то он непременно должен быть членом конгресса, если только ты не говоришь о Патрике О’Мэлли.
— Не беспокойся, это не О’Мэлли, хотя при сложившейся обстановке подумать на него было бы проще всего.
Мысленно Джим не преминул отметить, что Гриском упомянул О’Мэлли, а не Холленбаха. Но очевидно даже ко всему привычному Грискому не пришло в голову связать президента с такой историей. Маквейг улыбнулся и беспомощно развёл руками:
— Ты загнал меня в угол, Поль. Сегодня я и впрямь плоховато соображаю.
Гриском откинулся в кресле и скрестил руки на груди. Пристально взглянув на Маквейга, он сказал:
— По какой-то таинственной причине ты отказываешься назвать имя. С адвокатами, к которым обращаются за советом, так поступать не принято, и при других обстоятельствах я бы немедленно отказался от такого дела. — Гриском улыбнулся сенатору и продолжал: — Но ты с самого начала сказал мне, как глубоко это тебя тревожит, и я хорошо тебя понимаю. Кстати, Джим, а ты уверен, что не преувеличиваешь?
— Совершенно уверен.
— Ведь время от времени всех нас что-нибудь терзает по тому или иному поводу. В этом кабинете мне часто приходится встречаться с такими людьми. Надломится в них что-то, и вот они уже растерялись и бегут сюда искать помощи у закона. Впрочем, многие из них берут себя в руки, и им удаётся вернуться к нормальной жизни.
Гриском опустил глаза и, казалось, целиком занялся изучением своей трубки, как будто перед ним была логарифмическая линейка и именно в ней он пытался отыскать ответ.
— Вот, например, ты, конечно, знаешь, что я живу на Оу-стрит, в Джорджтауне?
Маквейг удивлённо вскинул голову:
— Я совсем забыл об этом.
— Я так и думал, — мягко ответил Гриском. — Во всяком случае, мне несколько раз приходилось видеть там одного человека, который очень похож на известного сенатора. Я видел его, когда он выходил из одного дома на моей улице. Покидая этот дом, он всегда украдкой оглядывается кругом и затем поспешно удаляется. И представь себе, Джим, что именно в этом доме живёт очень красивая, обаятельная женщина, которая работает у известного нам обоим политического деятеля. Так вот, Джим, этот мужчина, если он только тот сенатор, за которого я его принимаю, имеет прелестную жену и чудесную дочку. Совершенно очевидно, что с женщиной, которая живёт на моей улице, у него любовная связь. Ну и как, Джим, ты объяснил бы такое поведение? Дело это, конечно, обычное и случается сплошь и рядом, но всё-таки, как бы ты объяснил это с точки зрения психики?
Маквейг похолодел и, не мигая, уставился на адвоката. Куда же он клонит? Он старался, чтобы голос его звучал спокойно, но, когда он заговорил, голос его прозвучал скорее злобно:
— Объяснить я тебе, пожалуй, ничего не смогу, но одно я знаю точно, — ты сейчас находишься в чрезвычайно удобном положении для шантажа, если бы только тебе этого захотелось.
Гриском печально улыбнулся, и морщинистое лицо его приняло выражение ласкового участия:
— Ну что ты, ничего подобного у меня нет и в мыслях. Ты ведь знаешь, я не такой человек. Да и потом, я не мог бы решительно опознать этого мужчину. Я ведь просто пользуюсь им в качестве примера.
Маквейг был оглушён, слова застряли у него в горле. Боже мой, мелькнуло у него, уж не думает ли Поль, что я описал самого себя, и теперь пытается показать мне и, по правде говоря, не очень тонко, что я и есть тот самый человек с психической травмой? Джиму захотелось немедленно опровергнуть это подозрение, но он вовремя опомнился. Какая будет от этого польза? Поль просто решит, что он выпутывается в целях самозащиты. И потом, чтобы провести различие между этими двумя личностями, между собой и Холленба-хом, ему пришлось бы сознаться относительно Риты. Мысль о том, что о Рите придётся рассказать третьему лицу, была нестерпима. Пусть она и визжала на него по телефону как дикая кошка, предать её он всё равно не может.
А Гриском, между тем, продолжал говорить всё так же тихо и неторопливо:
— Так что в случае с твоим приятелем, Джим, я бы не стал торопиться. Да и к чему спешить? Насколько мне известно, правительство не переживает кризиса, да и потом я сомневаюсь, чтобы этот твой знакомый мог сильно повлиять на ход международных событий, во всяком случае — за такой короткий срок.
— Пожалуй ты прав, — пробормотал Джим. Господи, как же ему теперь выпутаться из этой хитроумной паутины, которую плетёт Гриском?
— У меня есть конкретное предложение, Джим. Почему бы не покопаться в биографии этого человека? Психологи говорят, что корни душевных срывов у взрослых людей частенько надо искать в те годы, когда происходило формирование личности.
Гриском пристально посмотрел на сенатора:
— В данном случае, Джим, я не думаю, что тебе будет очень трудно установить факты биографии этого человека…
Маквейга охватила бессильная ярость, он почувствовал, что лицо его заливает краска. Бог ты мой, да ведь он и впрямь думает, будто я явился к нему рассказывать о самом себе. Думает, наверное, что я болен какой-нибудь чёртовой идеей самоочищения, либо что я пришёл к нему специально, чтобы получить эту информацию о психах. Это я-то, самый нормальный человек в городе! Джимом овладело желание как следует выругать Грискома, чтобы этот пронырливый адвокат, который умело извлекал выгоду из высокопоставленных знакомств и не гнушался намёками на шантаж, перестал прикидываться деревенским простачком из Вайоминга. Маквейга так и распирало от злости.
— Очень благодарен тебе за совет, Поль. — Он знал, что слова его прозвучали сухо, но теперь ему было наплевать. — Очень любезно было с твоей стороны уделить мне столько времени.
Гриском поднялся, обошёл вокруг стола, схватил Маквейга за руку и крепко её пожал.
— Знаешь, Джим, я видел в газетах несколько заметок о тебе и о твоей кандидатуре. Какие-то лидеры в Висконсине, по-видимому, начинают кампанию в твою пользу.
Маквейг был не в настроении говорить на политические темы, поэтому он ограничился тем, что коротко кивнул:
— У меня действительно есть там друзья. Но это, конечно, ничего не значит. Решать в этом деле может один президент.
— Это мне известно, — сказал Гриском, не отпуская его руки. — И всё же ясно, что тебя определённо имеют в виду. Поздравляю. Ведь это высокая оценка твоих способностей, Джим!
— Спасибо.
— Слушай, Джим, я понимаю, что ты сейчас расстроен из-за своего… из-за своего друга. У меня ведь у самого бывали в жизни тяжёлые минуты, и я хорошо знаю, что это такое. Положись во всём на время, Джим. Оно самый лучший целитель. Во всяком случае подождать стоит. Ну, а если уж ничего не выйдет, если наш человек не поправится, тогда приходи опять. Я очень уважаю тебя, Джим, и мне очень хочется сделать для тебя всё, что в моих силах.
Он говорил с искренностью человека, старость которого близка и которому ничего теперь не нужно от жизни, кроме хорошего мнения людей, которых он любит или уважает. Но Джим всё ещё злился. Он решительно высвободил руку: — Ещё раз спасибо, Поль. Ты мне очень помог.
В приёмной секретарша-англичанка улыбалась ещё любезней, очевидно одобряя то, что у него хватило здравого смысла явиться со своими затруднениями к Грискому, Фоттерингилу и Хэдли. Маквейг вышел из приёмной не попрощавшись, хлопнув дверью. Но дверь не хлопнула. Пневматическое устройство замедлило её движение, и Джим услышал, как она мягко закрылась за ним.
Когда он вошёл к себе в кабинет, он всё ещё был в отвратительном настроении. Мысль о том, что сенатор Джим Маквейг может свихнуться на почве связи с Ритой Красицкой, казалась ему настолько смехотворной, что Джим просто не мог понять, как это проницательный Гриском сумел додуматься до такой ерунды.
Зазвонил внутренний телефон. Маквейг снял трубку и услышал голос своего помощника. Флип сообщил новость: ещё один мэр в штате Висконсин выступил с кампанией в пользу сенатора Маквейга. Джим нетерпеливо оборвал своего секретаря.
— После, — сказал он. Сейчас ему было не до того.
Потом он уселся за свой стол и стал ковырять ножом для разрезания бумаги большое пресс-папье. Гнев его постепенно стал проходить. В конце концов Гриском сделал вполне логический вывод, особенно если принять во внимание, что Маквейг отказался назвать имя.
Надо было немедленно действовать, но как? Что ж, он засядет, пожалуй, за «домашние задания», в невыполнении которых обвинил его Крейг Спенс. Для начала надо будет срочно узнать, что предусматривается законом в случаях, когда физическое или психическое здоровье президента внушает опасение. Как же фамилия того малого, который заведует законодательным отделом библиотеки конгресса? А, да, мистер Брэнтон, один из многих сотен безликих служащих, которым известно всё то, чего не знают сенаторы.
Он позвонил в библиотеку конгресса и услышал приветливый, невыразительный голос Брэнтона.
— Здравствуйте, мистер Брэнтон, это говорит сенатор Джим Маквейг из Айовы. Понимаете ли, мне нужно просмотреть всё, что у вас имеется по вопросу о неспособности президента управлять страной. Что? Для речи? Нет, простая служебная справка.
С минуту он молча слушал, что говорил ему заведующий.
— Да, да, именно это. Ранние соглашения между Эйзенхауэром и Никсоном, Кеннеди и Джонсоном, а также последнее — между президентом Холленбахом и мистером О’Мэлли. И все протоколы сенатских заседаний под председательством сенатора Бирча Бэя из Индианы. И рекомендации Американской ассоциации адвокатов. Короче говоря, всё, что у вас есть.
— Я сегодня же пришлю всё, что у нас имеется, сенатор. — Брэнтон говорил извиняющимся тоном. — К сожалению, большая часть материала находится сейчас у другого абонента. Вы ведь понимаете, интерес к этой теме всегда большой. Но как только мне вернут остальной материал, я немедленно пришлю его вам.
Джим откинулся в кресле. Вот так штука! Что же теперь делать? Снова его охватил прежний страх. Неужели Марк действительно?.. Он даже мысленно не посмел произнести это слово. Однако время не ждёт, необходимо срочно действовать. И тут он вспомнил совет Поля Грискома.
Около получаса он всё продумывал и взвешивал. Потом снял трубку и вызвал своего помощника:
— Флип, зайдите сейчас ко мне. Вам предстоит срочно выехать в командировку.
ГЛАВА 6. ЛЯ БЕЛЛЬ
Неделю спустя после описанных событий Джим Маквейг сидел у себя дома. Окно кабинета было распахнуто настежь. Календарь показывал первый день весны, но погода стояла не по-весеннему жаркая. Солнце вытягивало последнюю влагу из промёрзшей за зиму почвы, и задняя лужайка у дома Маквейгов и голое поле за задним забором купались в клубах тёплого весеннего пара. Солнечный луч ворвался в окно, словно выпущенный на свободу узник, и заиграл на подносе с ножами в углу кабинета. Бархатный футляр с хирургическими инструментами, многим из которых было никак не менее двухсот лет, напомнил Джиму о его отце и о несбыточной мечте старика сделаться хирургом. Странная всё-таки штука наша жизнь, чего только в ней не случается, думал он. Его отец, так и не сумев стать хирургом, большую часть своей жизни потратил на собирание символов своей любимой профессии. А теперь его сын, один из первых в стране кандидатов в вице-президенты, собирает всевозможные сведения о человеке, который сам предложил ему занять этот пост, — о президенте! Аналогичными эти ситуации не были, но почему-то именно сегодня неосуществившаяся мечта отца стала ему особенно понятна. В прошлый понедельник, когда его охватило полное отчаяние, он вспомнил вдруг о совете Грискома заглянуть в биографию человека, в нормальности которого он сомневается. Корни душевных срывов часто надо искать именно в годы формирования личности, сказал ему тогда адвокат. Он, конечно, намекал на то, чтобы Джим обратился к своему детству, он ведь был уверен, что Маквейг рассказывает ему о себе. Но совет был неплох; чем больше Джим думал о нём, тем больше в этом убеждался. Действительно, в какой обстановке вырос президент Холленбах, как прошло его детство? Об этом известно было главным образом из хвалебных биографий президента, выпущенных разными издательствами к предвыборной кампании, да из нескольких статей в воскресных журналах. Там говорилось, что отец президента был инспектором школ в сельском округе Хендри в штате Флорида и что мальчик вырос в Ля Бёлль — местечке в этом округе. Потом Марк отправился в город Грэивиль, штат Огайо, поступил в университет Дэнисона, а затем занял должность профессора истории в университете города Боулдер, штат Колорадо. Там он и стал заниматься политикой, поднявшись сначала до должности губернатора штата, а затем — президента страны. Сначала Маквейг решил было объехать все эти места сам и хорошенько порасспросить тех, кто знавал Марка Холленбаха сначала ребёнком, а затем молодым человеком, но сообразил, что в нём немедленно узнают сенатора Соединённых Штатов и он никак не сможет объяснить, зачем он рыщет по стране с такой странной миссией. Вот тут-то и пришла ему в голову мысль послать вместо себя Флипа Карлсона, своего помощника, чья страсть ко всякого рода поездкам могла соперничать только с его страстью к политическим интригам. Карлсону он сказал, что хочет написать биографию президента Холленбаха — срочно, чтобы успеть опубликовать её в разгар осенней кампании. Маквейг предупредил Флипа, что, несмотря на срочность, работа должна быть проделана со всей ответственностью. Ему потребуется всё, что удастся откопать Флипу. В каком направлении работал ум мальчишки. Эмоциональное восприятие мира. О чём он мечтал, когдаучился в школе и колледже, и кто были его товарищи. Словом, книга эта должна быть настоящим, правдивым отображением человеческой личности, а не традиционной банальной сказкой о замечательном, вдохновенном юноше, у которого на роду было написано стать президентом. Заинтригованный этим необычным поручением, Карлсон выехал из Вашингтона на следующий же день, прихватив с собой портативную пишущую машинку и пачку блокнотов. Поиски Карлсона принесли целый ворох документов. Тут были табели успеваемости в младших и старших классах школы, отзывы преподавателей университета, замусоленный годовой университетский отчёт, фотокопии газетных вырезок, несколько фотографий молодого Марка Холленбаха и того дома, в котором прошли его детство и юность, и целая библиография книг и журнальных статей, содержавших факты биографии президента. Маквейг уже успел просмотреть весь этот материал и теперь приступил к чтению отпечатанного на машинке отчёта Карлсона о взятых интервью.«Докладная записка, составленная Карлсоном для Дж. Маквейга, сенатора. Выуженные факты биографии Марка. Вторник. Прибыл в Тампа утром, взял напрокат машину и доехал в Ля Бёлль. Резонно? Городок расположен на реке Калосахатчи, на полпути между озером Окичуби и Мексиканским заливом и примерно на том же расстоянии между девятнадцатым и двадцатым веком. При въезде на шоссе, ведущим в городок, висит плакат: «Ля Бёлль, место рождения президента Марка Холленбаха», но это одно из немногих общественных нововведений за послевоенное время. Да и с тех пор, как Марк бегал в коротких штанишках, изменений тут произошло мало. Ничего похожего на прибрежные города. Городок дремлет. По улицам слоняются парни в джинсах и ковбойских сапогах, непроницаемых для змеиных укусов (в кустах так и кишат гремучие змеи). Сразу же приступил к работе по имеющемуся у меня списку. Резонно? Амос Палмер. Мастерская по ремонту автомашин. Школьный товарищ Марка. Палмера застал в мастерской. Лицо старое и сморщенное, похожее на ракушку. Продувная бестия. Отвечает уклончиво. Руки всё время вытирает о фартук. Прикладывается к бутылке с кока-колой. Мне не предложил. A-а, ещё один, говорит. Оказывается его уже обхаживало четверо таких же, как я, писак. Впрочем, говорит, валяйте, спрашивайте. Вы, значит, хотите знать, каким парнишкой был Марк? Тощий, как бамбуковая удочка. Хорошие были времена. Ловили рыбу, гоняли мяч, исплавали вдоль и поперёк всю Калосахатчи. Но Марк никогда ничего плохого себе не позволял. Хотел всегда во всём быть первым, но получалось это у него только в учении. Что он думал о Марке тогда? То же самое, что и теперь. Вроде как восхищался, но особой близости между ними не было. Марку больше нравилось оставаться одному. Из того, что о нём говорят, видно, что он и сейчас такой же, верно? Феба Хендрикс. Семьдесят семь лет. Приятная старушка. Замужем не была. Проживает в маленьком домике под железной крышей. В доме воняет плесенью. Обучала Марка в первом классе, только что окончив педагогический факультет. Говорит, что свой первый класс никогда не забываешь. Прекрасно помнит всех учеников. Марк был самым смышлёным. Пришлось перестать спрашивать его, так как он всегда знал ответы на все вопросы, и это пугало остальных ребятишек. Однажды расплакался, оттого что она не вызвала его, когда он поднял руку. (Может, бедному парнишке просто надо было в уборную, но я не стал разуверять Фебу). В конце первого года он уже читал как третьеклассник. Очень милый и тихий мальчик, но если ему не удавалось быть первым в чём бы то ни было, становился угрюмым и раздражительным. Уинстон Грувер. Агент по продаже недвижимости. Большой, тяжеловесный, медлительный малый. В нём есть что-то бычье. Окончил школу вместе с Холленбахом. Хвалит его, уверяет, что Марк всегда был гениальным. Знал, что он обязательно станет президентом, и т. д. и т. п. Марк всегда был, по его словам, мировой парень, любезный, надёжный, одним словом, джентльмен. Говорит Грувер так, словно его записывают на плёнку для Национального архива. Пользы от него мало, из беседы с ним узнаешь больше о Грувере, чем о Холленбахе. Вспомнил, как на одной вечернике в колледже Марк бросился с кулаками на другого парня из-за девчонки. Ну нет, подробностей не дождётесь. О президентах такого не рассказывают. Но если б рассказать об этом, то история получилась бы что надо. Но зачем ворошить такое старьё? Миссис Ричардсон (Мэй Паулина). Замужем за банкиром, в школьные годы бегала к Марку на свидания. Довольно полная, нет, скорее толстуха, ласковая и гостеприимная, склонна болтать и щебетать. О да, Марк всегда был идеальным джентльменом. Однажды повёл её на тайны и подрался из-за неё с Эдом Бройлем, только пожалуйста не пишите об этом, очень прошу вас! Мужу это будет неприятно. Мальчишки дразнили Марка за то, что он так интеллигентно разговаривал, прямо как актёр на сцене, и никогда не мямлил, как все остальные жители округа. Некоторые считали его заносчивым. Ну что ж, у него для этого были все основания. Ах, Марк ни капельки не изменился. Она это сразу поняла, когда увидела его по телевизору во время кампании, где он выступал с призывом к самосовершенствованию. Говорит, у него всё выходило идеально, за что бы он ни брался. Но приятно ли жить с таким идеальным человеком — ещё вопрос. Следует хихиканье. Гомер Риденауэр. Разговаривал с ним в четверг вечером у него дома, в Цинциннати. Адвокат. Денег — куча. Хотя сам республиканец, считает Марка великим президентом и осенью будет голосовать за него. Всё время старается свернуть разговор на текущую политику. Бог знает, чего стоит заставить его держаться ближе к теме. Говорит, что Марк был очень непохож на окружающих. Не курил, не пил, не ругался, не торчал все вечера перед радиолой. Всегда был спокоен, хладнокровен, здраво обо всём судил. Только однажды вышел из себя, когда их студенческая организация получила годовые оценки ниже средних. Устроил скандал на общем собрании. Разошёлся страшно, но толку не добился. В командных играх был слабоват, зато прекрасно играл в гольф, в теннис и на нескольких соревнованиях взял первенство по бегу на одну милю. Как только кончались соревнования, спешил поскорее сесть за книгу. Никто никогда не понимал, что этим великим человеком движет. Четверг. Колумбус. Том Крофорд (по прозвищу Паук). Управляющий отелем. Небольшого роста, щегольски одетый малый. На паука не похож, но говорит, что был похож раньше. По его словам, Марк был самым работоспособным парнем, какого ему приходилось встречать. Громадная самодисциплина. Все ночи напролёт глотал книги. Иногда чувствовалось, что он напряжён до предела и ему не мешало бы напиться или ещё там что-нибудь. Друзьями они с Марком не были. Ему нравятся люди попроще и полегче. Пятница. Селина, штат Огайо. Говард Рентч. Общительный малый, старательный работник. Владелец небольшой лавочки, торгует всем понемножку. Селина — приятный городок. Стоит на автомагистрали. Осевшие дома с колоннами. Городок на переходе от девятнадцатого к двадцатому веку. Рентч считает, что был Холленбаху довольно близким другом. Раза два приводил его к себе домой. Всегда восхищался его способностями, но считал, что Марку не мешает немного поразвлечься. Ладить с ним было всегда трудно. Отношений теперь не поддерживают. Рентч говорит, что, когда они учились в школе, он так и не мог понять Марка. Но если я хочу знать, каким он был в университете, то мне лучше связаться с Тиной Фарадэй, бывшей артисткой телевидения. Воскресенье. Тина Фарадэй. Простите за неразборчивый текст. Печатаю эти строки в самолёте, по пути из Лос-Анжелоса. Печатать, пристроив машинку на коленях, чертовски трудно. Итак, Тина Фарадэй, бывшая актриса телевидения. Пятьдесят восемь лет. В девичестве Ида Джоунз. В замужестве последовательно: Ломакс, Джекобз, Пинкерт и Стейси. Разведена со всеми четырьмя. Живёт в Санта-Монике одна, с горничной и кухаркой. Дом большой, но уже разваливается, стоит на утёсе с видом на Тихий океан. Это интервью стоит всех затрат по поездке. Вы только почитайте! Провёл с Тиной шесть часов, просидел до трёх дня. Она здорово напилась, я тоже, но мозги у меня, кажется, были в порядке. Ну и женщина, доложу я вам! Ругается почище самого Джо Донована. Но в выборе ругательств более экзотична и разнообразна. Марка она знала только в последние годы обучения. Она быстро решает, что на факультете он самый блестящий парень, и собирается прибрать его к рукам, а может, даже и женить на себе. В то время она была горячей штучкой. Продемонстрировала мне старую фотографию. Да, видит бог, это чистая правда. Полный нокаут — сплошные волнистые линии, чувственный рот, а грудь — ну прямо две дыни! Просто слюнки текут. С Марком они вместе учатся в испанской группе. Начинает с того, что просит помочь ей с испанским. Он помогает. Сидят вечера напролёт, и за всё это время целует он её только один раз, да и то не бог весть с каким пылом. Водит её на танцы своего студенческого братства. Она к нему прижимается. (Тина иллюстрирует мне это при помощи комнатного фонтана с жабами. То есть я хочу сказать, что в фонтане у неё живут жабы). Но Марк отстраняется и всегда танцует, как положено. Так что через пару месяцев она начинает сходить ума. (Это она тоже иллюстрирует. Замечательная актриса. Великолепно изображает ярость). Однажды вечером Тина и Марк лежат на краю футбольного поля. На небо высыпали звёзды, тёплая и ласковая весенняя ночь напоена дивным ароматом (передаю слова Тины). Она пристраивается к нему поближе, и на этот раз они целуются весьма прочувствованно. (В этом месте рассказа никаких иллюстраций не следует. А жаль. Фонтан с жабами и Тина представляют захватывающее зрелище). Потом они целуются ещё и ещё и, наконец, увлекаются этим всерьёз. Вдруг он от неё отскакивает и заявляет «хватит» или что-то в этом роде. (Это предательство своего возлюбленного Тина изображает в жестах, весьма красочно). Тут он начинает читать лекцию о поведении, чистоте морали и расходится, чёрт бы его побрал, словно какой-нибудь (забито) бродячий проповедник. И вот, пока из него хлещет это красноречие, она вся сгорает как на медленном огне. Наконец она бросается на него с кулаками, и — раз, раз — у него из носа начинает идти кровь. На следующий день на уроке испанского языка он извиняется перед ней за свою непомерную стыдливость, но говорит, что ничего не может с собой поделать. Она его презирает. Роли меняются, и теперь бегать за нею начинает он. Она некоторое время не подпускает его, но потом они опять начинают встречаться. На следующую осень, то есть в последний год обучения, она приглашает его на конец недели к себе домой, в Колумбус. Там сборная штата Огайо как раз принимает команду соседнего штата, весь город словно помешался. Они тоже идут на матч. После матча они едут к ней, но тут оказывается, что её родных нет дома (вообще-то говоря, они были уже второй месяц как Европе). Она ставит пластинку с задумчивой музыкой, они танцуют. Потом она выскальзывает потихоньку на кухню и проглатывает там пару рюмок неразбавленного джина (горло у этой шлюхи, прямо скажем, лужёное), а после этого жуёт резинку, потому что он, видите ли, ненавидит, когда прекрасный пол употребляет спиртное. Постепенно она устраивает так, что он оказывается наверху, в её спальне. (А вот со мной почему-то так никогда не случается). Она посылает его раздеться в ванную, а сама стаскивает с себя платье и всё, что под ним имелось. Она выливает на себя полсклянки духов и залезает в постель. Потом она ждёт его, ждёт долго и терпеливо. Думает, может ему плохо или что. Наконец дверь ванной распахивается, и оттуда выходит Марк, одетый. Глаза его мокры от слёз, и он стонет «не могу, не могу, — мы ведь не женаты». И с этими словами выскакивает из комнаты и бежит вон. Ей хочется швырнуть в него из окна туалетным столиком, но вместо этого она долго и сладостно рыдает, а потом успокаивает себя несколькими раундами джина. В этот последний год они занимаются в разных группах, так что встречает она его только изредка и всегда в таких случаях отворачивается. Он уже не просит её больше о свидании, а если бы и попросил, то она бы ещё раз его отдубасила. Последний раз она видит его на выпускных празднествах, когда все выстраиваются в накидках и в шапочках, и он подходит к ней совсем близко, отыскивая своё место в строю. «Ну как, ещё не женат?» — спрашивает она его уничтожающим шёпотом. Он смотрит на неё, улыбается ей своей святой, всепрощающей улыбкой и отрицательно качает головой. С тех пор она его больше не видела и, что самое интересное, голосовала против него. Считает, что он (два забитых слова) осёл. Потом, как всем известно, он женился на Эвелин Биллет из штата Колорадо. Теперь она «первая дама» государства. Тина слыхала, что она милая, покладистая женщина, которая в любви весьма непритязательна. И так ему и надо, — добавляет она. С двух до трёх мне пришлось выслушать всё о её четверых мужьях, которые, по-видимому, не отличались верностью, но вам это уже неинтересно. Теперь мы пролетаем над доброй старой Айовой, и стюардесса несёт мне кофе и новую порцию аспирина. Я, быть может, даже выживу, но вот голова моя погибла. Перечитав последние страницы, встал в тупик: то ли вам их печатать в книге, то ли законсервировать этот материал в библиотеке конгресса на семьдесят пять лет, то ли просто сжечь. Ваш абсолютно частный сыщик Флип».
Маквейг фыркнул, потом не выдержал и громко расхохотался. Час назад Карлсон, замученный, с воспалёнными глазами вручил ему эти отпечатанные на машинке листы, заклиная ни в коем случае не звонить ему до вечера, чтобы он мог хорошенько выспаться. Джим представил себе Тину Фарадэй на краю фонтана, изображающую отвергнутую любовь. Этот образ напомнил ему о Рите, о том, как яростно она обрушилась на него тогда по телефону, и он усомнился, способна ли хоть одна женщина спокойно принять известие об отставке. Потом он стал думать о молодости Марка Холленбаха и попытался мысленно воссоздать образ этого мальчика, гордого и одинокого, терзаемого жестокой, самому себе навязанной моралью, стремлением выдвинуться во что бы то ни стало, образ обыкновенного студента, замучившего себя идеей самосовершенствования, одинокого, неспособного на простую тесную дружбу, считающего плотскую жизнь грехом, — но в то же время вождя, который вызывал уважение и восхищение сверстников. Прибавить лет сорок — и многое ли изменится? Когда Марк учился в Дэнисоне, современные упражнения для мышц не были ещё известны, но легко представить себе, как юный Холленбах сгибает пальцы и укрепляет бицепсы, точь-в-точь как и теперь! Мысли Джима снова перенеслись к совещаниям в Кэмп Дэвиде, к загадочному полумраку комнаты и вулканической ярости, с какой президент обрушивался на О’Мэлли и Спенса, ко всей этой болтовне о заговорщиках и о фантастическом блестящем союзе наций во главе с премьер-министром Марком Холленбахом. Сквозь открытое окно припекало жаркое солнце, но Джима знобило от страха, как и тогда, неделю назад, когда он возвращался с Катоктинских гор. Неужели он единственный в Вашингтоне понимает, что человек, сидящий в Белом доме, не в своём уме? Ведь слышала же Рита, как Марк взорвался тогда из-за Дэвиджа, но сочла весь инцидент обыкновенной вспыльчивостью. Неужели он одинок в своих подозрениях? И обоснованы ли они, или он уже воображает то, чего нет на самом деле? Ведь этот сложный, одержимый человек, в нормальности которого он теперь сомневается, выбрал его в вице-президенты, поделился с ним своим планом, предложил бороться за будущее плечом к плечу. Какое право имел он пятнать это доверие тайным расследованием биографии этого человека, как будто он угроза общественному благополучию? Его головокружительные размышления прервал крик, раздавшийся снизу. — Эй, пап, — кричала Чинки своим ломким сопрано, — тебя тут дожидается какой-то красивый мужчина. Ему необходимо срочно тебя видеть. — Ладно, Чинки, пошли его наверх. Маквейг услышал, как гость поднимается по ступенькам, и увидел смуглое лицо и широкую, ослепительную улыбку Лютера Смита, агента секретной службы. Тот вошёл в кабинет и плотно прикрыл за собой дверь: — Мне очень не хочется врываться к вам в воскресенье, сенатор, но мне приказано задать вам несколько вопросов. — Приказано? — Да. — Смит стоял перед ним, неловко теребя края фетровой шляпы. — Дело в том, сенатор, что я только что вернулся из маленького городка во Флориде, который называется Ля Бёлль…
ГЛАВА 7. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
Шефу Секретной службы Арнольду Бразерсу было над чем призадуматься, сидя в глубоком кресле своего кабинета в одном из отделов старого здания казначейства. Не нравилась ему эта история. Одно дело выслеживать сумасшедших, осаждавших президента Соединённых Штатов анонимными письмами с нелепыми и грязными угрозами. Письма эти были, как правило, безвредны, и Секретная служба не имела с ними особых хлопот. Авторов легко устанавливали и потихоньку, без излишнего шума, препровождали в психиатрические клиники. Но совсем другое дело — инциденты, в которые оказывались замешаны весьма влиятельные и к тому же совершенно нормальные люди. Бразерс объяснял эти инциденты тем, что людей всё больше и больше волновала внутренняя и внешняя политика страны. Особенно накалялись страсти в предвыборные периоды, когда многие позволяли себе резко критиковать президента Соединённых Штатов, чего в обычное время не подумали бы делать. И всё-таки риск был слишком велик, и Службе приходилось проводить расследование по малейшему поводу. Бразерс, коренастый, полный мужчина с вьющимися каштановыми волосами, блестяще владел своим лицом и умело скрывал свои тревоги. Главным источником беспокойства был близящийся уход на пенсию. Полную пенсию шеф мог получать уже со следующего года и не хотел терять из неё ни цента. Жизнь в Секретной службе была в общем неплоха, если не считать бессонных ночей и бесконечного напряжённого ожидания неизвестно чего. Но административная работа была Бразерсу ненавистна. Роль мальчишки на побегушках, которую Белый дом ему часто навязывал, уязвляла его. Хотя с виду деятельность Службы была овеяна романтическим ореолом, всякий человек, хоть немного знакомый с закулисным миром вашингтонской политики, прекрасно знал, что шефу Секретной службы далеко до директора Федерального бюро расследования с его влиянием, престижем, а главное — громадными фондами. И всё-таки если что было не так, то отдуваться приходилось именно Бразерсу. А теперь на него свалилась ещё эта дрянная история, в которой оказался замешан младший сенатор от штата Айова. И надо же было этому случиться именно теперь, когда его замучил проклятый весенний насморк. Бразерс громко чихнул, выхватил из кармана платок и мрачно вытер покрасневший нос. Он вспомнил, как началось это дело Маквейга, и нахмурился. Некий владелец автомастерской в городишке Ля Бёлль, штат Флорида, Амос Палмер, позвонил в управление и сообщил, что по городу разгуливает какой-то подозрительный тип и задаёт вопросы, касающиеся личной жизни президента Холленбаха. Палмер сказал, что поведение этого парня ему очень не понравилось. Дежуривший у телефона агент не придал этому звонку особого значения, решив, что любопытный скорее всего какой-нибудь репортёр, но на всякий случай отправил по телетайпу запрос в Майами, в отделение Службы. В Майами произвели дознание, и вскоре удалось выследить взятый напрокат автомобиль, номер которого оказался зарегистрирован в карточке мотеля в Ля Бёлль. Удалось также установить, что автомобиль был взят напрокат в Тампа неким Роджером Карлсоном из Вашингтона, хотя на карточке мотеля было проставлено совсем другое имя. У Карлсона имелось удостоверение, разрешавшее ему брать автомобили напрокат, и первая же проверка в Управлении автотранспорта установила, что удостоверение было выдано мистеру Роджеру Карлсону, административному помощнику и секретарю сенатора Джемса Маквейга из штата Айова. Именно тогда Бразерс и отправил Лютера Смита в Ля Бёлль посмотреть, в чём там дело, и разобраться в ситуации на месте. Не то чтобы Бразерс испугался, нет. Наверняка Карлсон отправился в Ля Бёлль с одной из частных политических миссий — дело весьма обычиое в Вашингтоне. Но он хорошо знал: президент Холленбах не погладит его по головке, если узнает, что какой-то неизвестный рыскает по стране и расспрашивает об интимных фактах его биографии. Бразерс вздохнул и опять вытер платком мокрый нос. Его привёл в бешенство доклад Смита о поездке в Ля Бёлль и об интервью с сенатором Маквейгом, потому что всё это не предвещало ничего хорошего. Шеф вдруг увидел, что его затянуло в одну из тех безнадёжных трясин, которые он до сих пор обходил так умело. Маквейг несомненно солгал Смиту. Объяснение, данное им по поводу странных расспросов Карлсона в Ля Бёлль, было неубедительным. Эти неуклюжие выдумки любого агента заставили бы навострить уши. Теперь Бразерс уже ясно понимал, что ему не миновать расследования по делу сенатора Маквейга, а это ему, прямо сказать, не нравилось. Когда задевали сенатора Соединённых Штатов, скандал мог произойти такой, что не приведи бог. Бразерс сознавал всю ничтожность своей должности. Публика — та, конечно, может обставлять его работу захватывающей дух таинственностью, но Бразерс на этот счёт никогда не заблуждался. В огромном правительственном аппарате США он был простым служакой, и всякий кому не лень мог дать ему по носу. Он от души надеялся, что Смит вёл себя достаточно деликатно и сенатор не заподозрил, что на него заведено дело в управлении Секретной службы. Бразерс бросил взгляд на часы и щёлкнул переключателем настольного коммутатора: — Смит не явился? — Как раз входит, шеф. Посылаю его к вам. В кабинет влетел Лютер Смит и озарил шефа жемчужной улыбкой, вызвав у Бразерса дурные предчувствия. Смит присел на стул и раскрыл отрывной блокнот. — Ничего себе каша заваривается, шеф! — В голосе агента прозвучало оживление следователя, которому только что удалось обнаружить в доме труп. — Что там у тебя? — Бразерс задал вопрос тоном человека, который предпочёл бы не получить ответа. — Я опросил пять… нет, шесть приятелей Маквейга, предупредив их, конечно, чтобы они держали язык за зубами. — Ты уверен, что они не станут болтать? — Бразерс мрачно взглянул на подчинённого. — Я в этом городе никому не доверяю. — Уверен. Я сказал им, что это формальная проверка и что мы не хотели бы никого компрометировать. Все обещали молчать. Вам я представлю подробный отчёт обо всех разговорах, но интересного там ничего нет, кроме разговора с Полем Грискомом, адвокатом. — А что у него? — Много. Только сначала он никак не хотел говорить. Но я в него как следует вцепился, нажал, и тогда он мне всё выложил. Маквейг приходил к нему в контору на прошлой неделе и рассказал странную историю о человеке, который занимает высокое положение в правительстве и который якобы болен тяжёлой формой психического расстройства. Маквейг описал все симптомы, и Гриском утверждает, что они подходят под определение паранойи — мания преследования и мания величия. Маквейг был страшно возбуждён и отказался назвать этого человека. Гриском убеждён, что этот свихнувшийся малый не кто иной, как сам Маквейг. Бразерс застонал: — Господи, этого только нам не хватало! А сказал тебе Гриском, что он думает о причине заболевания сенатора? — Да. Гриском живёт на Оу-стрит и рассказывает, что видел, как Маквейг (Гриском уверен, что это он) выходил из дома напротив, где живёт одна девчонка. Девчонка — первый сорт, пальчики оближешь. Рита Красицкая, работает в комитете демократической партии, у Джо Донована. — Ты её знаешь? — Да, приходилось разговаривать. Фигурка — с ума сойти. — Смуглое лицо Смита покраснело. — В общем, шеф… словом, я не обвиняю Маквейга. — А какое отношение имеет девчонка ко всей истории? Мало ли кто из этих господ развлекается на стороне! — Да вот Гриском считает, что у Маквейга дело обстоит куда серьёзнее. У него чудесная жена и мировая дочка, и Гриском полагает, что человек такого сорта, как он, неспособен изменять жене без угрызений совести. Словом, он думает, что Маквейг запутался и что причина болезни в этом. — И ты этому веришь? — Лицо Бразерса хранило прежнее отсутствующее выражение, но глаза его впились в агента. — Нет, шеф, не верю. Этот Маквейг не столь уж сложная личность, чтобы мучиться из-за таких вещей. Он не из тех, кто только и делает, что прислушивается к своей совести. По крайней мере, я так думаю, а ведь мне не раз приходилось с ним разговаривать. — Почему же тогда он солгал тебе об этой истории с Ля Бёлль? — Сам не могу понять, шеф. Говорит, что пишет биографию Холленбаха и что ему понадобился материал о юных годах президента. Но это смешно, некогда ему писать такую книгу, уж вы мне поверьте, шеф. — Особенно если учесть, что он собирается баллотироваться в вице-президенты. У меня такое впечатление, что это делается с согласия самого президента. — Тогда, конечно, может он и впрямь пишет книгу. Но только зачем ему понадобилось лгать? А ведь он солгал, когда я спросил его о донесении Карлсона. Сказал, что Карлсон не представлял ему никакого письменного донесения, но я своими глазами видел вчера у него на столе этот доклад, а потом и сам Карлсон признался, что отпечатал для Маквейга текст на машинке. А когда я спросил Маквейга, удобно ли ему писать книгу о человеке, чьим помощником он может стать, он только расхохотался: он, дескать, не верит, что молния ударит именно в него. А потом добавил, что если бы это всё-таки случилось, то книга оказалась бы уникальной. Я согласился, но тут же спросил фамилию его издателя. Он смутился и ответил, что издателя у него пока нет, ведь он начал работать над книгой совсем недавно. — А писал ли он когда-нибудь вообще? — Нет. Это мы тоже проверили. Никогда не написал даже журнальной статьи. У Бразерса стал такой вид, словно на него напали навозные мухи. От волнения лицо его сделалось красным как свёкла. Он чувствовал, что разгадка где-то совсем близко, но отыскать её не мог. — Может он и правда пишет книгу, а может и нет, — сказал он наконец, — но мне надо знать, всё ли тут чисто с точки зрения политики. Мы установили, что он интересуется ранними годами жизни президента, но почему? Хорошо, предположим, он опасается, что Холленбах может не согласиться на его кандидатуру. И допустим, что ему удастся раскопать кое-какие неблаговидные факты, которые Холленбах, понятно, не хотел бы обнародовать. Что тогда? Тогда Маквейг оказывается в очень выгодном положении и может давить на президента. Смит выпятил губы и с сомнением покачал головой: — Не думаю, шеф. Вы ведь говорите о шантаже? Нет, шеф, этот парень не станет браться за такое дело, вы уж мне поверьте. Бразерс чихнул, на глаза его навернулись слёзы: — Одного я не могу выкинуть из головы. Смит. И это прямо не даёт мне покоя. — Что именно, шеф? — Да ножи, что ты видел у него в кабинете. — Эта старая коллекция скальпелей? — Да. Согласись, что для сенатора Соединённых Штатов хобби весьма необычное. — Да это у него вовсе и не хобби. Он говорит, что ножи коллекционировал его отец, а он их хранит в память о старике. — А мне это, представь, не нравится, — вздохнул Бразерс. — И я хочу, чтобы сенатора Маквейга держали под постоянным наблюдением, чтобы вы просто глаз с него не спускали. Продолжайте дознание, Лютер, только, ради бога, осторожнее. Может с ним и всё в порядке, но только знаешь, что я тебе скажу? — Что, шеф? — Если даже Гриском и прав, то Маквейг будет не первым свихнувшимся конгрессменом в этом чёртовом городе.ГЛАВА 8. ОБЫЧНОЕ ДОЗНАНИЕ
Агитационная кампания по избранию Маквейга вице-президентом неслась вперёд, как парусник, и напор ветра усиливался с каждым днём. Председатель демократической партии штата Висконсин заявил, что он будет поддерживать кандидатуру сенатора Маквейга. Днём позже сенатор от демократической партии Висконсина, единственный представитель этого штата в Сенате, и все делегаты Висконсина в Конгрессе заявили о своей единодушной поддержке этой кандидатуры. В Грин Бэй открылся ещё один агитационный пункт по избирательной кампании в пользу Маквейга (такой же агитационный пункт уже действовал в Милуоки). По всей стране циркулировали воззвания, призывавшие вписывать в избирательные бюллетени имя Маквейга как единственного достойного кандидата в вице-президенты от демократической партии. Председатель национальной демократической партии Джо Донован сначала отказывался отвечать на вопросы корреспондентов, но под всё возрастающим давлением и ему пришлось созвать пресс-конференцию. Он категорически отрицал, что национальный комитет поддерживает Маквейга. Когда же корреспонденты стали доказывать обратное, ссылаясь при этом на утверждение председателя демократической партии в Эпплтон-сити, что Донован сам звонил ему по телефону с просьбой поддержать кандидатуру Маквейга, Донован заявил корреспондентам, что лидеры демократической партии в Эпплтоне неправильно его поняли. Он всего-навсего заверил руководство демократической партии штата Висконсин, что ни одна кандидатура не вызовет недовольства со стороны Белого дома. Хотя право окончательного выбора президент сохраняет за собой, тем не менее, он приветствует любое движение в стране в пользу любого кандидата. Что же касается пресс-конференции самого президента, устроенной две недели спустя после официального извещения, что Патрик О’Мэлли не выставит свою кандидатуру на следующих выборах, то она почти целиком была посвящена вопросу о будущем вице-президенте. — Как я уже заявил, — сказал Холленбах, — я сократил список возможных кандидатур до семи человек, но, как демократ, я всегда во всём советуюсь со своей партией. Поэтому в течение оставшегося до выборов срока я намерен самым внимательным образом прислушиваться ко всем советам. Если у демократов Америки имеется своя кандидатура на этот пост и они мне её укажут, то я не оставлю их совет без внимания, хотя и сохраню за собой право окончательного выбора, в зависимости от того, как сложатся обстоятельства. В настоящий момент я ещё не могу сказать ни «за», ни «против» кого бы то ни было. Интерпретация прессы: полная поддержка кандидатуры Маквейга. Сделавшись постоянной мишенью репортёров, Джим старался, чтобы десятки интервью, которые ему приходилось давать, как можно меньше отличались одно от другого. Да, он очень ценит поддержку многочисленных друзей и доброжелателей в Висконсине, но ведь только президенту принадлежит исключительное право выбора. Режиссёр программы «Встречи с прессой» умолял его выступить по телевидению, но Маквейг наотрез отказался, объяснив, что такое выступление поставило бы его в положение кандидата, коим он не является. Заметка об этом отказе появилась в утреннем выпуске газеты «Вашингтон пост», и президент Холленбах позвонил Маквейгу, как только прочитал её, оторвав сенатора от завтрака. — Вы совершенно правильно поступили, Джим. — Его задушевный топ в восемь часов утра был не слишком уместен, и Маквейгу свело скулы. — Нечего вам показываться на экране. Кампания в вашу пользу и без того развивается достаточно быстро. Я очень доволен, всё идёт именно так, как я предсказывал. — Благодарю вас, мистер президент, но должен сказать, мне это притворство не по душе. Мне надоело врать всем и каждому. — Ну, это уже простая механика, Джим. Что мне сейчас нужно от вас — это чтобы вы уже начали серьёзно задумываться над «Великим планом». Скоро нам с вами снова предстоит обсуждать его долго и обстоятельно. У меня созрели новые идеи, которые мне необходимо на вас проверить. — Хорошо, сэр. Мне очень хотелось бы поскорее узнать о них. Звонок президента снова пробил брешь в чувстве нереальности происходящего, которое, как корка, образовалось над глубинами опасений Джима. Последние несколько дней он чувствовал себя совсем как в доброе старое время. Возбуждение от того, что он оказался в центре политической интриги, искусная защита и нанесение ответных ударов на встречах с представителями прессы, телефонные звонки политических деятелей со всех концов страны, растущие требования выступить перед общественностью, иногда за баснословные гонорары — всё вместе взятое заставило его забыть о страшных подозрениях. Они оказались вытеснены суматохой выборного года; среди крикливых репортёров и беспрестанных телефонных звонков Маквейг снова почувствовал себя в своей тарелке. На размышления у него теперь не оставалось времени. Но телефонный звонок президента, напоминание о «Великом плане» мгновенно повергли его в прежнее состояние мрачного отчаяния. Если, как предположил Гриском, речь шла о временном психическом расстройство, то как же понять это затянувшееся фантазирование о сверхсоюзе? Так значит, всё-таки существует мрачный мир Аспен-лоджа с его щёлкающими вычислительными машинами, регистрирующими каждый телефонный разговор, со зловещими видениями боевого союза всех наций и с мелочной пугающей яростью против О’Мэлли, Дэвиджа и Спенса — троих порядочных людей, которые не замышляли ничего дурного? Джим рассеянно вышел из дома, забыв поцеловать на прощание Марту. Выехав на Джордж Вашингтон-паркуэй, он опустил стёкла, и в машину ворвался прохладный утренний ветерок, донёсший слабый запах весны. Мрачные мысли не покидали Маквейга и давили на него тяжёлым бременем, не давая наслаждаться прелестью мартовского дня. Он опять чувствовал себя неуверенно, словно перед ним медленно вырастала стена. Итак, Поль Гриском ничем ему не помог. Да ещё решил, что это сам Маквейг нуждается в помощи психиатра. А этот странный визит Лютера Смита! Зачем понадобилось агенту Секретной службы допрашивать сенатора Соединённых Штатов, если только не… Неужели Смит, и правда, подозревает, что Маквейг замыслил недоброе против президента? Да нет, абсурд. Кто мог забрать себе в голову такую нелепую мысль? Но зачем тогда этот визит? И вообще, почему состояние президента интересует только одного Маквейга? Он со многими беседовал в Сенате, осторожно и невинно вплетая вопросы по ходу беседы. И ни один человек не намекнул, что он заметил что-то странное в поведении президента. Неужели те две ночи в Кэмп Дэвиде были сном? Джим усмехнулся. Ничего не скажешь, тонкий из него получился конспиратор, прямо как водитель самосвала. Пока всё, чего он достиг, — это возбудил подозрения против самого себя минимум у двух людей: у Грискома и Смита. Объезжая переход у Мемориэл-бридж, Джим взглянул в зеркальце на ветровом стекле и заметил следовавший за ним серый «седан». «Седан» этот ничем не отличался от сотен других таких же, но что-то в нём показалось вдруг сенатору смутно знакомым. Огибая Линкольн Мемориэл, он снова посмотрел в зеркальце. Серый «седан» упрямо следовал за ним. За рулём сидел щеголеватого вида молодой человек в модной серой шляпе с короткими полями. Ну, конечно, теперь Маквейг всё вспомнил. В последние дни он уже много раз видел позади себя серый «седан», но до сих пор этот факт как-то проходил мимо его сознания. Лицо водителя он разглядеть не мог, но наклон головы и шляпа хорошо запечатлелись в памяти. Неужели за ним следят? Не может быть! Перед старинным зданием Морского министерства Маквейг свернул налево и поехал по 17-й улице в направлении к Пенсильвания-авеню. Теперь он уже не спускал глаз с зеркальца, — серый «седан» тоже свернул на 17-ю. Когда Маквейг повернул направо — водитель в модной шляпе повторил манёвр. Освещённые ярким солнцем, оба автомобиля проехали мимо Белого дома. Чёрт побери, его действительно преследуют! И вдруг в голове сенатора точно сложились кусочки китайской головоломки, бессмысленные, казалось бы, сочетания составили вдруг разумное целое. Он вспомнил, что в последние дни видел этого молодого человека в модной шляпе с короткими полями несчётное количество раз. Тот с равнодушным лицом стоял рядом с сенатором у прилавка аптеки в Мак-Лине, стоял за ним в очереди в цветочном магазине на Коннектикут-авеню, где Маквейг покупал цветы Марте, был он и в фойе кинотеатра, когда Маквейг водил Чинки на новый фильм. Да, теперь он в этом уверен. И потом, на одном из последних заседаний Сената он тоже видел поблизости это молодое лицо. Теперь он постоянно переводил взгляд на зеркальце. Серый «седан» всё время следовал за ним, не допуская между ним и собой больше двух машин. Когда Маквейг свернул к подземному гаражу Сената, «седан» быстро проехал дальше, снижая скорость. Сознание, что он находится под наблюдением неизвестных лиц, возможно агентов ФБР, ещё больше усилило в Маквейге настроение мрачной подавленности. Он понимал, что ему следовало либо возмутиться, либо расхохотаться. Тот факт, что сенатора Соединённых Штатов и кандидата в вице-президенты страны преследуют сыщики из ФБР, действительно, можно было расценивать либо как зловещий, либо как смехотворный. Но Джим не мог стряхнуть мрачное оцепенение, он чувствовал себя слабым и беспомощным, словно он медленно скатывался в бездонную пропасть. Рассеять это уныние не смог даже кипучий рабочий день. Он диктовал письма влиятельным избирателям, толковал с Флипом Карлсоном, ответил на десяток телефонных звонков и принял три группы посетителей, включая депутацию студентов-четверокурсников из Айовы, наполнивших его кабинет свежей, розовощёкой юностью. Произошёл даже один комический инцидент, позволивший ненадолго отвлечься от невесёлых мыслей. Джессика Байерсон, приторная толстуха, которая уже несколько лет осаждала все приёмные Сената, охваченная твёрдой решимостью заставить Конгресс признать белую хризантему национальной эмблемой страны, ловко проскользнула мимо служащих в приёмной и без доклада впорхнула в святая святых — в кабинет сенатора. При виде её он так и подпрыгнул, ибо миссис Байерсон, или «бабуся», как прозвали её в Сенате, прославилась именно такими неожиданными налётами на государственных деятелей. Он выпроводил её в коридор, схватив дородную даму за оба локтя и подталкивая её впереди себя, как тяжело нагруженную телегу. Закрывая за ней дверь, он услышал астматический протестующий хрип. Но даже эта интерлюдия, потребовавшая от него истинного мужества, не могла прогнать мрачного настроения Маквейга. Мысль о том, что за ним следят сыщики-профессионалы, не выходила из головы. Когда прозвенел звонок на заседание Сената, он устало направился к вагончику подземки, то и дело настороженно оглядываясь по сторонам. Сидя за столом в сенатской комиссии, он никак не мог сосредоточиться на разбираемом вопросе, хотя речь шла о политике повышения оборонспособности США — тема, близко его касавшаяся. Вместо того чтобы слушать дебаты, он оглядывал галереи, всматривался в лица… Маквейг понимал, что бесполезно жаловаться на то, что за ним следят, или, по выражению детективных романов, «висят у него на хвосте». Кто поверит ему, если он расскажет об этой слежке? Он увидел сидевшего во втором ряду Фреда Одлума. Одлум, хитроумный и сардонический старик лет семидесяти, был старшим сенатором от штата Луизиана, председателем комиссии по ассигнованию законопроектов и вероятно самым влиятельным лицом в Сенате. Допустим, Маквейг захочет разрешить свои сомнения и шепнёт Фреду на ухо, что за ним, за Джимом Маквейгом, ведут слежку. Старый Фред просто смерит его взглядом своих выцветших, но всё ещё зорких ястребиных глаз и посоветует не прикладываться к бутылке, по крайней мере, до вечера. Маквейг просидел так примерно час, перескакивая мыслями с Кэмп Дэвида на Пата О’Мэлли, а потом на молодых людей в модных шляпах. Вдруг он почувствовал, что за ним кто-то стоит, и, обернувшись, увидел служащего. Тот вручил ему клочок бумаги, на котором стояло: «Немедленно позвоните Брайярвуд, 9-8877. Очень срочно». Номер телефона Риты. Той самой Риты, которая грозилась вызвать полицию и корреспондента Ассошиэйтэд пресс, если Маквейг когда-нибудь посмеет снова позвонить ей. Теперь она сама хочет говорить с ним. Он вышел из зала и, не решаясь звонить из гардероба демократического крыла Сената, позвонил из платного автомата в коридоре. — Мне немедленно надо тебя видеть, — сказала она. В первое мгновение он даже не узнал её голоса — резкого, не терпящего возражений. — Сейчас идёт заседание Сената, Рита. Боюсь, что сегодня мы задержимся. — Дело неотложное. Тебе лучше приехать сейчас же. — Почему ты дома в такое время дня? — Я неважно себя чувствую. — Голос был безразличный, она явно не искала его сочувствия. — Случилось нечто отвратительное, Джим, и это касается нас обоих. Я не могу говорить об этом по телефону. Маквейга как громом поразило. Господи, да она беременна. Ладони его мгновенно вспотели, ноги ослабли. — Вообще-то я должен следить за дебатами, но я приеду сразу, как только удастся. — О’кэй. — Она бросила трубку, даже не попрощавшись. Был уже четвёртый час дня, когда Маквейг быстро поднялся по ступенькам дома на Оу-стрит, поставив свой автомобиль на новом месте, около Джорджтаунского университета. Отъехав от здания Сената, он опять увидел серый «седая» и твёрдо решил во что бы то ни стало от него отделаться. Он двинулся по центральному шоссе на Балтимору, быстро проехал по кругу и устремился в обратном направлении, сделав несколько крутых поворотов в жилом районе самой северной части города, довольно далеко от Джорджтауна. Три квартала, которые ему пришлось пройти от места стоянки до дома Риты, показались ему десятью милями, но, к своему облегчению, он больше не увидел позади себя молодого человека в модной шляпе. Рита встретила его в строгом чёрном платье с кружевным воротничком. На ней были всё те же тесёмочные сандалии, но Джим заметил, что ногти на ногах были не накрашены. Забыла она и накрасить губы. Кивком головы она показала ему на деревянный стул с прямой спинкой. Раньше Джиму никогда не доводилось бывать в этой маленькой гостиной. Вид у комнаты был нежилой, воздух затхлый, китайские безделушки на стенной полке были покрыты пылью. Рита уселась на маленькую кушетку напротив и посмотрела на него. Она даже не улыбнулась. — Разговор этот для меня так же неприятен, как и для тебя. Поэтому я сразу же перейду к существу дела. — Рита! Я непременно что-нибудь сделаю. Неужели ты сомневалась? Первое, что необходимо сделать, это немедленно показаться лучшему специалисту. — Какому специалисту? О чём ты говоришь? Откуда ты взял, что я больна? Мне не нужен врач. — Как это не нужен? Сколько это утебя уже продолжается? Когда ты первый раз заметила? — Что заметила? — холодно переспросила она. — Может, ты всё-таки соблаговолишь говорить по-английски? — Хорошо. Сколько уже времени ты подозреваешь, что беременна? — Беременна?! Она резко откинула голову и нервно рассмеялась: — Очень лестно. Наконец хоть что-то, касающееся лично меня, заставило тебя призадуматься. Нет, мистер сенатор, ребёнка у меня не будет ни от вас, ни от кого другого. С этой проблемой я, слава богу, в состоянии справиться сама. Вот ты лучше скажи, что мне делать с другой проблемой, которая касается нас обоих. Джим постарался скрыть то облегчение, какое почувствовал при её словах. Сейчас ничего не могло быть хуже, чем беременность Риты Красицкой, абсолютно ничего. Он с трудом удержался от улыбки. — Вчера вечером и сегодня утром меня навещали агенты. Тот, что был вчера, сказал, что он из ФБР. Утром ко мне пришёл агент Секретной службы. Оба хотели знать примерно одно и то же. — Что, Рита, ради бога, что? — спросил Маквейг, заранее предчувствуя, какой последует ответ. Серый «седан»! Молодые люди в шляпах! — Они хотели знать всё о тебе и обо мне. Агент ФБР был очень осторожен и вежлив, сказал, что это простое дознание. Потом немного помямлил и вдруг спросил напрямик, приходил ли ты когда-нибудь ко мне сюда. С минуту я колебалась, а потом поняла, что ФБР врать бесполезно. У них свои методы проверки, а мне не хочется терять работу. Поэтому я сказала, что да, приходил. Он захотел узнать, сколько раз. Я ответила, что точно не помню, может, раз десять. Тогда он извиняется и спрашивает, были ли наши отношения интимными. Я послала его к чёрту. А про себя подумала: попробуй-ка установи, если тебе так надо. — А что он? — Ничего. Даже не улыбнулся. Задал мне ещё несколько вопросов, спросил, давно ли мы с тобою знакомы и тому подобное, и вскоре ушёл. Теперь, Маквейг, я хочу задать тебе вопрос. О нашей с тобой… дружбе я не обмолвилась никому. А ты? — Никому. Джим мгновенно вспомнил о Грискоме и о его небрежном признании, что он видел на Оу-стрит человека, удивительно похожего на Маквейга. — Как же, в таком случае, пронюхало о нас ФБР? — Поль Гриском живёт напротив тебя. На днях он говорил мне, что видел, как я выходил из твоей квартиры. — Господи, какая мерзость! Так значит ФБР расспрашивало о нас Грискома, да? Но почему? Почему, хотела бы я знать? — Понятия не имею, — сказал Джим. К нему опять вернулось знакомое чувство, как будто вокруг вырастает стена. С минуту они помолчали. Она пристально на него смотрела. — У меня есть только один ответ, — сказал он наконец, — может статься, что Холленбах приказал произвести дознание в отношении тех людей, кандидатуры которых он рассматривает. — Но этого не может быть! Этого ещё не проделывал ни один президент! — Марк, вообще, не такой, как все, — ответил он. — Мы с тобой оба это знаем. И у него может хватить дерзости устроить слежку за сенатором Соединённых Штатов. Его вдруг охватила страшная злоба. Что он, умолял, что ли, избрать его вице-президентом? Ведь это была целиком идея самого Холленбаха. И всё-таки президент до такой степени не доверяет ему, что напустил на него своих ищеек, словно он обыкновенный мошенник. — Не очень-то удачное объяснение. Допустим, что в отношении ФБР это так и есть. Но как ты объяснишь визит Секретной службы? Какое это имеет отношение к ФБР? Разве служба занимается такими дознаниями? — А что понадобилось агенту Секретной службы? — Нет, сначала ты ответь на мой вопрос. Как могло случиться, что мною заинтересовалась служба? — Этого я не могу тебе сказать, детка. — Слово сорвалось у него по привычке. — Не смей называть меня деткой! Отвечай на мой вопрос! — Честно, Рита, откуда мне знать? Я даже догадаться не могу, ты ведь ничего мне не рассказываешь. — Он спрашивал меня то же самое, что и тот тип из ФБР. Давно ли мы с тобой знакомы? Была ли это любовная связь? Оставался ли ты ночевать? Ты просто не представляешь, как отвратителен, как унизителен был весь этот допрос! Меня точно раздевали. И особенно унизительно это было потому, что я хорошо знаю агента. — Вот как? — Да. Его зовут Лютер Смит. Я его давно знаю, и он мне даже нравился. Теперь он, конечно, думает, что я дешёвая шлюха! Она бросилась на кушетку, плечи её затряслись от рыданий. Джим подошёл и ласково положил ей на плечо руку, но она отпрянула: — Не смей ко мне прикасаться! Успокоившись, она взяла предложенный Джимом платок: — Как же ты всё-таки объяснишь этот визит, Джим? — Просто не знаю, что и думать. — Он сам чувствовал, что это звучит неубедительно, но не мог же он рассказать ей о нелепых, фантастических ночах в Кэмп Дэвиде и о всех своих сомнениях? Она ни за что бы ему не поверила, да он и не станет рассказывать об этом, пока сам во всём не удостоверится. Так, значит, это правда? За ним действительно следит Секретная служба! Значит у Лютера Смита, а возможно, и у самого Бразерса есть причины сомневаться в лояльности Маквейга? Им известны его посещения Кэмп Дэвида, известно, что он посылал Карлсона в Ля Бёлль. Они, возможно, решили, что Маквейг что-то замышляет против президента. Он опять почувствовал себя одиноким, отрезанным от реального мира, того самого мира, в котором Рита оплакивает свою испорченную репутацию. — Ничего не могу сказать тебе, Рита. Могу только обещать, что выясню всё во что бы то ни стало. И тогда дам тебе знать. Она встала и посмотрела ему прямо в глаза. Её оливковое лицо, без губной помады и косметики, показалось ему постаревшим. Джиму стало жаль её, но он отметил, что она уже больше не вызывает в нём прежнего желания. Всё было кончено, страсть проржавела, как тонкое железо от слишком долгого пребывания на дожде. Рита теперь казалась ему совсем другой, беззащитной и жалкой. — Прости меня, Джим, — сказала она. — Я сама всё это затеяла. Я всё время забываю, что это я первая позвонила тебе тогда. Ты ведь даже не хотел и приходить, помнишь? — Только без сожалений, Рита! Ты же помнишь наше условие? И, прошу тебя, не волнуйся. Всё, несомненно, объясняется очень просто, и я сразу же позвоню тебе, как только разузнаю. Она быстро поцеловала его в ямочку на подбородке: — Спасибо, Джим! Бросив враждебный взгляд на дом Грискома, Маквейг спустился по ступенькам. Затем он погрузился в невесёлые размышления и забыл осмотреться по сторонам. Поэтому он не заметил, что на углу квартала стоит молодой человек в шляпе с короткими полями. Не заметил он также их семейного «пикапа», в котором сидели Марта и Чинки. Автомобиль проехал мимо него как раз в тот момент, когда он направился в сторону Джорджтаунского университета. — Смотри-ка, мам, — сказала Чинки. — Ведь это же наш папа! Марта, не сбавляя скорости, посмотрела через плечо. — Нет, Джейн, — быстро сказала она, — это не он, ты обозналась. — Да нет же, мам, говорю тебе, это он. Как всегда, без шляпы, его шевелюра, его белое пальто из крокодиловой кожи. Да и походка его, смотри-ка! Давай-ка лучше остановимся и подберём его. — Говорю тебе, ты обозналась, — твёрдо сказала Марта. — Твой отец сейчас в Сенате. Они там всё ещё заседают. Она нажала на акселератор, и автомобиль рванулся вперёд. Чинки ещё долго смотрела в заднее стекло, стараясь разглядеть человека в белом пальто, быстро шагавшего по тротуару.ГЛАВА 9. ПАТРИК О’МЭЛЛИ
Сенатор Маквейг быстро шагал в направлении Джорджтаунского университета, не обращая внимания на редких прохожих. Солнце зашло, и по Оу-стрит разгуливал прохладный вечерний ветерок, шевеливший волосы и трепавший одежду. Джим машинально застегнул пальто. Мысли его были по-прежнему сосредоточены на Рите и на новом, неожиданном выпаде ФБР. Сенатор Соединённых Штатов в роли подследственного — само по себе достаточно необычное явление, но оказаться объектом слежки сразу двух правительственных сыскных организаций — это уж и вовсе неслыханно! Расследование ФБР проводилось скорее всего по инициативе Марка Холленбаха. Но чтобы президент приказал вести слежку за выдвинутым им самим кандидатом в вице-президенты!.. Маквейг шагал, опустив голову и бессмысленно всматриваясь в шероховатую брусчатку. Посылать агентов ФБР рыскать по его следам и выспрашивать его друзей было со стороны Марка невероятной наглостью. От одной только мысли об этом вскипала кровь. Теперь ФБР уже, конечно, всё знает о Рите, и скоро на стол президента положат официальное донесение, бесцветное, как железнодорожное расписание. Он даже представил себе, каким языком оно будет написано. «В результате расследования было установлено, что за двухлетний период подозреваемый многократно посещал квартиру некоей миссис Красицкой, работающей в комитете демократической партии. При разговоре с нашим агентом миссис Красицкая наотрез отказалась обсуждать характер своих отношений с подозреваемым, который посещает её квартиру, как правило, в ночное или вечернее время. Один из соседей Красицкой, мистер Поль Гриском, адвокат, показал, что перед тем, как покинуть квартиру Красицкой, подозреваемый внимательно оглядывает улицу. Будучи спрошена об этом, миссис Красицкая вышла из себя и…» Впрочем, прервал свои размышления Джим, злость её будет ничто по сравнению с яростью президента Холленбаха, когда он прочитает этот протокол. Какой-то юноша в свитере, наверное студент Джорджтаунского университета, стоял у обочины тротуара, прижимая к уху крошечный портативный приёмник. Джим мельком подумал, что барабанные перепонки у него не иначе как из свинца: приёмник был включён на полную громкость. «Повторяем наше сообщение: президент Холленбах встретится 20 апреля в Стокгольме (Швеция) с премьер-министром СССР. Подробное сообщение будет передано по шестичасовой программе новостей. Слушайте нашу передачу!» Мгновенье Джим стоял неподвижно, и вдруг его снова охватило мрачное предчувствие, появлявшееся всё чаще за последние дни. Не пройдёт и трёх недель, как Холленбаху придётся встретиться с непреклонным и практичным русским премьером! И где — в Швеции! Не намеренно ли Холленбах выбрал местом встречи именно эту страну, и не хитроумный ли это ход в связи с «Великим планом»? Может, выбором Холленбаха руководило то же чувство, что и в случае с кандидатурой Маквейга, когда решающую роль сыграло шведское происхождение его жены? Внезапно Маквейг понял: встречу президента с советским премьером ни в коем случае нельзя допустить! Ведь в теперешнем своём состоянии Марк способен на что угодно! Кто знает, какими роковыми последствиями грозит эта встреча? Зучек, блестящий дипломат со стальными нервами, беззаветно преданный интересам своей страны, — и Холленбах, чей некогда блестящий ум теперь угнетён воображаемыми преследованиями, Холленбах, который теперь играет с судьбой всего человечества, как ребёнок с кубиками! Эту встречу необходимо отменить во что бы то ни стало, любым способом! А кто может отменить её, кто ещё, кроме Маквейга, способен действовать? Ведь никому ещё и в голову не приходило то, о чём Маквейг знал уже наверное. Да, теперь он уже нисколько не сомневался. Действовать немедленно! Его собственные маленькие, ничтожные тревоги ничего уже не значили перед лицом этой огромной, страшной опасности. На карту поставлена судьба нации! Мысль эта вызвала у него улыбку. Подумать только, Джим Маквейг, мотылёк — и приносит себя в жертву своей стране! Ладно, может, это и нелепо, но куда от этого денешься! Так сделай же что-нибудь, Маквейг! Сейчас, безотлагательно! Джим неуверенно осмотрелся. На углу следующего квартала он увидел телефонную будку и быстро направился к ней. Нужно предупредить Марту, сказать, что он задержится. Он набрал номер и стал ждать, но никто не подошёл. Джим достал маленькую записную книжку, которую всегда носил при себе. Он отыскал незарегистрированный домашний телефон вице-президента О’Мэлли, снова опустил монету в щель автомата и набрал номер. К телефону подошла Грэйс О’Мэлли, её звонкий, как у певчей птицы, голос выразил удивление. В последнее время не многим важным людям в городе требовалось говорить с Патом, сказала она. Но мужа к телефону подозвала. — Здравствуй, Джим, если это действительно ты. А я как раз собрался выпить первую за этот день рюмку. Ты говоришь, срочно? Ну, это ты брось, для меня теперь уже ничего не может быть срочного, но ты, конечно, приезжай, вы-пить-то по одной перед обедом мы с тобой всегда можем. Уже сидя в автомобиле, Джим снова вспомнил о слежке. Он поднял глаза к зеркальцу. Серого «седана» не было, но Джим быстро убедился, что теперь его преследует такая же машина, только чёрного цвета. Чтобы проверить подозрение, Джим сделал неожиданный поворот, — чёрный «седан» не отставал. Джим подъехал к платному гаражу позади Хильтон-отеля, сунул доллар в руку служащему и через запасной выход выбежал в длинный, крытый проход, ведущий на Кэй-стрит. Там он устремился к стоянке такси, вскочил в первую попавшуюся машину и приказал водителю гнать вовсю к Капитолию, пообещав щедрые чаевые за превышение скорости. Вице-президент жил на расстоянии квартала от Конгрешнл-отеля в двухэтажном, заново отстроенном каменном доме, совсем недалеко от своей официальной резиденции. Вылезая из такси, Джим осмотрелся и с облегчением увидел, что никакого чёрного «седана» поблизости нет. Грэйс О’Мэлли, маленькая весёлая женщина, здороваясь с Джимом, улыбнулась ему серыми глазами, подхватила под руку и увлекла за собой. — Он в библиотеке, — сказала она. — Замышляет там что-то новое о спортивных аренах и подрядчиках. На этот раз, наверно, что-нибудь уж совсем убийственное. Дверь в библиотеку была приоткрыта. Патрик О’Мэлли сидел в потёртом, удобном кожаном кресле и при виде сенатора тяжело поднялся ему навстречу. Левой рукой он сжимал бокал. Не иначе как виски с содовой, подумал Маквейг. Правую руку, большую и мясистую, О’Мэлли протянул Джиму. У Пата О’Мэлли было полное продолговатое лицо, обвисшее, словно у таксы. Брюшко было изрядное, походка медленная и тяжёлая. Встречаясь с Патом в первый раз, вы сразу же испытывали чувство облегчения, словно вошли в знакомый бар и знаете, что разговор тут пойдёт откровенный и не слишком чопорный. — Ты прямо как на голову свалился. Джим. А я-то думал, что наш молодой шотландец сейчас в Висконсине, наслаждается плодами своего успеха. — Да, у меня теперь есть шанс, Пат. Но я рад, что всё это случилось уже после того, как ты заявил, что не станешь больше выставлять своей кандидатуры. Я никогда не говорил тебе об этом, Пат, — но я тебе искренне сочувствую. Тебе просто здорово не повезло.
О’Мэлли в ответ только махнул громадной рукой:
— Ну уж, своё сочувствие, молодой человек, оставь-ка лучше при себе! С этим всё покончено раз и навсегда. Теперь у меня одна забота — как бы мне, старику, пожить для разнообразия честно. Выпить хочешь?
Джим кивнул:
— Налей мне, пожалуйста, чистого шотландского.
О’Мэлли укоризненно покачал головой, его дряблые щёки затряслись:
— Вас там, в Айове, воспитывают на первоклассном виски с содовой, а потом вы приезжаете сюда, на восток, и опускаетесь до неразбавленного шотландского.
Из длинного ряда бутылок на нижней полке шкафа вице-президент выбрал одну, налил из неё в чистый бокал и, протянув его Маквейгу, откинулся в кресле. На улице к тому времени стемнело, и О’Мэлли включил торшер, стоявший тут же, возле кресла. Две стены комнаты были доверху уставлены книжными полками, две другие — увешаны надписанными фотографиями политических деятелей обеих партий.
Заметив взгляд Маквейга, вице-президент сказал:
— Немного из них осталось в живых, — я, видно, засиделся. Ну, что ж, молодой человек, давай выкладывай, что там у тебя такого срочного.
— Да, Пат, слоняться вокруг да около нет смысла. Дело в том, что у нас тут, в Вашингтоне, происходит нечто ужасное, и если подозрения мои верны, то нашей стране угрожают серьёзные неприятности.
— Что же ты подозреваешь?
— Я подозреваю… — Джим нерешительно запнулся. — Я подозреваю — на основании своих личных наблюдений и некоторых дополнительных доказательств — что у президента Холленбаха тяжёлая форма психического расстройства!
Джим хотел было продолжать, но невольно остановился, застигнутый врасплох значением сказанного им. Как долго и мучительно он размышлял над этим, Грискому рассказал обо всём вкратце, не называя имён, и вот впервые произнёс вслух имя. И слова его показались ему какими-то далёкими и невесомыми, словно он швырял камешки в глубокий каньон, а теперь ждёт, пока до него донесутся звуки ударов. Потом воображаемое эхо слов исчезло, и в комнате воцарилось молчание. О’Мэлли дымил сигарой, в упор глядя на Маквейга, точно выискивая в его словах скрытый смысл.
— Скоро сорок лет как я занимаюсь политикой, и мне впервые приходится слышать такое страшное обвинение!
— Я знаю, Пат. Но вот уже две недели меня одолевает эта мысль и, боюсь, скоро доконает. Я пришёл к тебе потому, что ты единственный, к кому можно обратиться с таким делом. Но только это долгая история, и тебе, пожалуй, нужно выслушать всё с самого начала.
На этот раз Джим рассказал обо всём подробно, не назвав только имя Риты. Он начал с первой встречи в Кэмп Дэвиде, стараясь как можно точнее передать её мрачную атмосферу. Рассказал о загадочной вспышке ярости Холленбаха в связи с делом О’Мэлли и о безумных его нападках на Крейга Спенса и банкира Дэвиджа. Описывая вторую встречу с Холленбахом в Кэмп Дэвиде, когда президент поведал ему о своём «Великом плане», Джим постарался вспомнить все подробности этой сцены. Рассказал, как сверкали глаза Холленбаха и как невнятна была его речь, упомянул о его маниакальном намерении использовать вооружённую силу против европейских государств. Потом он перешёл к последующим событиям: поездке Флипа Карлсона в Ля Бёлль, допросу, устроенному из-за этого Лютером Смитом, слежке ФБР и допросу Риты. Не называя её имени, он всё же намекнул о своих отношениях с ней и передал содержание их сегодняшнего разговора. Рассказ занял более получаса.
О’Мэлли ни разу не прервал Маквейга, он не спускал с него пристального взгляда и только иногда косился в сторону, чтобы получше рассмотреть кольца дыма своей сигары. От дыма в комнате потемнело. Когда Джим кончил, О’Мэлли принялся старательно разминать в пепельнице окурок. Наступило молчание.
Когда О’Мэлли наконец заговорил, голос его прозвучал неестественно тихо:
— Джим, знаешь, какое ты производишь впечатление?
— Не понимаю, что ты хочешь сказать.
— Я хочу сказать, что всякий, кто тебя выслушает, придёт к выводу, что параноик не Холленбах, а ты.
У Джима возникло знакомое уже ощущение болезненной пустоты в желудке. Сначала Гриском, потом Лютер Смит, и вот теперь ещё Патрик О'Мэлли!
— Господи помилуй, Пат, — воскликнул он, но, заметив, что голос его дрожит от возбуждения, сделал усилие и постарался говорить непринуждённо. — Скажи честно, Пат, неужели ты, правда, думаешь, будто я сумасшедший?
— А ты посмотри-ка на факты, — ответил О’Мэлли. — Вот ты сидишь здесь передо мной, тебе тридцать восемь лет, ты сенатор первого срока — мальчишка в нашем деле — и выставляешь свою кандидатуру на должность, которую занимаю я. Чем это не мания величия? Потом ты рассказываешь мне, что за тобою охотятся агенты ФБР и что тебя преследуют серые и чёрные «седаны», управляемые таинственными молодыми людьми. Разве это не мания преследования? И — давай уж начистоту! — ты несомненно находишься в крайне возбуждённом состоянии.
Вице-президент поглубже устроился в кресле, глаза его смотрели на Маквейга неотступно и пристально, лицо сохраняло выражение мрачной задумчивости.
— Джим, позволь мне напрямик задать тебе один вопрос. Почему ты так стараешься доказать, что президент Соединённых Штатов безумен?
Маквейгу показалось, что он с головой окунулся в непроницаемый туман. В нём так всё и кипело от злости, но он переборол себя.
— Пат, — сказал он очень тихо, но внятно, — поверь мне, я бы скорее согласился, чтобы повредился разум у собственной моей дочери, чем оказаться впутанным во всё это дело. И с какой стати мне понадобилось бы это именно теперь? Ты, наверное, ничего об этом не знаешь, но только Холленбах сам вызывал меня к себе и сказал, что хочет видеть меня своим помощником. Не я заварил всю эту канитель с выборами, Пат. Это его идея, он сам предложил это и взял на себя всю организацию. И кампания, открытая в мою пользу в Висконсине, — дело исключительно его рук. Я не преувеличиваю. Так что, сам понимаешь, если я сейчас буду помалкивать, то 20 января следующего года сделаюсь вице-президентом страны. И ты хорошо знаешь это, Пат, — ведь у республиканцев нет ни единого шанса. Так зачем мне нужно портить самому себе всю обедню, скажи ты мне ради бога?
— Именно этот вопрос я и задаю себе, Джим, — сдержанно проговорил О’Мэлли, — но ответа не нахожу.
— Слушай дальше, Пат. Только не заставляй меня произносить речи о конституции, о демократии и прочем. Конечно же, мы все их почитаем и делаем всё от нас зависящее, чтобы сохранить их в том виде, в каком они существуют. Но только тут всё гораздо проще, Пат! Я начинаю о себе думать как о профессионале, пусть ты даже и не считаешь меня таковым. И как профессионал, я не желаю, чтобы мною командовал безумец!
О’Мэлли неожиданно улыбнулся, в первый раз с тех пор как он налил шотландского виски в бокал Джима.
— Вот теперь я вижу, что ты говоришь на моём языке, — сказал он и потянулся за пустым бокалом сенатора. — Тебе надо ещё выпить, да и мне тоже не мешает.
Приготовив напитки, О’Мэлли уселся, поднял бокал и улыбнулся:
— Ты мне нравишься, Джим. И всегда нравился. Нет, конечно, я вовсе не думаю, что ты свихнулся. Но и согласиться с твоими выводами я не могу. Если даже ты и прав, то разве не возможно, что это у Марка временное состояние, как предположил Гриском? Почему ты думаешь, что надо принимать срочные меры?
— А встреча с Зучеком в Швеции? Не думаю, что человек, страдающий психическим заболеванием — любого характера или длительности, — должен представлять Соединённые Штаты во время встречи один на один с таким крепким орешком, как Зучек.
— Зучек? Швеция? Да о чём ты говоришь, Джим?
— Ты что, разве ничего не знаешь об итоговой конференции, назначенной на 20 апреля в Стокгольме?
— Впервые слышу, — покачал головой О’Мэлли. — Меня теперь ни о чём не ставят в известность… Они мне теперь не доверяют.
— Белый дом заявил об этом около пяти часов. Вот почему я и сказал, что дело это неотложное. Нам надо во что бы то ни стало удержать Холленбаха от поездки в Швецию.
— Не забудь только, что прежде потребуется доказать правильность твоего диагноза.
О’Мэлли достал новую сигару и снова проделал весь утомительный ритуал раскуривания.
— Джим, допустим на минуту, что ты прав, скажи, почему ты всё-таки пришёл именно ко мне? Чем я-то могу помочь тебе?
— Да ведь это же ясно, Пат. Ты разве забыл, что у тебя с президентом существует соглашение на случай его неспособности управлять страной? Как я понимаю, а я недавно прочитал массу материала по этому вопросу, ты единственный человек, которому дано право действовать. Только ты можешь предъявить ему обвинение в такой неспособности.
— Обвинение? Ты имеешь в виду параграф о неспособности в той поправке, которую внесли в Конституцию несколько лет назад?
Джим кивнул.
— Там говорится, — продолжал О’Мэлли, — что президент может сделать письменное заявление о своей неспособности управлять страной. Или же вице-президент может взять на себя управление страной с письменного согласия большинства правительственного кабинета.
О’Мэлли отхлебнул из бокала и внимательно посмотрел на Маквейга:
— Ты что же, думаешь, президент Холленбах сделает такое заявление и признается, что он безумен?
— Нет, конечно, не сделает. Но ты же сам говоришь, Пат, что можешь взять на себя управление страной, заручившись письменной поддержкой большинства кабинета.
О’Мэлли отставил бокал. Он переместил сигару из одного угла рта в другой. Потом он снова посмотрел на Маквейга и осуждающе покачал головой:
— Ты, я вижу, недостаточно всё продумал. Условие, которое мы разработали в шестидесятых годах после нескольких заседаний специальной комиссии под председательством сенатора Бирча Бэя, было вполне уместно, но никто никогда и в мыслях не допускал, что оно может быть использовано для такого сложного дела, как психическое заболевание. Сердечный приступ, удар, несчастный случай — это ещё куда ни шло, тут всякому ясно, что президент неспособен к управлению. Но психическое расстройство — это нечто посложнее. Слишком неопределённо, слишком скользко. Всё равно, что искать монету в горшке с клейстером. — О’Мэлли пожал плечами. — Если бы я даже был уверен, что ты прав, я всё равно за это не взялся бы.
Маквейга охватил страх, но он упрямо продолжал настаивать:
— Но ведь, Пат, паранойя — а я уверен, что у Марка именно паранойя, — ведь это ещё хуже любого несчастного случая. Представь себе параноика, ведущего переговоры с Зучеком или неожиданно поставленного перед дилеммой — применить атомную бомбу или нет?
— Всё это я прекрасно понимаю, Джим, но подумай сам о практической стороне дела. Разве смогу я убедить большинство кабинета, основываясь только на тех доказательствах, которыми располагаешь ты? Кроме того, президент, конечно, узнает обо всём, и тогда начнётся такое, что небу станет жарко. Правительство развалится.
О’Мэлли выпустил плотное серое кольцо дыма, которое лениво поползло вверх и медленно растаяло. Джим следил за ним и чувствовал, как тают его собственные надежды, и всё-таки какое-то внутреннее побуждение заставляло его быть настойчивым.
— Ты говорить о конституции и о внесённой в неё поправке, а я тебя спрашиваю о твоём собственном соглашении с Холленбахом. Ты же обязан предпринять соответствующие действия, как только заметишь, что президент не в состоянии справиться со своими обязанностями.
О’Мэлли недоверчиво посмотрел на сенатора:
— Мы говорим с тобой на разных языках, Джим. — О’Мэлли усиленно запыхтел сигарой. — Ты убеждён, что Марк не в своём уме, я же совсем в этом не уверен. Таким образом, мы с тобой сейчас подошли к тому самому камню преткновения в вопросе о неспособности президента, который ставил в тупик всех юристов, занимавшихся разработкой конституции со времени её составления — около двухсот лет назад. Позволь мне немного углубиться в историю этого вопроса, тогда ты поймёшь, о чём я говорю.
О’Мэлли говорил медленно и терпеливо, словно проводил семинар в колледже. Он охарактеризовал историю всех споров и сомнений, когда-либо возникавших по поводу подраздела конституции, в котором говорилось о неспособности президента управлять страной. Он припомнил, как вице-президент Честер Артур отказался принять на себя обязанности президента Гарфилда, когда последнего сразила пуля убийцы и он в течение восьмидесяти дней находился на грани жизни и смерти, и как вице-президент Том Маршалл во время болезни президента Вудро Вильсона позволил миссис Вильсон и врачу Белого дома фактически править страной от имени президента в течение почти двух лет. Так просто взять и сместить президента Соединённых Штатов с его поста, сказал О’Мэлли, ни у кого рука не поднимется, потому что если даже не говорить о личности президента, то уже сам пост его внушает уважение, доходящее почти до благоговения. И так будет всегда! О’Мэлли говорил, а Маквейг смотрел на его трясущиеся щёки и выразительно жестикулирующие руки и думал о том, как он мало знает этого ирландца, этого политика, по внешности напоминавшего карикатуру на какого-нибудь босса из Тамани-холла.
О’Мэлли между тем с головой окунулся в историю отношений, существовавших между вице-президентами и их патронами. Он говорил об этом с таким точным и исчерпывающим знанием предмета, какое редко можно встретить даже в учёном исследовании.
— Ты добиваешься, чтобы я взял инициативу в свои руки, но я этого делать не стану. Я и пальцем не шевельну — так же, как и Честер Артур и старый Томас Маршалл.
— Ну а стал бы ты действовать, если б был уверен, что Марк сошёл с ума?
О’Мэлли стряхнул пепел сигары в зелёную пепельницу и, нахмурившись, оглядел результаты своих трудов, словно наблюдая сложный механический процесс. Потом медленно покачал головой:
— Нет, Джим, не стал бы. Во всяком случае, без твёрдой поддержки лидеров нашей партии ни за что не стал бы. При теперешних обстоятельствах такой поступок оказался бы гибельным для страны. Ты что, забыл про художественную комиссию, про Жилинского и спортивную арену?
— Нет, не забыл, конечно.
— Кто теперь, по-твоему, мне поверит? — Тон вице-президента стал едким и злым. — Все бы просто решили, что я старый гнусный мошенник, пытающийся свалить президента в отместку за то, что он потребовал моей отставки. А сам Холленбах? Допустим, ты прав, и он, действительно, параноик! Ты что же думаешь, он будет сидеть сложа руки и смотреть, как я его выживаю из Белого дома? Нет уж, Джим, давай смотреть на вещи трезво. Меня либо подымут на смех, либо вообще спишут со счетов.
За окном уже сгустилась ночь, и Джим чувствовал, как с наступлением темноты тает его уверенность. Словно погас свет в последнем окне в конце тупика. Он решился на последнюю попытку:
— Послушай, Пат! Ты говоришь, что не станешь действовать без твёрдой поддержки руководства партии. Я знаю, ты сомневаешься в достоверности всего, что от меня услышал, но признайся, ведь твои сомнения усугубляются тем особым положением, в котором ты очутился. А что если ты позволишь мне рассказать обо всём небольшой группе лидеров нашей партии, которых ты мне сам назовёшь? Кабинет, действительно, слишком громоздок и ненадёжен, там моментально всё выплывет наружу. Но можно собрать небольшую группу людей и предупредить их, что всё сказанное не подлежит огласке! Если эта группа не поверит мне, что ж, значит — делу конец. Но если она сочтёт, что необходимо что-то предпринять, у тебя будет необходимая поддержка, ты сможешь действовать соответственно соглашению и обратиться к кабинету уже официально. А может, сочтут необходимым какое-то дальнейшее расследование… Как ты считаешь?
О’Мэлли оживился.
— Вот это, действительно, мысль, — сказал он.
Маквейг просветлел:
— О’кэй. Может быть, тебе пригласить наиболее влиятельных членов Сената, скажем, заместителя председателя Сената Никольсона, Фреда Одлума и кого-нибудь из республиканцев, для того чтобы совещание было представлено обеими партиями?
— И не подумаю доверять республиканцам в таком щепетильном деле, да ещё перед самыми выборами! — отрезал О’Мэлли. — Нет, Джим, об этом и речи быть не может!
Маквейг благоразумно отступил, но не сдался.
— Что ж, пусть будет по-твоему, — сказал он. — А как насчёт Грэди Каванога? Он влиятельная фигура, представитель Верховного суда и один из тех демократов, которые пользуются всеобщим доверием.
— Грэди отлично подойдёт. И потом, он просто гениален при разборе доказательств. Честно говоря, я скорее бы поверил всей этой истории, если бы знал, какого он о ней мнения.
Итак, всё устроилось наилучшим образом. Они ещё поговорили немного о деталях, и оба согласились, что совещание лучше всего собрать в загородной вилле Каванога, если только судья не будет возражать. Грэди был вдовец, ему принадлежали двести акров земли и дом на высокой горе с видом на Сен-Леонард Крик, в шестидесяти милях от Вашингтона. Грэди проводил там обычно конец недели. Место было уединённое, отделённое от главного шоссе густым лесом. Они решили созвать совещание в четверг, если это устроит остальных.
О’Мэлли проводил Джима вниз.
У парадной двери вице-президент дружески сжал руку Маквейга.
— Джим, — тихо сказал он, — должен тебя предупредить: никто не поверит тебе, если ты не привезёшь в четверг эту женщину, которая может рассказать об инциденте между Холленбахом и Дэвиджем!
— Ради бога, Пат…
— Это моё твёрдое мнение.
Джим нахмурился.
— Посмотрим, — сказал он неуверенно.
— Да, у меня теперь есть шанс, Пат. Но я рад, что всё это случилось уже после того, как ты заявил, что не станешь больше выставлять своей кандидатуры. Я никогда не говорил тебе об этом, Пат, — но я тебе искренне сочувствую. Тебе просто здорово не повезло.
О’Мэлли в ответ только махнул громадной рукой:
— Ну уж, своё сочувствие, молодой человек, оставь-ка лучше при себе! С этим всё покончено раз и навсегда. Теперь у меня одна забота — как бы мне, старику, пожить для разнообразия честно. Выпить хочешь?
Джим кивнул:
— Налей мне, пожалуйста, чистого шотландского.
О’Мэлли укоризненно покачал головой, его дряблые щёки затряслись:
— Вас там, в Айове, воспитывают на первоклассном виски с содовой, а потом вы приезжаете сюда, на восток, и опускаетесь до неразбавленного шотландского.
Из длинного ряда бутылок на нижней полке шкафа вице-президент выбрал одну, налил из неё в чистый бокал и, протянув его Маквейгу, откинулся в кресле. На улице к тому времени стемнело, и О’Мэлли включил торшер, стоявший тут же, возле кресла. Две стены комнаты были доверху уставлены книжными полками, две другие — увешаны надписанными фотографиями политических деятелей обеих партий.
Заметив взгляд Маквейга, вице-президент сказал:
— Немного из них осталось в живых, — я, видно, засиделся. Ну, что ж, молодой человек, давай выкладывай, что там у тебя такого срочного.
— Да, Пат, слоняться вокруг да около нет смысла. Дело в том, что у нас тут, в Вашингтоне, происходит нечто ужасное, и если подозрения мои верны, то нашей стране угрожают серьёзные неприятности.
— Что же ты подозреваешь?
— Я подозреваю… — Джим нерешительно запнулся. — Я подозреваю — на основании своих личных наблюдений и некоторых дополнительных доказательств — что у президента Холленбаха тяжёлая форма психического расстройства!
Джим хотел было продолжать, но невольно остановился, застигнутый врасплох значением сказанного им. Как долго и мучительно он размышлял над этим, Грискому рассказал обо всём вкратце, не называя имён, и вот впервые произнёс вслух имя. И слова его показались ему какими-то далёкими и невесомыми, словно он швырял камешки в глубокий каньон, а теперь ждёт, пока до него донесутся звуки ударов. Потом воображаемое эхо слов исчезло, и в комнате воцарилось молчание. О’Мэлли дымил сигарой, в упор глядя на Маквейга, точно выискивая в его словах скрытый смысл.
— Скоро сорок лет как я занимаюсь политикой, и мне впервые приходится слышать такое страшное обвинение!
— Я знаю, Пат. Но вот уже две недели меня одолевает эта мысль и, боюсь, скоро доконает. Я пришёл к тебе потому, что ты единственный, к кому можно обратиться с таким делом. Но только это долгая история, и тебе, пожалуй, нужно выслушать всё с самого начала.
На этот раз Джим рассказал обо всём подробно, не назвав только имя Риты. Он начал с первой встречи в Кэмп Дэвиде, стараясь как можно точнее передать её мрачную атмосферу. Рассказал о загадочной вспышке ярости Холленбаха в связи с делом О’Мэлли и о безумных его нападках на Крейга Спенса и банкира Дэвиджа. Описывая вторую встречу с Холленбахом в Кэмп Дэвиде, когда президент поведал ему о своём «Великом плане», Джим постарался вспомнить все подробности этой сцены. Рассказал, как сверкали глаза Холленбаха и как невнятна была его речь, упомянул о его маниакальном намерении использовать вооружённую силу против европейских государств. Потом он перешёл к последующим событиям: поездке Флипа Карлсона в Ля Бёлль, допросу, устроенному из-за этого Лютером Смитом, слежке ФБР и допросу Риты. Не называя её имени, он всё же намекнул о своих отношениях с ней и передал содержание их сегодняшнего разговора. Рассказ занял более получаса.
О’Мэлли ни разу не прервал Маквейга, он не спускал с него пристального взгляда и только иногда косился в сторону, чтобы получше рассмотреть кольца дыма своей сигары. От дыма в комнате потемнело. Когда Джим кончил, О’Мэлли принялся старательно разминать в пепельнице окурок. Наступило молчание.
Когда О’Мэлли наконец заговорил, голос его прозвучал неестественно тихо:
— Джим, знаешь, какое ты производишь впечатление?
— Не понимаю, что ты хочешь сказать.
— Я хочу сказать, что всякий, кто тебя выслушает, придёт к выводу, что параноик не Холленбах, а ты.
У Джима возникло знакомое уже ощущение болезненной пустоты в желудке. Сначала Гриском, потом Лютер Смит, и вот теперь ещё Патрик О'Мэлли!
— Господи помилуй, Пат, — воскликнул он, но, заметив, что голос его дрожит от возбуждения, сделал усилие и постарался говорить непринуждённо. — Скажи честно, Пат, неужели ты, правда, думаешь, будто я сумасшедший?
— А ты посмотри-ка на факты, — ответил О’Мэлли. — Вот ты сидишь здесь передо мной, тебе тридцать восемь лет, ты сенатор первого срока — мальчишка в нашем деле — и выставляешь свою кандидатуру на должность, которую занимаю я. Чем это не мания величия? Потом ты рассказываешь мне, что за тобою охотятся агенты ФБР и что тебя преследуют серые и чёрные «седаны», управляемые таинственными молодыми людьми. Разве это не мания преследования? И — давай уж начистоту! — ты несомненно находишься в крайне возбуждённом состоянии.
Вице-президент поглубже устроился в кресле, глаза его смотрели на Маквейга неотступно и пристально, лицо сохраняло выражение мрачной задумчивости.
— Джим, позволь мне напрямик задать тебе один вопрос. Почему ты так стараешься доказать, что президент Соединённых Штатов безумен?
Маквейгу показалось, что он с головой окунулся в непроницаемый туман. В нём так всё и кипело от злости, но он переборол себя.
— Пат, — сказал он очень тихо, но внятно, — поверь мне, я бы скорее согласился, чтобы повредился разум у собственной моей дочери, чем оказаться впутанным во всё это дело. И с какой стати мне понадобилось бы это именно теперь? Ты, наверное, ничего об этом не знаешь, но только Холленбах сам вызывал меня к себе и сказал, что хочет видеть меня своим помощником. Не я заварил всю эту канитель с выборами, Пат. Это его идея, он сам предложил это и взял на себя всю организацию. И кампания, открытая в мою пользу в Висконсине, — дело исключительно его рук. Я не преувеличиваю. Так что, сам понимаешь, если я сейчас буду помалкивать, то 20 января следующего года сделаюсь вице-президентом страны. И ты хорошо знаешь это, Пат, — ведь у республиканцев нет ни единого шанса. Так зачем мне нужно портить самому себе всю обедню, скажи ты мне ради бога?
— Именно этот вопрос я и задаю себе, Джим, — сдержанно проговорил О’Мэлли, — но ответа не нахожу.
— Слушай дальше, Пат. Только не заставляй меня произносить речи о конституции, о демократии и прочем. Конечно же, мы все их почитаем и делаем всё от нас зависящее, чтобы сохранить их в том виде, в каком они существуют. Но только тут всё гораздо проще, Пат! Я начинаю о себе думать как о профессионале, пусть ты даже и не считаешь меня таковым. И как профессионал, я не желаю, чтобы мною командовал безумец!
О’Мэлли неожиданно улыбнулся, в первый раз с тех пор как он налил шотландского виски в бокал Джима.
— Вот теперь я вижу, что ты говоришь на моём языке, — сказал он и потянулся за пустым бокалом сенатора. — Тебе надо ещё выпить, да и мне тоже не мешает.
Приготовив напитки, О’Мэлли уселся, поднял бокал и улыбнулся:
— Ты мне нравишься, Джим. И всегда нравился. Нет, конечно, я вовсе не думаю, что ты свихнулся. Но и согласиться с твоими выводами я не могу. Если даже ты и прав, то разве не возможно, что это у Марка временное состояние, как предположил Гриском? Почему ты думаешь, что надо принимать срочные меры?
— А встреча с Зучеком в Швеции? Не думаю, что человек, страдающий психическим заболеванием — любого характера или длительности, — должен представлять Соединённые Штаты во время встречи один на один с таким крепким орешком, как Зучек.
— Зучек? Швеция? Да о чём ты говоришь, Джим?
— Ты что, разве ничего не знаешь об итоговой конференции, назначенной на 20 апреля в Стокгольме?
— Впервые слышу, — покачал головой О’Мэлли. — Меня теперь ни о чём не ставят в известность… Они мне теперь не доверяют.
— Белый дом заявил об этом около пяти часов. Вот почему я и сказал, что дело это неотложное. Нам надо во что бы то ни стало удержать Холленбаха от поездки в Швецию.
— Не забудь только, что прежде потребуется доказать правильность твоего диагноза.
О’Мэлли достал новую сигару и снова проделал весь утомительный ритуал раскуривания.
— Джим, допустим на минуту, что ты прав, скажи, почему ты всё-таки пришёл именно ко мне? Чем я-то могу помочь тебе?
— Да ведь это же ясно, Пат. Ты разве забыл, что у тебя с президентом существует соглашение на случай его неспособности управлять страной? Как я понимаю, а я недавно прочитал массу материала по этому вопросу, ты единственный человек, которому дано право действовать. Только ты можешь предъявить ему обвинение в такой неспособности.
— Обвинение? Ты имеешь в виду параграф о неспособности в той поправке, которую внесли в Конституцию несколько лет назад?
Джим кивнул.
— Там говорится, — продолжал О’Мэлли, — что президент может сделать письменное заявление о своей неспособности управлять страной. Или же вице-президент может взять на себя управление страной с письменного согласия большинства правительственного кабинета.
О’Мэлли отхлебнул из бокала и внимательно посмотрел на Маквейга:
— Ты что же, думаешь, президент Холленбах сделает такое заявление и признается, что он безумен?
— Нет, конечно, не сделает. Но ты же сам говоришь, Пат, что можешь взять на себя управление страной, заручившись письменной поддержкой большинства кабинета.
О’Мэлли отставил бокал. Он переместил сигару из одного угла рта в другой. Потом он снова посмотрел на Маквейга и осуждающе покачал головой:
— Ты, я вижу, недостаточно всё продумал. Условие, которое мы разработали в шестидесятых годах после нескольких заседаний специальной комиссии под председательством сенатора Бирча Бэя, было вполне уместно, но никто никогда и в мыслях не допускал, что оно может быть использовано для такого сложного дела, как психическое заболевание. Сердечный приступ, удар, несчастный случай — это ещё куда ни шло, тут всякому ясно, что президент неспособен к управлению. Но психическое расстройство — это нечто посложнее. Слишком неопределённо, слишком скользко. Всё равно, что искать монету в горшке с клейстером. — О’Мэлли пожал плечами. — Если бы я даже был уверен, что ты прав, я всё равно за это не взялся бы.
Маквейга охватил страх, но он упрямо продолжал настаивать:
— Но ведь, Пат, паранойя — а я уверен, что у Марка именно паранойя, — ведь это ещё хуже любого несчастного случая. Представь себе параноика, ведущего переговоры с Зучеком или неожиданно поставленного перед дилеммой — применить атомную бомбу или нет?
— Всё это я прекрасно понимаю, Джим, но подумай сам о практической стороне дела. Разве смогу я убедить большинство кабинета, основываясь только на тех доказательствах, которыми располагаешь ты? Кроме того, президент, конечно, узнает обо всём, и тогда начнётся такое, что небу станет жарко. Правительство развалится.
О’Мэлли выпустил плотное серое кольцо дыма, которое лениво поползло вверх и медленно растаяло. Джим следил за ним и чувствовал, как тают его собственные надежды, и всё-таки какое-то внутреннее побуждение заставляло его быть настойчивым.
— Ты говорить о конституции и о внесённой в неё поправке, а я тебя спрашиваю о твоём собственном соглашении с Холленбахом. Ты же обязан предпринять соответствующие действия, как только заметишь, что президент не в состоянии справиться со своими обязанностями.
О’Мэлли недоверчиво посмотрел на сенатора:
— Мы говорим с тобой на разных языках, Джим. — О’Мэлли усиленно запыхтел сигарой. — Ты убеждён, что Марк не в своём уме, я же совсем в этом не уверен. Таким образом, мы с тобой сейчас подошли к тому самому камню преткновения в вопросе о неспособности президента, который ставил в тупик всех юристов, занимавшихся разработкой конституции со времени её составления — около двухсот лет назад. Позволь мне немного углубиться в историю этого вопроса, тогда ты поймёшь, о чём я говорю.
О’Мэлли говорил медленно и терпеливо, словно проводил семинар в колледже. Он охарактеризовал историю всех споров и сомнений, когда-либо возникавших по поводу подраздела конституции, в котором говорилось о неспособности президента управлять страной. Он припомнил, как вице-президент Честер Артур отказался принять на себя обязанности президента Гарфилда, когда последнего сразила пуля убийцы и он в течение восьмидесяти дней находился на грани жизни и смерти, и как вице-президент Том Маршалл во время болезни президента Вудро Вильсона позволил миссис Вильсон и врачу Белого дома фактически править страной от имени президента в течение почти двух лет. Так просто взять и сместить президента Соединённых Штатов с его поста, сказал О’Мэлли, ни у кого рука не поднимется, потому что если даже не говорить о личности президента, то уже сам пост его внушает уважение, доходящее почти до благоговения. И так будет всегда! О’Мэлли говорил, а Маквейг смотрел на его трясущиеся щёки и выразительно жестикулирующие руки и думал о том, как он мало знает этого ирландца, этого политика, по внешности напоминавшего карикатуру на какого-нибудь босса из Тамани-холла.
О’Мэлли между тем с головой окунулся в историю отношений, существовавших между вице-президентами и их патронами. Он говорил об этом с таким точным и исчерпывающим знанием предмета, какое редко можно встретить даже в учёном исследовании.
— Ты добиваешься, чтобы я взял инициативу в свои руки, но я этого делать не стану. Я и пальцем не шевельну — так же, как и Честер Артур и старый Томас Маршалл.
— Ну а стал бы ты действовать, если б был уверен, что Марк сошёл с ума?
О’Мэлли стряхнул пепел сигары в зелёную пепельницу и, нахмурившись, оглядел результаты своих трудов, словно наблюдая сложный механический процесс. Потом медленно покачал головой:
— Нет, Джим, не стал бы. Во всяком случае, без твёрдой поддержки лидеров нашей партии ни за что не стал бы. При теперешних обстоятельствах такой поступок оказался бы гибельным для страны. Ты что, забыл про художественную комиссию, про Жилинского и спортивную арену?
— Нет, не забыл, конечно.
— Кто теперь, по-твоему, мне поверит? — Тон вице-президента стал едким и злым. — Все бы просто решили, что я старый гнусный мошенник, пытающийся свалить президента в отместку за то, что он потребовал моей отставки. А сам Холленбах? Допустим, ты прав, и он, действительно, параноик! Ты что же думаешь, он будет сидеть сложа руки и смотреть, как я его выживаю из Белого дома? Нет уж, Джим, давай смотреть на вещи трезво. Меня либо подымут на смех, либо вообще спишут со счетов.
За окном уже сгустилась ночь, и Джим чувствовал, как с наступлением темноты тает его уверенность. Словно погас свет в последнем окне в конце тупика. Он решился на последнюю попытку:
— Послушай, Пат! Ты говоришь, что не станешь действовать без твёрдой поддержки руководства партии. Я знаю, ты сомневаешься в достоверности всего, что от меня услышал, но признайся, ведь твои сомнения усугубляются тем особым положением, в котором ты очутился. А что если ты позволишь мне рассказать обо всём небольшой группе лидеров нашей партии, которых ты мне сам назовёшь? Кабинет, действительно, слишком громоздок и ненадёжен, там моментально всё выплывет наружу. Но можно собрать небольшую группу людей и предупредить их, что всё сказанное не подлежит огласке! Если эта группа не поверит мне, что ж, значит — делу конец. Но если она сочтёт, что необходимо что-то предпринять, у тебя будет необходимая поддержка, ты сможешь действовать соответственно соглашению и обратиться к кабинету уже официально. А может, сочтут необходимым какое-то дальнейшее расследование… Как ты считаешь?
О’Мэлли оживился.
— Вот это, действительно, мысль, — сказал он.
Маквейг просветлел:
— О’кэй. Может быть, тебе пригласить наиболее влиятельных членов Сената, скажем, заместителя председателя Сената Никольсона, Фреда Одлума и кого-нибудь из республиканцев, для того чтобы совещание было представлено обеими партиями?
— И не подумаю доверять республиканцам в таком щепетильном деле, да ещё перед самыми выборами! — отрезал О’Мэлли. — Нет, Джим, об этом и речи быть не может!
Маквейг благоразумно отступил, но не сдался.
— Что ж, пусть будет по-твоему, — сказал он. — А как насчёт Грэди Каванога? Он влиятельная фигура, представитель Верховного суда и один из тех демократов, которые пользуются всеобщим доверием.
— Грэди отлично подойдёт. И потом, он просто гениален при разборе доказательств. Честно говоря, я скорее бы поверил всей этой истории, если бы знал, какого он о ней мнения.
Итак, всё устроилось наилучшим образом. Они ещё поговорили немного о деталях, и оба согласились, что совещание лучше всего собрать в загородной вилле Каванога, если только судья не будет возражать. Грэди был вдовец, ему принадлежали двести акров земли и дом на высокой горе с видом на Сен-Леонард Крик, в шестидесяти милях от Вашингтона. Грэди проводил там обычно конец недели. Место было уединённое, отделённое от главного шоссе густым лесом. Они решили созвать совещание в четверг, если это устроит остальных.
О’Мэлли проводил Джима вниз.
У парадной двери вице-президент дружески сжал руку Маквейга.
— Джим, — тихо сказал он, — должен тебя предупредить: никто не поверит тебе, если ты не привезёшь в четверг эту женщину, которая может рассказать об инциденте между Холленбахом и Дэвиджем!
— Ради бога, Пат…
— Это моё твёрдое мнение.
Джим нахмурился.
— Посмотрим, — сказал он неуверенно.
ГЛАВА 10. МАРТА
В такси к Джиму опять вернулось чувство подавленности, уже ставшее почти привычным в последние дни. Единственным утешением была мысль, что как будто удалось уйти от слежки и никто не видел, как он подъезжал к дому О’Мэлли. Не заметил он признаков слежки и когда вылезал из такси на Конститьюшн-стрит, около платного гаража, где оставил свой автомобиль. Но и это утешение растаяло как дым, когда он пересел в свой автомобиль и направился в сторону Мак-Дина. В зеркальце опять показался чёрный «седан», который старательно держался на расстоянии в сотню ярдов. Джим понаблюдал за ним немного, а потом перестал о нём думать. Теперь, когда он ехал домой, его уже совершенно не волновало, сколько агентов зарегистрируют этот факт. Его мысли целиком сконцентрировались на О’Мэлли. Вице-президент, очевидно, интуитивно верил Джиму, но разум его отказывался принять чудовищную правду. Только единодушное соглашение между лидерами, если бы оно состоялось в четверг, могло подтолкнуть О’Мэлли и заставить его действовать. Джим знал, что любыми способами он должен убедить этих четырёх человек, что нации действительно грозит опасность. Но разве не правду сказал Пат? Разве они поверят хоть слову, пока не услышат про инцидент с Дэвиджем из уст самой Риты? А как убедить её дать показания, когда у неё самой этот случай не вызывал подозрений? Эти невесёлые рассуждения навели его на мысль, что Марта не имеет понятия, где он. С тех пор как он позвонил ей из телефонной будки в Джорджтауне и никого не застал, прошло четыре часа. Маквейг остановился около бензозаправочной станции и позвонил домой. Марта молча выслушала его объяснение. — Откуда ты звонишь? — С бензоколонки возле Кэй-бридж. — Значит из Джорджтауна? Я так и думала. Когда Джим свернул на подъездную дорожку к своему дому, фары его автомобиля выхватили из темноты стоявшую в дверях гаража фигуру. Эго была Марта. Она стояла, прислонившись к верстаку, которым Маквейг уже давно не пользовался, придерживала рукою у горла воротник пальто, спасаясь от ночного ветерка, и щурилась от яркого света. Когда Джим выключил зажигание, она подошла к автомобилю и приоткрыла дверцу:
— Джим, сними своё белое пальто и положи его в багажник.
— А в чём дело?
— Ни о чём меня не спрашивай. Просто сделай, и всё. — Она проговорила это тоном, не допускавшим возражений. Джим потянулся через переднее сиденье, чтобы поцеловать её, но она отпрянула. Джим удивлённо на неё посмотрел, но она молча кивнула на багажник. Джим стянул пальто и положил его в багажник рядом с запасной покрышкой.
— Какого чёрта?.. — начал было он, но Марта уже шла по лужайке в сторону дома, всё так же придерживая рукою воротник пальто.
В вестибюле на него налетела Чинки и чмокнула его в щёку. Волосы её были стянуты в тугой конский хвост, глаза так и сняли от удовольствия:
— На улице так холодно, пап! Где твоё пальто?
Ответить он не успел. За него ответила оказавшаяся между ними Марта:
— Он потерял его, Чинки. Забыл вечером в ресторане, и кто-то взял его. Твой отец с возрастом становится очень рассеян…
Джим удивлённо уставился на жену. Она ответила ему прямым и строгим взглядом, лицо её оставалось непроницаемым. Потом она отвернулась к стенному шкафу и стала поправлять свои коротко остриженные каштановые волосы перед зеркалом, вделанным в дверцу.
— Так значит сегодня днём это всё-таки был не ты, пап?
— О чём ты говоришь, Чинки? Кто был не я? И где?
Чинки стояла перед ним в любимой позе, широко расставив ноги. Она вскинула голову и посмотрела ему в глаза:
— Сегодня днём мы с мамой видели, как из одного дома на Оу-стрит выходил какой-то мужчина. У него была спутанная чёрная шевелюра, точь-в-точь как у тебя, он был, как и ты, без шляпы, на нём было белое пальто из крокодиловой кожи! Я была просто уверена, что это ты, пап! Я даже хотела остановиться и подождать его.
Джим искоса посмотрел на жену, но Марта казалась совершенно поглощённой своим отражением в зеркале.
— Нет, это был не я, Чинки, ты обозналась. После Сената я был неподалёку от Капитолия, на совещании с вице-президентом О’Мэлли.
— Ты лучше поостерегись, пап, — сказала Чинки, — в городе у тебя есть двойник. Как бы этот парень чего не натворил!
Джиму стало так стыдно, что он не мог заставить себя посмотреть на Марту. Он всё теперь понял и чувствовал, как его щёки медленно заливает краска. Значит, Марта знает! Как она обнаружила? И вдруг его охватило чувство гордости за жену. Да, она знала и отважно оберегала Чинки от этого знания. Он обернулся, чтобы поблагодарить её взглядом, но она уже удалялась на кухню; только каблучки её выбивали по паркету сердитую дробь.
Ужинал Джим один. Кусок холодного мяса показался ему безвкусным, и он отставил тарелку почти нетронутой. Вместо этого он выпил два стакана молока и, покопавшись в холодильнике, обнаружил там пинту шоколадного мороженого. Марта избегала заходить на кухню. Из комнаты Чинки доносился обычный разноголосый шум. Она разговаривала по телефону с какой-то подругой. Джим вдруг почувствовал себя чужим в своём доме. Он медленно ел мороженое, стараясь отдалить момент, когда они с женою останутся наедине. Потом он прошёл к себе в кабинет и попытался читать, но, пробежав невидящими глазами по одним и тем же столбцам журнала, понял, что всё равно ничего не вычитает, и отложил журнал в сторону.
Войдя наконец в спальню, он увидел, что Марта лежит на кровати, отодвинувшись к самой стенке. Когда он улёгся, между ними осталось расстояние шириною почти в фут. Середина кровати оставалась пустой и холодной, как свежевыпавший снег. Марта дышала ровно, но напряжённо, и Джим понял, что она не спит, просто притворяется. Он хотел притянуть её к себе, как делал каждую ночь, но не мог заставить себя пошевелить рукой. Так они и лежали молча и настороженно, и их дыхание билось о невидимую стену, выросшую между ними. Наконец она обернулась и заговорила. Голос её был безжизненным:
— Джим, я знаю, что в последнее время тебя что-то тревожит. Я это почувствовала давно, с тех пор как мы вернулись из Айовы. Может, ты мне расскажешь?
— Я давно уже собирался, Марта. Меня это чёрт знает, как тревожит. Я хочу рассказать тебе обо всём, но не могу.
Опять наступило молчание. Стена по-прежнему стояла между ними, высокая и непроницаемая.
— Джим, — сказала она чуть слышно, — я знаю, как её зовут.
Он молчал. Он слушал, как сильно колотится его сердце, и ждал.
— Я ведь знаю об этом уже больше месяца. Узнала задолго до того, как мы с Джейн уехали в Десмон.
— Марта!
Он почувствовал себя потерянным и безвольным, и это напомнило ему о том случае, когда ему сделали в спину укол против полиомиелита. Когда игла вонзилась в тело, оно вдруг обмякло, и Джима охватило непередаваемо гнетущее чувство, словно из него вдруг вытянули все силы огромным насосом. Ощущение это длилось несколько секунд, но показалось ему бесконечным. Так было и теперь.
Наконец Джим неловко коснулся рукою спины Марты. Он нашёл в широком рукаве батистовой рубашки её маленькую руку и крепко сжал её.
— Марти, всё, что я могу сказать тебе сейчас, это что я очень люблю тебя. Я совершил страшную ошибку, не сознавал, что делаю, но с этим уже покончено, давно покончено.
Когда он сказал «давно», он действительно верил в это, потому что минувшие три недели казались ему сейчас вечностью. И в эту минуту он всем сердцем жалел, что вообще встретил Риту.
— Но если с этим давно всё покончено, — Марта уткнулась в подушку, отчего слова её звучали еле слышно, — то почему же сегодня днём ты… был у неё?
— Я не могу тебе этого объяснить, Марта. Тут всё перепуталось с другими делами, с делами, связанными с государственной безопасностью. Когда-нибудь я расскажу тебе обо всём, но только не сейчас. Тебе придётся просто поверить мне на слово, Марта!
Этот ответ вырвался у него непроизвольно, но он тут же принялся анализировать причины, по которым отказывался сказать Марте всю правду. Было бы естественно рассказать ей всю эту невероятную историю о президенте Холленбахе с начала до конца, но он знал, что Марта увидит в ней только фантастический вымысел. Президент — сумасшедший? Она бы немедленно решила, что он выдумал всё это, чтобы отвлечь её внимание от своей любовной связи с Ритой. И если рассказать ей всё, то как объяснить, где и при каких обстоятельствах слышал он рассказ Риты о яростных нападках президента на Дэвиджа? Нет, нечаянно вырвавшийся ответ оказался самым правильным. Рассказать об этом Марте он просто не мог, во всяком случае, сейчас.
Марта молчала. Джим непроизвольно напрягся как туго натянутая пружина. Тело его стало горячим и сухим, в горле пересохло. Он вылез из постели и прошёл в ванную. Покопавшись в аптечке, он разыскал коробочку со снотворным, проглотил таблетку и запил её глотком воды. Очутившись опять в постели, он обнаружил, что стена между ним и Мартой не исчезла.
— Джим, — прошептала Марта, — чего бы только я не отдала, чтобы снова верить тебе!
И он понял, что эта женщина, которая лежала сейчас рядом с ним, уже не та весёлая, щебечущая хохотушка, которая беспечно порхала от одной забавы к другой. Новая Марта была далёкой, отчуждённой, замкнутой. Он положил ей руку на бедро, но она сбросила её и перевернулась на живот. Потом уткнулась лицом в подушку и тихо, беспомощно заплакала. Плач её постепенно становился всё громче, и, наконец, всё её тело стало содрогаться от конвульсий. Джим почувствовал, что подушка стала мокрой от её слёз. Он обнял Марту и привлёк к себе. Она не сопротивлялась, безучастно покорившись его объятиям. Постепенно рыдания её перешли в прерывистые всхлипывания, а затем и вовсе прекратились. Потом она придвинулась к нему, дыхание её стало тихим и ровным, и она заснула, прижавшись к мужу, как засыпала каждую ночь вот уже более четырнадцати лет.
Джим долго не мог заснуть, в голове у него мелькали смутные образы. Видел он маленькую хрупкую Марту, придерживающую воротник пальто, видел Риту, чопорно выпрямившуюся в кресле своей гостиной, видел Пата О’Мэлли в клубах сигарного дыма. А потом в его сознании вдруг стремительно возникла и пропала тёмная комната, громадное окно и бесконечный снежный покров, простирающийся от Аспен-лоджа до горизонта. Прошёл почти час, пока таблетка начала оказывать действие.
На следующее утро он всталразбитый и невыспавшийся. От нестерпимой боли гудела голова, раздражало каждое прикосновение электрической бритвы к коже. А когда он уже складывал бритву, его неожиданно поразила новая мысль.
Ну конечно, это был единственно возможный благопристойный выход! Как это ему раньше не пришло в голову? Ведь всё так просто. И пока он не сделает этого шага, положение его будет оставаться некрасивым и нелепым. Приняв это решение, он сразу почувствовал себя лучше и неспешно закончил свой туалет.
Чинки уже умчалась в школу, и Марта сидела одна за накрытым к завтраку столом. Лицо её было хмурым. Перед прибором Джима уже стояла дымящаяся чашка кофе. Марта пододвинула ему утренние газеты. Обычный утренний ритуал оставался неизменным, ничто не напоминало о минувшей ночи.
— Президент собирается встретиться с Зучеком, — заметила Марта.
— Знаю. Поэтому мне и пришлось разговаривать с О’Мэлли вчера вечером…
Он встретился с ней взглядом и осёкся:
— Вот что я хотел сказать тебе, Марти! Я не стану выставлять своей кандидатуры в вице-президенты, и наплевать мне на то, что подумает Марк Холленбах. Я сейчас же ему об этом скажу, сразу после завтрака.
Белёсые ресницы Марты опустились, она старалась не смотреть в его сторону. Он сначала нахмурился, но потом понял. Ну, конечно, она решила, что он не может баллотироваться в вице-президенты из страха, что выплывет наружу его любовная связь с Ритой.
Марта подняла голову и улыбнулась устало и радостно. Она быстро обежала стол, спрятала голову у него на груди и крепко его поцеловала. Он чувствовал, что глаза её влажны от слёз.
— Спасибо, Джим, — прошептала она. — Я ведь так тебя люблю! Я ведь тоже веду себя глупо. Только и делаю, что ношусь со своими делами да клубами.
— Ну что ты, Марта! Мне даже нравится, когда ты занята и увлечена делами. Ведь это же у тебя в крови!
— Ну нет, теперь всё станет до-другому. Отныне самым большим моим увлечением будешь ты!
Он усмехнулся:
— Что ж, может, комитет по более эффективному обновлению городов действительно обойдётся без тебя?
— А также и посольские приёмы, и фонд помощи престарелым шофёрам такси… — со смехом закончила она.
Вдруг она оборвала смех и посмотрела на него:
— Пожалуйста, Джим, никогда больше не оставляй меня.
— Никогда, Марти, клянусь тебе!
Он и сам чувствовал, что говорит это серьёзно и искренне, как никогда раньше. И вдруг его осенило: господи, да ведь это она благодарит его! Она действительно верит, что он решил отказаться от вице-президентства только затем, чтобы никакой скандал не скомпрометировал её. Боже, как страшно всё запуталось. Сначала Марта думает, что он врёт ей и что связь его с Ритой не кончилась, а потом тут же превращает в героя! А ведь на самом-то деле его решение ничего общего не имеет с заботой о Марте. И, уж если говорить правду, — ничего общего с заботой о себе или о Рите. На этот шаг его толкнула неотвратимая опасность, угрожающая Америке, и собственное чувство ответственности. Смогут ли это оценить? Да и поймут ли? Его снова охватил страх, но он сделал над собой усилие и поборол его. Только не спешить, Джим. Он ещё раз поцеловал Марту и мягко отстранил её.
— Подожди, Марти, — сказал он. — Мне надо покончить с этим делом не откладывая. Я поднимусь в кабинет и позвоню в Белый дом.
Голос Роз Эллен по телефону показался ему сонным и недовольным. Личная секретарша президента, по-видимому, не была в восторге от привычки хозяина начинать деловой день в такую рань.
— Это говорит Джим Маквейг. Нельзя ли мне с ним переговорить, Роз Эллен? Не могу сказать, что это срочно, но это очень важно.
— У вас обоих не иначе как телепатия, сенатор. Президент только что просил меня вытащить вас из постели.
— Вот как!
Потом он услышал в трубке голос президента. Тон был энергичный, но сухой и резкий:
— А, это вы, сенатор! Превосходно!
Джим решил не терять времени:
— Мистер президент, я уже решил, что не смогу выставить свою кандидатуру на пост вице-президента. Я говорю об этом с огромным сожалением, сэр, так как искренне ценю ваше доверие, но сделать этого я просто не могу. Я много размышлял об этом, мистер президент, и…
— Вам нечего извиняться! — как ножом отрезал президент. — Одну минуту! — Он услышал, как Холленбах прикрыл рукой трубку и сказал: — Вы не могли бы оставить меня на минуту одного, Роз Эллен? Мне необходимо поговорить с сенатором по личным вопросам.
После небольшой паузы Джим снова услышал в трубке голос президента:
— Она назвала это телепатией. Она права. Я только что собирался позвонить вам и сообщить то же самое!
— Вот как!
— Да, собирался! — гневно выпалил Холленбах. — Понадобилось совсем небольшое расследование, сенатор, чтобы всплыло имя Риты Красицкой, — к счастью, я заблаговременно распорядился, чтобы ФБР на всякий случай проследило за вами. Я, конечно, восхищён вашим вкусом, Маквейг, но мне ненавистно ваше двуличие, мне отвратительно то, что на днях в этом самом кабинете вы утаили от меня эту. этот факт вашей биографии.
Негодование президента словно затронуло какую-то струну в Маквейге, и он мгновенно представил себе актрису Тину Фарадей, стоящую у фонтана и с пьяным возмущением рассказывающую о том дне, когда студент Марк Холленбах позорно бежал из её дома в Колумбусе.
— Да, вы вели себя двулично, Маквейг, — продолжал президент, и телефонный провод, казалось, не вмещал всей ярости его голоса. — Вы проявили полнейшую неискренность, а для меня нет ничего отвратительнее. Республиканцы, конечно, докопались бы до этой вашей грязной связи и сунули бы нам всё это в нос в самый разгар выборов. А я-то по своей наивности думал, что вы намного выше О’Мэлли! — Президент остановился, словно ему не хватило дыхания.
— Я хотел рассказать вам тогда об этом, мистер президент, но с этой женщиной и так всё было кончено, и потом, я был слишком возбуждён, чтобы соображать ясно…
— Слабая отговорка! — Голос Холленбаха поднялся нотой выше. — Со мною это не пройдёт! Откровенно говоря, я больше не верю вам! Подозреваю, что вы давно сговорились с О’Мэлли и со всей этой кликой. Вы присоединились к их заговору, чтобы дискредитировать правительство и опозорить меня, только пока не знаю, с какой целью вы так поступаете.
Это последнее обвинение, произнесённое пронзительным голосом, оборвало что-то в душе Маквейга. Всё напряжение последних дней вскипело вдруг в нём, и с губ стали неудержимо срываться гневные слова.
— Это беспочвенное обвинение, мистер президент! Но если вам нужна правда, то сейчас вы её услышите! Вы тут всюду шпионите и вынюхиваете, а теперь ещё хотите ввести закон о всеобщем подслушивании телефонных разговоров, и тогда, конечно, ваше ФБР сможет шпионить в колоссальном масштабе. Теперь меня уже не удивляет, что вам понадобился такой гнусный закон! Вы натравили на меня ФБР, чтобы оно вмешалось в мою частную жизнь. Это, что ли, вы называете доверием, это, что ли, называется играть в открытую с человеком, которого вы сами избрали себе в помощники? А ведь я не просил вас об этом. Это была ваша идея. И скажите вы мне, пожалуйста, подвергался ли когда-либо кандидат в вице-президенты такой унизительной слежке?
На кого ещё напускали целую свору сыщиков из ФБР? — Маквейг так разошёлся, что чуть было не добавил «и свору охранников», но вовремя спохватился. Его вдруг осенило, что президент ничего не знает о слежке Секретной службы.
— Ну а если бы я не устроил никакой проверки? Вы, конечно, ни слова не сказали бы о своей сладострастной миссис Красицкой, так ведь? Так и продолжали бы выдавать себя за порядочного семейного человека. А потом республиканцы раскопали бы эту грязную историю, и нам всем была бы крышка — и вам, и вашей прелестной жене, и правительству, и партии!
— И уж, конечно, Марку Холленбаху, не так ли? — Маквейг просто не мог удержаться.
— Да, да! — завизжал президент. — И Марку Холленбаху тоже, если хотите! Вы собирались меня погубить, Маквейг, так ведь? Но только ничего у вас не получилось! Вы так ленивы и бездейственны, что даже не можете преуспеть по части грязных интриг!
Но злость Джима уже улеглась. От всех этих бессонных ночей он вдруг почувствовал себя одиноким и слабым, и его вдруг охватила невыразимая печаль.
— Я вижу, мистер президент, — тихо сказал он, — что мы совершенно не понимаем друг друга, и я сожалею об этом всем сердцем, поверьте мне, сэр.
— Хорошо хоть у вас хватило мужества самому от всего отказаться, — сказал Холленбах уже более спокойным голосом, — хотя и тут вы, как всегда, опоздали, сенатор, мне жаль вас. Я бы хотел, чтобы это всё кончилось так же хорошо, как и началось.
— Я тоже, мистер президент.
Снова наступило молчание. Когда Холленбах нарушил его, голос его прозвучал уже совершенно официально:
— Я был бы очень вам признателен, если бы вы переслали мне почтой серебряную авторучку.
— Конечно, сэр. Прощайте.
— Прощайте, сенатор.
Уязвлённый, чувствуя себя так, словно ему переломали рёбра в уличной драке, Джим вышел из кабинета и медленно спустился по лестнице.
Марта стояла в гостиной у окна и нервными движениями расправляла новые занавеси. Заслышав его шаги, она обернулась.
— Я всё сказал ему, Марта, он понял. Считай, что из бюллетеня меня вычеркнули. Впрочем, по существу я ведь там никогда и не был.
Марта молча подбежала к нему, обняла и прильнула к его губам долгим поцелуем, в который вложила всю горечь нелепых и безымянных обид, которыми люди по слепоте своей ранят друг друга. Он тоже молча обнял её и прижал к себе. Когда он наконец отпустил её, она улыбнулась и задорно подмигнула:
— Ничего, Джим, ты ещё долго будешь самым красивым сенатором от штата Айова!
— Даже с такой женой, которая занимает нейтральную позицию по вопросу обновления городов?
— Нейтральную? Негодный, я всегда была против.
Они снова прильнули друг к другу, и Джим теперь знал, что в его доме опять тепло и уютно, как бы ни было холодно и страшно в Белом доме, подвластном безумию его хозяина.
Когда Джим свернул на подъездную дорожку к своему дому, фары его автомобиля выхватили из темноты стоявшую в дверях гаража фигуру. Эго была Марта. Она стояла, прислонившись к верстаку, которым Маквейг уже давно не пользовался, придерживала рукою у горла воротник пальто, спасаясь от ночного ветерка, и щурилась от яркого света. Когда Джим выключил зажигание, она подошла к автомобилю и приоткрыла дверцу:
— Джим, сними своё белое пальто и положи его в багажник.
— А в чём дело?
— Ни о чём меня не спрашивай. Просто сделай, и всё. — Она проговорила это тоном, не допускавшим возражений. Джим потянулся через переднее сиденье, чтобы поцеловать её, но она отпрянула. Джим удивлённо на неё посмотрел, но она молча кивнула на багажник. Джим стянул пальто и положил его в багажник рядом с запасной покрышкой.
— Какого чёрта?.. — начал было он, но Марта уже шла по лужайке в сторону дома, всё так же придерживая рукою воротник пальто.
В вестибюле на него налетела Чинки и чмокнула его в щёку. Волосы её были стянуты в тугой конский хвост, глаза так и сняли от удовольствия:
— На улице так холодно, пап! Где твоё пальто?
Ответить он не успел. За него ответила оказавшаяся между ними Марта:
— Он потерял его, Чинки. Забыл вечером в ресторане, и кто-то взял его. Твой отец с возрастом становится очень рассеян…
Джим удивлённо уставился на жену. Она ответила ему прямым и строгим взглядом, лицо её оставалось непроницаемым. Потом она отвернулась к стенному шкафу и стала поправлять свои коротко остриженные каштановые волосы перед зеркалом, вделанным в дверцу.
— Так значит сегодня днём это всё-таки был не ты, пап?
— О чём ты говоришь, Чинки? Кто был не я? И где?
Чинки стояла перед ним в любимой позе, широко расставив ноги. Она вскинула голову и посмотрела ему в глаза:
— Сегодня днём мы с мамой видели, как из одного дома на Оу-стрит выходил какой-то мужчина. У него была спутанная чёрная шевелюра, точь-в-точь как у тебя, он был, как и ты, без шляпы, на нём было белое пальто из крокодиловой кожи! Я была просто уверена, что это ты, пап! Я даже хотела остановиться и подождать его.
Джим искоса посмотрел на жену, но Марта казалась совершенно поглощённой своим отражением в зеркале.
— Нет, это был не я, Чинки, ты обозналась. После Сената я был неподалёку от Капитолия, на совещании с вице-президентом О’Мэлли.
— Ты лучше поостерегись, пап, — сказала Чинки, — в городе у тебя есть двойник. Как бы этот парень чего не натворил!
Джиму стало так стыдно, что он не мог заставить себя посмотреть на Марту. Он всё теперь понял и чувствовал, как его щёки медленно заливает краска. Значит, Марта знает! Как она обнаружила? И вдруг его охватило чувство гордости за жену. Да, она знала и отважно оберегала Чинки от этого знания. Он обернулся, чтобы поблагодарить её взглядом, но она уже удалялась на кухню; только каблучки её выбивали по паркету сердитую дробь.
Ужинал Джим один. Кусок холодного мяса показался ему безвкусным, и он отставил тарелку почти нетронутой. Вместо этого он выпил два стакана молока и, покопавшись в холодильнике, обнаружил там пинту шоколадного мороженого. Марта избегала заходить на кухню. Из комнаты Чинки доносился обычный разноголосый шум. Она разговаривала по телефону с какой-то подругой. Джим вдруг почувствовал себя чужим в своём доме. Он медленно ел мороженое, стараясь отдалить момент, когда они с женою останутся наедине. Потом он прошёл к себе в кабинет и попытался читать, но, пробежав невидящими глазами по одним и тем же столбцам журнала, понял, что всё равно ничего не вычитает, и отложил журнал в сторону.
Войдя наконец в спальню, он увидел, что Марта лежит на кровати, отодвинувшись к самой стенке. Когда он улёгся, между ними осталось расстояние шириною почти в фут. Середина кровати оставалась пустой и холодной, как свежевыпавший снег. Марта дышала ровно, но напряжённо, и Джим понял, что она не спит, просто притворяется. Он хотел притянуть её к себе, как делал каждую ночь, но не мог заставить себя пошевелить рукой. Так они и лежали молча и настороженно, и их дыхание билось о невидимую стену, выросшую между ними. Наконец она обернулась и заговорила. Голос её был безжизненным:
— Джим, я знаю, что в последнее время тебя что-то тревожит. Я это почувствовала давно, с тех пор как мы вернулись из Айовы. Может, ты мне расскажешь?
— Я давно уже собирался, Марта. Меня это чёрт знает, как тревожит. Я хочу рассказать тебе обо всём, но не могу.
Опять наступило молчание. Стена по-прежнему стояла между ними, высокая и непроницаемая.
— Джим, — сказала она чуть слышно, — я знаю, как её зовут.
Он молчал. Он слушал, как сильно колотится его сердце, и ждал.
— Я ведь знаю об этом уже больше месяца. Узнала задолго до того, как мы с Джейн уехали в Десмон.
— Марта!
Он почувствовал себя потерянным и безвольным, и это напомнило ему о том случае, когда ему сделали в спину укол против полиомиелита. Когда игла вонзилась в тело, оно вдруг обмякло, и Джима охватило непередаваемо гнетущее чувство, словно из него вдруг вытянули все силы огромным насосом. Ощущение это длилось несколько секунд, но показалось ему бесконечным. Так было и теперь.
Наконец Джим неловко коснулся рукою спины Марты. Он нашёл в широком рукаве батистовой рубашки её маленькую руку и крепко сжал её.
— Марти, всё, что я могу сказать тебе сейчас, это что я очень люблю тебя. Я совершил страшную ошибку, не сознавал, что делаю, но с этим уже покончено, давно покончено.
Когда он сказал «давно», он действительно верил в это, потому что минувшие три недели казались ему сейчас вечностью. И в эту минуту он всем сердцем жалел, что вообще встретил Риту.
— Но если с этим давно всё покончено, — Марта уткнулась в подушку, отчего слова её звучали еле слышно, — то почему же сегодня днём ты… был у неё?
— Я не могу тебе этого объяснить, Марта. Тут всё перепуталось с другими делами, с делами, связанными с государственной безопасностью. Когда-нибудь я расскажу тебе обо всём, но только не сейчас. Тебе придётся просто поверить мне на слово, Марта!
Этот ответ вырвался у него непроизвольно, но он тут же принялся анализировать причины, по которым отказывался сказать Марте всю правду. Было бы естественно рассказать ей всю эту невероятную историю о президенте Холленбахе с начала до конца, но он знал, что Марта увидит в ней только фантастический вымысел. Президент — сумасшедший? Она бы немедленно решила, что он выдумал всё это, чтобы отвлечь её внимание от своей любовной связи с Ритой. И если рассказать ей всё, то как объяснить, где и при каких обстоятельствах слышал он рассказ Риты о яростных нападках президента на Дэвиджа? Нет, нечаянно вырвавшийся ответ оказался самым правильным. Рассказать об этом Марте он просто не мог, во всяком случае, сейчас.
Марта молчала. Джим непроизвольно напрягся как туго натянутая пружина. Тело его стало горячим и сухим, в горле пересохло. Он вылез из постели и прошёл в ванную. Покопавшись в аптечке, он разыскал коробочку со снотворным, проглотил таблетку и запил её глотком воды. Очутившись опять в постели, он обнаружил, что стена между ним и Мартой не исчезла.
— Джим, — прошептала Марта, — чего бы только я не отдала, чтобы снова верить тебе!
И он понял, что эта женщина, которая лежала сейчас рядом с ним, уже не та весёлая, щебечущая хохотушка, которая беспечно порхала от одной забавы к другой. Новая Марта была далёкой, отчуждённой, замкнутой. Он положил ей руку на бедро, но она сбросила её и перевернулась на живот. Потом уткнулась лицом в подушку и тихо, беспомощно заплакала. Плач её постепенно становился всё громче, и, наконец, всё её тело стало содрогаться от конвульсий. Джим почувствовал, что подушка стала мокрой от её слёз. Он обнял Марту и привлёк к себе. Она не сопротивлялась, безучастно покорившись его объятиям. Постепенно рыдания её перешли в прерывистые всхлипывания, а затем и вовсе прекратились. Потом она придвинулась к нему, дыхание её стало тихим и ровным, и она заснула, прижавшись к мужу, как засыпала каждую ночь вот уже более четырнадцати лет.
Джим долго не мог заснуть, в голове у него мелькали смутные образы. Видел он маленькую хрупкую Марту, придерживающую воротник пальто, видел Риту, чопорно выпрямившуюся в кресле своей гостиной, видел Пата О’Мэлли в клубах сигарного дыма. А потом в его сознании вдруг стремительно возникла и пропала тёмная комната, громадное окно и бесконечный снежный покров, простирающийся от Аспен-лоджа до горизонта. Прошёл почти час, пока таблетка начала оказывать действие.
На следующее утро он всталразбитый и невыспавшийся. От нестерпимой боли гудела голова, раздражало каждое прикосновение электрической бритвы к коже. А когда он уже складывал бритву, его неожиданно поразила новая мысль.
Ну конечно, это был единственно возможный благопристойный выход! Как это ему раньше не пришло в голову? Ведь всё так просто. И пока он не сделает этого шага, положение его будет оставаться некрасивым и нелепым. Приняв это решение, он сразу почувствовал себя лучше и неспешно закончил свой туалет.
Чинки уже умчалась в школу, и Марта сидела одна за накрытым к завтраку столом. Лицо её было хмурым. Перед прибором Джима уже стояла дымящаяся чашка кофе. Марта пододвинула ему утренние газеты. Обычный утренний ритуал оставался неизменным, ничто не напоминало о минувшей ночи.
— Президент собирается встретиться с Зучеком, — заметила Марта.
— Знаю. Поэтому мне и пришлось разговаривать с О’Мэлли вчера вечером…
Он встретился с ней взглядом и осёкся:
— Вот что я хотел сказать тебе, Марти! Я не стану выставлять своей кандидатуры в вице-президенты, и наплевать мне на то, что подумает Марк Холленбах. Я сейчас же ему об этом скажу, сразу после завтрака.
Белёсые ресницы Марты опустились, она старалась не смотреть в его сторону. Он сначала нахмурился, но потом понял. Ну, конечно, она решила, что он не может баллотироваться в вице-президенты из страха, что выплывет наружу его любовная связь с Ритой.
Марта подняла голову и улыбнулась устало и радостно. Она быстро обежала стол, спрятала голову у него на груди и крепко его поцеловала. Он чувствовал, что глаза её влажны от слёз.
— Спасибо, Джим, — прошептала она. — Я ведь так тебя люблю! Я ведь тоже веду себя глупо. Только и делаю, что ношусь со своими делами да клубами.
— Ну что ты, Марта! Мне даже нравится, когда ты занята и увлечена делами. Ведь это же у тебя в крови!
— Ну нет, теперь всё станет до-другому. Отныне самым большим моим увлечением будешь ты!
Он усмехнулся:
— Что ж, может, комитет по более эффективному обновлению городов действительно обойдётся без тебя?
— А также и посольские приёмы, и фонд помощи престарелым шофёрам такси… — со смехом закончила она.
Вдруг она оборвала смех и посмотрела на него:
— Пожалуйста, Джим, никогда больше не оставляй меня.
— Никогда, Марти, клянусь тебе!
Он и сам чувствовал, что говорит это серьёзно и искренне, как никогда раньше. И вдруг его осенило: господи, да ведь это она благодарит его! Она действительно верит, что он решил отказаться от вице-президентства только затем, чтобы никакой скандал не скомпрометировал её. Боже, как страшно всё запуталось. Сначала Марта думает, что он врёт ей и что связь его с Ритой не кончилась, а потом тут же превращает в героя! А ведь на самом-то деле его решение ничего общего не имеет с заботой о Марте. И, уж если говорить правду, — ничего общего с заботой о себе или о Рите. На этот шаг его толкнула неотвратимая опасность, угрожающая Америке, и собственное чувство ответственности. Смогут ли это оценить? Да и поймут ли? Его снова охватил страх, но он сделал над собой усилие и поборол его. Только не спешить, Джим. Он ещё раз поцеловал Марту и мягко отстранил её.
— Подожди, Марти, — сказал он. — Мне надо покончить с этим делом не откладывая. Я поднимусь в кабинет и позвоню в Белый дом.
Голос Роз Эллен по телефону показался ему сонным и недовольным. Личная секретарша президента, по-видимому, не была в восторге от привычки хозяина начинать деловой день в такую рань.
— Это говорит Джим Маквейг. Нельзя ли мне с ним переговорить, Роз Эллен? Не могу сказать, что это срочно, но это очень важно.
— У вас обоих не иначе как телепатия, сенатор. Президент только что просил меня вытащить вас из постели.
— Вот как!
Потом он услышал в трубке голос президента. Тон был энергичный, но сухой и резкий:
— А, это вы, сенатор! Превосходно!
Джим решил не терять времени:
— Мистер президент, я уже решил, что не смогу выставить свою кандидатуру на пост вице-президента. Я говорю об этом с огромным сожалением, сэр, так как искренне ценю ваше доверие, но сделать этого я просто не могу. Я много размышлял об этом, мистер президент, и…
— Вам нечего извиняться! — как ножом отрезал президент. — Одну минуту! — Он услышал, как Холленбах прикрыл рукой трубку и сказал: — Вы не могли бы оставить меня на минуту одного, Роз Эллен? Мне необходимо поговорить с сенатором по личным вопросам.
После небольшой паузы Джим снова услышал в трубке голос президента:
— Она назвала это телепатией. Она права. Я только что собирался позвонить вам и сообщить то же самое!
— Вот как!
— Да, собирался! — гневно выпалил Холленбах. — Понадобилось совсем небольшое расследование, сенатор, чтобы всплыло имя Риты Красицкой, — к счастью, я заблаговременно распорядился, чтобы ФБР на всякий случай проследило за вами. Я, конечно, восхищён вашим вкусом, Маквейг, но мне ненавистно ваше двуличие, мне отвратительно то, что на днях в этом самом кабинете вы утаили от меня эту. этот факт вашей биографии.
Негодование президента словно затронуло какую-то струну в Маквейге, и он мгновенно представил себе актрису Тину Фарадей, стоящую у фонтана и с пьяным возмущением рассказывающую о том дне, когда студент Марк Холленбах позорно бежал из её дома в Колумбусе.
— Да, вы вели себя двулично, Маквейг, — продолжал президент, и телефонный провод, казалось, не вмещал всей ярости его голоса. — Вы проявили полнейшую неискренность, а для меня нет ничего отвратительнее. Республиканцы, конечно, докопались бы до этой вашей грязной связи и сунули бы нам всё это в нос в самый разгар выборов. А я-то по своей наивности думал, что вы намного выше О’Мэлли! — Президент остановился, словно ему не хватило дыхания.
— Я хотел рассказать вам тогда об этом, мистер президент, но с этой женщиной и так всё было кончено, и потом, я был слишком возбуждён, чтобы соображать ясно…
— Слабая отговорка! — Голос Холленбаха поднялся нотой выше. — Со мною это не пройдёт! Откровенно говоря, я больше не верю вам! Подозреваю, что вы давно сговорились с О’Мэлли и со всей этой кликой. Вы присоединились к их заговору, чтобы дискредитировать правительство и опозорить меня, только пока не знаю, с какой целью вы так поступаете.
Это последнее обвинение, произнесённое пронзительным голосом, оборвало что-то в душе Маквейга. Всё напряжение последних дней вскипело вдруг в нём, и с губ стали неудержимо срываться гневные слова.
— Это беспочвенное обвинение, мистер президент! Но если вам нужна правда, то сейчас вы её услышите! Вы тут всюду шпионите и вынюхиваете, а теперь ещё хотите ввести закон о всеобщем подслушивании телефонных разговоров, и тогда, конечно, ваше ФБР сможет шпионить в колоссальном масштабе. Теперь меня уже не удивляет, что вам понадобился такой гнусный закон! Вы натравили на меня ФБР, чтобы оно вмешалось в мою частную жизнь. Это, что ли, вы называете доверием, это, что ли, называется играть в открытую с человеком, которого вы сами избрали себе в помощники? А ведь я не просил вас об этом. Это была ваша идея. И скажите вы мне, пожалуйста, подвергался ли когда-либо кандидат в вице-президенты такой унизительной слежке?
На кого ещё напускали целую свору сыщиков из ФБР? — Маквейг так разошёлся, что чуть было не добавил «и свору охранников», но вовремя спохватился. Его вдруг осенило, что президент ничего не знает о слежке Секретной службы.
— Ну а если бы я не устроил никакой проверки? Вы, конечно, ни слова не сказали бы о своей сладострастной миссис Красицкой, так ведь? Так и продолжали бы выдавать себя за порядочного семейного человека. А потом республиканцы раскопали бы эту грязную историю, и нам всем была бы крышка — и вам, и вашей прелестной жене, и правительству, и партии!
— И уж, конечно, Марку Холленбаху, не так ли? — Маквейг просто не мог удержаться.
— Да, да! — завизжал президент. — И Марку Холленбаху тоже, если хотите! Вы собирались меня погубить, Маквейг, так ведь? Но только ничего у вас не получилось! Вы так ленивы и бездейственны, что даже не можете преуспеть по части грязных интриг!
Но злость Джима уже улеглась. От всех этих бессонных ночей он вдруг почувствовал себя одиноким и слабым, и его вдруг охватила невыразимая печаль.
— Я вижу, мистер президент, — тихо сказал он, — что мы совершенно не понимаем друг друга, и я сожалею об этом всем сердцем, поверьте мне, сэр.
— Хорошо хоть у вас хватило мужества самому от всего отказаться, — сказал Холленбах уже более спокойным голосом, — хотя и тут вы, как всегда, опоздали, сенатор, мне жаль вас. Я бы хотел, чтобы это всё кончилось так же хорошо, как и началось.
— Я тоже, мистер президент.
Снова наступило молчание. Когда Холленбах нарушил его, голос его прозвучал уже совершенно официально:
— Я был бы очень вам признателен, если бы вы переслали мне почтой серебряную авторучку.
— Конечно, сэр. Прощайте.
— Прощайте, сенатор.
Уязвлённый, чувствуя себя так, словно ему переломали рёбра в уличной драке, Джим вышел из кабинета и медленно спустился по лестнице.
Марта стояла в гостиной у окна и нервными движениями расправляла новые занавеси. Заслышав его шаги, она обернулась.
— Я всё сказал ему, Марта, он понял. Считай, что из бюллетеня меня вычеркнули. Впрочем, по существу я ведь там никогда и не был.
Марта молча подбежала к нему, обняла и прильнула к его губам долгим поцелуем, в который вложила всю горечь нелепых и безымянных обид, которыми люди по слепоте своей ранят друг друга. Он тоже молча обнял её и прижал к себе. Когда он наконец отпустил её, она улыбнулась и задорно подмигнула:
— Ничего, Джим, ты ещё долго будешь самым красивым сенатором от штата Айова!
— Даже с такой женой, которая занимает нейтральную позицию по вопросу обновления городов?
— Нейтральную? Негодный, я всегда была против.
Они снова прильнули друг к другу, и Джим теперь знал, что в его доме опять тепло и уютно, как бы ни было холодно и страшно в Белом доме, подвластном безумию его хозяина.
ГЛАВА 11. ПЕТЛЯ СТЯГИВАЕТСЯ
К полудню Джим Маквейг уверился, что никто больше за ним не следит. Первый признак окончания слежки он заметил ещё утром, когда остановился в торговом центре МакЛина, чтобы отдать в сухую чистку свой костюм, и не увидел поблизости никаких молодых людей в модных шляпах. В Сенате их также не было. И наконец, тот же факт подтвердил и его помощник Флип Карлсон. Докладывая сенатору о бесчисленных конституционных и законодательных делах и сидя на краю его письменного стола, Карлсон неожиданно спросил: — Послушайте, Джим, что у нас тут такое творится? — Ну уж это вам лучше знать, — отозвался Маквейг. Но Карлсон не поддержал шутливого тона: — Я не шучу, Джим. У меня такое впечатление, что во всём этом замешаны вы, но только не хотите об этом рассказывать. — С чего это вы вдруг решили, Флип? Что случилось? — Вчера вечером звонит мне вдруг какой-то парень, называет себя Филлипсом и заявляет, что он агент ФБР. Говорит, что хочет прийти ко мне на квартиру и задать пару вопросов, но я говорю, что у меня назначено свидание, и предлагаю встретиться здесь, в приёмной, сегодня утром. Резонно? Тогда он говорит, что предпочёл бы встретиться где-нибудь в другом месте, так как дело щекотливое и связано с нашей сенатской работой. Итак, я договорился встретиться с ним сегодня в два часа в ресторане «Объятия Кэрол». И вдруг около часа назад он звонит и говорит, что необходимость в нашей встрече отпала, так как расследование, которым он занимался, прикрыто. — Ну и что в этом необычного? Бюро ежедневно по той или иной причине заводит и прекращает десятки таких расследований. Почему вы вдруг решили, что оно касалось меня? — Бросьте, Джим, я чувствую, здесь что-то нечисто. С тех пор как я у вас работаю, я переговорил, наверное, с дюжиной таких ребят, но никто почему-то не возражал против встречи здесь, в Сенате. Джим напустил на себя равнодушный вид и зевнул: — И всё-таки не вижу в этом ничего особенного. Карлсон нахмурился и внимательно посмотрел на Маквейга: — Ну а как у пас продвигаются дела с биографией Холленбаха? — Прекрасно, — соврал Джим. — Чёрт бы меня побрал, если я понимаю, где вы находите на это время! — Карлсон вскочил со стола и скрестил руки на груди. — И всё же меня не покидает чувство, что тут творится что-то неладное. Во всяком случае, не забывайте об этом, Джим: если вам понадобится помощь, можете располагать мною. — Спасибо, Флип. У меня, правда, всё в порядке, но я не забуду о вашем предложении. Когда за Карлсоном закрылась дверь, Джим задумался. Очевидно сегодня утром, сразу же после его звонка в Белый дом, президент отменил слежку. Факт этот почему-то не доставил Джиму должного облегчения, тоска прильнула к нему, как пропитанная дождём рубашка. Он представил себе, как Марк читал досье ФБР в своём кабинете, возможно поздно ночью. Угадывая подтекст за прозрачными намёками, президент с его чопорностью, наверное, не раз брезгливо поджал губы. Мысль об этом выводила Джима из себя. Теперь это увесистое досье на него и на Риту Красиц-кую наверняка покоится в хранилище ФБР. Бюро редко что-либо выбрасывает, поэтому досье пролежит там в течение многих лет, и, может, никто в него так никогда и не заглянет. Но тем не менее, оно навсегда останется там — бесстрастная хроника одного прелюбодеяния. Сам факт существования такого досье на сенатора Соединённых Штатов заключал в себе нешуточную угрозу, с его помощью Джима всегда могли скомпрометировать как политического деятеля. Сколько таких вот досье скопилось в хранилищах ФБР, и какой государственный деятель рискнул бы потребовать от ФБР отчёта в том, каким образом расходует оно деньги налогоплательщиков? Маквейг вздохнул, снял ноги со стола и надавил кнопку, вызывая Карлсона. — Флип, у меня что-то сделалось с памятью, — сказал он, когда помощник вошёл в кабинет. — Я забыл известить галерею прессы, что сегодня днём я устраиваю конференцию. Давайте назначим её часа на два, чтобы она успела попасть в вечерние газеты. Флип оживился: — Так значит, вы всё же даёте согласие баллотироваться? — Наоборот, я намерен заявить, что не буду выставлять свою кандидатуру. — Это же сумасшествие, Джим! Всё правильно, подумал Маквейг, догадка у тебя верная, Флип, да только сумасшедший не я. — Никогда ещё я не был так здоров, — с наигранной бодростью ответил он. — Я всё продумал, Флип. Я ещё долгое время могу быть неплохим сенатором от штата Айовы, но для такой важной работы я ещё слишком молод и неопытен. Заметив на лице помощника недоверчивое выражение, Джим озорно подмигнул ему: — Кроме того, мне известно из достоверных источников, что Холленбах никогда не согласится на мою кандидатуру, так что я просто сматываю удочки до того, как он отвергнет меня публично. — Боже милостивый, Джим, — запротестовал Карлсон, — да ведь вся информация говорит как раз о противном! Ведь Белый дом раздувает всю эту кампанию специально для вас! И именно на вас работает Джо Донован. Да если меня не разуверит в этом сам Холленбах, я готов держать любое пари, что президент оказывает вам стопроцентную поддержку. — Вы хотите сказать, оказывал. Больше уже не оказывает. Поверьте мне, Флип, я располагаю точными сведениями. Кого бы Марк ни выбрал, это буду не я. Карлсон шлёпнулся в кресло, обмякнув как проколотый воздушный шар. Маквейг догадывался, что Карлсон уже успел нарисовать себе самые радужные картины относительно того головокружительного подъёма, который он совершит вместе с Маквейгом, может быть даже на самую вершину власти. — А почему бы вам всё-таки не сыграть на этом, Джим? Даже если ваша информация и правильная, то почему всё же не принять участие в выборах и не сорвать самое большое количество голосов в каждом избирательном пункте страны? — Чтобы падение было ещё чувствительнее, так, что ли? Не собираюсь я делать из себя дурака. Разве что через несколько лет, Флип… А теперь идите. Известите галерею прессы, что их ожидает славная политическая новость. Да и нам не мешает подзаработать на рекламе. — О’кэй! — ответил Карлсон. Бодрости его как не бывало. Опустив плечи, он вышел из кабинета. Без четверти два толпа репортёров и фотографов в коридоре около приёмной Маквейга выросла до таких размеров, что конференцию пришлось перенести в большой зал для закрытых совещаний, который перевидал на своём веку бесконечное множество расследований и секретных заседаний. Когда Маквейг занял своё место в центре длинного председательского стола и повернулся лицом к публике, то к двум сотням репортёров присоединились ещё и служащие Сената, а также с десяток любопытных туристов, разгуливающих по зданию. Сенатор поднял руку, успокаивая толпу возбуждённых фотографов, пристававших к нему с просьбами повернуться то в профиль, то в фас. — Леди и джентльмены, я собрал вас специально для того, чтобы заявить, что я не буду кандидатом в вице-президенты США и не дам своего согласия на то, чтобы моё имя было названо среди кандидатов на Детройтском съезде. В связи с этим я прошу, чтобы вся деятельность в мою пользу в Висконсине и в других местах была прекращена. Я очень ценю поддержку, которую получил в Висконсине, но прошу, чтобы избиратели не вписывали моего имени в избирательные бюллетени, так как такое голосование было бы напрасной тратой времени. Как вам известно, президент не высказывал возражений по поводу моей кандидатуры и таким образом по существу выразил своё согласие с ней. Поэтому я счёл своим долгом известить его первого о своём решении. Сегодня утром я позвонил президенту. Когда я сообщил ему о причинах, заставивших меня принять такое решение, он отнёсся к нему одобрительно. Таким образом, леди и джентльмены, кратковременная кампания по выборам Маквейга в вице-президенты, по-видимому, закончена. У кого какие вопросы? Человек десять хором выкрикнули одно слово: — Почему? — Откровенно говоря, я просто решил, что у меня для этого ещё не хватает опыта. Ведь я всего только сенатор первого срока, и мне предстоит ещё многому поучиться. Если я ещё мог бы справиться на посту вице-президента, то не следует забывать, что от него до президентского поста только один шаг. И притворяться, что я обладаю достаточными способностями и опытом для решения тех важных проблем, какие встают перед президентом Соединённых Штатов, значило бы нанести ущерб своей стране. Как сказал генерал Вильям Шерман, — прошу простить, если я недостаточно точно цитирую его слова, — «если мою кандидатуру выдвинут, то я не дам согласия, если же изберут — откажусь от исполнения обязанностей». В моих устах это звучит чересчур самонадеянно, так как решающее слово принадлежит в данном случае Холленбаху. И всё-таки эта формула целиком отражает мои намерения и чувства. — Тридцать лет работаю в газете, — заметил один репортёр, — и никогда не слыхал, чтобы какое-нибудь выборное лицо прибегало к принципу Шермана! — Только предупреждаю: подражать Шерману всю жизнь я не собираюсь. Попробуйте предложить мне баллотироваться года через три! Этим шутливым ответом и закончилась пресс-конференция Маквейга. Репортёры и всегда-то благоволили к сенатору Маквейгу, но в этот день отнеслись к нему с особенной теплотой. Он обеспечил им единственное, в чём всегда нуждаются газетчики, — сенсационную новость. Крейг Спенс прошёл в приёмную вместе с Джимом: — Вы меня убили, Джим! Да ведь этот пост у вас уже был в кармане! Ничего не могу понять! Да ведь Марк с его темпами загонит себя через какую-нибудь пару лет! Вы же могли стать президентом, Джим! — Слушайте, Крейг, мне бы очень хотелось рассказать вам обо всём откровенно, но не могу. Когда вся эта история станет древностью, возможно и расскажу. И поверьте мне, её стоит послушать! — Значит, есть и другая причина? — Не давите на меня, Крейг. Будем пока считать, что я сказал то, что хотел. Я ещё слишком молод, мне надо многому поучиться, и как можно скорее. — Так значит, вы не всё сказали ребятам? — А кто вообще говорит всё? И что такое «всё»? — Вы сегодня говорите загадками, Джим. На вас это не похоже. — Ладно, Крейг, пока вам придётся поверить мне и так — и возможно надолго. Вечерние газеты уже вовсю обыгрывали сенсацию дня. Первая страница «Дейли ньюс», этой самой популярной газеты Вашингтона, кричала огромными буквами: Джим решил не баллотироваться! Этот же материал начинал последнюю страницу вашингтонской «Ивнингстар»: статья открывалась заголовком «Маквейг действует по Шерману! Он остаётся сенатором!» Один нью-йоркский приятель позвонил Карлсону по телефону и прочёл заголовок из «Уорлд телегрэм»: «Маквейг вышел из игры! Кого выпустят вместо него?» В пресс-галерее Сената Крейг Спенс хмуро посмотрел на портативную машинку, почесал лысину и забарабанил по клавишам двумя пальцами. Он начал ежедневный отчёт для синдиката, который этой же ночью телеграфирует его слова в сто пятьдесят газет мира, от Джерсей-сити до Гонолулу… «Настоящая причина, по которой сенатор от штата Айова Маквейг неожиданно снял свою кандидатуру, рассматривавшуюся руководством демократической партии США для выборов на пост вице-президента страны, может остаться невыясненной ещё в течение многих лет. В будущем какой-нибудь профессор истории, несомненно, упомянет об этой причине в своей скучной и сухой книжке, которую никто наверняка не станет читать, потому что это уже никому не будет интересно. В этом и заключается трагедия всякого политического события.» Тем временем мысли самого Маквейга целиком сосредоточились на будущем, от которого его отделяло всего лишь два дня, — на встрече в четверг, с которой, как с величайшими предосторожностями сообщил ему по телефону О’Мэлли, всё было улажено. Изолировав себя от персонала категорическим распоряжением, чтобы его ни в коем случае не беспокоили, Джим сидел за столом своего кабинета и пытался мысленно построить ход юридического процесса гражданина Джемса Маквейга — истца — против президента Марка Холленбаха — ответчика. Чем больше он думал, тем яснее вставали перед ним тяжеловесный и медлительный заместитель председателя Сената Никольсон и язвительный, находчивый Фред Одлум. Захотят ли они разбираться в его сложной и путаной истории? Другое дело Каваног. Отличающийся рассудительностью и жаждой докопаться до истины судья по крайней мере трезво взвесит все обстоятельства за и против. О’Мэлли был уже наполовину убеждён, это Джим знал совершенно точно, но О’Мэлли и пальцем не пошевелит, пока остальные не потребуют от него решительных мер. Джим сознавал, что ему, во что бы то ни стало, нужно убедить неповоротливого Никольсона и циничного Одлума, но сознавал и то, что они не поверят ему, пока своими ушами не услышат показаний Риты и не увидят выражения её лица при этом. Другого выхода не было. Она должна явиться на это совещание в четверг вечером. С трудом удалось ему дозвониться к ней на работу. Телефонистка объяснила, что телефон в приёмной Джо Донована занят из-за сенсационного сообщения сенатора Джемса Маквейга. Рита взяла трубку телефона и молча приготовилась слушать. — Рита! Мне нужна твоя помощь! Случилось нечто весьма важное, касающееся безопасности нации. В четверг вечером должна состояться встреча нескольких весьма влиятельных людей, и я прошу тебя пойти туда вместе со мной и повторить там всё, что ты слышала от президента Холленбаха об этом Дэвидже, чикагском банкире. Я понимаю, что прошу многого, Рита, но пойми, это необходимо для безопасности всей страны! — Я не повторяю своих бесед с президентом. И, вообще, всё это мне очень не нравится. — Но пойми, Рита, это очень важно. Поверь мне… — Поверить тебе? Последнее время ты действуешь в высшей степени странно! А твоя пресс-конференция — это уж предел всему! Только стал входить в силу — и вдруг ни с того ни с сего всё прекращаешь. Маквейг устремился в открывшуюся лазейку: — Ты ведь знаешь, почему я так поступил, Рита! Как мог я рисковать твоим именем после проверки ФБР? Я понимаю, ты сейчас расстроена, но отдай мне, по крайней мере, должное в том, что я, как мог, пытался защитить тебя! — Я знаю, Джим. Правда, тебе приходилось думать ещё и о себе, и о своей семье! — Не отрицаю, Рита. — Значит теперь, когда ты сошёл с беговой дорожки, всё стало на прежние места, да, Джим? — То есть? — Раз уж мы с тобой всё равно попали в досье ФБР, то нам терять уже нечего, так ведь? Он вспомнил, как рыдала в ту ночь Марта, и ему захотелось снова и снова твердить, что с Ритой всё кончено, но потом он вспомнил, как отчаянно нужна ему Рита для вечера в четверг. — Да, теперь нам, пожалуй, терять нечего! — Мне очень жаль, что вчера я так вышла из себя, Джим. — Забудь об этом, детка. Но что касается нового дела, то помни — ты должна поехать со мною в четверг! — А с какой целью это всё делается? — Пока я не могу ещё тебе объяснить. Тебе просто придётся мне поверить. Когда-нибудь потом я всё тебе расскажу. Она долго молчала, и он слышал только её прерывистое дыхание: — Будь ты проклят, Джим! Ты вошёл в мою кровь навсегда, и ты хорошо это знаешь! Иногда я проклинаю тот час, когда тебя встретила. — Но ты придёшь, Рита? — Да, Джим. Приду ради тебя. — Спасибо, детка! Ты даже не представляешь, как я тебе благодарен! — Перестань! Голос её вдруг снова стал прежним, официальным. Тем не менее, она всё же чмокнула в трубку, посылая ему поцелуй. Джим положил трубку на рычаг и тогда только заметил, что ладони его вспотели. Ничего не скажешь, потрудиться пришлось порядком. Он сыграл на её чувствах, дав понять, что страсть их ещё может разгореться с новой силой. Он чувствовал себя подлецом, но сейчас он был готов на всё. Рита должна быть у Каванога. Без неё ему вряд ли удастся убедить Никольсона и Одлума. Теперь, что ни говори, такая возможность есть. Послышался стук в дверь, и в кабинет просунулась рыжая голова Карлсона. — Я знаю, вы не велели себя беспокоить, шеф, но мне нужно попросить вас об одном одолжении. Это неотложно и чёрт знает, как меня мучает. — Что с вами делать, заходите. Чем я могу помочь? — Вам это покажется смешным, Джим, но эта толстуха, которая вбила себе в голову сделать хризантему — национальной эмблемой, сводит меня с ума. Устроила в приёмной сидячую забастовку и грозится, что не уйдёт пока вы её не примете! Маквейг поморщился и даже поднял руку, словно хотел отвести от себя этот новый удар: — Господи, только этого мне ещё недоставало, Флип! Ради бога, только не сегодня. Да ведь она совсем сумасшедшая. Если она сейчас сюда прорвётся, нам её потом и через два часа не выставить! Спастись от миссис Банерсон не было никакой возможности. Никогда за всю историю цветоводства ни один цветок в мире не имел такого воинственного и слащаво-приторного адвоката. — Ну, пожалуйста, Джим, что вам стоит! Вы только согласитесь продержать её десять минут, и я тогда вам обещаю выставить её отсюда, пусть даже мне придётся её прихлопнуть её собственной сумкой. Только десять минут, а иначе она просидит в приёмной неделю. Она стала угрозой миру. Набрасывается на каждого, кто появляется в приёмной. — Так вы говорите — десять минут? Смотрите, вы обещали; если она проторчит тут на секунду дольше, вам угрожает расстрел. — Клянусь. — О’кэй, волоките её сюда, Флип. Но только помните, вы после этого мой должник навеки! — Всё что угодно, Джим, что хотите! Миссис Джессика Банерсон вплыла в приёмную сенатора как раздутый парус. Её жирное лицо, разгорячённое затянувшейся кампанией, было мокро от пота, и она из всех сил колотила себя по лицу кружевным платочком. Она лучезарно улыбнулась Маквейгу, взвалила на его письменный стол увесистую сумку и вручила ему сразу три проспекта. На ней был ярко-красный костюм, карманы которого топорщились от набитых в них газетных вырезок, многослойная соломенная шляпа сидела на её голове как картонка из-под овсяного печенья. На бурно вздымавшейся груди красовалась знаменитая белая хризантема. — Вы пытались уклониться от встречи со мной, сенатор. — Голос у неё был нежный и тонкий, как колокольчик и до странности не соответствовал бегемотообразному сложению. — Не могу понять, что вы имеете против пожилых дам! Джим твёрдо решил, что ни в коем случае не даст себя запугать. — Ни против пожилых дам, ни против белой хризантемы я абсолютно ничего не имею. Но просто я считаю, что в национальной эмблеме мы не нуждаемся! — Помилуйте, сенатор, — прошептала миссис Банерсон, — ну как можно быть таким ужасно близоруким! Неужели вам не известно, что к крестовому походу за белую хризантему присоединились… Миссис Банерсон трещала без умолку, и голос её порою поднимался до самых верхних нот. Она тяжело отдувалась и ёрзала в кресле, произнося свою лекцию из серии «для смышлёных, но непросвещённых», и непрерывно подносила к мокрому лицу носовой платок. Джим взглянул на часы. Оставалось четыре минуты. Он мысленно выругался и постарался сосредоточить мысли на Марке Холленбахе, на встрече, назначенной в четверг, и собственном запутанном положении. Скоро голос толстухи стал казаться призрачным, словно дальний звон колоколов. Должно быть, она всё-таки заметила отсутствующее выражение лица сенатора, так как неожиданно голос её включился на полную громкость: — …если мой поход за белую хризантему так смешон, то как вы объясните тот факт, что сам Белый дом одобрил моё ходатайство? — Что такое? — Я сказала, как вы объясните тот факт, что сам Белый дом одобряет мою идею? — Бросьте, миссис Банерсон, нечего нам играть друг с другом в прятки! Насколько мне известно, Белый дом возвращал вам ваши петиции, по меньшей мере, дважды.
Миссис Банерсон взволнованно задышала и напустила на себя таинственный вид:
— Совершенно верно, в прошлом Белый дом действительно занимал такую позицию, но теперь всё обстоит по-другому. Сами увидите, последнее сообщение из Белого дома будет благоприятным!
— Вы, уважаемая леди, просто хотите взять меня на пушку.
— Даже и не думаю. Президент Холленбах лично обещал мне заняться вопросом белой хризантемы.
— Вы утверждаете, что президент собирается поддержать вашу петицию?
— И не только это. Он мне сообщил кое-что куда более интересное. Можете вы мне поклясться, что никому об этом не расскажете?
— Никому.
— Хорошо, но только помните, что об этом не должна знать ни одна душа, президент Холленбах предупредил меня, чтобы я даже во сне никому не проговорилась. Дело в том, что он сейчас работает над проектом какого-то большого союза, ну… с другими, что ли, странами… и он мне твёрдо обещал, что, когда дело дойдёт до обсуждения эмблемы нового союза, он будет в первую очередь иметь в виду белую хризантему. А гербом этого союза он хочет выбрать какое-то дерево, кажется, осину.
Лицо её сняло триумфом. Соломенная шляпа сдвинулась набок, и она стала весело болтать ногами, стараясь достать ими до паркета. Джим Маквейг наклонился к ней через стол, внимательно вглядываясь в неё:
— А когда вы виделись с президентом?
— В прошлую среду. Две недели назад я заявила его пресс-секретарю, что просижу в его приёмной до тех пор, пока президент не согласится меня принять. Секретарь пытался выставить меня силой, но только я не далась. На следующее утро меня даже не пропустили через ворота. Тогда я пошла к сенатору Хэмпстеду и сказала, что буду сидеть в его приёмной, пока он не добьётся для меня приёма у президента. Всё это заняло двенадцать дней, но, в конце концов, я своего добилась.
— В какое время вы с ним виделись?
— В четыре тридцать пять. Он предоставил мне пять минут. Но сам так заинтересовался, что продержал меня все пятнадцать.
Джим подошёл к ней и, схватив её за полные мясистые локти, поднял с кресла и поставил на пол.
— Могу вам обещать, — сказал он, — что, если вы сумеете добиться единодушного одобрения всего состава Сената и ваш законопроект поставят на голосование, то я тоже проголосую «за».
— Как это умно и благородно, сенатор! — Она схватила со стола свою огромную сумку н, покопавшись, извлекла оттуда карандаш и блокнот.
— Значит, я вас тоже записываю, сенатор? — пропищала она. — Ещё два имени, и на моей стороне будет большинство членов Конгресса!
— Великолепно! — Джим принялся настойчиво подталкивать её к двери. — Вот уж действительно, правду говорят люди: никогда нельзя недооценивать способностей женщины…
Джим немедленно вызвал Карлсона:
— Послушайте, Флип, наша хризантема утверждает, что добилась свидания с Холленбахом по поводу своего сумасшедшего законопроекта. Говорит, что разговаривала с ним в четыре тридцать пять в прошлую среду. Позвоните в Белый дом его секретарю Говарду и проверьте, не врёт ли она. Мне до зарезу нужно проверить, так ли это.
Не прошло и нескольких минут, как Карлсон позвонил ему по внутреннему телефону:
— Всё правильно, Джим, старая ведьма не соврала. Она пробыла у президента с четырёх тридцати пяти до четырёх пятидесяти. Когда прошло пять минут, Говард приготовился было её выпроваживать, но Холленбах сам разрешил ей остаться.
Джим повесил трубку и долго сидел, уставившись невидящими глазами на репродукцию с изображением трактора, врезающегося своим плугом в богатый чернозём Айовы. Он почувствовал, как в нём медленно нарастает уверенность. Белая хризантема — эмблема Союза Аспена! Это новое доказательство, казалось, должно было опечалить сенатора, опять пробудить в нём страх, как тогда, ночью, по дороге из Кэмп Дэвида. Но его, напротив, охватило чувство удивительного облегчения. Выходит, подозрения его были правильны!
Дома в этот вечер, сидя за столом с семьёй, он почувствовал себя так легко и свободно, как не бывало уже давно. Он принялся разыгрывать Чинки, дразнить её, напирая на подозрительное обстоятельство, что по телефону ей почему-то звонят одни только подружки, потом рассмешил её и Марту, забавно рассказав о сегодняшней пресс-конференции, и, наконец, попросил у Марты вторую порцию бефстроганова — блюда, которого терпеть не мог.
После обеда он и Чинки прослушали весь альбом пластинок знаменитого барабанщика Порки Джонса. Они включили стереорадиолу на полную громкость, и гостиная превратилась в настоящий ад. Чинки визжала, захлёбываясь в экстазе, а сам Джим отбивал такт по паркету хлопушкой для мух. На пороге появилась Марта, зажимая руками уши и умоляя прекратить дикий рёв. Они не обратили на неё никакого внимания, а Джим повернулся к ней спиной и, подпрыгнув, сделал такое антраша, что стены гостиной заходили ходуном. Чинки начала в восторге покачиваться, точно котёнок, которому дали ложку валерьянки. Когда альбом закончился последним диким ударом барабана, отец и дочь повалились на ковёр, корчась от смеха.
Чинки была уже не в силах смеяться.
— Да ты просто король твиста, пап! — простонала она.
Позднее, когда Чинки отправили спать, несмотря на её обычные отчаянные протесты, они с Мартой ещё долго сидели в его кабинете наверху. Джим прикрыл дверь и постарался настроиться на серьёзный лад.
— Мне очень не хочется тебя огорчать, Марти, и лучше всё-таки сказать тебе: вечером в четверг я должен сопровождать миссис… В общем, эту женщину, которая живёт в Джорджтауне…
— Ты говоришь о миссис Красницкой?
— Да, о ней.
Ему было стыдно смотреть на жену, и он не мог решиться сам произнести фамилию Риты.
— Дело в том, что я должен проводить её на одну встречу. Я не могу сейчас объяснить тебе, но это связано с безопасностью страны… А эта моя связь… с этим теперь навсегда покончено! Но мне надо сопровождать её, и я хочу, чтобы ты об этом знала.
Она ласково посмотрела на него:
— Ты хочешь, чтобы я снова тебе верила, Джим?
— Да, Марта, очень хочу.
Она нахмурилась и раздражённо наморщила маленький носик:
— Я и верю, Джим. Только я всё-таки не понимаю, почему ты не можешь рассказать, в чём дело. Ты ведь никогда ничего не скрывал от меня. Разве я когда-нибудь хоть раз выболтала твои секреты с тех пор, как ты стал заниматься политикой?
— Нет, Марта.
— Почему же ты не можешь рассказать мне?
Правда, почему бы нет, подумал Джим. Ведь теперь всё стало по-другому, исчезли последние сомнения! Они рассеялись с рассказом этой толстухи Джессики Байерсон, безнадёжно помешанной на своей белой хризантеме. Теперь он мог заставить Марту поверить в невозможное. Тем более, что, как она полагает, ради неё он отказался от президентства. Она поверит, не может не поверить в его трагическое открытие. Но прежде необходимо как-то объяснить ей, почему он должен сопровождать Риту в четверг. И вдруг ему стало ясно, что он просто не в силах больше скрывать от жены мучившую его тайну.
— Пойми, Марта, это самое страшное, что только могло произойти с нашей страной. Я постараюсь рассказать тебе всё, что знаю.
И он рассказал ей всю историю.
Марта ни разу его не прерывала и, казалось, целиком была поглощена своим занятием — снимала смоченной в ацетоне ваткой бледно-розовый лак с ногтей. Когда Джим кончил свой рассказ, она растопырила пальцы веером и стала их задумчиво рассматривать. Кто поймёт этих женщин, думал Джим. Стране угрожает самый страшный кризис, какой только возможно представить, а она сидит себе и любуется своими ногтями. Но тут Марта медленно встала и подошла к ручке его кресла. Прижав его голову к груди, она ласково погладила его по волосам:
— Джим, милый, прости, что я заставила тебя рассказать мне об этом. Но я всё понимаю, милый. Тебе необходима помощь.
— Мне нужно, нужно добиться, чтобы Никольсон и Одлум поверили во всё это.
Она откинула его голову и поцеловала в подбородок.
— Конечно, дорогой, — прошептала она, — тебе обязательно нужно добиться этого.
Он посмотрел на неё, увидел в её глазах выражение жалости и сострадания и подивился, как глубоко затронуло её несчастье президента. Женщины, подумал он, вы поистине непостижимы!
В постели она стала покрывать его лицо страстными поцелуями, а потом крепко обняла его и прижала к себе, словно боясь, что он может убежать от неё.
— Слушай, Джим, — сказала она. — С завтрашнего дня мы начинаем другую жизнь, я докажу тебе, что ни Секретная служба, ни кто другой не собирается тебя преследовать.
— Господи, Марта, неужели ты…
Он даже привстал.
Она силой уложила его рядом с собой и стала ласково гладить его лицо и шею. Знакомое чувство одиночества охватило его, и всю кипучую энергию как рукой сняло. Спорить с нею у него не было ни желания, ни сил. Если Марта вообразила, что разум его помутился, то сегодня он всё равно не смог бы ни в чём её убедить. Он ласково поцеловал её, понимая, что надо дать дорогу чувствам там, где уже не помогают слова.
— Бросьте, миссис Банерсон, нечего нам играть друг с другом в прятки! Насколько мне известно, Белый дом возвращал вам ваши петиции, по меньшей мере, дважды.
Миссис Банерсон взволнованно задышала и напустила на себя таинственный вид:
— Совершенно верно, в прошлом Белый дом действительно занимал такую позицию, но теперь всё обстоит по-другому. Сами увидите, последнее сообщение из Белого дома будет благоприятным!
— Вы, уважаемая леди, просто хотите взять меня на пушку.
— Даже и не думаю. Президент Холленбах лично обещал мне заняться вопросом белой хризантемы.
— Вы утверждаете, что президент собирается поддержать вашу петицию?
— И не только это. Он мне сообщил кое-что куда более интересное. Можете вы мне поклясться, что никому об этом не расскажете?
— Никому.
— Хорошо, но только помните, что об этом не должна знать ни одна душа, президент Холленбах предупредил меня, чтобы я даже во сне никому не проговорилась. Дело в том, что он сейчас работает над проектом какого-то большого союза, ну… с другими, что ли, странами… и он мне твёрдо обещал, что, когда дело дойдёт до обсуждения эмблемы нового союза, он будет в первую очередь иметь в виду белую хризантему. А гербом этого союза он хочет выбрать какое-то дерево, кажется, осину.
Лицо её сняло триумфом. Соломенная шляпа сдвинулась набок, и она стала весело болтать ногами, стараясь достать ими до паркета. Джим Маквейг наклонился к ней через стол, внимательно вглядываясь в неё:
— А когда вы виделись с президентом?
— В прошлую среду. Две недели назад я заявила его пресс-секретарю, что просижу в его приёмной до тех пор, пока президент не согласится меня принять. Секретарь пытался выставить меня силой, но только я не далась. На следующее утро меня даже не пропустили через ворота. Тогда я пошла к сенатору Хэмпстеду и сказала, что буду сидеть в его приёмной, пока он не добьётся для меня приёма у президента. Всё это заняло двенадцать дней, но, в конце концов, я своего добилась.
— В какое время вы с ним виделись?
— В четыре тридцать пять. Он предоставил мне пять минут. Но сам так заинтересовался, что продержал меня все пятнадцать.
Джим подошёл к ней и, схватив её за полные мясистые локти, поднял с кресла и поставил на пол.
— Могу вам обещать, — сказал он, — что, если вы сумеете добиться единодушного одобрения всего состава Сената и ваш законопроект поставят на голосование, то я тоже проголосую «за».
— Как это умно и благородно, сенатор! — Она схватила со стола свою огромную сумку н, покопавшись, извлекла оттуда карандаш и блокнот.
— Значит, я вас тоже записываю, сенатор? — пропищала она. — Ещё два имени, и на моей стороне будет большинство членов Конгресса!
— Великолепно! — Джим принялся настойчиво подталкивать её к двери. — Вот уж действительно, правду говорят люди: никогда нельзя недооценивать способностей женщины…
Джим немедленно вызвал Карлсона:
— Послушайте, Флип, наша хризантема утверждает, что добилась свидания с Холленбахом по поводу своего сумасшедшего законопроекта. Говорит, что разговаривала с ним в четыре тридцать пять в прошлую среду. Позвоните в Белый дом его секретарю Говарду и проверьте, не врёт ли она. Мне до зарезу нужно проверить, так ли это.
Не прошло и нескольких минут, как Карлсон позвонил ему по внутреннему телефону:
— Всё правильно, Джим, старая ведьма не соврала. Она пробыла у президента с четырёх тридцати пяти до четырёх пятидесяти. Когда прошло пять минут, Говард приготовился было её выпроваживать, но Холленбах сам разрешил ей остаться.
Джим повесил трубку и долго сидел, уставившись невидящими глазами на репродукцию с изображением трактора, врезающегося своим плугом в богатый чернозём Айовы. Он почувствовал, как в нём медленно нарастает уверенность. Белая хризантема — эмблема Союза Аспена! Это новое доказательство, казалось, должно было опечалить сенатора, опять пробудить в нём страх, как тогда, ночью, по дороге из Кэмп Дэвида. Но его, напротив, охватило чувство удивительного облегчения. Выходит, подозрения его были правильны!
Дома в этот вечер, сидя за столом с семьёй, он почувствовал себя так легко и свободно, как не бывало уже давно. Он принялся разыгрывать Чинки, дразнить её, напирая на подозрительное обстоятельство, что по телефону ей почему-то звонят одни только подружки, потом рассмешил её и Марту, забавно рассказав о сегодняшней пресс-конференции, и, наконец, попросил у Марты вторую порцию бефстроганова — блюда, которого терпеть не мог.
После обеда он и Чинки прослушали весь альбом пластинок знаменитого барабанщика Порки Джонса. Они включили стереорадиолу на полную громкость, и гостиная превратилась в настоящий ад. Чинки визжала, захлёбываясь в экстазе, а сам Джим отбивал такт по паркету хлопушкой для мух. На пороге появилась Марта, зажимая руками уши и умоляя прекратить дикий рёв. Они не обратили на неё никакого внимания, а Джим повернулся к ней спиной и, подпрыгнув, сделал такое антраша, что стены гостиной заходили ходуном. Чинки начала в восторге покачиваться, точно котёнок, которому дали ложку валерьянки. Когда альбом закончился последним диким ударом барабана, отец и дочь повалились на ковёр, корчась от смеха.
Чинки была уже не в силах смеяться.
— Да ты просто король твиста, пап! — простонала она.
Позднее, когда Чинки отправили спать, несмотря на её обычные отчаянные протесты, они с Мартой ещё долго сидели в его кабинете наверху. Джим прикрыл дверь и постарался настроиться на серьёзный лад.
— Мне очень не хочется тебя огорчать, Марти, и лучше всё-таки сказать тебе: вечером в четверг я должен сопровождать миссис… В общем, эту женщину, которая живёт в Джорджтауне…
— Ты говоришь о миссис Красницкой?
— Да, о ней.
Ему было стыдно смотреть на жену, и он не мог решиться сам произнести фамилию Риты.
— Дело в том, что я должен проводить её на одну встречу. Я не могу сейчас объяснить тебе, но это связано с безопасностью страны… А эта моя связь… с этим теперь навсегда покончено! Но мне надо сопровождать её, и я хочу, чтобы ты об этом знала.
Она ласково посмотрела на него:
— Ты хочешь, чтобы я снова тебе верила, Джим?
— Да, Марта, очень хочу.
Она нахмурилась и раздражённо наморщила маленький носик:
— Я и верю, Джим. Только я всё-таки не понимаю, почему ты не можешь рассказать, в чём дело. Ты ведь никогда ничего не скрывал от меня. Разве я когда-нибудь хоть раз выболтала твои секреты с тех пор, как ты стал заниматься политикой?
— Нет, Марта.
— Почему же ты не можешь рассказать мне?
Правда, почему бы нет, подумал Джим. Ведь теперь всё стало по-другому, исчезли последние сомнения! Они рассеялись с рассказом этой толстухи Джессики Байерсон, безнадёжно помешанной на своей белой хризантеме. Теперь он мог заставить Марту поверить в невозможное. Тем более, что, как она полагает, ради неё он отказался от президентства. Она поверит, не может не поверить в его трагическое открытие. Но прежде необходимо как-то объяснить ей, почему он должен сопровождать Риту в четверг. И вдруг ему стало ясно, что он просто не в силах больше скрывать от жены мучившую его тайну.
— Пойми, Марта, это самое страшное, что только могло произойти с нашей страной. Я постараюсь рассказать тебе всё, что знаю.
И он рассказал ей всю историю.
Марта ни разу его не прерывала и, казалось, целиком была поглощена своим занятием — снимала смоченной в ацетоне ваткой бледно-розовый лак с ногтей. Когда Джим кончил свой рассказ, она растопырила пальцы веером и стала их задумчиво рассматривать. Кто поймёт этих женщин, думал Джим. Стране угрожает самый страшный кризис, какой только возможно представить, а она сидит себе и любуется своими ногтями. Но тут Марта медленно встала и подошла к ручке его кресла. Прижав его голову к груди, она ласково погладила его по волосам:
— Джим, милый, прости, что я заставила тебя рассказать мне об этом. Но я всё понимаю, милый. Тебе необходима помощь.
— Мне нужно, нужно добиться, чтобы Никольсон и Одлум поверили во всё это.
Она откинула его голову и поцеловала в подбородок.
— Конечно, дорогой, — прошептала она, — тебе обязательно нужно добиться этого.
Он посмотрел на неё, увидел в её глазах выражение жалости и сострадания и подивился, как глубоко затронуло её несчастье президента. Женщины, подумал он, вы поистине непостижимы!
В постели она стала покрывать его лицо страстными поцелуями, а потом крепко обняла его и прижала к себе, словно боясь, что он может убежать от неё.
— Слушай, Джим, — сказала она. — С завтрашнего дня мы начинаем другую жизнь, я докажу тебе, что ни Секретная служба, ни кто другой не собирается тебя преследовать.
— Господи, Марта, неужели ты…
Он даже привстал.
Она силой уложила его рядом с собой и стала ласково гладить его лицо и шею. Знакомое чувство одиночества охватило его, и всю кипучую энергию как рукой сняло. Спорить с нею у него не было ни желания, ни сил. Если Марта вообразила, что разум его помутился, то сегодня он всё равно не смог бы ни в чём её убедить. Он ласково поцеловал её, понимая, что надо дать дорогу чувствам там, где уже не помогают слова.
ГЛАВА 12. СЕН-ЛЕОНАРД КРИК
Эти два дня, остававшиеся до четверга, Джим Маквейг будет долго ещё вспоминать как самые страшные и длинные дни своей жизни. Он чувствовал себя страшно одиноким, как пленник на высокой горе, заключённый в стеклянную тюрьму и беспомощно наблюдающий за тем, как рушится всё под ним. Марк Холленбах лихорадочно готовился к встрече с Зучеком в Стокгольме, и только один сенатор Маквейг понимал, что в Швецию отправится не глава нации, а опасный маньяк. Но даже если бы Маквейг и закричал об этом во всё горло, его никто бы не услышал. От него бы в лучшем случае молча отвернулись, так как подозревали, что психика его пошатнулась. В этом были уверены и Гриском, и начальник Секретной службы Арнольд Бразерс, а теперь ещё и собственная его жена. Агенты ФБР перестали мозолить ему глаза, но это было малоутешительно, так как наблюдение Секретной службы ещё усилилось. её присутствие Джим ощущал теперь повсюду. Сидя на заседаниях сенатской комиссии, он то и дело узнавал в задних рядах какие-нибудь знакомые, уже не раз виденные лица. Один раз, заправляя свою машину у колонки в Мак-Лине, он обратил внимание на автомобиль, дежуривший на другой стороне улицы. Он внимательно вгляделся в водителя и узнал в нём Лютера Смита. Агент поспешно отвернулся, но сенатор успел разглядеть его смуглое лицо. У себя в приёмной Джим нашёл в справочнике адрес Смита. Агент жил в Сильвер Спринг, штат Мериленд, в сорока минутах езды от Мак-Лина. Разъярённый Джим позвонил в управление Секретной службы. В самых резких выражениях он обвинил Бразерса в том, что тот приставил к нему агентов, и потребовал ответить, по какому праву служба опутывает сетью своей агентуры сенатора Соединённых Штатов. Бразерс притворился возмущённым, похоже было, что он давно уже был готов к такому звонку. Бог свидетель, сенатор Маквейг несомненно заблуждается и видит то, чего нет на самом деле! Служба никому не поручала его выслеживать. Они, правда, получили сигнал из Ля Бёлль, недели две тому назад, произвели проверку и обнаружили, что Роджер Карлсон проводил там какие-то расспросы по указанию сенатора, но на этом всё дело и кончилось. Самое обычное дознание. Уверяю вас, вы ошибаетесь, сенатор! Агенты службы наводняют весь город, вы, возможно, видели наших людей, когда они выполняли другие задания. Если сенатору был подан повод для беспокойства, Служба весьма об этом сожалеет. Бразерс разуверял его самым настойчивым образом, но всё-таки и после разговора Джима не оставляло чувство, что вокруг его шеи затягивается петля. Дома Марта была с ним приторно внимательна и по-матерински заботлива. Она больше не намекала, что разум его повредился, но часто расспрашивала о встречах с президентом, и когда Джим описывал ей ночи, проведённые в Кэмп Дэвиде, она недоверчиво поджимала губы. Пересказывая ей эти события, он вдруг почувствовал, что пропала их пугающая нереальность. Ему уже и самому не верилось, что Холленбах говорил и вёл себя как безумец. Его снова начали одолевать сомнения. Свежим в его памяти оставался лишь последний эпизод с миссис Байерсон, простодушно выдавшей своё знакомство с «Великим планом» Холленбаха. Но какая жалкая и ненадёжная опора эта полоумная миссис Бай-ерсон, думал Маквейг. В четверг днём в «Ивнинг стар» появилась статья Ка-зенса и Кинга, двух прославленных на всю Америку политических сплетников. В ней говорилось, что настоящей причиной того, что сенатор Маквейг сошёл с трека на гонках, было тёмное пятно в его личной жизни — он боялся разоблачения в ходе предвыборной кампании. Авторы не упоминали, что это было за пятно, но свои догадки преподнесли так, как будто располагали самыми достоверными доказательствами. История эта вызвала целый взрыв болтовни и сплетен. Приёмнуюсенатора засыпали бесчисленные телефонные звонки. Из Айовы позвонил председатель демократической партии штата и стал умолять Джима выступить с опровержением. Что, простите, ему опровергать? Его ведь ни в чём не обвинили конкретно! Тогда подавайте на них в суд за клевету. Бессмысленно. Если подать на них в суд, то падкие до сенсаций адвокаты начнут копаться в его личной жизни своими грязными лапами. Председатель партии остался недоволен. До нового переизбрания в Сенат оставалось всего два года. Избиратели таких историй не прощают. Потом к Маквейгу явился Крейг Спенс, взбешённый оскорблением, нанесённым другу, сгорая от желания написать статью и содрать кожу с Казенса и Кинга за инсинуацию. Маквейг с трудом уговорил его ничего не опровергать, доказав, что дальнейшая полемика только подлила бы масла в огонь. Спенс разозлился и покинул приёмную в дурном настроении. Ничто так не вредит благотворительности, как неблагодарный объект, подумал Маквейг. Но если ему и удалось кое-как успокоить своих друзей и политических единомышленников, то настоящую боль ему причинила сцена с Чинки. Когда он вошёл в дом, она приветствовала его быстрым поцелуем, а потом, широко расставив ноги и гневно покачиваясь, показала ему страницу «Ивнинг стар» со статьёй Казенса и Кинга: — Это самая отвратительная грязь, которую мне приходилось читать в газетах, пап! Разве нет законов, которые могли бы оградить тебя от таких оскорблений? — Да это же просто политика, Чинки! Поверь — это абсолютно ничего не значит! Тебе пора к этому привыкнуть. — А я напишу в эту «Стар» письмо! И потребую, чтобы они высказались прямо, а если не могут, то пусть лучше заткнутся! Маквейг ласково потрепал её по щеке: — Ни в коем случае, Чинки! Ты бы сделала из мухи слона. Пусть пишут, что хотят. От негодования Чинки даже взвизгнула: — То есть как это из «мухи»? Скажите пожалуйста! Да ведь теперь в моей школе об этом будет трепаться каждый ябедник! Мне теперь там и показаться будет нельзя! — Ну, полно, Чинки, ты, кажется, забываешь, что статья написана обо мне, а не о тебе. Раз уж я могу с ней примириться, то ты и подавно можешь. Это, конечно, удар в спину, но ничего не поделаешь, такова политика! Она сделала шаг и ткнулась головой ему в пиджак: — Ведь я же знаю, пап, ты у меня самый честный на свете! Марта, молча стоявшая в углу комнаты, быстро выскользнула на кухню. Да, эти последние дни тянулись бесконечно, и Маквейгу приходилось отчаянно отбиваться от друзей, от репортёров, от жены и дочери и от собственных одолевавших его сомнений. Когда же долгожданный вечер всё-таки наступил, Джим встретил его со страхом и раздражением. Почему из многих тысяч государственных служащих он один подрядился охранять благополучие нации? Но что-то, словно невидимая рука, неудержимо подталкивало его вперёд. С Ритой они заранее условились встретиться у здания Верховного суда. Она подъехала на такси, а он ожидал её в автомобиле, который взял напрокат у Хертца, предварительно убедившись, что за ним нет слежки. На Рите было ворсистое пальто с ярким воротником, глаза её были скрыты за тёмными очками. — Раз уж ты обставил свою поездку такой тайной, — тихо сказала она, — пожалуй мне лучше ехать туда наподобие Маты Хари. Она поправила очки и закурила. Губы её казались кровавой раной на нежно-оливковом лице, чёрная прядь волос падала на один глаз. Скоро автомобиль наполнился слабым ароматом её духов, и Джим беспокойно заёрзал. В молчании проехали они мимо Саут Кэпитол-бридж, мимо базы военновоздушных сил и выехали на Сьютлэнд-паркуэй. — Помнишь эту дорогу, Джим? Когда мы взяли парусник у твоего друга? Какое это было чудесное воскресенье! — Помню, — сказал он и постарался выбросить из головы тихо покачивающуюся лодку и освещённую лунным светом палубу. — Почему ты отказался от вице-президентства, Джим? — Я ведь не того сорта! Ты что, не помнишь? Я добрый и ласковый и сродни ангелам, но я не пользуюсь и половиной мозгов, которыми наградил меня господь! Кроме того, я лентяй! Она дотронулась до его подбородка: — Но не забудь об этой ямочке. Нет, серьёзно, Джим, почему ты всё-таки отказался? — Я ведь тебе уже сказал в тот раз, что ФБР всё про нас с тобой знает, следовательно, рано или поздно это дойдёт до Холленбаха, тем более что устроить за нами слежку была явно его идея. И как только он прочитал бы донесение ФБР, он немедленно вышвырнул бы меня из избирательного бюллетеня. Ведь наш президент не выносит, как бы это сказать, прегрешений плоти! Так что я просто опередил его. — Ты говоришь, что президент будет читать о нас донесение? Она повернулась и посмотрела на него в упор. Её гневное лицо быстро заливалось краской. — Конечно, Рита. Ты сама должна была об этом догадаться. — А я не догадалась. — Голос её утратил теплоту. — Но послушай, Джим! Ведь это же отвратительно! Президент, и вдруг читает такие вещи! Да ведь он решит, что я какая-нибудь дешёвая шлюха! — Детка! Он наклонился и сжал её руку, но она гневно её отдёрнула. Она сидела, безучастно глядя в окно автомобиля, и лампочки с приборного щитка странно отражались в стёклах её тёмных очков. Прошло несколько тягостных минут, прежде чем она снова заговорила: — Чёрт тебя подери, Джим! Зачем ты всё это устроил? Куда ты меня везёшь? — Мы едем в один дом на Сен-Леонард Крик. Мы скоро приедем, теперь уже осталось недолго. — Мне это ни о чём не говорит. Она нервно прикурила новую сигарету. Но, сделав несколько глубоких затяжек, расплющила её в пепельнице на приборном щитке. — Немедленно поверни назад, Джим! Я хочу домой. — Но ведь ты же обещала, Рита! Через полчаса мы будем на месте. Я расскажу тебе обо всём, как только смогу. Поверь мне, всё это связано с безопасностью страны. — Безопасностью? Довольно, я уже по горло сыта этим словом! Но больше она не протестовала, и они продолжали стремительно мчаться по южному Мериленду. Надвигалась темнота, следом за автомобилем по небу неслась грозовая туча. У деревушки Люсби Джим свернул на дорогу из гравия и потом ещё раз направо, навстречу деревянному щиту, на котором значилось «Грэди Каваног». — Судья из Верховного суда? — спросила Рита. Джим молча кивнул. — По крайней мере, это ты мне мог сказать! Дорога вилась сквозь густой лес, фары автомобиля выхватывали из темноты молодые дубки, клёны и кизил. Потом они объехали свежевспаханное поле и по крутому подъёму стали взбираться к большому дому, который увенчивал гору и смотрел прямо на тёмные воды Сен-Леонард Крик. Снаружи дом опоясывала терраса. По предварительной договорённости с Каваногом, Джим проводил Риту в комнату для гостей, что ближе всех была расположена к выходу. Комната была обставлена просто, в раннеамериканском стиле: мебель вишнёвого дерева, на полу овальный вязаный ковёр. Около кресла горел торшер, на столике рядом валялись журналы. — Устраивайся поудобнее, Рита. Я приду за тобой через полчаса, не позже. Она сняла своё ворсистое пальто и сделала презрительную гримасу: — Заключённая Красицкая, тюремный номер 87 114! Не бойтесь, сенатор! По такой пустынной дороге я не побегу отсюда и за миллион долларов. Джим прошёл в гостиную, расположенную в глубине дома. Стены её были отделаны деревянными панелями под старый дуб, высокий, как в соборе, потолок поддерживался балками. В сложенном из камня громадном камине потрескивали поленья. Открывавшийся из окон вид на погрузившиеся во тьму пастбища чем-то напомнил сенатору о панораме Кэмп Дэвида. Около камина полукругом сидело пятеро мужчин, сбоку стояло пустое кресло, поджидавшее, по-видимому, Маквейга. Когда он вошёл, все встали, и Джим охватил взглядом присутствовавших. Хозяин усадьбы, Грэди Каваног, энергичный и уравновешенный мужчина, имевший привычку выгибать дугой чёрные брови, как он сделал и сейчас, приветствуя Маквейга. Уильям Ннкольсон, заместитель председателя Сената, принадлежавший к четвёртому поколению одной из самых знаменитых семей Америки, давшей целую плеяду политических деятелей, бесстрастный, суровый, тяжеловесный. Старый Фредерик Одлум, старший сенатор от штата Луизиана и председатель комиссии по ассигнованию законопроектов. Плотный и приземистый Одлум оглядел Джима оценивающим взглядом. Вице-президент Патрик О’Мэлли перекатывал во рту сигару, смешно двигая при этом своими обвисшими щеками. В пятом госте Джим с удивлением узнал Стерлинга Галлиона, сенатора-негра от штата Иллинойс. У Галлиона были влажные карие глаза и кожа цвета морёного дуба. Одет он был, как всегда, безукоризненно. Джим обменялся со всеми рукопожатием, мысленно отмечая при этом своё отношение к каждому. С Каваногом, О’Мэлли и Галлионом он чувствовал себя легко и непринуждённо, но Николь-сон стеснял его своей гордой позой и неприступным выражением лица. Что касается Одлума, то Джим боялся первого же вопроса, который мог сорваться с ядовитого языка старого сенатора. Все шестеро уселись в кресла, сохраняя на лицах выражение чопорной натянутости. — Джим, — начал вице-президент, — посоветовавшись со всеми, я решил пригласить и Стерлинга. Лишние мозги никогда не помешают. О’Мэлли вынул изо рта сигару и улыбнулся: — Кроме того, я не хочу, чтобы историки впоследствии утверждали, будто встреча прошла при полном игнорировании нашего национального меньшинства. Стерлинг Галлион рассмеялся. — Как всем вам известно, — продолжал О’Мэлли, — три дня тому назад Джим Маквейг пришёл ко мне домой и рассказал весьма тревожную историю. Я решил, что всем вам не мешало бы её выслушать. Мы заранее условились, чтобы всё, что будет говориться здесь, ни в коем случае не выходило за пределы этой группы. Надеюсь, это всем понятно? Собравшиеся кивнули. — Должен сказать, господа, что я пока не составил себе никакого определённого мнения насчёт этой истории. — О’Мэлли повернулся к Маквейгу. — Ну что ж, Джим, для вступительной части, думаю, достаточно. Предоставляю слово вам. — Прошу простить меня, господа, что я собрал вас, но я пришёл к убеждению, что наша страна находится накануне кризиса. Сейчас я расскажу вам подробно обо всём, что мне довелось увидеть и услышать. И Джим снова рассказал, как, услышав о встрече Зучека и Холленбаха, намеченной на 20 апреля, он немедленно пошёл к вице-президенту, уверенный, что эту встречу необходимо во что бы то ни стало отменить. Потом он вернулся к первой ночи в Аспен-лодж, стараясь по возможности подробно описать атмосферу этой встречи с президентом. Он старался как можно точнее обрисовать то возбуждение и ярость, которые владели президентом во время их беседы, передать неудержимую речь президента в полной темноте, при потушенных огнях. Однако последовательно пересказывая все подробности этой встречи, Джим вдруг увидел, что ему не удаётся воссоздать ужасающую в своей убедительности картину безумия президента. Наоборот, он понимал, что его история звучит совершенно неубедительно, как будто события тон давней ночи утратили не только чёткость, но и своё страшное значение. Но он не сдавался и упрямо продолжал. Он рассказал об обвинении, которое бросил ему Холленбах: что он, Джим, будто бы присоединился к заговору, ставящему целью погубить президента. Закончил он рассказом о разговоре с миссис Байерсон и её поразительном признании, что Холленбах посвятил и её в свой план союза наций. Окончив рассказ, Джим оглядел присутствовавших и увидел, что крохотные злые глазки Одлума смотрят на него недоверчиво и пристально. Он от души понадеялся, что ему удастся ответить на все вопросы этого ядовитого старика, ни разу не сбившись. Однако первый вопрос ему задал не Од-лум, а Грэди Каваног: — Кажется, Джим, мы всё поняли именно так, как вы старались нам передать. Но, может быть, вы всё это суммируете и выскажете ваши выводы? — Как я уже сообщил на днях Пату, — медленно начал Джим, — я пришёл к заключению, что президент Соединённых Штатов либо болен тяжёлой формой паранойи, либо страдает каким-то иным временным психическим расстройством. Молю бога, чтобы верным оказалось последнее. Но я считаю, что в любом случае поездке в Стокгольм следует воспрепятствовать Свой первый вопрос Одлум произнёс тем скрипучим голосом, которым обычно пользовался в Сенате для допроса уклончивых свидетелей: — Сенатор Маквейг, вы, по-видимому, придаёте большое значение привычке президента сидеть в темноте у себя в Аспенлодж! Что вы усматриваете в этом странного? Разве Линдон Джонсон не надоедал всем и каждому, беспрерывно выключая свет? — Джонсон таким образом старался преподать урок экономии, Фред, и кроме смеха это ничего не вызывало. С президентом Холленбахом, к сожалению, обстоит совершенно иначе. У него всё это связано с какой-то немыслимой чертовщиной! — Чертовщиной? Нельзя сказать, чтобы это было научное определение, сенатор! — Я просто стараюсь передать вам своё впечатление. — Джима охватило отчаяние, он отлично сознавал всю неубедительность такого ответа. — Вы что же, полагаете, что идея союза Штатов с Канадой есть непременно признак безумия? — спросил Галлион. — Ни в коем случае. Но в свете остальных поступков и речей идея выглядит именно так! — Рад слышать, что вы такого мнения, — проворчал Галлион. — Потому что в Чикаго целая группа важных бизнесменов выступает именно за союз с Канадой. Мне бы очень не хотелось думать, что все они сумасшедшие. — Послушайте, джентльмены, — сказал Каваног, — предлагаю не начинать с того, что сам факт помешательства невозможен. Не следует забывать о Вудро Вильсоне! Ведь он совершенно очевидно не был нормален всё то время, когда разбирался Версальский договор, и страной фактически управляла миссис Вильсон. И я хорошо помню, как Эйзенхауэр сам рассказывал о том случае, когда его хватил удар. Он признавался, что несколько дней он не мог даже нормально разговаривать. Мы, безусловно, верим, Джим, что вы сами необычайно угнетены всем этим неприятным делом, но всё-таки, не могло ли быть подозрение Холленбаха, будто Пат пытался намеренно его опорочить, вполне нормальным преувеличением очень обозлённого человека? — В случае с Патом так быть, конечно, могло, но не забывайте, что он наговорил о Дэвидже, как он набросился на меня; а его убеждение, что существует целый заговор против него! Ведь Марк так всегда гордится логичностью всех своих суждений, и вдруг — такие обвинения, совершенно абсурдные, на мой взгляд. — И всё-таки конфликт его с О’Мэлли не может сам по себе являться доказательством психического расстройства! — настаивал Каваног. — Согласен. — С другой стороны, из того, что я услышал, меня больше всего тревожит идея подключения ФБР ко всем телефонам в стране. Вот это мне кажется совершенно невероятным! Она противоречит всем его прежним взглядам на личную свободу граждан! — Вот именно, в этом-то всё и дело! Как может серьёзно заявить об этом нормальный человек! И не забудьте, он сказал мне, что если бы такой закон уже существовал, то он бы применил его в отношении Пата! — Я не верю, чтобы вы точно цитировали слова президента, — скептически улыбнулся Никольсон. — Я тоже не могу в это поверить, — отозвался Галлион. — Прежде всего, Марк ловкий политик! Разве он не понимает, что такой закон провалил бы его на выборах в ноябре! — Он заявил об этом совершенно серьёзно, — упорствовал Маквейг. — Он сам убедил меня в том, что говорит всерьёз. Это всё, что я могу вам сказать, но, поверьте, я не преувеличиваю. — А идея о союзе со скандинавскими странами! — вмешался Одлум. — Человек, женатый на прелестной шведке, не станет, надеюсь, спорить с тем, что похвала национальному характеру шведов — признак вполне здравого ума? — Да, конечно, спорить не стану. — Одлум всё-таки попытался поймать его на крючок, и Джиму неимоверного усилия воли стоило сдержаться и не ответить резкостью. — Но союз со странами Скандинавского полуострова — совсем другое дело! Ведь Холленбах мыслит его себе как утопию, а мы-то с вами прекрасно знаем, какой скандал поднимут наши теперешние военные союзники! Какого чёрта, Фред, вы прекрасно знаете, что это было бы безумием! Приземистый сенатор из Луизианы потрогал свои морщинистые щёки: — Ну, это ещё как сказать! Попробуйте-ка повторите это своей жене и её шведским родичам, и они вам точно скажут, кто, по их мнению, безумен! Как знать, может, эта идея Холленбаха не так уж и плоха. Союз со скандинавскими странами поправил бы наше положение в смысле расового неравенства. Нам, белым, срочно требуется подмога! Галлион с сородичами скоро превратят Америку в чёрную республику! — Где ваша благодарность, Фред! — Галлион поднял палец. — Шестьдесят шесть процентов избирателей, которые голосовали за вас на последних выборах в Луизиане, были негры! Каваног рассмеялся: — Это только доказывает правильность того, что говорит Фред. Что негры стараются протащить в Сенат именно таких неотёсанных сенаторов, как он! — Если бы у вас в Верховном суде имелась парочка таких неотёсанных, — огрызнулся Одлум, — вам для разнообразия, может, и удалось бы вынести хоть один разумный приговор! Все, кроме Маквейга, рассмеялись. Джимом овладело отчаяние: он чувствовал, что этот тяжеловесный юмор направлен против него. Они явно не принимали его всерьёз. — Вернёмся-ка лучше к предмету нашего обсуждения, — напомнил О’Мэлли, и Джим бросил на него благодарный взгляд. — Прекрасно, — отозвался Никольсон, — вернёмся к истории, рассказанной сенатором Маквейгом. Основной её недостаток в том, что нам неизвестно мнение людей, которые близко знают президента. — Никольсон говорил нудным голосом, словно подводил итог очередному заседанию Сената. — Что вы скажете о его жене Эвелин и о сыне, который учится в Йельском университете? Что вы скажете о его личном враче и о доверенных сотрудниках? Что думают они? — Но, позвольте, мистер Никольсон, — запротестовал Маквейг, — ведь невозможно устраивать предлагаемый вами опрос без сигнала к действию со стороны руководства! Ведь мы для того и собрались, чтобы договориться о том, как лучше проверить моё, э… убеждение! — Правильно, — сказал Каваног, — и скажу вам больше, при сложившейся ситуации право проводить такой опрос имеет только вице-президент. Об этом совершенно ясно говорится в законе, и потом у Пата имеется письменное соглашение с Холленбахом, согласно которому он должен в подобном случае действовать безотлагательно. Я согласен, джентльмены, что история, рассказанная Джимом, требует дальнейшего расследования. В конце концов, все мы живём не при Вильсоне! Со всеми этими атомами, кодированными командами и пусковыми кнопками мы не можем позволить себе такую роскошь, чтобы у президента страны были «отклонения от нормальности», если можно так выразиться. — Но не можем же мы полагаться на слова только одного человека? Джим поднял голову: — Это не совсем так. Пат своими ушами слышал, как его обвинили в преднамеренной дискредитации правительства. И не забудьте о Джессике Байерсон. Её нетрудно допросить. — Да ведь это самая сумасшедшая карга в Вашингтоне. — Одлум вздохнул. — Только этого мне и не хватает — ещё раз говорить с этой слабоумной. — А что вы скажете о таинственной особе, с которой президент разговаривал о Дэвидже? — спросил Никольсон. О’Мэлли кивнул Маквейгу: — Джим, думаю, уже об этом позаботился. Давайте подождём, пусть он приведёт свою свидетельницу. Рита по-прежнему сидела в комнате для гостей, в пепельнице подле неё высилась целая гора испачканных помадой окурков. Она поправила причёску, одёрнула чёрное платье и смело шагнула вперёд. Глядя на неё, Джим испытал лёгкое беспокойство. Он понимал, что для серьёзного разговора с такими важными людьми она выглядела слишком доступной и чувственной, но отступать было поздно, и. входя в гостиную, он крепко сжал её руку. Появление Риты вызвало замешательство среди мужчин, да и сама она явно чувствовала себя неловко. О’Мэлли быстро представил ей каждого и подвинул кресло. Оказалось, что она хорошо знает всех, кроме Каванога. Первым заговорил О’Мэлли: — Миссис Красицкая, если я правильно понял, вы та самая женщина, которая разговаривала по телефону с президентом Холленбахом относительно некоего банкира но фамилии Дэвидж? Не потрудитесь ли вы рассказать нам об этой истории так, как вы её помните? — Я не имею обыкновения пересказывать конфиденциальные беседы с политическими деятелями! Могу я узнать, с какой целью вы об этом спрашиваете? Это что, какое-нибудь следствие по делу мистера Дэвиджа? — Мы не имеем права раскрыть тайну, так как вопрос этот тесно связан с государственной безопасностью. Заставить вас говорить мы, конечно, не можем. Мы собрались здесь неофициально и не имеем права вызывать вас в качестве свидетельницы. Чёрные глаза Риты недоверчиво и враждебно перебегали с одного лица на другое. Господи, думал Джим, да ведь она сейчас откажется! Он поймал её взгляд и умоляюще поглядел на неё. Наконец он не выдержал и сказал: — Вы ведь обещали, что будете говорить, Рита! Она повернулась к О’Мэлли: — Можно мне закурить? Томительно потянулись секунды, пока она доставала сигареты и наклонялась прикурить от зажигалки, вежливо протянутой Фредом Одлумом. — Хорошо, — просто сказала Рита. И она пересказала историю своего разговора с президентом Холленбахом. Но так как говорила она сухим и бесцветным тоном, то в рассказе её ничего, конечно, не сохранилось от того волнения, с каким она сама пересказывала этот разговор Джиму. — Скажите, Рита, ведь вы рассказали мне об этой истории в связи с тем, что я ещё раньше обмолвился, что президент весьма странно со мною разговаривал? Вы ещё ответили тогда на это, что все люди временами ведут себя странно, и когда я спросил вас, что вы имеете в виду, вы рассказали мне о своём разговоре с президентом! — Да, это правда. — А что вы тогда мне сказали в конце нашего разговора, помните? Она нахмурилась: — Мне кажется, я тогда сказала, что… что президенту, значит, не чужды человеческие слабости и что даже такой человек, как Марк Холленбах, который всё время проповедует совершенство, не является идеальным примером. В общем, что-то в этом роде. — Где происходил этот разговор с сенатором Маквей-гом? — быстро вмешался сенатор Одлум. Рита опустила глаза: — В моей квартире в Джорджтауне. — Когда же это было? — В одно из воскресений, примерно недели три тому назад. Одлум подался вперёд. Морщины на его лицо стали ещё более заметны: — Скажите, миссис Красицкая, а каким образом оказался сенатор Маквейг в вашей квартире? Судья Каваног, словно почуяв подвох, прервал этот допрос: — Разве это так уж необходимо, Фред? Какая, собственно, разница, почему Джим там очутился? Злые глазки Одлума перебежали с Риты на Джима. Он теперь целиком вошёл в привычную роль председателя комиссии. — Очень большая, джентльмены. Все мы читали вчера статью Казенса и Кинга. Допустим на минуту, что по какой — то неизвестной нам причине наш коллега, почтенный младший сенатор от штата Айова, водит нас за нос! Согласитесь, что если между сенатором Маквейгом и миссис Красицкой существует, как бы это сказать, э… взаимопонимание, тогда это придаёт показаниям обоих определённую окраску. — Это не показания под присягой, Фред, — вскинулся Маквейг. — Боже мой, да я просто пытаюсь доказать вам то, в чём сам убеждён, а не стараюсь втереть вам очки! — Всё это, конечно, прекрасно, но только раз уж нас всех зазвали сюда среди ночи, то я лично хотел бы докопаться до сути! Рита взглянула на Джима. Он увидел в её глазах такую боль, что опять ощутил болезненную пустоту в желудке. — Не волнуйтесь, джентльмены! — голос Риты прозвучал тихо и неожиданно спокойно. — Не знаю, зачем вам всё это, но если уж вам так важно знать, то извольте — мы с Джимом были близкими друзьями. Она распрямила плечи и вызывающе посмотрела на Од-лума. Своими чёрными сверкающими глазами и напряжённой позой она напомнила Джиму дикое и красивое животное, затравленное и загнанное в угол. Боже, а что если он неправ? Сколько людей принесено в жертву подозрениям одного человека! — Вы хотите сказать, что вы были интимными друзьями? — Одлум так плотоядно подчеркнул это слово, что и Риту и Джима передёрнуло. — Ну, Фред, это уж, по-моему, совершенно излишне… — вмешался Каваног. — И вообще с меня достаточно! — Рита сверкнула глазами на Одлума. — Выводить заключения — это уже ваше дело, сенатор! Тем более что вам, по-видимому, это доставляет наслаждение. — Дорогая моя леди, я вас сюда не приглашал! Я и сам-то явился сюда не по собственной воле. Рита торопливо закурила новую сигарету, руки её тряслись. Она посмотрела на Маквейга, в её взгляде он прочитал отчаянную мольбу, и ему захотелось схватить её за руку и выбежать вместе с нею. — Послушайте, Рита, — нарушил молчание Никольсон, — мне очень неприятно продолжать этот разговор, но у меня к вам есть один важный вопрос! Вы совершенно уверены, что получили все речи Дэвиджа? Разве не может быть, что секретарша прислала вам не все его выступления и что Дэвидж, возможно, и произнёс какую-нибудь речь с выпадами против президента Холленбаха и его администрации? Рита растерянно нахмурилась и кивнула: — Это возможно. Я прочла только те его речи, которые мне прислали. — Мистер Никольсон, — вмешался Каваног, — если бы Дэвидж действительно произнёс такую речь, то, учитывая его влияние и занимаемое им положение, отчёт об этой речи непременно появился бы во всех газетах! — Ну, вот, Рита, это, пожалуй, всё. — сказал О’Мэлли. — Спасибо, что согласились сюда приехать. Своими показаниями вы оказали нам существенную помощь. Маквейг молча отвёл её в комнату для гостей. Только теперь он заметил, что глаза её мокры от слёз. Он хотел обнять её за плечи, утешить, но она гневно сбросила его руку: — Ради бога, Джим, что ты со мною делаешь? Сначала ФБР, а теперь ещё и это. Мне начинает казаться, что в тебе уже не осталось ничего человеческого. Она отвернулась, и мгновение спустя он вышел из комнаты. Действительно, что он с нею сделал? Сердце Джима готово было разорваться от жалости, стыда и смутного желания, и когда он вошёл в гостиную, он чувствовал себя совершенно разбитым. Последовало чопорное обсуждение, следует ли Маквей-гу рассказывать Рите о цели совещания. Решающим оказалось мнение судьи Каванога. Он считал, что подозрения Маквейга настолько тревожны, что независимо от их достоверности посвящать в них не следует никого. Маквейг понимающе кивнул. — Кстати, вы ещё об этом никому не рассказывали? — спросил его Одлум. — Только одному Полю Грискому, и, как я уже говорил, при этом я не упоминал имени президента. Я сделал вид, что это кто-то другой. И, скажу вам честно, Фред, мне кажется, Гриском уверен, что я описал ему своё собственное состояние. Он очень хотел мне помочь. Джим помолчал. — Кроме того, я рассказал обо всём своей жене, но за неё можно быть спокойным, она не проговорится ни одной душе. — Ну и как отнеслась миссис Маквейг к вашей истории? — спросил Одлум. — Мне кажется, что она тоже мне не верит, потому что… ну, потому что это связано с другими вещами. Она, по-видимому, уверена, что у меня у самого галлюцинации. Все молча на него уставились, и Джим не сомневался, что сейчас они думают о том, что его жена подозревает о его отношениях с Ритой. Ему казалось, что его раздевают донага. Теперь он хорошо понимал, что чувствовала Рита, когда они задавали ей свои вопросы. Тягостное молчание нарушил Г рэди Каваног: — Что же нам теперь делать, джентльмены? Что вы собираетесь предпринять? Никольсон поднялся со своего кресла. Вид у него был решительный и даже воинственный: — Сейчас я вам скажу, что я собираюсь делать! Я уезжаю! Хватит с меня этого вздора! На всех лицах отразилось удивление. Никольсон взялся за спинку кресла и заговорил, словно обращаясь к большой аудитории: — Я не знаю, чего добивается сенатор Маквейг и что он, собственно, пытается нам доказать! Либо у него чересчур подозрительный ум, либо тут что-то более серьёзное. Позвольте напомнить: он снял свою кандидатуру в вице-президенты, что, по-моему, весьма странно. Потом мы прочитали статью Казенса и Кинга, только что выслушали признание миссис Красницкой, и мне всё это как-то трудно сразу переварить. Я ещё не знаю, что именно происходит, но одно вам скажу, джентльмены, не нравится мне вся эта история! Очень не нравится! И я не хочу больше здесь находиться и слышать, как порочат имя великого президента! Домыслы сенатора Маквейга о больном уме президента Холленбаха являются, на мой взгляд, совершенно фантастическими, и наше совещание чертовски смахивает на заговор. Откровенно говоря, я чувствую, что поступаю, как грязный предатель, принимая участие во всём этом. Никольсон повернулся и неуклюже вышел. Джим подумал, сколько печальной иронии было в этом неожиданном выступлении Никольсона в защиту президента, который охарактеризовал этого самого Никольсона как чересчур «тяжёлого на подъём». «Он подавляет меня своей слоновьей тяжеловесностью…» — сказал про него Холленбах. В гостиной осталось пять человек, все молчали с застывшими лицами. Сенатор Галлион попытался было исправить неловкое положение шуткой: — Ну вот и доигрались, что нас покинул глава Сената. Попробуй докажи теперь, что мы не заговорщики! Никто не улыбнулся. Наконец молчание нарушил хозяин дома: — Мне думается, что тут требуется, э. дальнейшее расследование. Я не уверен, как нам лучше приняться за дело, но лучше, если мы сами будем теперь начеку, произведём кое-какие, осторожные разыскания и потом встретимся здесь опять, скажем, через неделю. Как вы считаете, джентльмены? — Я за то, чтобы сегодня же покончить со всей этой историей, — сказал Одлум. — Меня она не возмутила, как Ника, и я весьма ценю старания сенатора Маквейга выполнить свой долг так, как он считает правильным. Если он приведёт новые доказательства в пользу своей версии, я всегда готов его выслушать. Но пока он меня не убедил. — Но подумайте обо всей этой истории в целом, Фред! — сказал Каваног. — Совершенно очевидно, что во всех последних поступках Марка налицо какая-то последовательная неуравновешенность. Я настолько ни в чём не уверен… что готов действовать. Одлум вскинул голову. От его инквизиторской манеры не осталось и следа. — А кто вообще уравновешен, хотел бы я знать? Для меня всё это слишком неконкретно, джентльмены. Я не вижу здесь ничего такого, на что можно было бы опереться в практических действиях. — Согласен, — сказал сенатор Галлион. — Пожалуй впервые в жизни, джентльмены, я согласен с Фредом. Джим почувствовал себя одиноким, опустошённым. Над страной нависла угроза величайшего правительственного кризиса, а эти люди в своём циничном недоверии хотят превратить всё в шутку! — У меня, — вмешался О’Мэлли, — связаны руки, и вы все это прекрасно знаете. Из-за истории с ареной я не могу выступить один, без вашей поддержки. Я действительно сомневаюсь в нормальности президента, но только в таком деле одних сомнений недостаточно. Тут необходимы доказательства. Я предлагаю, чтобы мы с Джимом отошли в сторонку, а вы трое проголосовали бы между собой, стоит продолжать это расследование или же лучше покончить с ним тут же, на месте. — Я за то, чтобы продолжать, — высказался Каваног. — А я чтобы прекратить, — сказал Одлум. — Я тоже, — присоединился к нему Галлион. О’Мэлли стукнул рукой по ручке кресла, словно держал в ней председательский молоток: — Совещание окончено, джентльмены! Все дружески пожали Маквейгу руку, а Одлум задержал её в своей и тихо сказал: — Очень сожалею, Джим, что мне пришлось задать жару и вам и этой Рите, но мне просто необходимо было знать, честную ли вы ведёте игру. Джима охватило отчаяние, он чувствовал, что проиграл не только эту битву, но и всю войну. Он нисколько не сомневался, что в результате совещания ещё несколько человек прониклись убеждением, что им движут либо соображения политической мести, либо расстроенные умственные способности. Когда все стали расходиться, Каваног жестом задержал его: — На вашем месте, Джим, я стал бы действовать только в одном направлении. Допустим на минуту, что ваша теория правильна. Если так, то у президента, возможно, и раньше наблюдались симптомы этой болезни. В конце концов, именно поэтому вы и стали копаться в материалах его ранних лет. Почему бы вам не попросить какого-нибудь приятеля в Пентагоне, чтобы он просмотрел для вас военный послужной список Холленбаха? Ведь он воевал в Корее, кажется, в пехоте. Может, там ничего и нет, а может, и есть! Но если вы узнаете, что даже в напряжённых военных условиях его разум оставался нормальным, вам всё-таки от этого полегчает. Джим поблагодарил его и сказал, что непременно воспользуется его советом. Однако в душе он сомневался, стоит ли наводить справки. Он чувствовал себя разбитым, выжатым как лимон. Господи, хоть бы сегодня удалось ему наконец уснуть! Обратная поездка с Ритой в автомобиле началась с мрачного молчания. Небо в тёмных тучах нависло над ними свинцовым пологом. Их «седан» прокладывал себе путь по извилистой гравиевой дорожке к большому шоссе, и слышался только шум мотора да скрип гравия под колёсами. Когда они выбрались на шоссе и понеслись по нему со скоростью семьдесят пять миль в час, в деревне Люсби было темно, и только в одном фермерском домишке горел запоздалый огонёк. Первой заговорила Рита: — Никогда за всю мою жизнь никому не удавалось вывалять меня в такой грязи! — Мне очень жаль, Рита. Это всё, что я могу сказать. Чего бы я не отдал, чтобы избавить тебя от этой сцены! — Нет, до чего мерзкий этот Фред Одлум! Чего и ожидать от человека, который перещупал всех девчонок у себя в Капитолии! — Постарайся обо всём забыть, Рита, с этим покончено. — Он смертельно устал, и ему ни о чём не хотелось говорить. — Может, ты всё-таки объяснишь, ради чего мне пришлось выдержать этот допрос, как какой-нибудь девке, подобранной полицейскими на улице? — Не могу, Рита. Пойми, мы все поклялись хранить это в тайне. И если ты можешь сделать мне последнее одолжение, то очень тебя прошу, Рита, никому об этом не рассказывай. — Не беспокойся. Неужели ты думаешь, что я стану кому-нибудь рассказывать об этой отвратительной, позорной истории? Она отвернулась к окну, и Джим услышал, что она снова плачет. Это был прерывистый, сухой плач. Но вскоре она вытерла глаза и принялась молча курить. Когда они проезжали мимо базы военно-воздушных сил, она неожиданно спросила: — Скажи мне, Джим, ты состоишь в заговоре и хочешь погубить президента? Да? — Нет, Рита. Я не хочу погубить его. Я пытаюсь ему помочь. Но рассказать тебе об этом я не могу. Во всяком случае, не теперь. Она вынула пачку сигарет и, убедившись, что она пуста, нервно смяла её и вытащила из сумочки свежую. Потом торопливо закурила. Когда она снова заговорила, тон её был злым, обвиняющим: — Ну, конечно, всё так и есть. Он предложил тебе поставить своё имя на избирательном бюллетене, и не прошло трёх недель, как вышвырнул тебя вон, и вот теперь ты решил с ним посчитаться. Ты участвуешь в заговоре и хочешь дискредитировать президента. Я уже решила, завтра же утром я обо всём доложу Доновану! — Ты сама не понимаешь, какую глупость сделаешь! Поднимется чёрт знает какой скандал, и всё будет зря. Клянусь тебе, я не состою ни в каком заговоре! Она продолжала молча курить. — Прошу тебя, Рита, ну неужели ты мне не веришь? Ока обратила к нему угольно-чёрные стёкла очков: — Поверить тебе, Маквейг? После всего, что было? Да ни за что на свете! Джим понял, что спорить с нею бесполезно. Ему стало вдруг страшно грустно, и жаль себя, Риту, свою страну, и он усомнился, стоит ли вообще продолжать эту борьбу. Может, давно уже надо было от неё отказаться? А может, у него действительно были галлюцинации, и он сам всё выдумал? Они молча неслись по безлюдным улицам Вашингтона, и, когда подкатили к дому Риты, часы показывали у неё два часа ночи. Рита поспешно вылезла из автомобиля, яростно хлопнула дверцей и, не попрощавшись, взбежала по ступенькам.ГЛАВА 13. БУХТА ЗЕЛЕНОЙ ЧЕРЕПАХИ
На следующий день Маквейг появился в своей приёмной за несколько минут до восьми. В здании Сената никого не было, один только мальчишка лифтёр дремал в вестибюле над раскрытым учебником права. Шаги Джима отдавались гулким эхом по мраморному коридору, как будто проходил батальон солдат. Ни один служащий его приёмной не приступал к работе раньше восьми тридцати, и Джим сидел теперь в своём кабинете один, окружённый портретами с автографами. На столе перед ним лежали аккуратные стопки писем, ожидавших ответа. Он чувствовал себя совершенно разбитым. В голове гудело, белки глаз налились кровью, кожа зудела так, словно вот-вот начнёт сползать с него клочьями, — ощущение, которое обычно появлялось у него после долгой бессонницы. Этой ночью он спал лишь урывками, и, как ни устраивался поудобнее, к каким способам заснуть ни прибегал, сознание не переставало работать. Когда перед самым рассветом он очнулся от тревожного забытья, ноги и руки его ломило от нестерпимой боли. Ему снились сны, и они живо сохранились в его памяти. Ему снился президент Холленбах, задыхающийся от ярости и бросающий ему в лицо грозное обвинение в заговоре с целью свержения президента США. Не в состоянии долее сдерживаться, Джим набросился на Холленбаха, изо всех сил двинул его кулаком в скулу и вдруг с ужасом увидел, что рука прошла насквозь, проткнув череп. Когда он вытащил руку обратно, как мог бы вытащить её из ведра с водой, президент упал мёртвым. Потом появился Арнольд Бразерс. Он укоризненно цокал языком и качал головой, словно перед ним был набедокуривший мальчишка. Бразерс защёлкнул на сенаторе наручники и отвёз в тюрьму, в голую сырую камеру. Дверь камеры захлопнулась с пронзительным, безнадёжным скрипом. Джим уселся на стул и стал отчаянно ругать себя за то, что убил ни в чём не повинного человека, удивляясь, как это он мог до такой степени забыться. Сидя теперь у себя в кабинете, Джим ещё испытывал весь ужас этого сна, хотя уже не помнил подробностей. Неужели этот сон был подсознательным предостережением? Неужели он действительно пытался причинить вред президенту Соединённых Штатов? Неужели уверенность в безумии Марка была не чем иным, как безосновательным предположением? Неужели сенаторы Никольсон, Одлум и Галлион правы и он выдумал то, чего не было на самом деле? Может, Марта, Гриском и шеф Бразерс тоню правы, может быть, разум его помутился и у него начались галлюцинации? Всегда старательно избегавший всякого самоанализа, он теперь безнадёжно вяз в нём; Джим тщетно пытался разобраться в том, что именно побуждает его действовать и толкает на ничем не обоснованные выводы. И опять он так ясно ощутил петлю, стягивающуюся на шее, что даже завертел головой, пытаясь её сбросить. Нет, всё правильно, Маквейг, твёрдо сказал он себе. Безумен только Марк Холленбах. В достоверность его истории поверили два вполне здравомыслящих человека — О’Мэлли и Каваног. Спокойно, Джим, не торопись, делай только по одному шагу! Перестань паниковать! Вот так-то лучше. Когда он надавил кнопку звонка, Роджер Карлсон влетел в кабинет мелкой рысцой и уже собрался было устроиться на привычном место, на углу письменного стола Джима, как вдруг увидел лицо сенатора и остановился как вкопанный: — Господи, что с вами стряслось, Джим? Вы что, шлялись всю ночь по ресторанам? Да у вас такой вид, что вас сейчас и крысы жрать не станут! Джим устало улыбнулся: — Я здорово засиделся вчера вечером, Флип. Всё работаю над книгой о Холленбахе. — В таком случае вы не иначе как пропускаете по бутылке перед каждым абзацем! — Да нет, Флип, это у меня просто от бессонницы. Послушайте, Флип, мне надо, чтобы вы нажали на кое-какие кнопки в Пентагоне и достали мне личное дело Холленбаха во время корейской войны. Оно мне нужно для биографии. Если оно не очень длинное, то я, может быть, использую весь текст целиком. Карлсон скрестил руки на груди и покачал головой: — Перестаньте водить меня за нос, босс. Вы и не думаете писать о Марке. Правильно? Давайте-ка лучше выкладывайте всё начистоту. Что, в конце концов, творится на самом деле? Изумлению Джима, казалось, не было границ: — Что вы хотите сказать, Флип? — Что вы блефуете. — Да ничего подобного! Просто мне приходится сейчас проворачивать массу материала для книги о президенте. Не понимаю, что заставляет вас в этом сомневаться! Карлсон поставил стул посреди комнаты и уселся на нём верхом: — Слушайте, Джим, я пришёл к заключению, что всё это неспроста, слишком много загадочных вещей происходит в последнее время! Возьмём, например, этого агента ФБР, который рыскал здесь, в Сенате. Я просто уверен, что он хотел допросить меня о вас, иначе какого дьявола было ему назначать частную встречу? И представьте, именно после того, как вы звоните Холленбаху и отказываетесь стать вице-президентом, этот агент вдруг ни с того ни с сего отменяет нашу встречу! А как вам нравится агент Секретной службы, который явился меня допрашивать после поездки в Ля Бёлль? Он задавал мне такие замысловатые вопросы, словно подозревал, что мы с вами покушаемся на жизнь президента! Он залезал в такие подробности, которые определённо не нужны для «обычного», как он сказал, дознания! Он, например, спросил меня, составлял ли я для вас письменный отчёт, и я ответил, что да. Джим не мог скрыть удивления: — Боже мой, как я мог забыть об этом! — В чём дело, Джим? — Да ведь этот агент, Лютер Смит, заходил и ко мне и задавал тот же вопрос, а я ответил, что вы всё рассказали мне на словах и никакого письменного отчёта не было! — Но почему вы это от него скрыли? — Да потому, что ваш отчёт как раз лежал у меня на столе прямо перед его носом, и я боялся, что он попросит показать ему. Я, естественно, не хотел давать отчёт ему в руки. Теперь я всё понимаю: Смит донёс шефу Бразерсу, что я ему солгал, и теперь они и правда думают, что я… Джим вовремя спохватился и сделал вид, что закашлялся. — Что вы?.. — Да нет, ничего, я просто хотел сказать, что. — Знаете, что я вам скажу, босс! Давайте играть в открытую! Скажите, до вас дошли какие-нибудь слухи, что у президента не все дома? — Вы с ума сошли, Флип! Как вы только могли до этого додуматься? — Просто, Джим, как я уже вамговорил, за последнее время случается много совпадений. Возьмём, например, мой отчёт. Разве не был Марк Холленбах довольно странным мальчишкой, а потом студентом? В моём квартале, по крайней мере, таких ребят не было, да и в студенческой корпорации тоже! Потом вдруг одно за другим идут эти два расследования и вас выбрасывают из бюллетеня, или, как вы говорите, вы снимаете свою кандидатуру! И заметьте, всё это после того, как я был совершенно убеждён, что Холленбах выберет именно вас! — Я сам попросил его не иметь в виду моей кандидатуры. — Знаю. Но всё это изучение личности Холленбаха! Вы как будто психоанализ производите! И вот теперь вам ещё понадобился его послужной список! Маквейг напустил на себя непреклонный вид: — Вот что я вам скажу, Флип! Ваш талант мгновенно обо всём догадываться на этот раз здорово вас подвёл. Я, действительно, пишу книгу о президенте. И больше ничего за этим не кроется. — А я вам не верю! Увольте меня, если хотите, не верю, и всё! — Ладно, ладно, нечего лезть на рожон. Займитесь-ка лучше послужным списком. Лучше всего, по-моему, действовать через полковника Джозефса, специалиста по военным кадрам. Если он заупрямится, напомните ему, как много мы для него когда-то сделали. Карлсон поднялся, намереваясь идти, но потом, бросив на сенатора взгляд, выражавший одновременно недоверие и любопытство, сказал: — Знайте, Джим, как только вы будете готовы рассказать мне обо всём, я к вашим услугам. И может, даже смогу ещё оказаться полезным. Когда Карлсон прикрыл за собой дверь, Джим понял, что список дружески расположенных к нему людей, которые не верят ни одному его слову, увеличился ещё на одного человека. В полдень на него навалилась усталость. Как ни странно, это его обрадовало: кровать с прохладными простынями казалась ему раем. Прозвенел звонок, призывавший его на очередное заседание Сената, но он не пошёл. Он известил своих сотрудников, что уходит домой, и покинул Сенат. На пороге дома его встретила Марта. — Я совершенно разбит, Марти! Я конченный человек, я немедленно ложусь в постель. И пожалуйста, чтобы никаких телефонных звонков! — Это что, опять твои дела с президентом? У него даже не хватило сил ответить, и он только махнул рукой. Марта схватила его за обе руки, с ласковой улыбкой глядя на его усталое лицо: — Я уже всё решила, Джим! — Вот как? Он чувствовал себя так, словно ему дали снотворного и он вот-вот уснёт. — Да, я решила. Мы уедем с тобой отсюда на несколько дней. Мы поедем на Багамские острова, в Бухту Зелёной Черепахи, и поживём в той тихой маленькой гостинице. Помнишь, как хорошо там было? Он помнил. Они отмечали там пятую и десятую годовщину их свадьбы. Ему представилась водная гладь с её разноцветными бликами, сверкающая на солнце как огромная зелёная мозаика, представился резковатый, пропитанный запахом водорослей воздух. Он отрицательно покачал головой: — Не могу, Марти. Когда-нибудь после. Она сжала его руки и бросила на него умоляющий взгляд: — Но почему, Джим? Ведь в апреле там так чудесно! Ты смог бы отдохнуть. Мы опять наблюдали бы заход солнца и бродили по берегу. Ты бы занялся рыбной ловлей. Прошу тебя, поедем, Джим! Ведь тебе это так необходимо! А почему, собственно, нет? Она считает, что ум его помутился. Кто знает, может, она и права! Да и что ему сейчас делать в Вашингтоне? Кто станет его слушать? К кому бы он ни обращался, он никого не мог ни в чём убедить и только сеял пустые сомнения. Может быть, там, в новой обстановке, в тёплом, ласковом климате, ему удастся продумать всё это получше? Конечно, Марта права, им надо уехать. — Хорошо, дорогая. Только уж ты сама обо всём позаботься, пока я буду спать, ладно? Лучше всего достать билеты на ночной самолёт на Уэст Пальм Бич с тем, чтобы завтра же утром мы могли вылететь на Багамы. — Хорошо, дорогой. Спи спокойно. А пока ты спишь, добрая фея взмахнёт рукой и унесёт тебя с собой в дальние страны! В тот же вечер Марта спровадила Чинки к друзьям, а Джим позвонил Карлсону и, дав ему свой багамский адрес, предупредил, чтобы его ни в коем случае не тревожили, разве что будет объявлена война. Ночью они вылетели с международного аэропорта Даллас. Бухта Зелёной Черепахи купалась в солнечных лучах и сверкала словно изумруд, когда Марта и Джим переправлялись туда с материка на стареньком, замызганном пароме. Паромщик, белый багамец с морщинистым лицом табачного цвета, оживлённо выкладывал события, происшедшие в бухте со времени их последнего приезда. Джим расстегнул ворот, распустил галстук и с наслаждением подставил лицо свежему встречному ветерку. Паром пересёк Уайт-Саунд, вошёл в бухту и остановился у причала внизу, под самой гостиницей. Хозяева Блафхауза приветствовали Маквейгов как старых друзей. Гостиница представляла собой каркасный дом, выкрашенный в лимонно-жёлтый цвет, примостившийся на высокой горе среди диких виноградных лоз. Джим и Марта быстро переоделись в купальные костюмы и бегом спустились по коралловой тропинке к пляжу, расположенному на сто ярдов ниже гостиницы. В воде Джим резвился, словно дельфин, бросался на Марту, хватал её за пятки и тащил под воду. Потом они долго лежали, распластавшись на мелком, как пудра, песке, чувствуя, как тела их наполняются солнцем, и, прислушиваясь к лёгкому шороху фикусов и мадеровых деревьев. Джим уснул, но Марте скоро пришлось его разбудить, так как спина его стала розоветь под жгучим полуденным солнцем. Потом они опять плавали в солёной воде бассейна позади гостиницы, пили коктейли с хозяевами и с четырьмя другими гостями. Затем последовал обед при свечах в старинных канделябрах. Особенно вкусным было густое красное вино, оставлявшее на языке терпкий привкус. Кроме них, в гостинице поселились ещё две молодые пары, одна из которых, несомненно, проводила тут свои медовый месяц. Молодожёны украдкой держались под столом за руки и обменивались страстными взглядами, когда думали, что на них не смотрят. Вторая пара, очевидно, не была обременена брачными узами, так как зарегистрировалась в гостинице под маловероятной фамилией Годспид, которая, собственно говоря, была не фамилией, а названием одного из парусников в Элбоу-Кэй. Когда к мистеру Годспиду обращались, он всегда отвечал как-то робко и неуверенно. Эти псев-до-Годспиды увлекались подводным плаванием и всё время проводили на берегу, копаясь в куче металлолома, состоявшей из шлангов, баллонов, подводных ружей, масок и моторов. Всем эти хламом они заняли большую часть пляжа. Оба были костистые, с огрубевшей и обожжённой на солнце кожей. Они столько ссорились друг с другом из-за ныряльных принадлежностей, что Марта предположила, что эти псевдо-Годспиды скоро затеют псевдоразвод. Слушая пикантные предположения жены о дальнейших перспективах личной жизни подводной пары, Джим застёгивал пижаму и с наслаждением думал о том, что сейчас скользнёт в прохладную постель. С самого утра, с тех пор как они забрались сюда, в Бдафхауз, им овладела бездумная, приятная лень. О Вашингтоне он и не вспоминал. Он знал, что заснёт, как только доберётся до постели. Марта надела чёрную кружевную пижаму, перетянутую в талии поясом. — Только не спать, Джим! Ты сейчас же отправишься со мной! — Брось, Марти. Даже такой авантюристке, как ты, тут податься некуда. В десять здесь бодрствует одна только луна. — В последнее время ты что-то слишком разговорился, Джим! Заткнись, надевай ботинки и шагом марш за мной! Он покорно сунул ноги в туфли, и они рука об руку вышли из комнаты. В свободной руке Марта несла два полотенца. Над ними раскинулось куполом тёмное южное небо, на его чёрном бархате светили мириады звёзд. Луна над зарослями кустарника выглядела ненастоящей, словно её пришпилили там ради увеселительного вечера в каком-нибудь парке. Они крепко держались за руки и осторожно спускались по тропинке к пляжу. Когда Джим споткнулся о коралловый выступ и выругался, Марта тихонько на него шикнула. На песке и в воде мерцал призрачный лунный свет. Океан успокоился и с мягким шуршанием набегал на берег. Марта стянула кружевную пижаму и бросила её на песок. Потом положила руку на бедро и сделала медленный и плавный пируэт: — Ну что, Джим, попробуй скажи, что всё это выглядит менее заманчиво, чем массивные телеса миссис Риты Красицкой! Он смотрел на неё словно заворожённый, а она обернулась к нему и дерзко тряхнула головой. При упоминании о Рите, его охватило острое сознание вины перед женой за нелепую прихоть чувственности, толкнувшую его на измену. Но он был не только любящим мужем, он был мужчиной и понимал, что Марта бросает вызов его самолюбию. Тело Марты казалось ему сейчас необыкновенно соблазнительным — безукоризненная скульптура из плоти и крови. Она стояла перед ним такая стройная и подтянутая: гладкая кожа, белые бёдра, слабо мерцающие в хрупком лунном свете, на лице — дразнящая улыбка… Молча дождавшись, пока он разденется, она схватила его за руку и потянула к воде. Бархатные ночные волны плавно катились к берегу и нежно ласкали тело. Джим попытался обнять Марту в воде, но она быстро увернулась и, сделав несколько стремительных взмахов, уплыла от него, осыпав его мелкой водяной пылью. Несколько минут не прекращалась эта гонка. Как только он касался её, она как дельфин ускользала и быстро отплывала в сторону. Наконец ему удалось крепко схватить её за плечи и притянуть к себе. Прикосновение к её телу в воде, никогда прежде не испытанное, пронизало его почти невыносимым желанием. Стоя по пояс в воде, они осыпали друг друга поцелуями, до боли сжимая друг друга в объятиях. Тихо посмеиваясь над этим внезапно охватившим их приступом страсти, они медленно побрели к берегу. Там, на берегу, они слились в одно целое, думая только о том, чтобы это никогда не кончалось. Страсть сжигала их лихорадочным огнём, они чувствовали всепоглощающий, безмерный голод… Наконец Марта пронзительно вскрикнула и почти без чувств откинула голову ка песок. Потом они долго лежали безмолвные и опустошённые, всё ещё сжимая друг друга в объятиях, задыхаясь от запаха пота, песка и солёной воды. Джима вдруг пронизало острое сознание вины перед Мартой. Он жестоко бранил себя за то, что очертя голову бросился в тот чувственный омут, водоворот, унёсший его тело и разум и ограбивший Марту, на долгие месяцы лишив её мужа. Только человек, одержимый безумием, мог так подло грабить свой собственный дом! Раскаяние ещё долго пожирало его, разъедая душу, как кислота, но потом постепенно исчезло, растворившись в глубокой нежности. Он ласково провёл ладонью по её горлу: — Марти, ради бога, прости меня за всё, что я натворил! Я так люблю тебя! К его удивлению, она в ответ только улыбнулась и, ласково погладив его по лицу, быстро поднялась. Потом отыскала на песке полотенца и одно из них швырнула ему: — Уйми-ка лучше свою страсть да хорошенько разотрись! А то схватишь ещё воспаление лёгких! Они встали, и она приблизила к нему своё лицо. Её короткие волосы прилипли к голове мокрыми прядями, на лице, лишённом привычной косметики, было задорное выражение: — Ну как, сенатор, не возьмёте ли вы меня в любовницы? Как вы считаете, я достаточно хороша для этого? Он привлёк её к себе и осыпал жадными поцелуями: — Боже, какая ты замечательная, Марта! Я на всё, на всё для тебя готов! Что ты хочешь? Она вскинула голову и задумчиво посмотрела на небо: — Да нет, ничего такого мне вроде не нужно, разве чего-нибудь из норки или из русских соболей. Ничего такого, понимаешь, чересчур показного. — Господи, как же я люблю тебя! — Этого мало, Джим! Ты должен меня боготворить! Они весело рассмеялись и, держась за руки, поднялись по вьющейся тропинке в маленькую гостиницу, приютившуюся на своём душистом ложе из цветущих кустарников. Уже давно Джим не чувствовал себя таким безмятежно счастливым. В последующие дни они превратились в шаловливую, непрерывно поддразнивающую друг друга парочку, наслаждавшуюся ярким солнцем и друг другом. Они не были похожи на обычных молодожёнов в их медовый месяц — ни телячьих нежностей, ни грустного томления, — они были веселы и счастливы. Они радостно встречали утро, ловили рыбу, плавали, ходили под парусом, бродили по деревушке Нью-Плимут, основанной здесь во времена Освободительной войны беглыми тори из Соединённых Штатов. Они осматривали рассыпающиеся памятники на старом кладбище, лениво слонялись у причала, наблюдая, как разгружаются шхуны, курсирующие между островами. Они шутили, валяли дурака, немилосердно разыгрывая друг друга, и каждую ночь тайком прокрадывались на пляж. Так и проходили эти блаженные часы, вплоть до того злополучного вторника, когда Джиму позвонили из Вашингтона. Телефона в гостинице не было, но один владелец баржи имел на борту своего судна телефон, связывавший его с берегом. Джим спустился к причалу, чтобы ответить на вызов через Майами. Слышимость была отвратительная, в трубке непрерывно скрежетало и свистело, и Джиму приходилось напрягать слух, чтобы хоть что-нибудь разобрать. На другом конце провода он услышал голос Флипа Карлсона: — Тут без вас произошли преинтереснейшие события, босс. И я подумал, что вы захотите быть в курсе. — О’кэй, выкладывайте! — Прежде всего, в ответ на наш запрос полковник Джозефс сообщил, что послужной список известного нам джентльмена среди микроплёнок в картотеке военных кадров США в Сан-Луи отсутствует. — Отсутствует? — Да. Несколько дней назад к нему приходил из Пентагона один малый по имени Андрейт и забрал эту микроплёнку. Джозефс, вообще-то, не должен был мне об этом говорить, но тем не менее сказал. — А кто такой Андрейт? — Я вижу, что ваша память начинает слабеть под жарким тропическим солнцем, босс! Бутч Андрейт — доверенное лицо нашего уважаемого министра обороны, Сида Карпера. — Карпера? Вы в этом уверены? — Абсолютно, и ещё одна интересная новость. Вы меня в это не посвящали, но вчера вечером вам звонили из библиотеки Конгресса и просили передать, что они всё ещё не могут предоставить в ваше распоряжение полный материал по вопросу о неспособности президента, потому что материал этот находится у другого лица. — А они не сказали, у кого именно? — Сказали. Эти материалы теперь у… — Карлсон назвал фамилию, но из-за плохой слышимости Джим ничего не разобрал. — У кого? Повторите ещё раз, Флип! Ничего не слышно. — У Карпера. У Сиднея Карпера. Джима охватило страшное возбуждение. Вся его сонливость слетела с него прочь, как использованная гильза от патрона. — Мы завтра же прилетаем в Вашингтон, Флип! На последнем дневном самолёте из Уэст Пальм Бич. Встречайте меня в Далласе, слышите? — Понял, босс. — Последовало короткое молчание. — Вы всё ещё не хотите рассказать мне об этой истории, босс? — Потом, Флип, потом. — Джим чувствовал невероятное волнение, руки его тряслись. — Не могу же я говорить об этом по телефону! Не забудьте встретить нас в Далласе! — О’кэй, босс. Если вас так интересует Карпер, то даже хорошо, что вы возвращаетесь именно завтра. Дело в том, что послезавтра этот самый Карпер будет отчитываться перед вашей подкомиссией. Джим стремительно поднялся по тропинке в гостиницу, но, как ни быстро он шагал, мысли его летели ещё быстрее. Итак, Сидней Карпер копается в военно-послужном списке президента Холленбаха и читает материал но вопросу о неспособности президента США управлять страной! Почему? Неужели он тоже… В дверях гостиницы его поджидала Марта. Она взглянула на мужа и по его отрешённому виду мгновенно поняла, что их второму медовому месяцу наступил конец. Во вторник, в десять часов утра, Маквейг и два других сенатора, демократ и республиканец, уселись в чёрные кожаные кресла во главе длинного, покрытого зелёным фетром стола, за которым заседала комиссия Сената Соединённых Штатов по делам вооружённых сил.ГЛАВА 14. ПЛАН «КАКТУС»
Огромное зеркало над старинным мраморным камином отражало группу собравшихся. Сенатор Маквейг, председатель подкомиссии по изучению затрат на оборону, кивнул министру обороны Сиднею Карперу, опустившемуся в кресло несколько поодаль. Порядок, в котором расселись, служил министру молчаливым напоминанием о том, что в залах Сената член кабинета министров всего лишь иностранец на территории суверенного государства. Карпер явился на заседание комиссии очень тщательно одетый, в противоположность своему доверенному советнику Кармину Андрейту, одетому в сильно измятый костюм. Служащий комиссии прошёл мимо развешанных на стене военных флагов к выходу, повесил на наружной ручке двери главного входа небольшую табличку, на которой было написано «Закрытое заседание», аккуратно закрыл за собой дверь и запер её на ключ. Джим Маквейг, внимательно изучавший Карпера с того самого момента, как министр перешагнул порог зала, приступил к исполнению обязанностей председателя. — Я полагаю, что нет никакой необходимости в представлениях, джентльмены! Все мы — старые друзья или, быть может, правильнее будет сказать — старинные знакомые. — Не совсем так, мистер председатель! — отозвался Карнер. — Мой доверенный помощник по особым поручениям Кармин Андрейт новичок для большинства присутствующих. Однако он имеет полный допуск ко всем секретным материалам, так что с этой стороны трудностей никаких не возникнет. — Я думаю, нам всем следует отдать должное мистеру Карперу — в важных случаях он всегда является сюда только с одним помощником. И это особенно заметно потому, что на иных заседаниях военных советников бывает больше, чем лампочек в канделябрах. Карнер благодарно улыбнулся. — Спасибо, Джим, — просто сказал он. — Итак, сегодня нам предстоит рассмотреть целый ряд вопросов, связанных с финансированием утверждённых проектов Пентагона. — Маквейг посмотрел на бумагу, которую держал в руках. — Я вижу, джентльмены, что таких проектов у нас сегодня должно быть рассмотрено двадцать три, так что, по-моему, самое время начинать. Прошу вас, доложите о них по порядку, мистер Карпер. Карпер откашлялся и вгляделся в бумаги: — Номер один — проект под шифром «Предупреждение». Проект получает ежегодные ассигнования в 87 миллионов долларов, и в этом году сумма ассигновании осталась прежней. Как вы, наверное, знаете, джентльмены, проект этот связан с чувствительнейшими записывающими станциями, которые мы совместно с комиссией по атомной энергии содержим для обнаружения испытаний атомно-водородного оружия, производящихся в странах коммунистического лагеря и других районах земного шара. Хотя эта система обходится нам недёшево, она вполне стоит этих денег. Так, например, в прошлом году нами был зарегистрирован четвёртый по счёту взрыв водородной бомбы, произведённый красным Китаем неподалёку от тибетской границы. В феврале этого года система зарегистрировала пятый по счёту взрыв так называемой детонационной бомбы типа «Дракон», оценив его мощность примерно в 75 мегатонн, что почти в 5000 раз превышает мощность атомной бомбы, взорванной в 1945 году в Хиросиме. Президент Холленбах был немедленно поставлен в известность об этом взрыве, и конференция между Холленбахом и Зучеком, которая состоится в конце этого месяца, явится одним из дипломатических результатов нашего открытия. По этому проекту ни у кого из сенаторов вопросов не оказалось, и Карпер перешёл к изложению шести других, включая проект «Иглу» по выпуску новых костюмов для подводного плавания, разработанных для военно-морского флота и в помощь тайной школе шпионажа, которой министерство обороны руководило в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением. — Итак, джентльмены, мы переходим к проекту номер восемь. Этот проект известен под шифром «Кактус» и финансируется суммой 250 тысяч долларов из моего фонда. К несчастью, этот проект, на который я возлагал столь большие надежды, так и остался в стадии разработки. Тем не менее, деньги не были выброшены понапрасну, так как теперь мы знаем, чего мы не в силах добиться в этой области. И всё же я весьма опечален отсутствием положительных результатов. — Мне кажется, комиссия никогда не слыхала о «Кактусе», — сказал Маквейг. — не могли бы вы осветить сущность этого проекта, мистер Карпер? Андрейт наклонился к своему шефу и что-то зашептал ему на ухо. Карпер кивнул: — Совершенно верно, джентльмены, вы ничего не слышали об этом проекте, потому что он родился и умер в период между последним заседанием комиссии по финансированию наших проектов и теперешней встречей. Проект этот касался, главным образом, улучшения нашей системы контроля над применением атомного и водородного оружия. Вам, джентльмены, приходилось рассматривать уже множество таких проектов. И все они оказались непригодными. — Скажите, мистер Карпер, какую именно фазу системы контроля вы пытались усовершенствовать? — задал вопрос сенатор-республиканец. Карпер на мгновение смешался и прикусил губу: — Давайте условно назовём эту фазу «человеческим элементом». Члены Совета национальной обороны обязаны в течение буквально нескольких минут обсудить между собой целесообразность отдачи приказа об атомной атаке. Хотя окончательное решение принадлежит президенту, считается, что его мнение не должно расходиться с моим мнением и с мнением председателя Объединённого комитета начальников штабов. Откровенно говоря, такая система меня никогда не удовлетворяла. — Почему именно? — спросил Маквейг. — Потому что один из трёх всегда может оказаться в критический момент больным и не будет обладать способностью ясного мышления. И я озабочен тем, как нам в этом случае уберечь самих себя, Америку и весь мир, если на то пошло, от ужасной катастрофы. Маквейг резко выпрямился и настороженно уставился ка руководителя Пентагона: — Как вы сказали: не будет обладать способностью ясного мышления, мистер Карпер? Лицо министра оставалось непроницаемым: — Да, мистер председатель. — Другими словами, вас беспокоит, что произойдёт, если один из трёх сойдёт с ума? — спросил сенатор-демократ. Карпер кивнул: — Конечно, заранее ждать этого от кого-нибудь из троих незачем, но ведь у каждого может случиться умственное расстройство. И именно в этой своей части наша система более всего уязвима. Меня это заинтересовало минувшей осенью, и я решил проверить, нет ли какой-нибудь возможности изолировать эту систему от несовершенств нервно-мозговой деятельности человека, для чего и была специально создана комиссия «Кактус». Однако спустя пять месяцев члены комиссии доложили мне, что им не удалось прийти ни к какому конструктивному решению. Короче говоря, мнение комиссии таково, что мы должны условно доверять психической уравновешенности этих трёх человек. — Но почему именно прошлой осенью, мистер Карпер? — спросил Маквейг. — Какие события заставили вас принять меры именно в это время? Карпер бросил на сенатора быстрый одобрительный взгляд из-под мохнатых бровей. Но он замешкался с ответом, и сенатор понял, что своим вопросом поставил его в тупик. — Откровенно говоря, джентльмены, всё началось с того, что я серьёзно задумался о самом себе. Да, да, джентльмены, поймите меня правильно! Я нахожусь в хорошей физической форме и считаю себя совершенно нормальным человеком. И хочу надеяться, что вы все думаете обо мне то же самое. Но вспомните о Форрестоле: в 1949 году мы все тоже не сомневались в его нормальности. А оказалось, что у него тяжёлое психическое расстройство, которое довело его до самоубийства. — Вы что же, хотите сказать, что у вас есть причины сомневаться в своей собственной нормальности? Карпер натянуто рассмеялся: — Дело не в том, как я чувствую себя в настоящий момент или как я чувствовал себя минувшей осенью, сенатор! Подумайте о будущем! Кто из нас может дать гарантию, что через год он будет так же нормален, как сейчас? Итак, я, может, несколько наивно, но всё же стал искать ответа на свой вопрос. Во всяком случае, теперь всё ясно — мы находимся там, откуда начали. Очевидно, действенной системы изоляции не существует вообще. Маквейг пристально посмотрел на Карпера, который сидел в своём кресле, невозмутимый и безучастный, как индейский вождь. Неспроста Карпер ставит под сомнение свою нормальность, думал он, что-то явно заставило его прибегнуть к этой отговорке! Не мог он тревожиться о себе! Карпер всегда действовал с резкой прямолинейностью, а теперь он скрытен и насторожён, словно солдат, прокладывающий себе дорогу через заминированное поле. Джим не отрываясь смотрел на Карпера, но министр опустил глаза, перебирая лежавшие перед ним документы. — Хорошенькая тема для обсуждения! — заметил сенатор-республиканец. — Жаль, что я связан условием соблюдать тайну. Если бы не это, то в нынешнем выборном году моя партия с успехом могла бы использовать в качестве мишени психически неполноценного министра обороны. Только боюсь, что даже это не спасёт нас от провала. Все громко рассмеялись, а Маквейг сказал: — Почему бы вам не приняться за меня? В связи с тем, что я отказался баллотироваться в вице-президенты, открыто говорят, что у меня не все дома! — Вы хороший председатель, Джим, но вы недостаточно влиятельны, чтобы помочь нам на выборах, независимо от того, сумасшедший вы или нет, — проворчал сенатор-республиканец. — Вот Сидней Карпер — дело другое. Это крупная дичь! Карпер опять натянуто рассмеялся. Маквейг вспомнил о своих обязанностях председателя. — Мы можем топтаться вокруг этого проекта… простите, мистер Карпер, я забыл его название. — «Кактус». — Вот именно. Мы можем топтаться вокруг проекта «Кактус» весь день, но так как нам предстоит ещё много работы, то я предлагаю трогаться дальше. — Не буду с вами спорить, мистер председатель, — сказал сенатор-демократ, — но уверен, что в недалёком будущем нам ещё придётся уделить этому вопросу целое заседание комиссии! — Тем больше причин отложить его до следующего раза. Карпер облегчённо вздохнул. Все остальные проекты Пентагона прошли довольно гладко, без вопросов со стороны членов комиссии, и Карперу удалось закончить доклад до того, как прозвенел звонок. — Уложились точно, — сказал Маквейг. — Итак, предлагаю всем собраться здесь снова в десять часов утра в следующий четверг, чтобы покончить с оставшимися проектами. Когда все стали расходиться, Маквейг задержал Карпера и отвёл его в сторонку. Они стояли около большого глобуса, над которым красовалось знамя военно-морских сил США. — У вас не найдётся времени заглянуть на минуту ко мне? Карпер бросил взгляд на стоявшего в стороне Андрейта: — Какое у меня на сегодня расписание, Бутч? — В двенадцать тридцать у вас назначен приём в вашем кабинете, сэр. — Это крайне важно! — прошептал Маквейг. Карпер удивлённо на него посмотрел и вновь обратился к Андронту: — В таком случае, поразвлекай без меня делегацию, Бутч. Я приду, как только освобожусь. Маквейг провёл Карпера в кабинет через свой личный ход. Войдя, он запер за собой дверь, потом пересёк комнату и запер дверь, соединявшую его с помещением для остальных служащих. Он указал Карперу на кресло и, позвонив по внутреннему телефону, приказал ни с кем его не соединять. Карпер удивлённо следил за всеми этими приготовлениями. — Мистер Карпер, — начал наконец Джим, — мне бы хотелось кое-что выяснить — сугубо конфиденциально. Может, вы расскажете мне поточнее, что именно случилось прошлой осенью, что заставило вас начать всю эту историю с проектом «Кактус»? Карпер сидел, скрестив руки на груди, лицо его оставалось непроницаемым. Он молчал. — Прежде чем вы ответите на этот вопрос, позвольте мне самому вам кое-что рассказать. Меня довольно глубоко поразили два факта. Если бы факт был один, то я бы мог надеяться, что это простая случайность, но когда мне пришлось столкнуться сразу с двумя, я заподозрил, что дело здесь нечисто. Джим перегнулся через стол к Карперу и, не спуская с него глаз, рассказал о своих безуспешных попытках получить полный материал по вопросу о неспособности президента к управлению страной и ознакомиться с военно-послужным списком президента Холленбаха. — И вот, сэр, в обоих случаях материал этот оказался у вас, — закончил Джим. Карпер по-прежнему молчал. Они смотрели друг другу в глаза, и Джиму казалось, что министр думает сейчас о том же, что и он. Наконец Карпер тихо заговорил, по-прежнему не спуская с сенатора пристального взгляда: — Я хочу задать вам только один вопрос, сенатор! Зачем вам понадобился послужной список президента? У Джима учащённо забилось сердце: — Я запросил его под тем предлогом, что пишу сейчас его биографию и мне необходимы все имеющиеся данные. — Вы сказали: «под предлогом»? — Да. На самом деле я не пишу такой книги. Карпер по-прежнему молчал, и только в уголках его глаз собрались мелкие морщинки. — Ну, а чем вы объясните необходимость в материале по вопросу о неспособности президента? Не опуская взгляда, Джим ответил: — Для этого у меня нет никакого предлога, но есть все основания думать, что в настоящий момент вопрос о неспособности президента управлять страной является самым существенным! Наступило тягостное молчание. Лицо Карпера оставалось всё таким же безучастным. — Настало время быть откровенным, мистер Карпер! У меня имеются все основания сомневаться в психической нормальности высокого должностного лица… Ведь и у вас прошлой осенью имелись основания для этого? — Да. — Речь идёт о президенте? — Да. Воздух словно сотрясла взрывная волна. И вдруг Джимом овладело чувство невыразимого облегчения. Он посмотрел на Карпера, и ему показалось, что точно такое же чувство испытал и министр. — И вы никому об этом не рассказывали? Карпер покачал головой: — Нет, не мог. — Может быть, ввиду сложившихся обстоятельств мне первому следует рассказать вам обо всём, что мне известно? И пока Карпер сидел неподвижно, но с выражением всё возрастающего внимания, Джим ещё раз поведал свою историю. Карпер глубоко ушёл в кресло, голова его покоилась на сжатых кулаках, он ни разу не отвёл от Джима внимательного взгляда. Когда Маквейг закончил, Карпер печально улыбнулся: — Послушайте, сенатор, — или, если позволите, я предпочёл бы называть вас Джим, а вы называйте меня просто Сид, — во время вашего рассказа я невольно думал о том, как странно построена вся наша вашингтонская административная система! Мы с вами знаем, как делаются дела в этом городе, но скажите, какой рядовой гражданин поверит, что два официальных лица, не встречаясь друг с другом и не обсуждая своих взглядов, могли прийти к одинаковым выводам! — Представьте, Сид, я тоже об этом думал. Действительно, откуда нам было догадаться, что мы думаем одинаково? Ведь о таких вещах не кончат посреди улицы! — Правильно, не кричат. Вам это, быть может, покажется эгоистичным, Джим, но ваш рассказ снял с моих плеч громадную тяжесть. Карпер поднялся, заполнив при этом собой чуть ли не весь угол кабинета. Заложив руки за спину, он взволнованно прошёлся по кабинету, потом снова уселся, сунул в рот зубочистку и свистнул в неё как в боцманскую дудку. — Позвольте мне сосредоточиться, Джим, я хочу вспомнить всё с самого начала. Как-то ночью в октябре прошлого года президент поднял меня с постели и приказал срочно явиться в Белый дом. Он сказал, что ему надо меня видеть сию же минуту. Я, конечно, решил, что где-то начались военные действия. Он принял меня в овальной гостиной справа от его спальни на втором этаже, в той части дома, где он живёт со своей семьёй. Как и в случае с вами, он выключил единственную лампу. Ночь была безлунная, и мы сидели с ним в полной темноте. Только за железным забором около южного входа горели уличные фонари, да ещё красные лампочки на вершине памятника Вашингтону. Это был самый странный разговор за всё моё пребывание в Вашингтоне. Президент приступил к тому, что его волновало, не теряя ни минуты. Он забегал по комнате и заговорил так быстро, что я с трудом разобрался, о чём речь. Оказалось, что ярость его направлена против Картера Урея. Он кричал, что Урей правит Центральным разведывательным управлением как самостоятельной империей, что он не соблюдает дисциплины, не подчиняется распоряжениям президента и даже пытается проводить самостоятельную внешнюю политику. Когда он на мгновение остановился, чтоб перевести дух, я спросил его, почему он в таком случае не уволит Урея. Он ответил, что не может этого сделать по причинам политического характера. У этого Урея слишком много друзей в Капитолии. Он ублажает конгрессменов своими частными обедами и обычаем выкладывать секретную информацию, играя им на руку. Он кричал, что Урей помешался на власти и хочет выжить из Белого дома его, Холленбаха, — главу правительства. — Боже милосердный, — прервал его Джим, — да Урей начисто лишён всякого политического честолюбия. Он ненавидит Вашингтон. Он сам мне говорил по секрету, что только о том и мечтает, как бы поскорее уйти в отставку и вернуться к себе, в Канзас-сити. — Совершенно верно, Джим. Вот поэтому обвинение президента и показалось мне таким невероятным. Если вы спросите меня, то я скажу, что Урей самоотверженно продан своему делу и лишён какого бы то ни было честолюбия. Но унять президента было невозможно. Я не согласился с ним и пытался защитить Урея, но он и слушать ничего не хотел. Он продолжал изливать потоки ярости — и всё это в совершенной темноте. Наконец я спросил его напрямик: чего он от меня хочет? Он сказал, что хочет, чтобы министр обороны взял под свой контроль всю деятельность Центрального разведывательного управления, и что он вручит мне директиву, которая даст мне власть над Уреем. Я ответил, что это бессмысленно, что я совершенно некомпетентен и что Конгресс никогда на это не пойдёт. Тогда он мне сказал — и вы бы видели его бешенство, — что плевать он хотел на Конгресс, он издаст секретную директиву. Никто даже знать не будет об этом, даже сам Урей, никто, кроме меня и самого президента. — Господи, да ведь это же безумие, мистер президент, — говорю я ему и вижу, что он при этих словах остановился возле своего стола как вкопанный. В темноте я услышал его прерывистое дыхание и разглядел, что рука его сжимает какой-то предмет на письменном столе. — Слушайте, Карпер, — говорит он мне таким голосом, что меня прямо мороз продрал по коже, — так вы значит тоже из этой шайки, тоже хотите меня уничтожить? Я ничего не ответил. Он поднял предмет, который держал в руке — я разглядел, что это была чернильница — и замахнулся. Тогда я шагнул к нему и сжал его за локти — вы ведь знаете, я довольно сильный — сжал очень твёрдо, но со всей возможной вежливостью. — Ну-ка, мистер президент, — говорю я ему, — поставьте её на место. С минуту он стоял в страшном напряжении, а потом словно вдруг обмяк. Тогда я его отпустил, и он поставил чернильницу на стол. Потом тяжело упал в кресло и долго молчал. Нечего и говорить, что весь ковёр оказался залит чернилами. Когда он снова заговорил, голос его был очень спокоен. Он сказал, что нам обоим не мешает как следует выспаться и обмозговать эту проблему после, так как утро вечера мудреней. На следующее утро он позвонил мне около девяти, как раз когда я уже собирался ехать в Пентагон. Он говорил бодро, своим обычным властным голосом. Просил меня забыть обо всём, что было сказано ночью, что он был очень расстроен и наговорил много лишнего. Попросил меня никогда не вспоминать об этом и сказал, что сам урегулирует свои отношения с Уреем. И извинился за то, что всё так преувеличил. Урей, в общем, неплохой малый, ему просто надо научиться работать в контакте с другими, или что-то в этом роде. Словом, он был оживлённый и весёлый, как белка. Но меня вся эта сцена очень обеспокоила. Контроль команды по запуску атомных боеголовок и всегда-то меня очень тревожил, а тут я невольно призадумался: а что если бы пришлось выносить решение именно этой ночью, то есть я говорю о команде «запуск»? Потом я вспомнил о Вудро Вильсоне и Форрестоле и в результате всех этих размышлений составил директивы для комиссии по проекту «Кактус». Эти директивы я обсудил с президентом, хотя, конечно, ни словом не обмолвился о той их части, где говорилось о неуравновешенной психике. Я просто сказал ему, что это разработка ещё более усовершенствованного механизма системы контроля команды. «Превосходно, — сказал он, — валяйте, действуйте, Сид». На этом всё и кончилось, пока около трёх недель тому назад я не позвонил ему и не доложил, что проект «Кактус» потерпел фиаско и что комиссия не смогла предложить ничего дельного. И знаете, что он мне на это ответил? Он сказал: «Сид, я не доверяю этим пятерым, у меня есть точные сведения, что они присоединились к заговору против меня, я требую, чтобы вы не спускали с них глаз». Меня это прямо как громом поразило, и я так обалдел, что только и мог сказать: «Слушаю, сэр». Вот тогда мне и стало ясно, что необходимо принимать какие-то меры. Какие именно, я и сам ещё не знал, но я стал думать о его биографии и затребовал его послужной список. Ведь именно на войне, как правило, выявляются все аномалии в психике, если только они есть. И, конечно, одновременно с этим я попросил в библиотеке Конгресса папку с материалами о неспособности президента, так как хотел точно удостовериться, что сказано об этом в поправке к Конституция и в тексте соглашения между Холленбахом и О’Мэлли. — Что же вы обнаружили в послужном списке? — В том-то и дело, что ничего. Впрочем, кое-что в нём оказалось чертовски непонятным. В управлении военными кадрами послужные списки того подразделения, в котором служил Холленбах, начали микрофильмировать лишь недавно. В каждом личном деле страницы микрофильмируются в номерном порядке, но в личном деле Холленбаха оказался пропуск между пятой и седьмой страницами, то есть именно там, где должно находиться медицинское заключение. Очевидно, эти страницы были предусмотрительно кем-то вырезаны. Восстановить его медицинскую анкету сейчас, разумеется, невозможно. Те медики, которые служили тогда в его подразделении, могли либо умереть, либо вообще ничего не помнить. И потом такие поиски возбудили бы чёрт знает какие разговоры. К тому же в послужном списке были ведь и другие данные. Вам, наверное, известно, что Холленбах был награждён Серебряной Звездой за мужество, проявленное в боях против корейцев. Откровенно говоря, такое известие меня немного охладило. Даже отсутствующая медицинская анкета мало что дала бы — ведь человек был награждён Серебряной Звездой! Так что я бросил это дело. Джим внимательно слушал и нервно ковырялся в пресс-папье разрезальным ножом. — В этом деле вы оказались куда более проницательным, чем я, Сид. Например, на обеде в Гридироне вы сразу почуяли неладное, когда Холленбах предложил закон о всеобщем подключении телефонов. Помните? Я тогда ещё рассмеялся, но вы назвали это предложение жутковатым. — Конечно, у меня-то уже были основания для подозрений, а у вас — ещё нет. Теперь то, что он всерьёз думает о введении такого закона, по-моему, служит самым веским доказательством ненормальности. Даже Гитлеру не приходило в голову ничего столь дьявольски утончённого в посягательстве на свободу личности! — Вы правы. Но почему он больше никому не рассказывал об этом? — А откуда вы знаете? Он, может, и говорил кому-нибудь, да только нам с вами об этом ничего не известно. — То же самое можно сказать и обо всей этой истории в целом. У нас большое правительство, с десяток людей могут подозревать, что с президентом не всё ладно, но поскольку эти разрозненные доказательства не складываются вместе, то отдельные инциденты для них ничего не значат. Послушайте, Сид, вы должны повторить ваш рассказ той группе, которая собиралась у Каванога. Мне они не доверили, но вам, конечно, поверят. Откровенно говоря, у меня такое чувство, что они убеждены, будто помутился именно мой разум! — Вполне их понимаю, — сказал Карпер. — Кто добровольно поверит, что президент Соединённых Штатов безумен? — В таком случае разве не будет разумнее и проще собрать всю эту группу снова? Ведь в Вашингтоне вы обладаете большим весом, Сид! — Не знаю, как это можно будет осуществить. Во-первых, нельзя забывать о секретности. К плану «Кактус» имеют допуск только наиболее засекреченные сотрудники, а Каваног, Галлион и Одлум, как я знаю, такого допуска не имеют. Как же мне в таком случае рассказывать им о проекте «Кактус?» И потом, тот инцидент с Уреем произошёл почти полгода назад. По-моему, в гораздо большей степени его изобличают слова, сказанные им три недели назад, о том, что комиссия «Кактус» присоединилась к заговору и хочет его погубить. Но ведь даже об этом я не могу рассказать, не посвятив их в факт существования проекта «Кактус». — А что если вам переговорить с О’Мэлли? Вы смогли бы заставить его собрать кабинет и приступить к официальной процедуре замещения президента, не способного управлять страной. Карпер покачал головой: — Опять же руки у нас связаны секретностью. В кабинете ведь ничего не удержится, он протекает, как худое сито. С таким же успехом можно позвонить во все газеты. — Карпер задумался. — Нет, Джим, ваш первый вариант всё-таки лучше. Но прежде чем встретиться с ними, нам придётся запастись более убедительными доказательствами. Упрекать их за недоверчивость, в сущности, нельзя. Они ведь не испытывали на себе ярости Холленбаха, откуда им понять, что чувствуешь в такие моменты! Нам необходимо собрать больше подтверждающих данных, Джим! Оба замолчали. Карпер рассеянно грыз зубочистку, а Джим тёр переносицу: — Но где мы добудем такие данные? Ведь не можем же мы ходить по улицам и спрашивать людей, нормален президент или нет! Опять наступило молчание. Проблема оставалась неразрешимой. — Его личный врач! — воскликнул наконец Карпер. — Я не уверен, что это много нам даст, но я считаю, что нам прежде всего следует договориться о встрече с генералом Леппертом. Маквейг задумался. Бригадный генерал Морис Лепперт был введён в Белый дом Холленбахом и исключительно ему обязан своей должностью личного врача президента США. Это был унылый и измождённого вида человек, который лишь изредка появлялся в обществе и наотрез отказывался обсуждать с репортёрами состояние здоровья президента Холленбаха, ограничиваясь ежегодными рапортами, заполненными исключительно голой статистикой о давлении крови, содержании холестерина ичастоте биения пульса. — Подумайте сами, — продолжал Карпер, — ведь если президент болен, то не может его личный врач даже не подозревать об этом. Я и раньше додумывал о том, чтобы проконсультироваться с ним, но один я не имел для этого достаточного предлога. Теперь нас двое, и, если использовать занимаемое нами положение, мы можем всегда оправдать нашу любознательность, сославшись на какой-нибудь секретный аспект «Кактуса». Придётся проявить немалую находчивость, но игра стоит свеч! — Хорошо, давайте встретимся с Леппертом. А когда? — Чем скорее, тем лучше. Вас устраивает сегодня в четыре тридцать, если он только согласится принять нас в это время? — Вы созвонитесь с ним сами, а потом известите меня. Я приду. Карпер поднялся, и Джим последовал его примеру. Стоя посреди кабинета, они молча пожали друг другу руки и вместе направились к двери. — Как вы думаете, Джим, чем, по-вашему, болен Марк? — У меня сложилось впечатление, что он параноик. — В точности мой диагноз. Посмотрим, что нам удастся вытянуть из врача. Они снова попрощались, после чего Карпер вышел из кабинета и быстро зашагал по коридору.ГЛАВА 15. СЕИБРУК-КОЛЛЕДЖ
В тот самый четверг, когда министр обороны Сидней Карпер разговаривал с сенатором Маквейгом, Марк Холленбах-младший, которому недавно исполнился двадцать один год, со вздохом откинулся на спинку старого кресла в своей комнате на последнем этаже общежития Йельского университета. На Марке были спортивные брюки цвета хаки, вывернутый наизнанку свитер с пушистым воротом, на спине которого просвечивала эмблема университета — первая буква названия. На ногах — толстые шерстяные носки и спортивные туфли. По неписаному закону студенты Йельского университета никогда не носили свитер эмблемой наружу. Всякая крикливость считалась тут неприличной, от неё слишком попахивало штатом Огайо. По терминологии йельских студентов, это был «не шик». Но с другой стороны, совершенно естественно желать, чтобы окружающие не забывали о том, что человек уже третий год играет правым крайним в сборной университета, особенно если он — сын самого президента США, что создаёт на поле невообразимые помехи психологического характера. Может, судья намеренно его не штрафует? И, может, защитник, который сломал ему ребро, просто надеялся сделать себе на этом рекламу? И почему именно ему предоставили право последнего штрафного удара в игре против сборной Гарварда? Марк сам чувствовал, что до правды ему никогда не докопаться. Но какова бы ни была эта правда, нельзя было позволить, чтобы свитер выдавал его с головой и все видели, как он гордится тем, что играет в составе сборной! Вот поэтому-то он и вывернул свитер наизнанку и притворялся, что не испытывает никаких иллюзий по поводу преходящей славы. Манерами и привычками Марк-младший нисколько не отличался от своего сожителя по комнате, Пейстера, из города Сарагоссы в штате Техас, по прозвищу «Маленький док». Он почти не отличался и от всех остальных студентов Сей-брук-колледжа — разве только тем, что в соседней комнате всегда находился агент Секретной службы, который провожал Марка на занятия и всегда поодаль следовал за ним, куда бы он ни шёл. Марк-младший был очень похож на отца. Такое же энергичное, продолговатое лицо, так же коротко подстрижены волосы. Но ростом он был повыше — шесть футов и два дюйма, и мускулы у него были упругие и крепкие. Марк восхищался отцом, и на крышке проигрывателя, чуть прикрытая двумя теннисными ракетками, всегда красовалась вставленная в рамку фотография президента Холленбаха, где тот был изображён принимающим присягу на ступенях Капитолия. Марк с наслаждением обсуждал с отцом вопросы текущей политики и в общем ладил со «стариком», но наотрез отказывался следовать настойчивым призывам своего отца к совершенству. Совершенство, по его глубокому убеждению, было, как и всё прочее, хорошо в умеренных дозах. Пусть даже человек и посвятил всего себя самосовершенствованию, чрезмерная трепотня об этом только портила весь эффект. Это тоже был «не шик». Итак, Марк-младший сидел в глубоком кожаном кресле, пыльная ручка которого ещё хранила отпечатки ног «Маленького дока», провозглашавшего вчера оттуда тост в честь вина, женщин и путешествий. Положив ноги на сиденье другого кресла, Марк читал письмо, написанное на бледнозелёном бланке Белого дома. Кончив читать, он нахмурился, скомкал письмо и швырнул его в мусорную корзину. Скомканный шар, не долетев до цели, упал на пол. С минуту Марк сидел, уставясь на письмо, потом поднял его, разгладил и, аккуратно сложив, сунул в задний карман брюк. Затем подошёл к окну и принялся глазеть на бейсбол. Примостившись на лежавшей на подоконнике подушке, он извлёк из кармана письмо и медленно перечёл его в третий раз. Потом сунул письмо опять в карман, подойдя к телефону, позвонил на станцию и попросил соединить его с Белым домом, с миссис Эвелин Холленбах. Когда мать подошла к телефону, между ними произошёл обычный короткий разговор — бесплодная попытка найти общий язык, весьма характерная для всех близких родственников, относящихся к разным поколениям и полу. Эвелин Холленбах любила сына, но никогда не могла точно сказать, чего можно ожидать от него в следующий момент и почему; Марк тоже любил мать, но не интересовался её миром и не понимал его. — Скажи, мам, — спросил он наконец, — как себя чувствует папа? — Превосходно. Ты ведь знаешь отца! Конечно, слишком много работает, как мотор на всех цилиндрах. Но разве его остановишь? Он этим живёт. А почему ты об этом спрашиваешь? — Я получил от него странное письмо. И это меня, понимаешь, беспокоит. На него это совсем не похоже! — Что ты хочешь сказать, дорогой? — Да просто он ругает меня за отметки в этом семестре. Господи, а я-то думал, что они у меня в порядке, ведь я получил среднее число баллов — 85. Я — среди лучших студентов нашей группы. А он, оказывается, считает, что отметки — барахло. Уж если эти ему не хороши, то что он скажет тогда об оценке по истории? — Полно, Марк, ты ведь знаешь нашего мистера президента! Он хочет, чтобы каждый везде был первым. Я его в таких случаях спрашиваю: кто же тогда будет вторым, если все захотят стать первыми, но разве он слушает? Все, кто с ним связаны, непременно должны быть первыми. Но я согласна с тобой, дорогой, отметки прекрасные. — Да дело даже не в отметках, мам, а в том, как он об этом пишет. Он чертовски зол на меня за то, что я будто бы опозорил нашу семью или что-то в этом роде. Резко так! Я даже усомнился, что он мог такое написать. — Ты можешь прочитать мне это письмо? — Нет. Нечего его читать. Там написано много такого, что говорится только между мужчинами и чего тебе не понять. — Вот как? — В голосе Эвелин прозвучало явное облегчение оттого, что письмо останется непрочитанным. — Правда, мам, всё это ужасно скучно. Тебе будет неинтересно. — Ну, как хочешь, дорогой. Только за отца ты не беспокойся. Он в отличной форме. Приедешь домой на каникулы и поговоришь с ним по-хорошему. Он, может быть, просто не понимает, что ты среди лучших? — О’кэй, мам. — А как девушки, Марк? — Девчонок тут — табуны, но все какие-то недотроги! Вот моему соседу по комнате — тому везёт! — Ничего, сынок, я пригласила к нам на каникулы очаровательную девушку. Уверена, что ты будешь в восторге. В ответ он только шутливо простонал, и они весело распрощались. Телефонный звонок не помог, тревога не проходила. Марк задумчиво потрогал письмо, вспоминая некоторые выражения. Потом он услышал из окна крики теннисистов, схватил ракетку и, на бегу окликнув агента, кубарем слетел с лестницы и присоединился к игре. Часом позже на площадку пришёл почтальон и после недолгих расспросов направился к Марку. Тот, всецело поглощённый игрой, взглянул на конверт, увидел штемпель «Сарагосса, Техас», догадался, что письмо от Слима Кармайкла по поводу его летней работы, и, сунув письмо в задний карман, продолжал игру. Через полчаса, потный, усталый, Марк снова поднялся по лестнице, перебрасываясь на ходу шутками с агентом. Он принял горячий душ, обрушив на изразцовые стены ванной канонады бурных песен, в которых при всём желании невозможно было уловить мотив, потом насухо растёрся полотенцем и, обернув его вокруг бёдер, включил проигрыватель. Наконец он вспомнил про письмо. Он извлёк его из заднего кармана брюк, небрежно брошенных на спинку кресла, и принялся за чтение. Вместе с письмом Слима в конверте оказался бледно-зелёный бланк Белого дома, и, читая карандашные каракули Слима, Марк машинально теребил этот бланк. Сарагосса, Техас, 6 апреля. Дорогой Марк! Мне чертовски неприятно писать тебе это письмо, и я надеюсь, ты сам поймёшь, отчего, как только прочитаешь письмо твоего отца, которое я получил от него несколько дней назад. Я не хотел никому о нём говорить, да и Бетси советовала сберечь его до того времени, когда ты приедешь к нам. Но письмо твоего отца не даёт мне покоя. То оно меня злит, а то мне делается даже страшно. В январе я получил от президента очень хорошее письмо, он там благодарил меня за моё предложение насчёт того, чтобы федеральное правительство позаботилось о сохранении природных источников в наших местах. А вот последнее письмо от него меня ужасно расстроило. Либо твой отец никогда не писал этого письма, либо совершенно не понял моего отношения к этому делу. Ты ведь меня хорошо знаешь, Марк, я не стараюсь вытянуть из правительства ничего лично для себя. Всю жизнь я работал, как лошадь, и всем обязан одному себе, никогда не брал ни цента общественных денег. Всё, о чём я хотел попросить, это чтобы отец твои подумал, как сберечь огромные подземные запасы воды. Я просто хочу сохранить источники, уверен, что ты меня именно так и понял прошлым летом. А теперь твой отец делает из меня прямо преступника или какого-то подонка. Вот я и рассудил, что ты скоро поедешь домой на весенние каникулы и, может, объяснишь всё это своему отцу, если представится случай? Может, он вовсе и не писал этого письма? Если так, то прошу тебя, непременно дай мне об этом знать, потому что до сих пор я всегда считал его великим президентом. Твоё место на лето остаётся за тобой. Педро и ребята просят, чтобы ты непременно привёз свою гитару. Ну а мы с тобой будем заниматься футболом. Остаюсь твой друг, Слим Кармайкл. От Бетси тоже большой привет.Марк медленно прочёл письмо отца к Кармайклу, хмурясь над такими фразами, как «проблема, которая является исключительно вашим частным делом…», «…каждый гражданин обязан сделать всё от него зависящее и изыскать свой собственный способ преодоления трудностей, которые стоят перед всеми нами». Потом Марк заново перечитал письмо от отца к себе. И вдруг ему бросилась в глаза фраза: «.а я-то надеялся, что хотя бы мой сын избавит меня от неприятностей именно в такое время, когда существует несомненный заговор с целью унизить и очернить меня и даже уничтожить физически!» Марк долго стоял неподвижно, не в силах отвести взгляд от этой фразы, мучительно думая о том, что всё это могло значить. Крики друзей во дворе казались теперь далёкими, комнату окутало оранжевой дымкой заходящее солнце. Марк подошёл к телефону, снял трубку, набрал номер междугородной станции: — Прошу соединить меня с мистером Полем Гриско-мом в Вашингтоне. Его можно разыскать либо в его адвокатской конторе в Уорлд-центр билдинг, либо же в его доме на Оу-стрит, Нордвест.
ГЛАВА 16. ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА
В присутствии заместителя председателя Сената Уильяма Никольсона Джо Донован всегда чувствовал себя неловко. «Старый Ник» не относился к тому типу гибких политиков, к которому принадлежал глава национальной демократической партии. Джо разделял точку зрения президента Холленбаха, считавшего Никольсона слишком тяжёлым на подъём и вдобавок склонным к помпезности и чопорности. Однако сегодня, зайдя в затхлую приёмную, помещавшуюся на первом этаже в старом здании Сената, Джо не мог не признать, что чопорная внешность Ника как нельзя более подходит для предстоящей серьёзной беседы. Миссия Джо Донована была необычной, и вид у него был довольно растерянный, как ни старался он это скрыть. — Так в чём ваша проблема, Джо? Никольсон сказал это с таким кислым видом, словно предчувствовал, что новости будут плохие. — Пришёл проверить одну историю, Ник, — сказал Донован, перебрасывая ногу через ручку кресла. — История, в общем, довольно нелепая, и, может, в ней ничего такого и нет, но я непременно должен докопаться до истины. Никольсон уставился на него, потёр рукой острый подбородок, но ничего не сказал. — Дело в том, Ник, что моя секретарша Рита Красицкая всю эту неделю вела себя довольно странно. Я подозревал, что у неё что-то стряслось, но разве поймёшь этих женщин? И вот сегодня утром она заходит ко мне и рассказывает очень интересную историю. Говорит, что с неделю назад, вечером, её привезли на частную встречу группы демократических лидеров, собравшихся в Сен-Леонард Крик у Грэди Каванога. Её привёз туда Джим Маквейг и заставил давать перед ними показания. Она рассказала, что ей было задано множество весьма странных вопросов об одном её разговоре с президентом. Не буду пересказывать всех подробностей, но Рита сказала, что Маквейг был страшно возбуждён и расстроен и отказался объяснить ей, для чего привёз её к Каваногу. Как я уже говорил, ей были заданы весьма странные вопросы. Она всё обдумала и пришла к выводу, что существует нечто вроде заговора, который ставит себе целью политически дискредитировать президента Холленбаха и, быть может, далее не допустить его переизбрания. — И она перечислила всех, кто там был, и одним из присутствовавших оказался я? Джо облегчённо вздохнул: — Правильно, Ник. Этим и объясняется мой сегодняшний визит к вам. Я хочу знать, в чём дело! Никольсон так сильно откинулся на спинку вращающегося кресла, что пружины протестующе заскрипели. С минуту он сумрачно смотрел на Донована: — С нас взяли слово соблюдать самую строжайшую тайну, Джо, и я не из тех, кто нарушает обещание. Но раз вы сами пришли ко мне, а вы у нас председатель партии, то вы имеете право знать обо всём, что случилось. Дело в том, Джо, что эту группу собрали О’Мэлли и Маквейг для того, чтобы обсудить сенсационное утверждение сенатора Маквейга, будто президент Холленбах психически неуравновешенная личность, а его, Маквейга, преследуют агенты Секретной службы. — Что??? — Вот именно, Джо, Маквейг утверждает, что у президента психическое расстройство. Донован обрёл наконец дар речи: — Да ведь он, наверное, просто вас разыгрывает! — Напротив, он говорил об этом совершенно серьёзно. И представил нам массу так называемых «доказательств». — Что значит «так называемых»? — Я хочу сказать, что я им не поверил. Откровенно говоря, я покинул это собрание, не дождавшись, пока оно кончится. Я решил, что Маквейг либо хочет расквитаться с президентом по какой-то ему одному известной причине, либо он сам сошёл с ума. И чем больше я об этом думаю, тем больше склоняюсь к последнему предположению. — А что вы скажете о преследованиях Секретной службы? — Этому я тоже не верю. Мне кажется, у него галлюцинация. — И вы ничего не проверяли сами? — Нет. Я считаю, что в таком дело нельзя принимать скоропалительных решений, и, откровенно говоря, я не могу себе представить, что тут можно сделать. Я хотел было рассказать обо всём президенту, но потом счёл, что бессмысленно тревожить его впустую. — Раз уж вы рассказали мне всё это, то, может быть, вы расскажете подробно о встрече, которая состоялась у Грэди Каванога? — Пожалуйста. И Никольсон последовательно пересказал подробности знаменательной встречи в Сен-Леонард Крик, не забыв историю о том, как Маквейг ходил к Полю Грискому, и о том, как адвокат решил, что свихнулся не президент, а Маквейг. Не утаил Никольсон также и молчаливого признания Риты Кра-сицкой, что у них с Маквейгом была любовная связь. — Господи помилуй, Джимми и Рита! Беда с этими служащими, да и только. Начальник никогда ничего не знает об их личной жизни. А я-то ещё понять не мог, почему это она так краснеет и запинается, рассказывая мне об этой встрече у Каванога. И вообще вид у неё был очень расстроенный. — Эта связь у них, очевидно, продолжалась порядочно, — брезгливо поморщился Никольсон. — Именно на эту историю и намекали, по-моему, Кинг и Казенс. У меня сложилось такое впечатление, что сам Маквейг запутался во всех своих делах и в результате у него появилась навязчивая идея навредить президенту. — Вы полагаете, он действительно опасен, Ник? — Может быть. Я плохо разбираюсь в таких вещах, но, признаюсь, я очень встревожен. — Я и сам всё время ломал голову, почему это Джимми вдруг так разом прикрыл кампанию по выборам его в вице-президенты. Мне это и впрямь показалось ненормальным. И особенно потому… — заметьте, Ник, я говорю это со всем моим уважением к вам, — что у него были верные шансы быть избранным. — Вот как? — Известие о верных шансах Маквейга, по-видимому, не слишком обрадовало Никольсона. — Послушайте, Ник, если Джимми и впрямь свихнулся, то мы должны разузнать об этом поподробнее и как-то помочь ему. Может, вызвать сюда Грискома и послушать, что ему известно о Джимми? А заодно и Бразерса. Посмотрим, действительно ли Служба приставляла к Маквейгу агентов. Мне это кажется невероятным! Никольсон подумал с минуту: — О’кзй. Давайте пригласим сюда обоих. «Приглашение» заместителя председателя Сената означало в Вашингтоне приказ, с которым мог соперничать лишь вызов самого президента, поэтому не прошло и четверти часа, как Поль Гриском и Бразерс прибыли в приёмную Никольсо-на. У себя в конторе Гриском никому не сказал, куда он направляется, и поэтому все попытки диспетчера на междугородной станции в Нью-Хэйвен разыскать человека, которого Марк Холленбах-младший называл «дядя Поль», оказались безуспешными. Как только вошедшие уселись, Никольсон не стал терять времени попусту и сразу же взял быка за рога: — Я пригласил вас сюда потому, джентльмены, что меня крайне тревожит состояние рассудка нашего доброго друга Джима Маквейга. Он коротко рассказал Грискому и Бразерсу о встрече, состоявшейся в Сен-Леонард Крик. — Я убеждён, джентльмены, — сказал он в заключение, — что обвинения, выдвинутые Маквейгом против президента Холленбаха, совершенно абсурдны. Мне кажется, что Маквейга необходимо срочно отправить к психиатру, и чем скорее, тем лучше. Признаюсь, что я сам оказался весьма медлителен и ничего не предпринял в этом отношении сразу, ещё на прошлой неделе. Но наш разговор с мистером Донованом представил мне всё в новом свете. Что вы обо всём этом думаете, Поль? Гриском погрузился в мрачное раздумье, отчего стал похож на сонную ящерицу, снял пенсне и стал старательно полировать его полой рубашки. — Сказать по правде, Ник, мне и в голову не приходило, что Маквейг имел тогда в виду президента. Я просто полагал, что он рассказывает мне о самом себе, притворившись, что его заботит состояние какого-то другого сенатора. Конечно, позднее визит агента Секретной службы показался мне весьма странным. И всё-таки я не догадался помножить два на два и посмотреть, что из этого получится, — весьма обычная вещь в этом городе, но совершенно непростительное упущение для человека, уже сорок лет занимающегося юридической практикой. Неужели Джим действительно обвиняет президента в умственной неполноценности? — Именно. — Тон Никольсона был резкий, возмущённый. — Явный абсурд. — Странное, очень странное обвинение со стороны Маквейга. Совершенно не понимаю, чем это вызвано… — Послушайте, Поль, — сказал Донован, — будучи другом семьи президента, вы с ним видитесь чаще нас всех. Скажите, приходилось вам замечать в его поведении что-нибудь болезненное? — Никогда. Наоборот, от него так и пышет энергией. Я только вчера был у него по одному делу и могу сказать, что никогда не видел президента, более способного разобраться в обстановке. Конечно, он кипит и бурлит больше любого из нас, но ведь он всю жизнь был таким! — Я к этому могу прибавить только, что он разговаривает по телефону так энергично, что у меня потом целый день звенит в ухе. Он такой же, как всегда, полон огня и новых идей. Донован перевёл взгляд на Бразерса, чьё обычно невыразительное, бесстрастное лицо всё больше хмурилось по ходу разговора. — А что вы нам скажете, шеф? Приходилось вам или вашим сотрудникам замечать в действиях президента что-либо ненормальное за последнее время? — Нет, ничего подобного я не замечал. Но я бы очень хотел иметь возможность сказать то же самое про сенатора Маквейга! Он меня беспокоит чёрт знает как. — А что это за история насчёт того, что вы якобы установили слежку за Маквейгом? — спросил Никольсон. Бразерс болезненно поморщился. Вот оно, началось! Подумать, что он всё-таки завяз по уши в этом сомнительном деле младшего сенатора из Айовы! Испорчены последние месяцы перед пенсией! Бразерс заискивающе посмотрел на присутствовавших: — Нам всегда дьявольски неприятно устанавливать слежку за официальными лицами. Но в случае с сенатором Маквейгом у нас не оставалось выбора. Началось с того, что к нам поступили сведения, что помощник Маквейга задавал странные вопросы о годах юности президента. Потом Маквейг солгал моему агенту Лютеру Смиту. Затем в его домашнем кабинете мы нашли целый ящик хирургических ножей!.. Удивлению Грискома, казалось, не было границ: — Ножей??? — Вот именно, ножей, сэр. — И Бразерс рассказал о том, как три недели тому назад в одно из воскресений Лютер Смит обнаружил в доме Маквейга коллекцию хирургических скальпелей. — А в довершение всего этот его совершенно необъяснимый отказ баллотироваться в вице-президенты! И странное утверждение, что он пишет о президенте книгу, хотя не имеется ни малейших доказательств, что он действительно этим занимается. Поймите, джентльмены, я не имею права рисковать в этом деле! В конце концов, охранять особу президента — моя работа и святая обязанность! Последние слова он сказал вызывающим тоном, так как утаил от собеседников, что слежка за Маквейгом была установлена больше из страха, что Холленбах может узнать о расспросах Маквейга и потребовать от Службы объяснений. Долгий опыт работы в бюрократических джунглях Вашингтона научил его, что иногда мудрее промолчать, чем сказать слишком много. — Я думаю, что нам следует позаботиться о Маквейге и показать его психиатру, — сказал Никольсон. — Не могу понять, что с ним такое, но он определённо хочет причинить ущерб президенту Холленбаху, возможно, только политически, но кто может поручиться, что не физически? Мы должны поместить Джима в больницу, где ему может быть обеспечена помощь квалифицированного психиатра. — Чертовски не правится мне вся эта история, джентльмены! — воскликнул Донован. — Запрятать в психиатрическую больницу сенатора Соединённых Штатов, это вам не шутка! Никольсон мрачно кивнул, и на минуту в приёмной воцарилось молчание. — Согласен, дело это не шуточное, — сказал Гриском. — Но тем не менее возможное. — Что же вы предлагаете? — Всем своим видом Донован выражал недоверие. — Вообще говоря, — сказал Бразерс, — предварительное задержание не представляет для нас особой проблемы, при условии, что человека задерживают где-нибудь в публичном месте. Для этого не требуется ордера на арест, как в случае, когда приходится арестовывать человека на дому. Если у нас имеются подозрения, что жизни президента угрожает опасность, то мы можем взять подозреваемого прямо на улице. Бывает, что мы доставляем таких в больницу общего типа и поручаем их там заботам штатных психиатров. Потом в течение сорока восьми часов мы должны предъявить ордер на арест и на медицинское освидетельствование. Подозреваемого обследует комиссия из председателя и двух штатных психиатров. Если они приходят к заключению, что рассудок задержанного повреждён, они в течение двадцати пяти дней обязаны поставить об этом в известность окружной суд. Вот приблизительно и вся процедура. — Но ведь членов Конгресса ваша процедура не касается! — возразил Донован. — Насколько я припоминаю, в Конституции совершенно определённо сказано о неприкосновенности их личности. Гриском покачал головой: — Они не могут быть арестованы только во время сессии, либо когда направляются на заседание Конгресса или покидают его. Но не в случаях государственной измены, уголовных преступлений и нарушений общественного спокойствия, — так, кажется, там говорится. Такая формулировка значительно сужает условия их неприкосновенности. В нашем случае вопрос, конечно, упирается в то, расценивать ли задержку сенатора США и препровождение его к психиатру как арест в конституционном значении. Мне кажется, что нет. А что думаете вы, Бразерс? — Нам ни разу не приходилось арестовывать члена Конгресса при подобных обстоятельствах. Но я считаю, что у нас имеются все основания для того, чтобы задержать сенатора Маквейга и поместить его под наблюдение квалифицированных врачей-психиатров. И всё же… Он помолчал и ещё больше нахмурился: —.. И всё же мне бы очень не хотелось делать это всё только на свои страх и риск! Законно это будет или нет, одно я знаю твёрдо: арестовать сенатора Маквейга — будет всё равно что открыть сундук со змеями. — Да уж что говорить! — поддакнул Донован. Его бесцветные ресницы почти совсем прикрывали глаза — верный признак того, что его политическое чутьё настороже. — Сегодня вы арестуете Маквейга, а через двадцать четыре часа об этом будут трубить во всех газетах! Все опять замолчали, только кресло Никольсона изредка поскрипывало. — Делать нечего, придётся пойти на скандал, — заявил наконец Никольсон. — Я полагаю, что сенатора Маквейга необходимо, не теряя ни часа, поместить в больницу. Гриском взял трубку телефона на столе Никольсона, соединился с приёмной Маквейга, попросил сенатора к телефону и стал ждать. Потом молча выслушал ответ и повесил трубку. — Сенатор Маквейг только что выехал в Белый дом, — сказал он. Все четверо обменялись удивлёнными взглядами. — Занятно, — пробормотал Донован. — Занятно — не то слово. — Никольсон тяжело поднялся с кресла. — Я думаю, вам лучше взять дело в свои руки, шеф! Не знаю, что могло понадобиться сенатору Маквей-гу в Белом доме, но думаю, что находиться там сейчас ему определённо не следует! — Вы хотите, чтобы я задержал его? — Бразерс пытливо всматривался в лица всех троих, стараясь прочитать на них единодушное одобрение. На лице Донована было написано сомнение, но Гриском кивнул. Никольсон выпрямился. — Безусловно, — ответил он. — И если у вас будут потом неприятности, беру на себя всю ответственность. Бразерс взялся за трубку и громко назвал номер: — Лютера Смита к телефону, срочно! Минуту спустя агент Лютер Смит выбежал из западного вестибюля Белого дома, быстро миновал фронтальный портал здания и, задыхаясь, остановился около будки охраны у восточных ворот. Часы показывали двадцать две минуты пятого. Через две минуты к воротам подкатило такси. Из него вылез сенатор Маквейг и, расплатившись с шофёром, устремился к зданию. Смит как бы между прочим подошёл к сенатору и, крепко схватив его за руку, потащил его через Ист Эк-зекьюшен-авеню к входу в старое здание Казначейства. — Прошу прощения, сенатор, — тихо сказал он, — но мы получили распоряжение вас задержать.
Маквейг попытался высвободить руку:
— Какого дьявола, Смит? В чём дело?
— Не знаю, сенатор! Но вам придётся следовать за мной.
Маквейг был гораздо выше и сильнее смуглого агента, и он снова попытался высвободить руку, но Смит сжал одной рукой бицепсы его правой руки, а другой вцепился в кисть. Пока Джим соображал, как ему получше извернуться, к ним подскочил второй агент. Он схватил сенатора за левую руку, и Маквейга не грубо, но решительно впихнули на заднее сиденье подоспевшего «седана».
— В Главную больницу! — бросил Смит водителю.
— Я, что же, считаюсь больным?
Смит растерянно отвернулся:
— Этого я не знаю, сенатор. Но мы получили приказ доставить вас в психиатрическую клинику.
В тот момент, когда «седан», увозивший Маквейга, отъезжал от гаража позади Казначейства, к восточным воротам Белого дома подкатил пентагонский служебный лимузин министра обороны Сиднея Карпера. Он вылез из автомобиля и посмотрел на часы. Он на целых две минуты опоздал на встречу, которую они с Маквейгом назначили бригадному генералу Морису Лепперту, личному врачу президента Холленбаха. Карпер кивнул агенту полицейской охраны, стоявшему у будки:
— Что, сенатор Маквейг ещё не приезжал?
— Сенатор Маквейг, сэр? Он подъехал сюда пять минут назад, но его увёл к зданию Казначейства один из агентов Секретной службы.
— Прошу прощения, сенатор, — тихо сказал он, — но мы получили распоряжение вас задержать.
Маквейг попытался высвободить руку:
— Какого дьявола, Смит? В чём дело?
— Не знаю, сенатор! Но вам придётся следовать за мной.
Маквейг был гораздо выше и сильнее смуглого агента, и он снова попытался высвободить руку, но Смит сжал одной рукой бицепсы его правой руки, а другой вцепился в кисть. Пока Джим соображал, как ему получше извернуться, к ним подскочил второй агент. Он схватил сенатора за левую руку, и Маквейга не грубо, но решительно впихнули на заднее сиденье подоспевшего «седана».
— В Главную больницу! — бросил Смит водителю.
— Я, что же, считаюсь больным?
Смит растерянно отвернулся:
— Этого я не знаю, сенатор. Но мы получили приказ доставить вас в психиатрическую клинику.
В тот момент, когда «седан», увозивший Маквейга, отъезжал от гаража позади Казначейства, к восточным воротам Белого дома подкатил пентагонский служебный лимузин министра обороны Сиднея Карпера. Он вылез из автомобиля и посмотрел на часы. Он на целых две минуты опоздал на встречу, которую они с Маквейгом назначили бригадному генералу Морису Лепперту, личному врачу президента Холленбаха. Карпер кивнул агенту полицейской охраны, стоявшему у будки:
— Что, сенатор Маквейг ещё не приезжал?
— Сенатор Маквейг, сэр? Он подъехал сюда пять минут назад, но его увёл к зданию Казначейства один из агентов Секретной службы.
ГЛАВА 17. У ПОЛЯ ГРИСКОМА
Сидней Карпер, которого так и распирало от злости, пересёк Ист Экзекьюшен-авеню, приблизился к зданию Казначейства и, войдя в управлений Секретной службы, потребовал, чтобы секретарша немедленно провела его к Бразерсу. Секретарша, привыкшая иметь дело, главным образом, с полупомешанными наркоманами и со взломщиками, оправила волнистые чёрные волосы и уже приготовилась одарить Карпера обольстительной улыбкой, когда сидевший за столом позади неё немолодой сотрудник, узнав в посетителе министра обороны, устремился вперёд, словно камень из катапульты. Совершенно потерявшись от избытка уважения и чуть ли не по три раза вставляя почтительное «сэр» в самые короткие фразы, он объяснил, что шеф Бразерс только что покинул совещание в Капитолии, и его привода ожидают в управлении с минуты на минуту. — В таком случае я подожду у него в кабинете! — рявкнул Карпер. — Конечно, сэр, как вам будет угодно, сэр. Когда несколько минут спустя Бразерс вошёл к себе в кабинет, он увидел, что там из угла в угол крупными шагами ходит министр обороны. Руки Карпера были сложены за спиной, губы сжаты в тонкую, сплошную линию. Карпер остановился и круто довернулся к шефу: — Какого дьявола, Бразерс, кто вам дозволил брать сенатора Маквейга? Бразерс, совершенно ошарашенный тоном министра и пытаясь хоть немного оттянуть время, стал медленно усаживаться за стол. Потом он попытался изобразить на лице умиротворяющую улыбку. — Это административная мера, сэр! — Ничего лучшего ему в этот момент не пришло в голову. — Административная! — проревел Карпер. — Что это значит по-английски, чёрт побери! — Я не имею права раскрывать всех обстоятельств этого дела, сэр. — Голос Бразерса дрожал, выдавая беспокойство, скрывавшееся за его официальным тоном. Какова роль во всём этом министра обороны? — Я член кабинета министров, Бразерс, — сказал Карпер ледяным тоном, — а Джеймс Маквейг, как вам известно, сенатор Соединённых Штатов! И я имею полное право знать, что вы сделали с сенатором Маквейгом! Я знаю, что он был доставлен в это здание одним из ваших агентов. Бразерс растерялся. Последние несколько месяцев бурное течение вашингтонской политики доставляло ему хлопот больше, чем когда-либо. Кроме того, он испытывал острое желание чихнуть и поэтому смотрел на министра откровенно враждебным взглядом. Неужели у министра обороны США со всеми его ракетами и атомными подводными лодками не хватает своих забот? — Сенатор Маквейг был задержан нами для расследования, — вздохнул Бразерс. — Мы были вынуждены пойти на это из предосторожности, сэр. — Кто вам дал такое распоряжение, Бразерс? — прогремел Карпер. — Я не знал, что у нас полицейское государство! — Полно, сэр. Я совершенно с вами согласен, что арест сенатора Соединённых Штатов вещь в высшей степени необычная, но у нас имелись основания подозревать, что сенатор Маквейг угрожал безопасности президента. При таких обстоятельствах Служба не имеет права рисковать, сэр! — Чепуха! Маквейг и мухи не обидит! Я требую, Бразерс, чтобы вы немедленно провели меня к нему! Где он? — Весьма сожалею, но я не вправе сказать вам об этом. — Я уже сказал, что я член Кабинета и имею право знать правду. — А я — агент президента Соединённых Штатов и нахожусь при исполнении своих обязанностей, — снова вздохнул Бразерс, мысленно проклиная Маквейга за то, что тот подложил ему такую свинью. — Почему бы вам не обратиться к президенту, сэр? Пусть он сам решает этот вопрос. Карпер бросил на него исполненный ярости взгляд и поспешил переменить разговор: — Вы сказали: «у нас есть основания полагать»… У кого это «у нас», хотел бы я знать! Бразерс злобно посмотрел на министра. Почему, собственно, ему, обыкновенному гражданскому служащему, приходится одному отдуваться из-за ареста сенатора. — Это «мы» включает в себя заместителя председателя Сената мистера Никольсона, председателя комитета демократической партии мистера Донована и известного приверженца демократической партии адвоката Поля Грискома. Только что в приёмной Никольсона состоялось совещание, на котором они вынесли решение изолировать Маквейга. Я же просто подчинился их решению и приказал арестовать его, как только он появится у Белого дома. — Благодарю вас. Карпер поспешно вышел из кабинета. Пока он пробирался к выходу по коридорам старого здания Казначейства, он несколько поостыл. Подумал, не зайти ли ему к Никольсону или Доновану, но потом решил, что не стоит. Будучи недостаточно хорошо знаком с ними, он решил начать с адвоката Грискома, которого в Вашингтоне знал каждый государственный деятель и с которым Карпер сам иногда играл в гольф в Клубе Горящего Дерева. Усевшись в автомобиль, ожидавший его позади Казначейства, он приказал шофёру гнать на Оу-стрит к дому Грискома. Дверь ему открыла горничная. Он вошёл и очутился в узком холле с мраморным полом. За тяжёлыми дубовыми дверями — наследием прошлого века — скрывалась просторная гостиная. Гриском разговаривал по телефону в другом конце холла. — Значит, договорились, обсудим это на следующей неделе, когда приедешь на каникулы. О’кэй? А теперь успокойся, я уверен, что всё обойдётся. До скорой встречи. Гриском положил трубку и приветливо улыбнулся Карперу. Если его и удивил визит министра, то он ничем этого не обнаружил. В резиденции Грискома на Оу-стрит за все эти годы перебывал не один десяток государственных деятелей. — Добрый вечер, Сид. Это звонил Марк-младший из Нью-Хэйвена. Парнишка встревожен каким-то письмом от президента. Обижен, что старик устроил ему отеческое внушение. Говорит, что не знает, в чём провинился. Наверное, опять отметки. Гриском подошёл к Карперу и пожал ему руку. Брюки адвоката висели на коленях мешками, лицо было помятое. — Очень рад, что вы зашли ко мне, Сид. — он вопросительно посмотрел на министра: — Что-нибудь случилось? Карпер кивнул: — Вы говорите, что юный Холленбах встревожен резким письмом, полученным от отца? — Разве я сказал «резким»? Но неважно, оно и в самом деле резкое. Марк только что прочитал мне его. Разговор фактически шёл о двух письмах, которые его отец недавно написал. Оба, по-моему, немного странные. Скорее всего, это одна из обычных семейных неприятностей. Просто мальчишке захотелось выплакаться у кого-нибудь на груди. Так чем могу быть полезен, Сид? Карпер сделал вид, что не заметил попытки адвоката переменить тему: — Как прикажете понимать «странные», Поль? Гриском поправил пенсне и строго взглянул на Карпера поверх стёкол: — Послушайте, Сид! Это семейное дело, и я не считаю себя вправе… — Если Марк-младший получает от отца странное письмо, то это такое же моё дело, как и ваше, — перебил Карпер. — И уж если на то пошло, то это дело общественное. Знаете, что я вам скажу, Поль? На вашем месте я бы немедленно приказал мальчишке прилететь сюда с первым же самолётом. Сегодня же! Гриском снял пенсне и удивлённо воззрился на Карпера: — О чём вы говорите, Сид, чёрт побери! Карпер молча наблюдал реакцию Грискома. При обычных обстоятельствах он бы приступил к цели своего визита осторожно. Теперь времени на осторожность не оставалось. Надо было выкладывать все карты на стол. — Я говорю о безумии, Поль! — Он тряхнул головой и пристально взглянул адвокату в глаза. — Послушайте, Поль, президент Холленбах находится в чрезвычайно тяжёлом состоянии! Вы совершили ужасную, хотя и вполне понятную ошибку! Дело в том, что не сенатор Маквейг безумен. Безумен президент! Воцарилось молчание. Гриском рассматривал лицо Карпера внимательно и изучающе, словно видел министра впервые. — Я думаю, вам надо объяснить ваши слова, Сид! Перейдём-ка лучше в гостиную. Гриском показал Карперу на кушетку, а сам уселся в крашеное деревянное кресло. Гостиная была обставлена во французском стиле семнадцатого века, что совершенно не вязалось с мятыми костюмами Грискома, его вайомингским выговором и вульгарной роскошью в его конторе. Карпер скрестил длинные руки на груди и подался вперёд: — Как вы считаете, Поль, я — сумасшедший? — Что вы, Сид, конечно, нет! — Вы правы, Поль, я действительно не сумасшедший. То же самое можно сказать и про моего друга Джима Маквейга. Мы с ним заодно. Мы оба — каждый своим путём — пришли к убеждению, что Холленбах повредился в рассудке. Мы убеждены, что президент болен какой-то формой паранойи. Мы пришли к этому выводу независимо друг от друга, основываясь каждый на своих доказательствах, и только сегодня узнали, что оба подозреваем одно и то же. Мы договорились с генералом Леппертом о встрече. Мы хотели проконсультироваться у него и попросить совета, и именно в этот момент Служба перехватила Джима и арестовала его. Стараясь оттянуть время, адвокат снял пенсне, выдернул из брюк полу рубашки и стал полировать ею стёкла: — Для меня это слишком сильная доза, Сид! Я, пожалуй, выпью, а вы? Карпер кивнул: — Налейте мне чистого, пожалуйста. Когда Гриском приготовил напитки, достав их из портативного бара в углу гостиной, Карпер рассказал ему обо всём, включая свой собственный разговор с Джимом, состоявшийся утром. Умолчал он только о проекте «Кактус», назвав его «одним утверждённым пентагонским мероприятием». — Таким образом, — закончил он свой рассказ, — положение на мой взгляд ухудшается. Признаков, что болезнь Марка проходит, нет никаких. Наоборот, ненормальность, которую я заметил у него полгода назад, приняла, по-видимому, хронический характер. Он думает, что является жертвой каких-то заговорщиков, которые замышляют его уничтожить, и, кроме того, ему, по-видимому, свойственна также и мания величия. Гриском помолчал, играя бокалом. — Эти письма действительно кажутся странными, — сказал он, словно размышляя вслух. — Особенно встревожила молодого Марка одна фраза в отцовском письме, где тот говорит о каком-то заговоре, который ставит себе целью уничтожить его физически или, по крайней мере, дискредитировать его. Карпер кивнул: — Всё совпадает, Поль. Мы не должны больше медлить. До встречи Холленбаха с Зучеком осталось двенадцать дней. Мы не можем допустить, чтобы в Стокгольм отправился психически ненормальный президент! Существует ряд проблем оборонного значения — я не имею права раскрывать их сущность, — которые требуют особого внимания. Когда я думаю о том, что может наговорить русским президент-параноик и каких дел он может там натворить, господи, у меня волосы встают дыбом! — Не могу заставить себя поверить! — Гриском растерянно моргал. — Ведь я вижусь с ним два-три раза в неделю и не могу припомнить случая, когда бы хоть какие-нибудь его слова или поступки показались мне ненормальными. Он, конечно, несёт тройной заряд энергии, но ведь он всегда был таким, сколько я его знаю! — Параноикам свойственно необыкновенное умение дурачить людей. — Согласен. Я припоминаю, что, когда Джим описывал мне симптомы болезни человека, которого не захотел назвать, мне пришло в голову, что связь идей у этого человека вполне последовательно, если только принять их необычность как должное. И тоже самое мне приходилось наблюдать на многих судебных процессах, связанных с паранойей. Но подумать, чтобы такое могло случиться с Марком Холленбахом! Это кажется просто невероятным! — Обратите внимание на манию преследования, Поль! Она проявляется у него снова и снова. С О’Мэлли, с Дэви-джем и Маквейгом, и со мной. Об этом он пишет даже своему сыну. Это болезненный симптом, Поль, и вы прекрасно об этом знаете! Гриском поднялся: — Достаточно, Сид! Вы убедили меня. Я скажу жене, чтобы она не ждала нас к обеду, и посмотрю, нельзя ли выкроить для нас пару сэндвичей. Я считаю, что надо немедленно вызвать сюда всех, кто находился тогда у Каванога. Правильно? — Да, Поль! Следует собрать ту же группу плюс ещё Джо Донована и Арнольда Бразерса, раз уж они всё равно в этом замешаны. И потом вам необходимо убедить молодого Марка, чтобы он немедленно прилетел сюда и захватил с собой письма. — И вытащить Джима Маквейга из сумасшедшего дома? — Гриском усмехнулся, но усмешка получилась неуверенной. — Я почти совсем забыл про Джима, Поль! Куда вы его, кстати, упрятали? — В психиатрическое отделение Главной больницы. Гриском вышел в холл и быстро связался по телефону с Марком-младшим: — Это ты, Марк? Немедленно приезжай в Вашингтон. С первым же самолётом. Да, да, сегодня. Возникли обстоятельства, которые делают это абсолютно необходимым. Захвати с собой эти письма и прямо с аэродрома приезжай ко мне. И, пожалуйста, не говори об этом своим. Я всё объясню тебе на месте. Сказав в трубку ещё несколько слов, он повесил её и потом позвонил всем, кто был замешан в этом необыкновенном деле. Все оказались дома, кроме Одлума, который, по словам слуги, находился в международном аэропорте Далласе, куда только что прилетел с конференции из Нового Орлеана. Гриском связался с аэропортом, Одлума разыскали, и он обещал немедленно приехать. Пока Гриском звонил, Карпер мерял большими шагами гостиную. С лица его не сходило озабоченное выражение. Все вызванные, кроме Одлума, прибыли буквально через несколько минут. Прошло ещё около часа, пока Одлум добрался до Джорджтауна и вошёл в гостиную, отдуваясь и бормоча извинения. Гриском плотно прикрыл массивные дубовые двери. Все уселись. В полной тишине Гриском заговорил: — Мы, кажется, совершили роковую ошибку, джентльмены. Дело втом, что не рассудок Джима Маквейга должен внушать нам опасения, а рассудок президента Холленбаха! Надеюсь, в этой комнате нет ни одного человека, который стал бы сомневаться в нормальности Сида Карпера! Выслушаем же его. И Карпер рассказал обо всём подробно. Когда он кончил, слово опять взял Гриском: — Все вы знаете, джентльмены, ту роль, которую сыграл в этом деле я. В течение нескольких недель я ошибочно полагал, что мой друг, сенатор Джим Маквейг, тяжело болен. Теперь как адвокат и как близкий друг семейства Холленбах я считаю, что сомнений уже не остаётся. Разум президента, по-видимому, повреждён. Если это так, джентльмены, то нам угрожает национальный кризис. Поэтому встаёт вопрос о формальной процедуре смещения президента. — Что вы предлагаете? — спросил Каваног. — У меня есть два предложения. Прежде всего мы должны рассмотреть соглашение между Патом О’Мэлли и президентом и точно решить, как и когда Пату ставить вопрос перед кабинетом министров — конечно, при нашей поддержке! Во-вторых, Бразерс должен забрать Маквейга из больницы и доставить его сюда. — Адвокат повернулся к О’Мэлли: — Где текст вашего соглашения, Пат? Всё время, пока говорили Гриском и Карпер, вице-президент сидел как в трансе. Щёки его совсем обвисли, он, казалось, ушёл глубоко в себя. — Что значит — поставить вопрос перед кабинетом министров, Поль? — Это значит — готовьтесь принять на себя обязанности президента страны, — резко вмешался Карпер, в упор глядя на О’Мэлли. — Боже милостивый! Да вы сами-то хорошо понимаете, что говорите? Неужели вам непонятно, что моя политическая репутация погибла? Страна никогда не согласится на то, чтобы я стал хозяином Белого дома! Ведь это же немыслимо! — Вы — вице-президент Соединённых Штатов, О’Мэлли! И вы единственный человек, который имеет право действовать. Можете вы наконец это понять! — сказал Карпер. О’Мэлли неловко заёрзал в кресле. Вид у него был растерянный, словно у приговорённого к смерти, которому вдруг объявили о помиловании. Тогда поспешно заговорил внимательно наблюдавший за вице-президентом Гриском: — Во всём этом мы сможем разобраться и после. Сейчас необходимо немедленно привезти сюда текст соглашения, чтобы мы могли с ним ознакомиться. Можете вы доставить его сюда, Пат? О’Мэлли оцепенело кивнул: — Соглашение у меня дома. Сейчас я поеду и привезу его. Понурив голову, он медленно вышел из гостиной. Гриском повернулся к Арнольду Бразерсу: — Ну а теперь, шеф, поезжайте поскорее в Главную больницу и везите сюда сенатора Маквейга. Бразерс поёжился. Его всегда бесстрастное лицо стало красным, как свёкла. Он старательно стал вытирать носовым платком нос, словно боясь нового приступа насморка, который мучил его уже несколько недель: — Вообще-то я не уверен, что мой долг сейчас состоит в этом… — Господи, да неужели вы всё ещё не понимаете, что случилось, шеф? — вмешался Карпер. — Президент повредился в уме, понимаете? А Джим Маквейг такой же сумасшедший, как мы с вами! Вы что, ждёте, чтобы мы для вас составили специальный указ за подписью Каванога? Неужели вы хотите раздуть из этого федеральное дело и сделать вашу Службу посмешищем для всей страны? Бразерс сжал кулаки и нахмурился. До пенсии оставалось меньше года… — Все согласны с министром? — жалобно спросил он, явно стараясь оттянуть время. Все одобрительно кивнули, а Никольсон заявил официальным тоном: — Вы можете сослаться в своих действиях на нас. Ночь нам предстоит невидимому долгая, но, что бы ни случилось, я считаю, что сенатор Маквейг должен находиться среди нас. Бразерс вышел из гостиной и через полчаса возвратился вместе с Джимом Маквейгом, всего на несколько минут опередив О’Мэлли, вернувшегося с текстом соглашения. Бразерс подвёл Маквейга к собравшимся с таким видом, словно умывал руки после передачи пакета с сомнительным содержимым. Карпер быстро ввёл Маквейга в курс неожиданно изменившихся событий. — Мы все очень сожалеем, Джимми, — сказал Джо Донован. — Вы, оказывается, совсем не сумасшедший. Вы только поступаете, как сумасшедший. — И на том спасибо, — ответил со смехом Маквейг, впрочем, смех его прозвучал не особенно бодро. Он более трёх часов кипел от ярости — с тех самых пор, как Лютер Смит и другой агент Службы зарегистрировали его в психиатрическом отделении больницы и проводили в отдельную палату. Сначала к нему вошла сестра, которая принесла ему белый халат и осыпала увещеваниями и утешениями. Когда он отказался надеть халат, она ангельски ему улыбнулась и измерила температуру и пульс. Потом вошёл молодой и серьёзный врач в белом халате с аппаратом для измерения давления и двумя анкетами: он принялся задавать Джиму вопросы вежливо, но весьма настойчиво. Он рекомендовал сенатору как следует выспаться, принять, если нужно, снотворного и в девять утра следующего дня быть готовым к приёму у главного психиатра больницы. Затем ему принесли на подносе обед, причём вкус у пищи был такой, словно её позавчера стащили в каком-нибудь кафе. После обода последовала новая порция утешений от сестры и наконец обещание принести ему в палату последний номер «Вашингтон стар», если он будет вести себя спокойно. Джим хотел было сгоряча потребовать встречи с адвокатом, но потом передумал, стал гадать, как повёл себя Карпер, когда не застал его у восточных ворот Белого дома, хотел было позвонить Марте, но потом спохватился и решил ни в коем случае этого не делать, потом громко проклял Бразерса и долго сидел, мрачно уставясь на запертую дверь и на проволочную сетку за окном. В общем, к тому времени, когда Бразерс прибыл в госпиталь, чтобы освободить его из заключения, Джим уже буквально задыхался от злобы и отчаяния. Осторожные и вкрадчивые извинения Бразерса в автомобиле нисколько не умиротворили его. Гнев его улетучился только в гостиной, где он сразу же оказался в разгаре спора. Ни на одном из вашингтонских совещании не приходилось Маквейгу наблюдать такого трезвого и серьёзного настроения, как на этом. При его появлении, против ожидания, не последовало никаких обычных шуток, если не считать иронической фразы Донована и нескольких ободряющих слов, сказанных Джиму присутствующими. Гриском попросил Бразерса удалиться в соседнюю комнату, объяснив, что сейчас будут обсуждаться вопросы, имеющие прямое отношение к политике демократической партии США, и что Бразерсу, как гражданскому служащему, на этой части совещания лучше не присутствовать. Бразерс охотно согласился, на лице его впервые за этот вечер отразилось облегчение. Потом Гриском взял у О’Мэлли текст соглашения на случай неспособности президента управлять страной и прочёл его вслух. — Основной упор в этом соглашении, как вы видите, — сказал Гриском, — делается на оперативности. От О’Мэлли требуется, чтобы при наличии явных доказательств неспособности президента к управлению страной он приступил к официальной процедуре принятия новой должности не позднее чем через двадцать четыре часа. Теперь я хочу предложить, чтобы все присутствующие составили и подписали проект заявления, в котором настаивали бы, чтобы О’Мэлли взял на себя управление страной по причине болезни президента Холленбаха. Потом О’Мэлли должен будет созвать чрезвычайное совещание кабинета и получить от него письменные полномочия. Затем он потребует, чтобы ему было предоставлено время в телевизионной программе, и выступит с обращением к Америке. После всего этого мы приведём его к присяге. — Что-то уж слишком много крутых мер сразу, — заметил Никольсон. Такой энергичный натиск был ему явно не по душе.
О’Мэлли, вытащив сигару из целлофановой обёртки, стал медленно её раскуривать. Он уже почти оправился от первоначального потрясения и только грустно обвисшие щёки свидетельствовали о его невесёлых мыслях.
— Перед тем как приступить к подробному обсуждению, позвольте и мне сказать своё слово, джентльмены, — начал он. — Я уже успел обдумать всё, пока ездил домой и обратно. Никто из присутствующих, я думаю, не питает сомнений на тот счёт, что я не могу быть полноценной заменой Марка Холленбаха. Я хочу сказать, того Марка Холленбаха, которого мы все знали до его трагической болезни. Да, я могу неплохо справиться с работой, джентльмены, но вы все знаете, что доверие народа ко мне ничтожно. Более того, я считаю, что если избиратели узнают о моей кандидатуре, это может оказаться гибельным для нашей партии! Я хочу, чтобы все с предельной ясностью поняли: если обстоятельства и вынудят меня занять сейчас место президента в Белом доме, то я ни в коем случае не выставлю своей кандидатуры на предстоящих выборах! Именно это я и собираюсь объявить избирателям в своём выступлении по телевидению. При моей репутации после этой злосчастной истории со спортивной ареной любое другое заявление оказалось бы гибельным для нашей партии. Вот я и ставлю вас об этом заранее в известность.
— Спасибо, Пат! Этого достаточно. Мы понимаем вас, — сказал Карпер.
Тут впервые заговорил Маквейг:
— На всякий случай хочу заявить, что то же самое касается и моей кандидатуры! После той роли, которую мне пришлось сыграть во всём этом… расследовании, я никогда не смогу выставить свою кандидатуру на должность заместителя президента!
Маленькие бледно-серые глазки Фреда Одлума тем временем быстро перебегали от одного говорящего к другому. До сих пор он не сказал ещё ни слова — неслыханная сдержанность с его стороны. Теперь он заговорил, и той его был язвителен.
— Эти ваши великодушные самоотречения безусловно весьма благородны, джентльмены, — сказал он, кивнув в сторону Маквейга и вице-президента, — но меня беспокоит не это. Куда больше меня беспокоит ваше намерение заявить об этом избирателям! Не могу сказать, чтобы у меня было желание сообщить населению, что страной управлял сумасшедший — наши избиратели могут заподозрить, что эта болезнь — повальное бедствие среди кандидатов от демократической партии!
— Согласен, — быстро сказал Карпер, несказанно удивив этим даже самого Одлума, — Фред прав. Но меня лично беспокоит не внутренняя политика. Такое признание может причинить непоправимый ущерб нашей внешней политике, особенно если вспомнить, что у нас на носу конференция с советским премьером Зучеком. Я не уверен, джентльмены, но, может быть, генерал Лепперт поможет нам найти правильный выход? Может, нам удастся его убедить, и он выдаст удостоверение, что президент страдает от физического недуга?
— Погодите, джентльмены, — вмешался Галлион, — как мы вообще можем быть уверены, что генерал Лепперт подтвердит болезнь президента, будь то физическая или умственная? Откуда у вас есть уверенность, что, выслушав нас, он не станет утверждать, что президент абсолютно здоров?
Все удивлённо посмотрели на сенатора-негра. Его большие влажные глаза твёрдо выдержали обращённые на него взгляды, и он мягко улыбнулся.
— Да вы в своём уме, Стерлинг?! — взорвался Карпер.
— Кто вообще может сомневаться в таких доказательствах? Вы сами в них сомневаетесь?
— Я-то не сомневаюсь, но ведь я не врач! А вот Лепперту наших доказательств может оказаться мало, он может потребовать от нас медицинских свидетельств, заключения психиатров, прежде чем рискнёт своей репутацией.
— Полагаю, что это вполне возможно, Стерлинг, — сказал Никольсон. Говорил он размеренно и монотонно, словно оглашал решение Сената в палате представителей. — Вы все знаете, что сначала я не поверял в болезнь президента. Теперь я помимо своей воли пришёл к заключению, что с разумом президента, возможно, не всё в порядке. Но кто может знать — насколько? Может быть, помешательство у него временное? Быть может, он уже совершенно оправился, а мы с вами этого не знаем! Кто может порушиться за то, какое мнение выскажет специалист?
— Джентльмены, — сказал Карпер, — это состояние продолжается у президента уже минимум полгода. Фактам приходится смотреть в лицо! Я день и ночь живу в тревоге, меня замучила эта проблема команды об атомной атаке; я не смогу смотреть в глаза своим и вашим детям, пока не добьюсь устранения Холленбаха от секретного кода этой атаки. Безумие позволять этому человеку находиться вблизи от системы управления. Это может окончиться всеобщей гибелью!
Позиция Карпера возбудила спор, который длился более часа. Одлум, Галлион и Никольсон защищали свою точку зрения, доказывая, что шанс подачи такой команды президентом весьма нереален. Карпер, поддерживаемый О’Мэлли, Ка-ваногом, Грискомом и Маквейгом, напротив, доказывал, что над Америкой висит постоянная угроза, особенно теперь, когда красный Китай уже взорвал пять водородных бомб ужасающей силы и продемонстрировал ракетоносители для атомных боеголовок. Галлион потребовал от Карпера, чтобы он рассказал принцип действия секретного кода команды атаки. Карпер наотрез отказался, сославшись на секретные ограничения. Он сказал, что это наиболее тщательно соблюдаемая государственная тайна и что его засадят в тюрьму за её разоблачение.
— Одно я могу сказать, джентльмены, — основное условие кода состоит в том, что только президент может дать окончательную команду к атаке всем атомным арсеналом. Поймите, что при сложившейся ситуации медлить — преступление! Ни о каком компромиссном решении тут не может быть и речи! Марк Холленбах держит руку на кнопке. Если присутствующие здесь не согласны действовать тайно, то мне придётся выступить самому с заявлением перед страной со всеми вытекающими отсюда последствиями!
— Это немыслимо! — вскричал Одлум. — Подумайте, что стало бы тогда с партией!
— Если понадобится, пойду и на это, — твёрдо сказал Карпер. — Это больше чем партия. Речь идёт о судьбе человечества!
— Вам-то легко говорить об этом! Вам ведь не приходится иметь дело с избирателями! — При свете канделябра морщины на лице Одлума, казалось, углубились, и совиные глазки уставились на министра с откровенной злобой.
— Но зато мне, а не вам приходится день и ночь нести на себе бремя ответственности за команду к атомной атаке.
— Давайте говорить начистоту, Сид! Я так понимаю, что вы намерены окончательно скомпрометировать нашу партию?
Карпер гневно вскочил:
— Да, чёрт побери. Именно этого я и добиваюсь. И я считаю неслыханным безобразием, что Луизиана посылает в Вашингтон сенатора, который имеет наглость во имя интересов партии жертвовать судьбой человечества!
Лицо Одлума словно застыло, морщины стали похожи на трещины в скале.
— Вы лучше возьмите свои слова обратно, сэр! — Голос Одлума стал тихим от сдерживаемой ярости.
— Чёрта с два я стану от них отказываться! Меня просто тошнит от вашего подхода к вопросу о жизни и смерти на нашей планете!
— Я мог бы напомнить высоконравственному министру обороны, что если президент Холленбах будет отстранён от должности, то именно мистер Карпер станет одним из ведущих кандидатов на пост президента от демократической партии! Мне бы очень хотелось знать, приходила ли эта простая мысль в голову нашего уважаемого министра?
— Вы что же, обвиняете меня, что я добиваюсь смещения Холленбаха из личных карьеристских целей? — угрожающе надвинулся на него Карпер.
— Потише, мистер Карпер, а то люди ещё начнут сомневаться, кто сумасшедший — президент или вы!
— Убирайтесь к чёрту, Фред! Я уже достаточно наслушался от вас оскорблений!
Гриском вскочил и решительно встал между министром и сенатором; Одлум тоже вскочил, но Гриском упёрся тому и другому руками в грудь.
— Хватит, джентльмены! Мне кажется, вам обоим пора принести извинения!
Низенький сенатор и огромный министр стояли злобно уставясь друг на друга. В комнате сделалось так тихо, что слышно было тяжёлое сопенье Никольсона. Карпер сжал кулаки, а у Одлума был такой вид, словно ему всунули в рот лимон. Молчание нарушил Джо Донован. Он поднялся с кушетки и обнял Одлума за плечи:
— Перестаньте, Фред! Подумайте — ведь в нём семьдесят пять фунтов весу, и он выше вас на четыре дюйма! Подыщите себе противника своей категории!
Одлум слабо улыбнулся.
— Я готов принять извинения министра, — напыщенно произнёс он.
— Приношу извинения, — насмешливо бросил Карпер. — Я погорячился.
— Я тоже погорячился, сэр. Будьте добры, забудьте об этом.
Джо Донован ухмыльнулся и подтолкнул их друг к другу:
— Ну, а теперь пожмите руки.
Они молча повиновались. Джим, зная язвительность Одлума, испугался, что сенатор из Луизианы сейчас скажет, что однажды при тех же обстоятельствах один человек в Белом доме тоже погорячился и замахнулся на Карпера чернильницей, за что последний счёл его сумасшедшим. Случай подворачивался уж слишком очевидный, и маловероятно было, чтобы злой язык Одлума мог его упустить. Но Одлум улыбнулся и, кивнув Карперу, вернулся к своему креслу.
— Ну и жарища у вас здесь, Поль! — сказал Каваног. — Вы не могли бы открыть окно?
— Я лучше включу кондиционную установку. По-моему, открыть окно было бы рискованно.
Гул кондиционной установки, казалось, умерил разгоревшиеся страсти. Напряжённая атмосфера исчезла, и обсуждение продолжалось уже в более спокойных тонах. Никольсон предложил разойтись и продолжить совещание утром. Маквейг считал, что раз степень помешательства президента никому не известна, надо непременно договориться до чего-либо определённого, хотя бы для этого и пришлось просидеть всю ночь. Галлион предложил вызвать на совещание начальника объединённого комитета штабов ввиду его высокого поста, а также тесного знакомства с системой «Кактус». Кава-ног выступил против этого, указав, что вопрос об отстранении от должности президента США — вопрос исключительно гражданский и ни в малейшей степени не касается представителей военного командования. Таким образом, прения продолжались ещё около часа, но никакого определённого плана действий так и не было выработано.
Было уже далеко за полночь, когда громко прозвенел звонок у входной двери. Плотно прикрыв за собою дверь гостиной, Гриском вышел в холл — на ступеньках стоял Марк Холленбах-младший.
— Что случилось, дядя Поль? — Юноша старался говорить шутливо, и только глаза выдавали его тревогу.
— Пойдём наверх, Марк, я всё расскажу тебе… у нас тут целое совещание.
Он провёл Марка на второй этаж, в спальню.
— Письма у тебя с собой, Марк?
Юноша молча кивнул и протянул Грискому два конверта. Адвокат быстро пробежал глазами письма и протянул листы Марку:
— Мне придётся сообщить тебе очень неприятную новость, Марк! Многие из нас пришли к выводу, что твоего отца поразил тяжёлый психический недуг; насколько это серьёзно, мы и сами ещё не знаем. Там внизу собрались лидеры партии. Они пытаются решить, как быть дальше.
— Я так и думал, что случилось что-нибудь в этом роде. — Юноша подошёл к окну и молча уставился в темноту. — Мать уже знает?
— Не думаю. Всё случилось так неожиданно, что у нас просто не было возможности её предупредить.
Гриском коротко рассказал Марку обо всём, что произошло. Юноша, забравшись с ногами на кровать, напряжённо слушал.
— Знаете, дядя Поль, я, в общем, не очень-то и удивлён. Отец ведь очень сложный человек, а тут ещё постоянное напряжение! И эта его идея самосовершенствования! Удивительно, что он не свалился раньше! — Юноша прикусил губу и отвернулся. — Это очень тяжёлый удар, дядя Поль! Я ведь теперь как раз дорос до того возраста, когда мог бы оценить моего старика и… говорить с ним на его уровне, как вы, наверное, сказали бы, и теперь вдруг это.
— Я всё понимаю, Марк. — Гриском положил руку на плечо юноше.
— Теперь ему, наверное, придётся оставить президентство?
— Да, другого выхода я не вижу. Я хотел бы, чтобы ты сразу понял меня правильно, Марк. Дело в том, что он может не согласиться добровольно уйти в отставку. Тогда нам придётся использовать эти письма. Я искренне надеюсь, что до этого дело не дойдёт. и всё же.
— Понимаю, дядя Поль. Возвращайтесь на совещание, а я попробую немного вздремнуть. И не беспокойтесь обо мне. Я поступлю так, как вы мне скажете.
Когда Гриском вернулся в гостиную, он увидел, что там пришли к какому-то соглашению. Грэди Каваног объяснил ему, что все признали самым разумным шагом вызвать генерала Лепперта и расспросить его об умственном и физическом состоянии президента. Вызвать Лепперта на совещание поручили Одлуму, как человеку, который знал Лепперта лучше, чем другие. Одлум взглянул на часы и мрачно заметил, что за тридцать лет он не слышал о враче, который согласился бы поехать с визитом на дом во втором часу ночи.
Однако он вышел в холл, позвонил по телефону и скоро вернулся.
— Едет, — сказал он, бросив саркастический взгляд на Карпера. — Я сказал ему, что речь идёт о жизни и смерти всего человечества.
Бразерса снова пригласили в гостиную, чтобы он вместе со всеми мог выслушать личного врача президента, и пятнадцатью минутами позже туда вошёл бригадный генерал Леп-перт. Это был сдержанный, худощавый человек с редкими светлыми усиками и ресницами, который всегда начинал быстро моргать, как только к нему обращались. Одлум представил его собравшимся, и затем судья Каваног попросил слова.
— Генерал Лепперт, мы пригласили вас сюда, чтобы вы помогли нам разобраться в одном чрезвычайно прискорбном, но как мы все считаем, совершенно неотложном деле. Грубо говоря, у всех присутствующих в этой комнате имеются основания сомневаться в психической нормальности президента. Мы хотим спросить вас, доктор, имеются ли у вас основания для этого?
Лепперт уставился на Каванога, растерянно заморгал и обвёл глазами всех собравшихся:
— Это самый удивительный вопрос, какой мне приходилось слышать за всю мою практику!
— Я в этом не сомневаюсь, доктор! Каков же будет ваш ответ?
— Конечно, нет! — Лепперт нервно затеребил свои редкие усы.
Маквейг понял, что доктор не лжёт.
— Сомневаться в нормальности президента у меня нет абсолютно никаких оснований!
— Что вы можете нам сообщить о теперешнем состоянии президента? Я имею в виду как его умственное, так и физическое состояние.
— Иногда он обращался ко мне с жалобами на боли в сердце. Я считаю, что пренебрегать этим не стоит, но серьёзных опасений мне его здоровье не внушало!
— Ну, а помимо этих временных болей в сердце, он ни на что вам не жаловался?
— Он вообще почти не болеет. — Лепперт замялся. — Хотя мне, как его личному врачу, конечно, не нравится чрезмерное напряжение, с которым он работает. Я считаю, что при такой работе он слишком мало спит. Мне даже известно, что, когда я сейчас выходил из дому, он ещё не ложился.
— Но разве не могут такие привычки привести к психическому срыву?
— Могут, конечно, но только у президента Холленбаха мне не приходилось наблюдать признаков переутомления. Ведь на таком напряжении он работает уже не первый год. Уверен, что за сутки он не спит и шести часов.
— Но ведь немногие способны вынести такой режим! — вставил Никольсон.
— Совершенно верно. Химия у всех людей разная. Марк Холленбах, по-видимому, принадлежит к числу немногих счастливцев, которым на отдых требуется меньше времени, чем остальным.
— Значит, он ничем больше не болеет? — не отставал Каваног.
— Нет. Он даже и простужается-то редко.
Джим поглядел на Карпера. Министр хмуро смотрел на врача, и Джиму казалось, что он уловил в его взгляде враждебность.
— Скажите, генерал, — продолжал между тем Каваног,
— поверили бы вы доказательствам, собранным присутствующими здесь людьми?
— Я знаю, что все вы люди безукоризненно порядочные, — осторожно ответил Лепперт. — Я, безусловно, поверял бы, что вы честно рассказываете о своих впечатлениях, но это совершенно не значит, что я пришёл бы к тем же выводам, что и вы.
— Понимаю, доктор. А теперь выслушайте нашу историю. Если я что-нибудь пропущу, пусть мои друзья тут же меня поправят.
На рассказ ушло не менее получаса. Закончив его, Каваног вновь обратился к Лепперту:
— А теперь скажите, генерал, в свете всего того, что я вам рассказал, могли бы вы расценить психику президента как нормальную?
— Когда вы мне дадите точное определение слова «нормальный», я отвечу на ваш вопрос.
— Полно, доктор, — вмешался Гриском, — не будем вдаваться в семантику! Слово «нормальный» имеет общепринятое значение!
— Только не для медика. В медицине точного определения «нормальный» не существует.
— Слушайте, доктор! Мне кажется, вы недостаточно хорошо поняли Грэди Каванога, когда он рассказывал вам о предложении президента — сделанном, кстати, со всей серьёзностью — ввести общенациональный закон о подключении всех телефонов. Так, чтобы ФБР могло подслушивать все частные разговоры и впоследствии обрабатывать их счётновычислительными машинами и запоминающими устройствами. Мне совершенно ясно, что этот его замысел тесно переплетается с навязчивой идеей разделаться с воображаемыми заговорщиками. Неужели вас как профессионала, высоко ставящего врачебную этику, не тревожит такая идея?
— Безусловно. Я считаю, что принять такой закон было бы опасно и глупо, но это вовсе не означает, что человек, предлагающий его, — безумен!
— А что вы скажете о письмах президента к его сыну? — Гриском внимательно посмотрел на доктора поверх пенсне. — Президент пишет: «Очевидно, существует целый заговор, который ставит себе целью запятнать моё имя или даже уничтожить меня физически». Он заклинает сына не доставлять ему хлопот в то время, когда ему приходится бороться с этим пресловутым заговором. Как вам известно, доктор, я сам являюсь близким другом президента Холленбаха и его семьи! И я спрашиваю вас, неужели вы всё ещё сомневаетесь, что эти письма продиктованы больным рассудком?
Доктор задумался:
— Больным — возможно. Но окончательно повреждённым? Я воздержался бы от такого вывода.
— Позвольте мне сформулировать вопрос поточнее, доктор! — сказал Каваног. — Допуская, что всё услышанное вами здесь соответствует фактам, считаете ли вы, что президент болен одной из форм паранойи?
— Я не психиатр, джентльмены! И пока президент не будет обследован лучшими специалистами Америки, я воздержусь от диагноза.
— Доктор! — Карпер поднялся с кресла и, подавшись всем телом к Лепперту, устремил да него властный взгляд. Обращение его прозвучало как команда.
— Да, сэр!
— Забудьте на минуту вашу профессиональную этику, Лепперт. Будучи гражданином Соединённых Штатов, можете вы утверждать, что президент Холленбах находится в достаточно здравом уме, чтобы иметь право на отдачу окончательной команды о запуске водородной бомбы, которая буквально за несколько минут может уничтожить десятки миллионов людей?
— НЕТ! — прозвучал голос в дверях гостиной. Голос был ясный и чистый и прозвучал с такой уверенностью, что все замерли как вкопанные.
В дверях стоял президент Соединённых Штатов.
Всё оцепенело уставились на президента. Воцарилось странное, гнетущее молчание. Президент стоял в дверях, по-офицерски расправив плечи, глаза его повелительно сверкали, короткий ёжик волос агрессивно ощетинился. Наконец он с видимым усилием поборол напряжение и вошёл в гостиную лёгкой, почти фланирующей походкой. По лицу его блуждала загадочная улыбка, но оно было спокойным и странно безмятежным. На президенте был спортивный костюм из мягкого твида, руки он небрежно держал в карманах брюк, словно вышел прогуляться перед сном.
— Что-то уж слишком много крутых мер сразу, — заметил Никольсон. Такой энергичный натиск был ему явно не по душе.
О’Мэлли, вытащив сигару из целлофановой обёртки, стал медленно её раскуривать. Он уже почти оправился от первоначального потрясения и только грустно обвисшие щёки свидетельствовали о его невесёлых мыслях.
— Перед тем как приступить к подробному обсуждению, позвольте и мне сказать своё слово, джентльмены, — начал он. — Я уже успел обдумать всё, пока ездил домой и обратно. Никто из присутствующих, я думаю, не питает сомнений на тот счёт, что я не могу быть полноценной заменой Марка Холленбаха. Я хочу сказать, того Марка Холленбаха, которого мы все знали до его трагической болезни. Да, я могу неплохо справиться с работой, джентльмены, но вы все знаете, что доверие народа ко мне ничтожно. Более того, я считаю, что если избиратели узнают о моей кандидатуре, это может оказаться гибельным для нашей партии! Я хочу, чтобы все с предельной ясностью поняли: если обстоятельства и вынудят меня занять сейчас место президента в Белом доме, то я ни в коем случае не выставлю своей кандидатуры на предстоящих выборах! Именно это я и собираюсь объявить избирателям в своём выступлении по телевидению. При моей репутации после этой злосчастной истории со спортивной ареной любое другое заявление оказалось бы гибельным для нашей партии. Вот я и ставлю вас об этом заранее в известность.
— Спасибо, Пат! Этого достаточно. Мы понимаем вас, — сказал Карпер.
Тут впервые заговорил Маквейг:
— На всякий случай хочу заявить, что то же самое касается и моей кандидатуры! После той роли, которую мне пришлось сыграть во всём этом… расследовании, я никогда не смогу выставить свою кандидатуру на должность заместителя президента!
Маленькие бледно-серые глазки Фреда Одлума тем временем быстро перебегали от одного говорящего к другому. До сих пор он не сказал ещё ни слова — неслыханная сдержанность с его стороны. Теперь он заговорил, и той его был язвителен.
— Эти ваши великодушные самоотречения безусловно весьма благородны, джентльмены, — сказал он, кивнув в сторону Маквейга и вице-президента, — но меня беспокоит не это. Куда больше меня беспокоит ваше намерение заявить об этом избирателям! Не могу сказать, чтобы у меня было желание сообщить населению, что страной управлял сумасшедший — наши избиратели могут заподозрить, что эта болезнь — повальное бедствие среди кандидатов от демократической партии!
— Согласен, — быстро сказал Карпер, несказанно удивив этим даже самого Одлума, — Фред прав. Но меня лично беспокоит не внутренняя политика. Такое признание может причинить непоправимый ущерб нашей внешней политике, особенно если вспомнить, что у нас на носу конференция с советским премьером Зучеком. Я не уверен, джентльмены, но, может быть, генерал Лепперт поможет нам найти правильный выход? Может, нам удастся его убедить, и он выдаст удостоверение, что президент страдает от физического недуга?
— Погодите, джентльмены, — вмешался Галлион, — как мы вообще можем быть уверены, что генерал Лепперт подтвердит болезнь президента, будь то физическая или умственная? Откуда у вас есть уверенность, что, выслушав нас, он не станет утверждать, что президент абсолютно здоров?
Все удивлённо посмотрели на сенатора-негра. Его большие влажные глаза твёрдо выдержали обращённые на него взгляды, и он мягко улыбнулся.
— Да вы в своём уме, Стерлинг?! — взорвался Карпер.
— Кто вообще может сомневаться в таких доказательствах? Вы сами в них сомневаетесь?
— Я-то не сомневаюсь, но ведь я не врач! А вот Лепперту наших доказательств может оказаться мало, он может потребовать от нас медицинских свидетельств, заключения психиатров, прежде чем рискнёт своей репутацией.
— Полагаю, что это вполне возможно, Стерлинг, — сказал Никольсон. Говорил он размеренно и монотонно, словно оглашал решение Сената в палате представителей. — Вы все знаете, что сначала я не поверял в болезнь президента. Теперь я помимо своей воли пришёл к заключению, что с разумом президента, возможно, не всё в порядке. Но кто может знать — насколько? Может быть, помешательство у него временное? Быть может, он уже совершенно оправился, а мы с вами этого не знаем! Кто может порушиться за то, какое мнение выскажет специалист?
— Джентльмены, — сказал Карпер, — это состояние продолжается у президента уже минимум полгода. Фактам приходится смотреть в лицо! Я день и ночь живу в тревоге, меня замучила эта проблема команды об атомной атаке; я не смогу смотреть в глаза своим и вашим детям, пока не добьюсь устранения Холленбаха от секретного кода этой атаки. Безумие позволять этому человеку находиться вблизи от системы управления. Это может окончиться всеобщей гибелью!
Позиция Карпера возбудила спор, который длился более часа. Одлум, Галлион и Никольсон защищали свою точку зрения, доказывая, что шанс подачи такой команды президентом весьма нереален. Карпер, поддерживаемый О’Мэлли, Ка-ваногом, Грискомом и Маквейгом, напротив, доказывал, что над Америкой висит постоянная угроза, особенно теперь, когда красный Китай уже взорвал пять водородных бомб ужасающей силы и продемонстрировал ракетоносители для атомных боеголовок. Галлион потребовал от Карпера, чтобы он рассказал принцип действия секретного кода команды атаки. Карпер наотрез отказался, сославшись на секретные ограничения. Он сказал, что это наиболее тщательно соблюдаемая государственная тайна и что его засадят в тюрьму за её разоблачение.
— Одно я могу сказать, джентльмены, — основное условие кода состоит в том, что только президент может дать окончательную команду к атаке всем атомным арсеналом. Поймите, что при сложившейся ситуации медлить — преступление! Ни о каком компромиссном решении тут не может быть и речи! Марк Холленбах держит руку на кнопке. Если присутствующие здесь не согласны действовать тайно, то мне придётся выступить самому с заявлением перед страной со всеми вытекающими отсюда последствиями!
— Это немыслимо! — вскричал Одлум. — Подумайте, что стало бы тогда с партией!
— Если понадобится, пойду и на это, — твёрдо сказал Карпер. — Это больше чем партия. Речь идёт о судьбе человечества!
— Вам-то легко говорить об этом! Вам ведь не приходится иметь дело с избирателями! — При свете канделябра морщины на лице Одлума, казалось, углубились, и совиные глазки уставились на министра с откровенной злобой.
— Но зато мне, а не вам приходится день и ночь нести на себе бремя ответственности за команду к атомной атаке.
— Давайте говорить начистоту, Сид! Я так понимаю, что вы намерены окончательно скомпрометировать нашу партию?
Карпер гневно вскочил:
— Да, чёрт побери. Именно этого я и добиваюсь. И я считаю неслыханным безобразием, что Луизиана посылает в Вашингтон сенатора, который имеет наглость во имя интересов партии жертвовать судьбой человечества!
Лицо Одлума словно застыло, морщины стали похожи на трещины в скале.
— Вы лучше возьмите свои слова обратно, сэр! — Голос Одлума стал тихим от сдерживаемой ярости.
— Чёрта с два я стану от них отказываться! Меня просто тошнит от вашего подхода к вопросу о жизни и смерти на нашей планете!
— Я мог бы напомнить высоконравственному министру обороны, что если президент Холленбах будет отстранён от должности, то именно мистер Карпер станет одним из ведущих кандидатов на пост президента от демократической партии! Мне бы очень хотелось знать, приходила ли эта простая мысль в голову нашего уважаемого министра?
— Вы что же, обвиняете меня, что я добиваюсь смещения Холленбаха из личных карьеристских целей? — угрожающе надвинулся на него Карпер.
— Потише, мистер Карпер, а то люди ещё начнут сомневаться, кто сумасшедший — президент или вы!
— Убирайтесь к чёрту, Фред! Я уже достаточно наслушался от вас оскорблений!
Гриском вскочил и решительно встал между министром и сенатором; Одлум тоже вскочил, но Гриском упёрся тому и другому руками в грудь.
— Хватит, джентльмены! Мне кажется, вам обоим пора принести извинения!
Низенький сенатор и огромный министр стояли злобно уставясь друг на друга. В комнате сделалось так тихо, что слышно было тяжёлое сопенье Никольсона. Карпер сжал кулаки, а у Одлума был такой вид, словно ему всунули в рот лимон. Молчание нарушил Джо Донован. Он поднялся с кушетки и обнял Одлума за плечи:
— Перестаньте, Фред! Подумайте — ведь в нём семьдесят пять фунтов весу, и он выше вас на четыре дюйма! Подыщите себе противника своей категории!
Одлум слабо улыбнулся.
— Я готов принять извинения министра, — напыщенно произнёс он.
— Приношу извинения, — насмешливо бросил Карпер. — Я погорячился.
— Я тоже погорячился, сэр. Будьте добры, забудьте об этом.
Джо Донован ухмыльнулся и подтолкнул их друг к другу:
— Ну, а теперь пожмите руки.
Они молча повиновались. Джим, зная язвительность Одлума, испугался, что сенатор из Луизианы сейчас скажет, что однажды при тех же обстоятельствах один человек в Белом доме тоже погорячился и замахнулся на Карпера чернильницей, за что последний счёл его сумасшедшим. Случай подворачивался уж слишком очевидный, и маловероятно было, чтобы злой язык Одлума мог его упустить. Но Одлум улыбнулся и, кивнув Карперу, вернулся к своему креслу.
— Ну и жарища у вас здесь, Поль! — сказал Каваног. — Вы не могли бы открыть окно?
— Я лучше включу кондиционную установку. По-моему, открыть окно было бы рискованно.
Гул кондиционной установки, казалось, умерил разгоревшиеся страсти. Напряжённая атмосфера исчезла, и обсуждение продолжалось уже в более спокойных тонах. Никольсон предложил разойтись и продолжить совещание утром. Маквейг считал, что раз степень помешательства президента никому не известна, надо непременно договориться до чего-либо определённого, хотя бы для этого и пришлось просидеть всю ночь. Галлион предложил вызвать на совещание начальника объединённого комитета штабов ввиду его высокого поста, а также тесного знакомства с системой «Кактус». Кава-ног выступил против этого, указав, что вопрос об отстранении от должности президента США — вопрос исключительно гражданский и ни в малейшей степени не касается представителей военного командования. Таким образом, прения продолжались ещё около часа, но никакого определённого плана действий так и не было выработано.
Было уже далеко за полночь, когда громко прозвенел звонок у входной двери. Плотно прикрыв за собою дверь гостиной, Гриском вышел в холл — на ступеньках стоял Марк Холленбах-младший.
— Что случилось, дядя Поль? — Юноша старался говорить шутливо, и только глаза выдавали его тревогу.
— Пойдём наверх, Марк, я всё расскажу тебе… у нас тут целое совещание.
Он провёл Марка на второй этаж, в спальню.
— Письма у тебя с собой, Марк?
Юноша молча кивнул и протянул Грискому два конверта. Адвокат быстро пробежал глазами письма и протянул листы Марку:
— Мне придётся сообщить тебе очень неприятную новость, Марк! Многие из нас пришли к выводу, что твоего отца поразил тяжёлый психический недуг; насколько это серьёзно, мы и сами ещё не знаем. Там внизу собрались лидеры партии. Они пытаются решить, как быть дальше.
— Я так и думал, что случилось что-нибудь в этом роде. — Юноша подошёл к окну и молча уставился в темноту. — Мать уже знает?
— Не думаю. Всё случилось так неожиданно, что у нас просто не было возможности её предупредить.
Гриском коротко рассказал Марку обо всём, что произошло. Юноша, забравшись с ногами на кровать, напряжённо слушал.
— Знаете, дядя Поль, я, в общем, не очень-то и удивлён. Отец ведь очень сложный человек, а тут ещё постоянное напряжение! И эта его идея самосовершенствования! Удивительно, что он не свалился раньше! — Юноша прикусил губу и отвернулся. — Это очень тяжёлый удар, дядя Поль! Я ведь теперь как раз дорос до того возраста, когда мог бы оценить моего старика и… говорить с ним на его уровне, как вы, наверное, сказали бы, и теперь вдруг это.
— Я всё понимаю, Марк. — Гриском положил руку на плечо юноше.
— Теперь ему, наверное, придётся оставить президентство?
— Да, другого выхода я не вижу. Я хотел бы, чтобы ты сразу понял меня правильно, Марк. Дело в том, что он может не согласиться добровольно уйти в отставку. Тогда нам придётся использовать эти письма. Я искренне надеюсь, что до этого дело не дойдёт. и всё же.
— Понимаю, дядя Поль. Возвращайтесь на совещание, а я попробую немного вздремнуть. И не беспокойтесь обо мне. Я поступлю так, как вы мне скажете.
Когда Гриском вернулся в гостиную, он увидел, что там пришли к какому-то соглашению. Грэди Каваног объяснил ему, что все признали самым разумным шагом вызвать генерала Лепперта и расспросить его об умственном и физическом состоянии президента. Вызвать Лепперта на совещание поручили Одлуму, как человеку, который знал Лепперта лучше, чем другие. Одлум взглянул на часы и мрачно заметил, что за тридцать лет он не слышал о враче, который согласился бы поехать с визитом на дом во втором часу ночи.
Однако он вышел в холл, позвонил по телефону и скоро вернулся.
— Едет, — сказал он, бросив саркастический взгляд на Карпера. — Я сказал ему, что речь идёт о жизни и смерти всего человечества.
Бразерса снова пригласили в гостиную, чтобы он вместе со всеми мог выслушать личного врача президента, и пятнадцатью минутами позже туда вошёл бригадный генерал Леп-перт. Это был сдержанный, худощавый человек с редкими светлыми усиками и ресницами, который всегда начинал быстро моргать, как только к нему обращались. Одлум представил его собравшимся, и затем судья Каваног попросил слова.
— Генерал Лепперт, мы пригласили вас сюда, чтобы вы помогли нам разобраться в одном чрезвычайно прискорбном, но как мы все считаем, совершенно неотложном деле. Грубо говоря, у всех присутствующих в этой комнате имеются основания сомневаться в психической нормальности президента. Мы хотим спросить вас, доктор, имеются ли у вас основания для этого?
Лепперт уставился на Каванога, растерянно заморгал и обвёл глазами всех собравшихся:
— Это самый удивительный вопрос, какой мне приходилось слышать за всю мою практику!
— Я в этом не сомневаюсь, доктор! Каков же будет ваш ответ?
— Конечно, нет! — Лепперт нервно затеребил свои редкие усы.
Маквейг понял, что доктор не лжёт.
— Сомневаться в нормальности президента у меня нет абсолютно никаких оснований!
— Что вы можете нам сообщить о теперешнем состоянии президента? Я имею в виду как его умственное, так и физическое состояние.
— Иногда он обращался ко мне с жалобами на боли в сердце. Я считаю, что пренебрегать этим не стоит, но серьёзных опасений мне его здоровье не внушало!
— Ну, а помимо этих временных болей в сердце, он ни на что вам не жаловался?
— Он вообще почти не болеет. — Лепперт замялся. — Хотя мне, как его личному врачу, конечно, не нравится чрезмерное напряжение, с которым он работает. Я считаю, что при такой работе он слишком мало спит. Мне даже известно, что, когда я сейчас выходил из дому, он ещё не ложился.
— Но разве не могут такие привычки привести к психическому срыву?
— Могут, конечно, но только у президента Холленбаха мне не приходилось наблюдать признаков переутомления. Ведь на таком напряжении он работает уже не первый год. Уверен, что за сутки он не спит и шести часов.
— Но ведь немногие способны вынести такой режим! — вставил Никольсон.
— Совершенно верно. Химия у всех людей разная. Марк Холленбах, по-видимому, принадлежит к числу немногих счастливцев, которым на отдых требуется меньше времени, чем остальным.
— Значит, он ничем больше не болеет? — не отставал Каваног.
— Нет. Он даже и простужается-то редко.
Джим поглядел на Карпера. Министр хмуро смотрел на врача, и Джиму казалось, что он уловил в его взгляде враждебность.
— Скажите, генерал, — продолжал между тем Каваног,
— поверили бы вы доказательствам, собранным присутствующими здесь людьми?
— Я знаю, что все вы люди безукоризненно порядочные, — осторожно ответил Лепперт. — Я, безусловно, поверял бы, что вы честно рассказываете о своих впечатлениях, но это совершенно не значит, что я пришёл бы к тем же выводам, что и вы.
— Понимаю, доктор. А теперь выслушайте нашу историю. Если я что-нибудь пропущу, пусть мои друзья тут же меня поправят.
На рассказ ушло не менее получаса. Закончив его, Каваног вновь обратился к Лепперту:
— А теперь скажите, генерал, в свете всего того, что я вам рассказал, могли бы вы расценить психику президента как нормальную?
— Когда вы мне дадите точное определение слова «нормальный», я отвечу на ваш вопрос.
— Полно, доктор, — вмешался Гриском, — не будем вдаваться в семантику! Слово «нормальный» имеет общепринятое значение!
— Только не для медика. В медицине точного определения «нормальный» не существует.
— Слушайте, доктор! Мне кажется, вы недостаточно хорошо поняли Грэди Каванога, когда он рассказывал вам о предложении президента — сделанном, кстати, со всей серьёзностью — ввести общенациональный закон о подключении всех телефонов. Так, чтобы ФБР могло подслушивать все частные разговоры и впоследствии обрабатывать их счётновычислительными машинами и запоминающими устройствами. Мне совершенно ясно, что этот его замысел тесно переплетается с навязчивой идеей разделаться с воображаемыми заговорщиками. Неужели вас как профессионала, высоко ставящего врачебную этику, не тревожит такая идея?
— Безусловно. Я считаю, что принять такой закон было бы опасно и глупо, но это вовсе не означает, что человек, предлагающий его, — безумен!
— А что вы скажете о письмах президента к его сыну? — Гриском внимательно посмотрел на доктора поверх пенсне. — Президент пишет: «Очевидно, существует целый заговор, который ставит себе целью запятнать моё имя или даже уничтожить меня физически». Он заклинает сына не доставлять ему хлопот в то время, когда ему приходится бороться с этим пресловутым заговором. Как вам известно, доктор, я сам являюсь близким другом президента Холленбаха и его семьи! И я спрашиваю вас, неужели вы всё ещё сомневаетесь, что эти письма продиктованы больным рассудком?
Доктор задумался:
— Больным — возможно. Но окончательно повреждённым? Я воздержался бы от такого вывода.
— Позвольте мне сформулировать вопрос поточнее, доктор! — сказал Каваног. — Допуская, что всё услышанное вами здесь соответствует фактам, считаете ли вы, что президент болен одной из форм паранойи?
— Я не психиатр, джентльмены! И пока президент не будет обследован лучшими специалистами Америки, я воздержусь от диагноза.
— Доктор! — Карпер поднялся с кресла и, подавшись всем телом к Лепперту, устремил да него властный взгляд. Обращение его прозвучало как команда.
— Да, сэр!
— Забудьте на минуту вашу профессиональную этику, Лепперт. Будучи гражданином Соединённых Штатов, можете вы утверждать, что президент Холленбах находится в достаточно здравом уме, чтобы иметь право на отдачу окончательной команды о запуске водородной бомбы, которая буквально за несколько минут может уничтожить десятки миллионов людей?
— НЕТ! — прозвучал голос в дверях гостиной. Голос был ясный и чистый и прозвучал с такой уверенностью, что все замерли как вкопанные.
В дверях стоял президент Соединённых Штатов.
Всё оцепенело уставились на президента. Воцарилось странное, гнетущее молчание. Президент стоял в дверях, по-офицерски расправив плечи, глаза его повелительно сверкали, короткий ёжик волос агрессивно ощетинился. Наконец он с видимым усилием поборол напряжение и вошёл в гостиную лёгкой, почти фланирующей походкой. По лицу его блуждала загадочная улыбка, но оно было спокойным и странно безмятежным. На президенте был спортивный костюм из мягкого твида, руки он небрежно держал в карманах брюк, словно вышел прогуляться перед сном.
ГЛАВА 18. КОМАНДА И КОНТРОЛЬ
Все взгляды были прикованы к президенту. От громкого стука часов на каминной полке молчание казалось нестерпимым. Стрелки показывали без двадцати пяти минут три. Президент слегка поклонился Карперу: — Простите, что я подслушивал, Сид. Потом повернулся к Каваногу: — И вы простите меня, судья. Я стоял у дверей уже, наверное, минут пять… В дверях позади президента виднелась чья-то фигура. — Подождите меня в холле, Лютер, — бросил президент через плечо. — Тут собрались все мои друзья. Кроме того, я вижу здесь вашего шефа, Бразерса, следовательно, безопасность мне обеспечена. Президент стоял в центре гостиной, окружённый людьми, которые смотрели на него как зачарованные, словно перед ними появился гость с другой планеты. Президент говорил с апломбом, столь знакомым всем американцам, видевшим его по телевидению и во время предвыборной кампании. Джим Маквейг остолбенело глядел на президента, он чувствовал, что от этого человека исходит необъяснимая сила. Перед ними стоял вождь. И этот вождь заговорил спокойным, твёрдым тоном: — Итак, вы хотели знать, достаточно ли нормален президент, чтобы принять решение, которое может уничтожить всё человечество? Он замолчал и стал внимательно всматриваться в застывшие перед ним лица. — Нет, я уже сказал и ещё раз повторяю — нет, недостаточно нормален! Он стоял перед ними, улыбаясь, не вынимая рук из карманов, как будто снова находился в студенческом городке со своими друзьями. — Да, ненормален, — продолжал он, как будто речь шла о чём-то простом и обыденном. — И это особенно важно, джентльмены, если представить себе, что в определённых условиях он обязан принять роковое решение за две-три минуты. А кто, вообще, обладает таким здравомыслием — или, лучше сказать, всеведением? Может быть, Сидней Карпер? Или мистер Каваног? Президент задумчиво обвёл всех взглядом, всё так же загадочно улыбаясь: — Скажите мне, кто из присутствующих в этой комнате обладает такой способностью? Только прошу каждого говорить за себя, джентльмены! Вопрос этот настолько серьёзен, что я бы не осмелился говорить за другого! Все сидели и заворожённо слушали, как президент предлагает им эти риторические вопросы. Вопросы эти, казалось, растворялись в мягком и ровном гуле кондиционной установки. Джим опять почувствовал, как комнату обволакивает словно зловещая мгла атмосфера властности этого человека. — Вы спросите меня, как я попал на ваше маленькое собрание? — усмехнулся президент. — Очень просто. Я как всегда не спал, звонил по телефону. Я только что узнал, что Служба устроила слежку за Маквейгом, и позвонил Бразерсу, чтобы потребовать её прекращения. Мне всё это показалось страшно глупым. Оказалось, что наш шеф находится у Поля Грискома. Тогда я позвонил Джиму, чтобы извиниться перед ним за причинённую неприятность, но его не оказалось дома и, как я выяснил окольным путём, он тоже находится у Поля. В этот вечер я как раз работал над сложной проблемой ассигнований слаборазвитым странам. Мне понадобилась справка, и я позвонил домой к Фреду Одлуму. Представьте моё удивление, когда мне ответили, что он тоже у Грискома! И, наконец, когда мне понадобилось снотворное, и я хотел попросить его у нашего дорогого доктора, я обнаружил, что генерал Лепперт тоже находится в известном доме на Оу-стрит. Что ж, сказал я тогда себе, у Поля, наверное, вечеринка, там все мои старые друзья! Почему бы и мне не заглянуть к нему? Президент продолжал непринуждённо болтать в том же духе, словно сплетничая с друзьями в жаркий полдень. — Из того, что я сегодня здесь услышал, а также из некоторых подхваченных то там, то здесь намёков, я понимаю, что вас всех тревожит состояние моего разума? Карпер незаметно бросил на Маквейга взгляд из-под густых бровей. Все остальные сидели неподвижно, не спуская с президента глаз. — Как я понимаю, все присутствующие здесь либо слышали лично, как я выходил из себя по тому или иному поводу, либо знают об этом с чужих слов. И вот вы решили сравнить свои наблюдения, не так ли? Решили, что президент одержим манией преследования, а может, и манией величия. Могу я, кстати, сесть, джентльмены? Гриском поспешил в угол гостиной и быстро принёс старинное ярко раскрашенное деревянное кресло. Холленбах повернул его таким образом, что оказался в центре кружка, комфортабельно устроился в кресле и вытянул ноги. Потом положил кисти рук на колени и стал сгибать и разгибать пальцы.
— Вы, конечно, уже успели обсудить и эти мои упражнения, а заодно и мои призывы к самосовершенствованию! И, конечно, подумали: «Что же удивительного в том, что он так взрывается? Ведь он натянут, как кожа на барабане! И зачем он гасит по ночам свет, и работает и разговаривает по телефону, вместо того чтобы спать?» Да, я уверен, что вы успели перебрать все мои маленькие странности.
Все по-прежнему молчали и ловили каждое слово президента, притихшие и заворожённые. Наверное, так слушали Христа, произносившего нагорную проповедь. Тон президента стал более серьёзным:
— Вы говорите, мания величия, джентльмены? Может быть, вы и правы. Меня действительно порою одолевают величественные мечты! Напримср, мечты о союзе с Канадой. Джим, наверное, рассказал вам об этом. Что ж, если вы думаете, что союз с Канадой всего лишь заблуждение больного ума — будь по-вашему! Но, откровенно говоря, я считаю, что такому союзу не мешало бы состояться ещё век тому назад. У Америки и Канады есть все данные, чтобы соединиться ко взаимной выгоде, и препятствуют этому только неистовый национализм, нелепые обычаи и устаревшие формы мышления!
Человек, который стоял перед ними, был прежний Холленбах, блестящий, неотразимо убедительный. Маквейгу показалось, что по комнате словно прошла волна сочувствия, словно все преисполнились желания помочь президенту.
Он выдержал паузу и устремил взгляд в потолок:
— Да, но зато моя идея союза со скандинавскими странами? Её вы наверняка приняли за дикую фантазию поражённого болезнью разума! Она так далека от реальности и здравого смысла, так ведь, Джим? Вы, наверное, уже всё рассказали им о моём плане?
Джим молча кивнул, чувствуя себя вопреки всякой логике так, словно предал великую идею, как будто он нарушил слово и выдал друга.
— Но разве Скандинавия — это не начало всему? — Глаза Холленбаха засверкали. — Я твёрдо верю, что только общий парламент всех свободных стран является гарантией продолжительного мира на земле. Но ведь с чего-то надо же начинать! Британия, Германия и Франция — они слишком горды, чтобы образовать общее с нами правительство, но подумайте, если бы мы только могли начать где-нибудь в другом месте — а скандинавы самый подходящий для этого народ, — то разве другие страны не присоединились бы к нам позднее? Я убеждён, что в этом есть здравый смысл, джентльмены!
Но ведь он же совсем не так начертал перед ним свой план тогда, в Аспене, думал Джим. Холленбах тогда совсем вычеркнул из «Великого плана» Европу, упомянул даже о военной силе, которую, возможно, придётся применить для того, чтобы заставить европейские нации войти в этот союз! Почему же он не упоминает о своём желании возглавить этот союз и сделаться чуть ли не мессией? И он опять увидел, как шагает по затемнённому Аспену президент, преследуемый навязчивой идеей мирового господства. Как отличался тот одержимый фанатик от спокойного и, очевидно, прекрасно владеющего собой человека, рассуждающего перед ними здесь, в Джорджтауне! Ему снова почудился свихнувшийся капрал, жестикулирующий в перевязочной палатке, и он инстинктивно понял, что этот образ гораздо ближе к подлинному Холленбаху, чем облик самоуверенного здравомыслящего человека, которого тот играл сейчас так блестяще. Его охватило неясное чувство, что Холленбах старается выбраться из тупика, в который его загнали. И как старается! Джим сидел и, зачарованный, ловил каждое слово президента, как змея, ожидающая звука флейты заклинателя.
— Вы, конечно, уже обсудили мой пресловутый «комплекс преследования»! Да, Сидней, вы действительно слышали, как я вышел из себя из-за Картера Урея и его единоличной власти над Центральным разведывательным управлением, его нежелания отчитываться передо мной в своих действиях и попытки проводить внешнюю политику на свой собственный страх и риск. Но ведь вы же не знаете, сколько раз этот человек отказывался подчиняться моим инструкциям! Характер у меня крутой, я признаю это! Иногда я говорю людям вещи, за которые потом прошу извинения!
Пока длился этот монолог, Карпер сидел неподвижно, сохраняя на бронзовом лице застывшее, безучастное выражение. Однако при последних словах Холленбаха он подался вперёд:
— Всё шло не совсем так, мистер президент! Разве вы забыли, как угрожали мне чернильницей?
— Полно, Сид, разве вам не известна моя привычка делать упражнения? Вы же знаете, я делаю их повсюду. — Президент говорил с ласковым укором, словно выговаривая нашалившему ребёнку. — Я занимаюсь ими в минуты отдыха, а иногда — в минуты напряжения. Я сдавил чернильницу пальцами, и это помогло мне взять себя в руки, понимаете? Неужели вам никогда не приходилось выходить из себя, Сид?
Карпер молча кивнул и беспомощно посмотрел на Маквейга, словно хотел сказать, что в устах президента даже всё ненормальное звучит нормально и обыденно. Да, всё было совсем не так, думал Джим. Он уже понял, что последней фразой президент, сам того не зная, выиграл очко в свою пользу. Яростный наскок министра обороны на Фреда Одлу-ма был ещё свеж в памяти всех присутствующих.
Никольсон шевельнулся в кресле и обратился к Холленбаху:
— Я думаю, вам не стоит продолжать, сэр! Вопреки своей воле я дал себя убедить в вашем… в вашей болезни, сэр. Я совершенно не согласен с вашей идеей союза свободных наций и считаю её в корне неправильной, сэр. Но это к делу не относится. Всё во мне протестует против моего теперешнего присутствия в этой комнате! Мы все бываем временами, э… взволнованы, а вы такой же человек, как и все. И сейчас я считаю, нора проявить побольше понимания и терпимости и пора разойтись по домам, джентльмены.
Президент признательно улыбнулся Никольсону и покачал головой:
— Спасибо вам, Ник, но расходиться ещё рано. Я знаю, что против меня были выдвинуты и другие обвинения. Лучше покончить с ними сегодня же.
Вот, например, сенатор Маквейг слышал, как я обвинял вице-президента в попытке дискредитировать лично меня. Я, безусловно, погорячился. Вы действительно тогда подвели свою страну и свою партию, Пат, но я, конечно, заблуждался, когда обвинял вас в том, что вы действовали с намерением причинить мне вред. Я сознаю это, я глубоко сожалею о своих словах.
Президенту удалось перейти на свой самый убедительный и задушевный тон, который столько раз помогал ему за время его политической карьеры.
— Пост президента неузнаваемо меняет человека, джентльмены! Ведь он — номер один! Он стоит у пульта управления, и никто не смеет ему прекословить! Четыре года он правит, как монарх. И разве не естественно, что президент начинает думать о себе, как о стране в целом? Всё, что наносит вред Америке, он воспринимает как личное оскорбление! Любое благотворное начинание ставит себе в заслугу! И вы сами только способствуете этому своим преклонением перед президентом! Разве вы настаиваете на своей точке зрения, когда президент не принимает её? Вы все помогаете укреплению неограниченной власти президента, джентльмены, все! А потом говорите, что человек в Белом доме помешался на власти!
Вот это спектакль, думал Маквейг. Да ведь он выбрался из тупика. А, может, он… но кто может сказать точно? Судя по тому, как здраво он сегодня рассуждает, он совершенно нормален, нормальнее любого из присутствующих! В конце концов, каким бы серьёзным ни был его недуг, разве не мог он оказаться временным? Джим мысленно проклял себя за то, что раздул всю эту историю, ему хотелось знать, как чувствует себя теперь Карпер.
Почему он не отступается?
— А эта моя вспышка из-за Дэвиджа, чикагского банкира! Об этом вы тоже все, по-видимому, слышали, — президент ласково улыбнулся Маквейгу. Джим подумал, что президент хочет таким образом показать ему, что знает, из какого источника выплыла наружу история с финансистом из Чикаго.
— Ничего не поделаешь, я опять не совладал с собой… Но разве я не пытался потом, когда проходила злость, поправить дело?
Джим даже растерялся, слушая, как президент обнажает перед подчинёнными ему людьми свою душу. Сам он всегда старательно избегал малейшего самоанализа и теперь испытывал чувство неловкости, слушая, как это делает другой, и кто? Сам президент США! Но тут же Джим спохватился: когда же это президент пытался «поправить дело»? До сегодняшнего вечера он и не думал извиняться перед О’Мэлли. И ведь его, Джима, он тоже обвинил в том, что он присоединился к заговорщикам и хочет погубить президента! Как же быть с этой его манией преследования? Он не дал никакого объяснения на этот счёт. Нет, слишком уж старался Холленбах представить все инциденты нормальными и простыми, будто все они были не важнее мелких перепалок между супругами. Маквейг и Карпер обменялись растерянными взглядами.
— Ещё раз повторяю своё предложение, джентльмены, — нарушил тишину Никольсон. — Предлагаю всем разойтись по домам. Мы не комиссия психиатров. Откровенно говоря, мне дьявольски претит всё это дело! И я считаю своим долгом извиниться перед вами, сэр, за то, что я вообще принял участие в сегодняшнем сборище.
Никольсон повернулся к Маквейгу и коротко поклонился:
— Извиняюсь и перед вами, Джим, за то, что сомневался в вашей нормальности. Сегодня вечером все мы получили неплохой урок по части скромности и взаимной терпимости!
— Присоединяюсь к вашему заявлению, мистер Ни-кольсон, — сказал Джо Донован. — Предоставим республиканцам заниматься такой охотой за черепами. Им это больше подходит.
Тогда Карпер, который всё это время не спускал глаз с президента, предупреждающе поднял руку, как бы призывая Никольсона и Донована к молчанию:
— Не так скоро, джентльмены, прошу вас! Мне хотелось бы выяснить ещё ряд вопросов!
— Мистер Карпер, неужели мы недостаточно наслушались сегодня всякого вздора?
— Постойте, Ник, — перебил президент. — Пусть Сид продолжает. С этим надо покончить раз и навсегда.
— С вашего позволения, сэр, я попрошу вас ответить мне по пяти пунктам. Правда ли, мистер президент, что вы действительно рассматриваете закон, который даст право Федеральному бюро расследования в любое время подключаться к любому телефону в стране?
В первый раз в глазах президента промелькнуло загнанное, враждебное выражение. Он беспокойно пошевелился в кресле и бросил растерянный взгляд на высокие окна гостиной.
— Конечно, правда, если они… — голос президента прозвучал вдруг пронзительно и раздражённо.
— Если они?..
— Если они опять попытаются. — Холленбах заговорил резко, но тут голос окончательно подвёл его. Он растерянно взглянул на свои руки, лежавшиена коленях, плечи его опустились, на лице проступила смертельная бледность. В комнате мгновенно воцарилась тишина.
— Кто это «они», сэр? И что они пытаются вам сделать?
Холленбах поднял глаза, и Джим увидел, что он отчаянно борется с собою, делая невероятное усилие, чтобы направить мысли в прежнее русло.
— Да, Сид, я действительно говорил Джиму, что моя шутка на обеде в Гридироне имеет под собой серьёзную основу. Я уверен, что такой закон оказался бы чрезвычайно полезен для борьбы с преступными элементами в нашей стране.
— Вы, кажется, говорили, что если бы такой закон существовал, вы бы воспользовались им для подслушивания телефонных разговоров Пата О’Мэлли?
Президент смутился:
— Может быть, и говорил, теперь не помню… Но если я говорил, то безусловно был неправ. Я бы ни в коем случае не стал использовать этот закон таким образом. Просто я тогда был слишком зол на Пата.
— Но разве не представлял бы такой закон самую величайшую угрозу свободе личности со времён закона об антиправительственных группировках и закона, направленного против иностранцев?
— Ни в коем случае. Напротив, закон этот призван охранять личную свободу граждан.
Карпер вздохнул и снова бросился в атаку:
— Я хочу попросить вас ответить по четырём остальным пунктам, сэр. Во-первых, чем можно объяснить вашу ярость, направленную на известного журналиста Крейга Спенса? Во-вторых, на каком основании вы приказали учредить слежку за сенатором Соединённых Штатов Джимом Маквейгом? В-третьих, на чём вы основываете ваше подозрение, что в стране существует заговор, ставящий целью уничтожить вас физически? И наконец мне хотелось бы знать, почему в вашем послужном списке за период корейской войны отсутствует медицинское свидетельство?
Этот последний вопрос удивил Холленбаха, казалось, больше всего. Он смешался:
— Я не знал, что оно отсутствует. Просто не могу этого объяснить. Может быть, его изъял оттуда какой-нибудь слишком ревностный друг? Но я могу совершенно откровенно рассказать вам, что однажды на фронте меня отправили на обследование к психиатру, после того как со мной произошёл печальный случай под огнём противника: я тогда повернулся и побежал. Но этот приступ страха у меня скоро кончился, и через три дня я вернулся в свою часть. И в следующий раз, когда корейские коммунисты снова напали на наши позиции, я уже не побежал, а выстоял вместе со всеми.
Никольсон гневно набросился на министра обороны:
— Да, чёрт бы вас побрал, Сид, он тогда выстоял и вдобавок получил за это Серебряную Звезду. Что вы, чёрт возьми, себе позволяете, мистер Карпер! Подло и отвратительно копаться в личном деле президента Соединённых Штатов — солдата, награждённого за мужество в бою!
— У меня имелись основания подозревать, — холодно ответил ему Карпер, — что мы находимся перед угрозой правительственного кризиса! И такие основания у меня по-прежнему остаются!
— А я считаю, что это безобразие!
— Не надо, Ник. Министр имеет полное право задавать мне такие вопросы. И потом я ещё не кончил. Вместо ответа на все вопросы Сиднея в отдельности, позвольте мне сказать, что я тщательно проанализировал моё поведение за две последние недели. Я сам исследовал собственные процессы мышления, произвёл себе смотр, если вам угодно. И я рекомендую, джентльмены, чтобы каждый из вас проверил себя таким же образом.
В комнате установилась мёртвая тишина. Только мерно гудела кондиционная установка и громко тикали часы.
— Я кое-что почитал, изучил и пришёл к выводу, что я действительно не всегда поступал нормально, если только это правильный термин. Я не виню генерала Лепперта за то, что от его внимания ускользнули дефекты моей психики, — во время его посещений я как раз чувствовал себя превосходно. Но как бы ни называлось моё состояние, я совершенно уверен, что оно у меня было временным.
Неужели это правда, думал Маквейг. Ведь за исключением одного момента, Холленбах сегодня ведёт себя так нормально, так естественно, что не поверить ему трудно. Однако Гриском, самый близкий друг президента здесь, в комнате, был, по-видимому, не убеждён. Он насмешливо наклонил голову набок и смотрел на президента с загадочной улыбкой, словно перед ним стоял свидетель, который раскрыл на суде не всю правду. Карпер сидел в кресле, не спуская с президента сурового и пристального взгляда. Лицо его словно застыло.
— Но за последнее время, джентльмены, — продолжал Холленбах, — со мной произошло нечто более серьёзное.
Присутствующий среди вас доктор Липперт уже вероятно сообщил, вам, что я иногда обращался к нему с жалобами на перебои сердца. За последнее время эти перебои усилились. Временами я даже испытываю острую боль. Таким образом, чтобы как-то закончить всю эту некрасивую историю, я должен сказать вам, что моё сердце меня очень тревожит.
Генерал Лепперт с удивлением воззрился на президента, остальные сидели с каменными лицами, напряжённо ожидая дальнейших слов президента.
— В результате я решил отложить совещание с Зучеком. Завтра в девять часов утра — или, точнее, сегодня — я намерен созвать пресс-конференцию и заявить об этом публично. И ради спокойствия всех здесь присутствующих я намерен объявить на ней, что решил уйти в долговременный отпуск.
Молчание в комнате стало тягостным. Снаружи послышался скрип шин какого-то запоздалого автомобиля, промчавшегося по Оу-стрит. Фары его стремительно пробежали по окнам, как вспышка прожектора.
Одлум, Галлион и Никольсон взирали на Холленбаха с удивлением, но на лицах их можно было прочитать облегчение, они очевидно приветствовали любое компромиссное решение, только бы покончить с «некрасивой историей». Бразерс, как всегда нейтральный и непроницаемый, вообще не обнаружил на своём лице никакого чувства. Каваног, Карпер, Гриском и Маквейг обменивались беспокойными взглядами. О’Мэлли жевал сигару и хмуро соображал, что будет означать для него этот неожиданный уход президента в долгосрочный отпуск. Гриском посмотрел было наверх, в направлении спальни, где спал молодой Марк, но Карпер перехватил его взгляд и отрицательно покачал головой.
— Я считаю, мистер президент, — наконец выдавил из себя Никольсон, — что это мудрое и патриотическое решение. Пока вы будете отдыхать, мы будем смотреть в оба и стараться не слишком вас беспокоить. В одном только я совершенно уверен, мистер президент: вы так же нормальны, как я сам.
Джим заметил на лице Холленбаха усмешку и понял, что тот тоже оценил юмор положения.
— А насколько нормальны вы, Ник? Ладно, не будем больше путаться, речь идёт о моём больном сердце. И мне хочется надеяться, джентльмены, что после моего завтрашнего заявления на пресс-конференции у вас не возникнет надобности обнародовать другие обсуждавшиеся здесь темы?
— Не беспокойтесь, мистер президент, мы всё сохраним в тайне, — отозвался Фред Одлум.
Гриском внимательно посмотрел на врача Белого дома:
— А вы что скажете, Лепперт? Вы согласны, что президент поступает правильно?
— Человек, у которого начинает пошаливать сердце, должен постепенно сокращать свою деятельность. Продолжать работать на такой головокружительной скорости в таком страшном напряжении означало бы просто испытывать судьбу! Я уже давно убеждал президента взять отпуск.
Все стояли в неловких позах, словно актёры, утомлённые затянувшейся репетицией. Никольсон шагнул к президенту и, схватив его за руку, крепко её пожал:
— От души желаю вам хорошо отдохнуть и набраться сил! Вы приняли мудрое решение, мистер президент!
— Гораздо более мудрое, чем вы подозреваете, Ник, — ответил Холленбах.
Каждый по очереди подходил к президенту и пожимал ему руку. Когда очередь дошла до Джима, он почувствовал себя смущённым и виноватым. Что могла изменить эта отсрочка? Холленбах улыбнулся и протянул сенатору серебряную авторучку:
— Возьмите её себе, Джим, — сказал он тихо. — Пусть она останется у вас на память о днях, которые могли настать… Если бы не они… — Президент смотрел на Джима остановившимся взглядом.
— Они?..
— Вы знаете, о ком я говорю, Джим, — прошептал Холленбах. — Впрочем, теперь это уже не имеет значения. Просто смотрите на неё иногда и вспоминайте, что из нас с вами могла бы получиться неплохая упряжка!
У Джима навернулись слёзы, он был слишком взволнован и не мог найти подходящих слов.
— Благодарю вас, сэр! — только и нашёлся он.
Вдруг Холленбах выпрямился и бодро, заразительно улыбнулся.
— А ну, веселее, джентльмены, — добродушно сказал он окружившим его людям. — Что это у вас такой вид, словно у похоронной команды! Америка — великая страна! Она всех нас переживёт. Боже мой, да ведь уже скоро пять утра! Мне пора идти. Пошли, Пат. Поедем вместе в Белый дом. Раз вы будете замещать меня во время отпуска, то мне надо сразу же коротко ввести вас в курс некоторых дел.
Поддерживая за локоть Пата О’Мэлли, президент покинул гостиную. Они вышли на улицу и вместе с тремя агентами Секретной службы забрались в длинный сверкающий лимузин Белого дома. Все оставшиеся столпились на крыльце, молча глядя на отъезжающих. Утренний воздух был прохладен и покалывал кожу. Небо прорезал первый луч наступающего дня. Марк Холленбах ещё раз махнул всем рукой, и машина скрылась в молочном утреннем тумане.
Гриском поспешил в угол гостиной и быстро принёс старинное ярко раскрашенное деревянное кресло. Холленбах повернул его таким образом, что оказался в центре кружка, комфортабельно устроился в кресле и вытянул ноги. Потом положил кисти рук на колени и стал сгибать и разгибать пальцы.
— Вы, конечно, уже успели обсудить и эти мои упражнения, а заодно и мои призывы к самосовершенствованию! И, конечно, подумали: «Что же удивительного в том, что он так взрывается? Ведь он натянут, как кожа на барабане! И зачем он гасит по ночам свет, и работает и разговаривает по телефону, вместо того чтобы спать?» Да, я уверен, что вы успели перебрать все мои маленькие странности.
Все по-прежнему молчали и ловили каждое слово президента, притихшие и заворожённые. Наверное, так слушали Христа, произносившего нагорную проповедь. Тон президента стал более серьёзным:
— Вы говорите, мания величия, джентльмены? Может быть, вы и правы. Меня действительно порою одолевают величественные мечты! Напримср, мечты о союзе с Канадой. Джим, наверное, рассказал вам об этом. Что ж, если вы думаете, что союз с Канадой всего лишь заблуждение больного ума — будь по-вашему! Но, откровенно говоря, я считаю, что такому союзу не мешало бы состояться ещё век тому назад. У Америки и Канады есть все данные, чтобы соединиться ко взаимной выгоде, и препятствуют этому только неистовый национализм, нелепые обычаи и устаревшие формы мышления!
Человек, который стоял перед ними, был прежний Холленбах, блестящий, неотразимо убедительный. Маквейгу показалось, что по комнате словно прошла волна сочувствия, словно все преисполнились желания помочь президенту.
Он выдержал паузу и устремил взгляд в потолок:
— Да, но зато моя идея союза со скандинавскими странами? Её вы наверняка приняли за дикую фантазию поражённого болезнью разума! Она так далека от реальности и здравого смысла, так ведь, Джим? Вы, наверное, уже всё рассказали им о моём плане?
Джим молча кивнул, чувствуя себя вопреки всякой логике так, словно предал великую идею, как будто он нарушил слово и выдал друга.
— Но разве Скандинавия — это не начало всему? — Глаза Холленбаха засверкали. — Я твёрдо верю, что только общий парламент всех свободных стран является гарантией продолжительного мира на земле. Но ведь с чего-то надо же начинать! Британия, Германия и Франция — они слишком горды, чтобы образовать общее с нами правительство, но подумайте, если бы мы только могли начать где-нибудь в другом месте — а скандинавы самый подходящий для этого народ, — то разве другие страны не присоединились бы к нам позднее? Я убеждён, что в этом есть здравый смысл, джентльмены!
Но ведь он же совсем не так начертал перед ним свой план тогда, в Аспене, думал Джим. Холленбах тогда совсем вычеркнул из «Великого плана» Европу, упомянул даже о военной силе, которую, возможно, придётся применить для того, чтобы заставить европейские нации войти в этот союз! Почему же он не упоминает о своём желании возглавить этот союз и сделаться чуть ли не мессией? И он опять увидел, как шагает по затемнённому Аспену президент, преследуемый навязчивой идеей мирового господства. Как отличался тот одержимый фанатик от спокойного и, очевидно, прекрасно владеющего собой человека, рассуждающего перед ними здесь, в Джорджтауне! Ему снова почудился свихнувшийся капрал, жестикулирующий в перевязочной палатке, и он инстинктивно понял, что этот образ гораздо ближе к подлинному Холленбаху, чем облик самоуверенного здравомыслящего человека, которого тот играл сейчас так блестяще. Его охватило неясное чувство, что Холленбах старается выбраться из тупика, в который его загнали. И как старается! Джим сидел и, зачарованный, ловил каждое слово президента, как змея, ожидающая звука флейты заклинателя.
— Вы, конечно, уже обсудили мой пресловутый «комплекс преследования»! Да, Сидней, вы действительно слышали, как я вышел из себя из-за Картера Урея и его единоличной власти над Центральным разведывательным управлением, его нежелания отчитываться передо мной в своих действиях и попытки проводить внешнюю политику на свой собственный страх и риск. Но ведь вы же не знаете, сколько раз этот человек отказывался подчиняться моим инструкциям! Характер у меня крутой, я признаю это! Иногда я говорю людям вещи, за которые потом прошу извинения!
Пока длился этот монолог, Карпер сидел неподвижно, сохраняя на бронзовом лице застывшее, безучастное выражение. Однако при последних словах Холленбаха он подался вперёд:
— Всё шло не совсем так, мистер президент! Разве вы забыли, как угрожали мне чернильницей?
— Полно, Сид, разве вам не известна моя привычка делать упражнения? Вы же знаете, я делаю их повсюду. — Президент говорил с ласковым укором, словно выговаривая нашалившему ребёнку. — Я занимаюсь ими в минуты отдыха, а иногда — в минуты напряжения. Я сдавил чернильницу пальцами, и это помогло мне взять себя в руки, понимаете? Неужели вам никогда не приходилось выходить из себя, Сид?
Карпер молча кивнул и беспомощно посмотрел на Маквейга, словно хотел сказать, что в устах президента даже всё ненормальное звучит нормально и обыденно. Да, всё было совсем не так, думал Джим. Он уже понял, что последней фразой президент, сам того не зная, выиграл очко в свою пользу. Яростный наскок министра обороны на Фреда Одлу-ма был ещё свеж в памяти всех присутствующих.
Никольсон шевельнулся в кресле и обратился к Холленбаху:
— Я думаю, вам не стоит продолжать, сэр! Вопреки своей воле я дал себя убедить в вашем… в вашей болезни, сэр. Я совершенно не согласен с вашей идеей союза свободных наций и считаю её в корне неправильной, сэр. Но это к делу не относится. Всё во мне протестует против моего теперешнего присутствия в этой комнате! Мы все бываем временами, э… взволнованы, а вы такой же человек, как и все. И сейчас я считаю, нора проявить побольше понимания и терпимости и пора разойтись по домам, джентльмены.
Президент признательно улыбнулся Никольсону и покачал головой:
— Спасибо вам, Ник, но расходиться ещё рано. Я знаю, что против меня были выдвинуты и другие обвинения. Лучше покончить с ними сегодня же.
Вот, например, сенатор Маквейг слышал, как я обвинял вице-президента в попытке дискредитировать лично меня. Я, безусловно, погорячился. Вы действительно тогда подвели свою страну и свою партию, Пат, но я, конечно, заблуждался, когда обвинял вас в том, что вы действовали с намерением причинить мне вред. Я сознаю это, я глубоко сожалею о своих словах.
Президенту удалось перейти на свой самый убедительный и задушевный тон, который столько раз помогал ему за время его политической карьеры.
— Пост президента неузнаваемо меняет человека, джентльмены! Ведь он — номер один! Он стоит у пульта управления, и никто не смеет ему прекословить! Четыре года он правит, как монарх. И разве не естественно, что президент начинает думать о себе, как о стране в целом? Всё, что наносит вред Америке, он воспринимает как личное оскорбление! Любое благотворное начинание ставит себе в заслугу! И вы сами только способствуете этому своим преклонением перед президентом! Разве вы настаиваете на своей точке зрения, когда президент не принимает её? Вы все помогаете укреплению неограниченной власти президента, джентльмены, все! А потом говорите, что человек в Белом доме помешался на власти!
Вот это спектакль, думал Маквейг. Да ведь он выбрался из тупика. А, может, он… но кто может сказать точно? Судя по тому, как здраво он сегодня рассуждает, он совершенно нормален, нормальнее любого из присутствующих! В конце концов, каким бы серьёзным ни был его недуг, разве не мог он оказаться временным? Джим мысленно проклял себя за то, что раздул всю эту историю, ему хотелось знать, как чувствует себя теперь Карпер.
Почему он не отступается?
— А эта моя вспышка из-за Дэвиджа, чикагского банкира! Об этом вы тоже все, по-видимому, слышали, — президент ласково улыбнулся Маквейгу. Джим подумал, что президент хочет таким образом показать ему, что знает, из какого источника выплыла наружу история с финансистом из Чикаго.
— Ничего не поделаешь, я опять не совладал с собой… Но разве я не пытался потом, когда проходила злость, поправить дело?
Джим даже растерялся, слушая, как президент обнажает перед подчинёнными ему людьми свою душу. Сам он всегда старательно избегал малейшего самоанализа и теперь испытывал чувство неловкости, слушая, как это делает другой, и кто? Сам президент США! Но тут же Джим спохватился: когда же это президент пытался «поправить дело»? До сегодняшнего вечера он и не думал извиняться перед О’Мэлли. И ведь его, Джима, он тоже обвинил в том, что он присоединился к заговорщикам и хочет погубить президента! Как же быть с этой его манией преследования? Он не дал никакого объяснения на этот счёт. Нет, слишком уж старался Холленбах представить все инциденты нормальными и простыми, будто все они были не важнее мелких перепалок между супругами. Маквейг и Карпер обменялись растерянными взглядами.
— Ещё раз повторяю своё предложение, джентльмены, — нарушил тишину Никольсон. — Предлагаю всем разойтись по домам. Мы не комиссия психиатров. Откровенно говоря, мне дьявольски претит всё это дело! И я считаю своим долгом извиниться перед вами, сэр, за то, что я вообще принял участие в сегодняшнем сборище.
Никольсон повернулся к Маквейгу и коротко поклонился:
— Извиняюсь и перед вами, Джим, за то, что сомневался в вашей нормальности. Сегодня вечером все мы получили неплохой урок по части скромности и взаимной терпимости!
— Присоединяюсь к вашему заявлению, мистер Ни-кольсон, — сказал Джо Донован. — Предоставим республиканцам заниматься такой охотой за черепами. Им это больше подходит.
Тогда Карпер, который всё это время не спускал глаз с президента, предупреждающе поднял руку, как бы призывая Никольсона и Донована к молчанию:
— Не так скоро, джентльмены, прошу вас! Мне хотелось бы выяснить ещё ряд вопросов!
— Мистер Карпер, неужели мы недостаточно наслушались сегодня всякого вздора?
— Постойте, Ник, — перебил президент. — Пусть Сид продолжает. С этим надо покончить раз и навсегда.
— С вашего позволения, сэр, я попрошу вас ответить мне по пяти пунктам. Правда ли, мистер президент, что вы действительно рассматриваете закон, который даст право Федеральному бюро расследования в любое время подключаться к любому телефону в стране?
В первый раз в глазах президента промелькнуло загнанное, враждебное выражение. Он беспокойно пошевелился в кресле и бросил растерянный взгляд на высокие окна гостиной.
— Конечно, правда, если они… — голос президента прозвучал вдруг пронзительно и раздражённо.
— Если они?..
— Если они опять попытаются. — Холленбах заговорил резко, но тут голос окончательно подвёл его. Он растерянно взглянул на свои руки, лежавшиена коленях, плечи его опустились, на лице проступила смертельная бледность. В комнате мгновенно воцарилась тишина.
— Кто это «они», сэр? И что они пытаются вам сделать?
Холленбах поднял глаза, и Джим увидел, что он отчаянно борется с собою, делая невероятное усилие, чтобы направить мысли в прежнее русло.
— Да, Сид, я действительно говорил Джиму, что моя шутка на обеде в Гридироне имеет под собой серьёзную основу. Я уверен, что такой закон оказался бы чрезвычайно полезен для борьбы с преступными элементами в нашей стране.
— Вы, кажется, говорили, что если бы такой закон существовал, вы бы воспользовались им для подслушивания телефонных разговоров Пата О’Мэлли?
Президент смутился:
— Может быть, и говорил, теперь не помню… Но если я говорил, то безусловно был неправ. Я бы ни в коем случае не стал использовать этот закон таким образом. Просто я тогда был слишком зол на Пата.
— Но разве не представлял бы такой закон самую величайшую угрозу свободе личности со времён закона об антиправительственных группировках и закона, направленного против иностранцев?
— Ни в коем случае. Напротив, закон этот призван охранять личную свободу граждан.
Карпер вздохнул и снова бросился в атаку:
— Я хочу попросить вас ответить по четырём остальным пунктам, сэр. Во-первых, чем можно объяснить вашу ярость, направленную на известного журналиста Крейга Спенса? Во-вторых, на каком основании вы приказали учредить слежку за сенатором Соединённых Штатов Джимом Маквейгом? В-третьих, на чём вы основываете ваше подозрение, что в стране существует заговор, ставящий целью уничтожить вас физически? И наконец мне хотелось бы знать, почему в вашем послужном списке за период корейской войны отсутствует медицинское свидетельство?
Этот последний вопрос удивил Холленбаха, казалось, больше всего. Он смешался:
— Я не знал, что оно отсутствует. Просто не могу этого объяснить. Может быть, его изъял оттуда какой-нибудь слишком ревностный друг? Но я могу совершенно откровенно рассказать вам, что однажды на фронте меня отправили на обследование к психиатру, после того как со мной произошёл печальный случай под огнём противника: я тогда повернулся и побежал. Но этот приступ страха у меня скоро кончился, и через три дня я вернулся в свою часть. И в следующий раз, когда корейские коммунисты снова напали на наши позиции, я уже не побежал, а выстоял вместе со всеми.
Никольсон гневно набросился на министра обороны:
— Да, чёрт бы вас побрал, Сид, он тогда выстоял и вдобавок получил за это Серебряную Звезду. Что вы, чёрт возьми, себе позволяете, мистер Карпер! Подло и отвратительно копаться в личном деле президента Соединённых Штатов — солдата, награждённого за мужество в бою!
— У меня имелись основания подозревать, — холодно ответил ему Карпер, — что мы находимся перед угрозой правительственного кризиса! И такие основания у меня по-прежнему остаются!
— А я считаю, что это безобразие!
— Не надо, Ник. Министр имеет полное право задавать мне такие вопросы. И потом я ещё не кончил. Вместо ответа на все вопросы Сиднея в отдельности, позвольте мне сказать, что я тщательно проанализировал моё поведение за две последние недели. Я сам исследовал собственные процессы мышления, произвёл себе смотр, если вам угодно. И я рекомендую, джентльмены, чтобы каждый из вас проверил себя таким же образом.
В комнате установилась мёртвая тишина. Только мерно гудела кондиционная установка и громко тикали часы.
— Я кое-что почитал, изучил и пришёл к выводу, что я действительно не всегда поступал нормально, если только это правильный термин. Я не виню генерала Лепперта за то, что от его внимания ускользнули дефекты моей психики, — во время его посещений я как раз чувствовал себя превосходно. Но как бы ни называлось моё состояние, я совершенно уверен, что оно у меня было временным.
Неужели это правда, думал Маквейг. Ведь за исключением одного момента, Холленбах сегодня ведёт себя так нормально, так естественно, что не поверить ему трудно. Однако Гриском, самый близкий друг президента здесь, в комнате, был, по-видимому, не убеждён. Он насмешливо наклонил голову набок и смотрел на президента с загадочной улыбкой, словно перед ним стоял свидетель, который раскрыл на суде не всю правду. Карпер сидел в кресле, не спуская с президента сурового и пристального взгляда. Лицо его словно застыло.
— Но за последнее время, джентльмены, — продолжал Холленбах, — со мной произошло нечто более серьёзное.
Присутствующий среди вас доктор Липперт уже вероятно сообщил, вам, что я иногда обращался к нему с жалобами на перебои сердца. За последнее время эти перебои усилились. Временами я даже испытываю острую боль. Таким образом, чтобы как-то закончить всю эту некрасивую историю, я должен сказать вам, что моё сердце меня очень тревожит.
Генерал Лепперт с удивлением воззрился на президента, остальные сидели с каменными лицами, напряжённо ожидая дальнейших слов президента.
— В результате я решил отложить совещание с Зучеком. Завтра в девять часов утра — или, точнее, сегодня — я намерен созвать пресс-конференцию и заявить об этом публично. И ради спокойствия всех здесь присутствующих я намерен объявить на ней, что решил уйти в долговременный отпуск.
Молчание в комнате стало тягостным. Снаружи послышался скрип шин какого-то запоздалого автомобиля, промчавшегося по Оу-стрит. Фары его стремительно пробежали по окнам, как вспышка прожектора.
Одлум, Галлион и Никольсон взирали на Холленбаха с удивлением, но на лицах их можно было прочитать облегчение, они очевидно приветствовали любое компромиссное решение, только бы покончить с «некрасивой историей». Бразерс, как всегда нейтральный и непроницаемый, вообще не обнаружил на своём лице никакого чувства. Каваног, Карпер, Гриском и Маквейг обменивались беспокойными взглядами. О’Мэлли жевал сигару и хмуро соображал, что будет означать для него этот неожиданный уход президента в долгосрочный отпуск. Гриском посмотрел было наверх, в направлении спальни, где спал молодой Марк, но Карпер перехватил его взгляд и отрицательно покачал головой.
— Я считаю, мистер президент, — наконец выдавил из себя Никольсон, — что это мудрое и патриотическое решение. Пока вы будете отдыхать, мы будем смотреть в оба и стараться не слишком вас беспокоить. В одном только я совершенно уверен, мистер президент: вы так же нормальны, как я сам.
Джим заметил на лице Холленбаха усмешку и понял, что тот тоже оценил юмор положения.
— А насколько нормальны вы, Ник? Ладно, не будем больше путаться, речь идёт о моём больном сердце. И мне хочется надеяться, джентльмены, что после моего завтрашнего заявления на пресс-конференции у вас не возникнет надобности обнародовать другие обсуждавшиеся здесь темы?
— Не беспокойтесь, мистер президент, мы всё сохраним в тайне, — отозвался Фред Одлум.
Гриском внимательно посмотрел на врача Белого дома:
— А вы что скажете, Лепперт? Вы согласны, что президент поступает правильно?
— Человек, у которого начинает пошаливать сердце, должен постепенно сокращать свою деятельность. Продолжать работать на такой головокружительной скорости в таком страшном напряжении означало бы просто испытывать судьбу! Я уже давно убеждал президента взять отпуск.
Все стояли в неловких позах, словно актёры, утомлённые затянувшейся репетицией. Никольсон шагнул к президенту и, схватив его за руку, крепко её пожал:
— От души желаю вам хорошо отдохнуть и набраться сил! Вы приняли мудрое решение, мистер президент!
— Гораздо более мудрое, чем вы подозреваете, Ник, — ответил Холленбах.
Каждый по очереди подходил к президенту и пожимал ему руку. Когда очередь дошла до Джима, он почувствовал себя смущённым и виноватым. Что могла изменить эта отсрочка? Холленбах улыбнулся и протянул сенатору серебряную авторучку:
— Возьмите её себе, Джим, — сказал он тихо. — Пусть она останется у вас на память о днях, которые могли настать… Если бы не они… — Президент смотрел на Джима остановившимся взглядом.
— Они?..
— Вы знаете, о ком я говорю, Джим, — прошептал Холленбах. — Впрочем, теперь это уже не имеет значения. Просто смотрите на неё иногда и вспоминайте, что из нас с вами могла бы получиться неплохая упряжка!
У Джима навернулись слёзы, он был слишком взволнован и не мог найти подходящих слов.
— Благодарю вас, сэр! — только и нашёлся он.
Вдруг Холленбах выпрямился и бодро, заразительно улыбнулся.
— А ну, веселее, джентльмены, — добродушно сказал он окружившим его людям. — Что это у вас такой вид, словно у похоронной команды! Америка — великая страна! Она всех нас переживёт. Боже мой, да ведь уже скоро пять утра! Мне пора идти. Пошли, Пат. Поедем вместе в Белый дом. Раз вы будете замещать меня во время отпуска, то мне надо сразу же коротко ввести вас в курс некоторых дел.
Поддерживая за локоть Пата О’Мэлли, президент покинул гостиную. Они вышли на улицу и вместе с тремя агентами Секретной службы забрались в длинный сверкающий лимузин Белого дома. Все оставшиеся столпились на крыльце, молча глядя на отъезжающих. Утренний воздух был прохладен и покалывал кожу. Небо прорезал первый луч наступающего дня. Марк Холленбах ещё раз махнул всем рукой, и машина скрылась в молочном утреннем тумане.
Последние комментарии
9 часов 59 минут назад
15 часов 2 минут назад
22 часов 51 минут назад
1 день 1 час назад
1 день 1 час назад
2 дней 12 часов назад