За борами за дремучими
Открытия
Давно это было, так давно, что не измерить прожитое ни днями, ни годами, ни отшумевшей на перекатах омутистой речушкой, не сосчитать до той дали пройденные по жизни километры. Но все чаще, все настойчивее зовет щемящее чувство на далекие берега детства, у истоков которого и пробуждалась моя сознательная жизнь.
ЦАРЬ-ТРАВА
Плыло, плыло по небу облачко да вдруг истаяло. Так и она ушла из жизни незаметно, будто опал с дерева иссохший листок. Наша вторая мать, отдавшая всю себя до последней кровиночки, до последнего тлеющего уголечка нам, многочисленным внукам. И эта потеря не просто невосполнима, она живет во мне постоянной болью — напоминанием, неистребимой горчинкой. Знаешь, что нельзя намерять человеку два века — исчерпал жизненные возможности и отправляйся на покой, — но пожелать-то хоть это можно! Греха в том не нахожу. Моя бабка этого заслужила. Она и детство мое неразделимы. И все-таки в длинной веренице дней, напоенных горестями и радостями, случались такие, когда я был особенно счастлив. Ибо в эти редкие дни для меня со всей щедростью приоткрывалась мудрая бабкина жизнь… Такой день я чувствую загодя, а потому и сплю вполглаза. Да бабка и не жалеет нашей утренней дрёмы — кто в деревне спит долго? — шебарчит, постукивает в кути, дает наставления моей матери. И я понимаю, сегодня у бабки выходной от печки, от хозяйских забот, а значит, пойдет она в лес за травами. Не утерпел, приподнимаю занавеску, выглядываю с полатей. Мать растопляет печку, сухо потрескивают лучинки, малиновые блики играют на ее лице. А бабка склонилась над большой плетеной корзиной, заворачивает что-то в тряпицу. Мои вопрошающие глаза она чувствует спиной. — Очнулся, неуёма? Ладно уж, поднимайся… Слететь с полатей для меня — одна секунда. Мечусь по кухне, собираюсь. — Аль посеял что? — Фуражка куда-то завалилась… И не говорил бы лучше, не портил бабке настроение. — Эх, учи вас, не учи — всё ветром выдувает. Сколько говорено, что для каждой вещи в доме свое место отведено. Знай его и не будешь дергаться — все под рукой окажется. Глядишь, и голова не заболит от лишних думок. Ум-то на другие дела сгодится, что его по мелочам транжирить… Подвесной медный рукомойник сквозь литое горлышко цедит мне на ладони скупую струйку теплой воды. Да мне больше и не надо. Так, глаза протереть, в угоду бабке. Притулилась она на краешке сундука — как же не посидеть на дорожку! — обводит взглядом кухню, словно запоминает, где что находится, и обращается не то ко мне, не то к матери: — Пойдем, что ли? — Не заплутайте, — провожает нас мать. Улица еще не вся проснулась, день-то воскресный, и потому не в каждой избе окна пламенеют отсветами затопленных печек. Тихо, покойно. И петушиной побудки не слышно. Перевелась за войну столь привычная для подворий птица, редко у кого сохранилась. Многие одним днем жили, наперед не заглядывали. Да и какие заглядки, когда от голода припухали. А вот бабка в самые худые времена и коровенку от ножа отстояла, и пару кур с петухом выходила. Спас нас лес от бескормицы, помог выжить… — Ты ногу-то весели, сон-то завтра досмотришь, — взбадривает она меня, видя, что я по самые уши завернулся в братанов пиджак. И правда, утро немного знобкое, песок припорошен упавшей росой. Идти от нашей избы до лесу — всего ничего, не успеешь и парой слов перекинуться, как обступят тебя молодые елки, а дальше сплошной хвойный шатер взметнется к самому небу. А вот куда ведет меня бабка — вопрос. В лесах наших дорожек и дорог не счесть, а тропинок и того больше. И я загадываю: свернем за домом Тюленихи в проулок, значит, путь наш к Моховому болоту. Если пойдем прямо, вдоль канавы, то надумала бабка свидеться с умирающей речушкой Марайкой, с ее сенокосными луговинами. Но она за околицей круто берет влево, и я одобряю ее выбор. Впереди омутистый Ниап, приречная дорога уходит к его верховьям. Места здесь красивые, на любой привередливый вкус: солнечные медноствольные боры чередуются с лиственными рощами, затравеневшие елани соседствуют с кустарниковым мелколесьем, а река прячется в густых зарослях черемухи, смородины, акации и вербы. Для меня встреча с лесом — всегда тревожное удивление, прикосновение к чему-то чудесному, бесконечно радостному, доброму, неизвестному. Только в лесу по-настоящему можно понять рождение нового дня. Ведь все происходит на твоих глазах. Алым соком наливается над бором синева, жаром полыхают облака, и вот уже сосны поднимают на своих хвойных лапах сочный арбузный ломоть — и как только не обожгутся! — он растет, вспухает, и, наконец, какая-то неведомая сила выталкивает из цепких лесных глубин румяный диск. Лес, чарует не только меня. — День-то какой приветливый. Я, как увижу такую красоту, ноги сами меня несут, в теле легкота, будто и не увязана жизнь столькими годами… Бабка добреет, оживает каким-то воспоминанием, глаза собирают солнечный свет, на губах таится улыбка. И то верно, нет сейчас для нее минутки слаще — ни кухонных забот, ни привычных печалей, сама себе хозяйка. Одета она в потертую плюшевую жакетку, повязана белым в горошек платочком — как же, праздник! — поверх юбки — неизменный фартук, в кармане которого всегда сыщется что-нибудь нужное: несколько спичек с кусочком чиркалки, сухарь, запеченное в золе яйцо… «Ку-ку, ку-ку», — встречает рассвет кукушка. Люблю я эту непонятную птицу. Да и кто из нас не замирал взволнованно на месте, услышав печально-призывные звуки… И вот уже произносишь как заклинание известные каждому слова: «Кукушка, кукушка, сколько лет жить осталось?» Считаешь и веришь — так оно и случится. И мысленно просишь, чтобы не оборвала свой счет, наворожила вещунья побольше, ведь прожита самая малость, и стоишь у начала дороги, а хочется узнать все незнаемое, увидеть невиданное, не засохнуть блеклым стебельком-обсевком у обочины, подняться в положенный рост. Не пожалей, птаха, голоса… Довольно крупных, похожих на ястребков, серебристо-серых птиц в лесу встретишь нечасто. Не раз бездорожьем спрямлял я свой путь на тревожный призыв, пытаясь вблизи разглядеть лесную гадалку. И ни разу не удавалось. Кукушка замолкала, а может, бесшумно меняла место. Но в пору кладки яиц умные птицы теряют свою осторожность, открыто совершают облет лесных массивов, зорко осматривая каждый куст и щель-дуплянку, подыскивая уже обжитое какой-нибудь птахой-наседкой гнездо. Время торопит, пришла пора выводить потомство — какая уж тут осторожность… С годами познал я некоторые тайны леса и приоткрыл для себя завесу жизни этой удивительной птицы. Столь своеобразной песней самец «остолбляет» приглянувшийся участок, предупреждая об этом возможных соперников. Усиленные «неосторожные» полеты над кустами и кронами деревьев — продуманная природная хитрость. Она вызывает панику среди мелких пернатых обитателей. Кукушка незлобиво шипит и не отвечает на агрессивные действия птиц. Для самца это самый ответственный момент — гнездо выявлено и на время оставлено хозяевами. Затаившаяся рядом самка-кукушка подбрасывает свое яйцо. Иногда она приносит его в клюве. Отныне непомерные заботы нести на крыльях обманутым родителям. Им кормить прожорливое розовоклювое чудище, ставить его на крыло. А их собственных птенцов вылупившийся кукушонок выселит из родного гнездовья. Невероятно, но это так. Природа и тут все продумала. А вот почему эти неповторимо удивительные птицы не создают свои гнезда и сами не выводят потомство — для меня загадка, на которую я так и не нашел ответа… — Баб, а почему у кукушки такая песня? — Так-то она не поет, а лишь себя называет. Ку-ку, кукушка, мол, я. А ты годочки свои не загадывай, у тебя их много впереди… Лучше другие песни слушай… И вправду, полон лес птичьих голосов. «Ци-ци-фюи», — выпевает синица, потряхивая голубым хвостом. «Фиу-ить, фиу-ить», — передразнивает ее иволга — редкой красы пичужка. Ярко-желтый цветок, да и только. Будто вобрала в себя все солнечное тепло, а теперь сама засветилась, радует округу песней. «Витю видел? — спросил вдруг кто-то из-за кустов. — Витю видел?» Оглянулся, нет никого. — Баб, кто это? — Да чечевичка. Она дразниться любит. Совсем как старый лесовичок. Заикнулась бабка о лесовичке, раззудила во мне любопытство. — Разве видел кто его? — Каждому-то он на глаза и не явится, хочешь ты того или нет, а мне вот привелось… Давно это, правда было. Я еще в девках веселилась, за маменькой жила, забот не знавала. Ну, а в лес, как и вы, всё без старших норовили убраться, одним-то вольготнее. А про лесовичка забывали. Ну да он, когда захочет, о себе напомнит. У него чаще забавы на уме. Заприметит девку помоложе да поприглядней и начнет куражиться. То грибом белым обернется, то цветком дивным, то полянкой брусничной расстелется. За грибами да ягодами в такой азарт войдешь, что не приметишь, куда тебя ноги занесли. А голова будто в мороке. Стою я как-то посреди незнакомого леса — солнца не видно, такая крона вверху густая. И подружек моих не слыхать, куда-то сгинули. Только глаза слезой запорошило, слышу — смех. Добрый такой, словно ручеек журчит, камушки точит. Оглянулась, а под сосенкой, рядом с белым грибом, старичок стоит, в сапожках и алой рубашке. Брючки полосатые и борода, как льняная куделька, до самой земли. А сам росточком не вышел, не больше того гриба. Ахнула я, повернуться бы да бежать, а ноги не слушаются, к земле приросли. — Что, девка, испугалась? А хочешь у меня остаться, хозяйкой лесов этих сделаю? И засмеялся снова. А у меня спину холодом окатило. Творю про себя молитву, как мать на такой случай учила… А что дальше было, не ведаю, будто дурман-травы наелась. Сон не сон, очнулась, голову обносит, в теле легкость, так бы и поплыла над землей. А лес солнцем залит, сияет весь, искрится. И подружки недалеко аукают. Стою я на Левушкиной дорожке, корзина от крутобоких боровиков ломится, в переднике с ведро брусники увязано. То ли сама брала, то ли лесовичок одарил. За слова мои негневливые, за молитву неущербную. Так вот мы с ним и свиделись… Слушаю я бабкину исповедь, а сам по сторонам зыркаю. Может, и за мной лесовичок подглядывает, завести в глухомань норовит. Верю и не верю в рассказанное, но в такую минуту о чем только не подумаешь. — Думаешь, неправдой тебя потешила? А ты на слово верь. Если в хорошее да в доброе не верить, жизнь тоскливой непогодой покажется. Одна серость… Глянул я на бабку и глазам не поверил: просторная корзина у нее уже наполнена разной травой, когда только и успела, а я уши развесил, про лесовичка слушаю. Бабка — большой травознай. Ее и в поселке зовут травницей и часто обращаются к ней за помощью. Живот там скрутило или зуб не дает покоя — это мелочи. Другое дело — залечить язву-нутрянку, заговорить кровь или от горлового удушья избавить. Бабка находит одной ей известные сочетания трав, добавляя одних для «приятности», других для «крепости и здоровья». И потому о травах — лесных лекарствах говорит, как о чем-то живом, дорогом ей и близком. «Слово тоже лечит. Но великую хворь им не утешишь. А вот травка любой болезни перекроет дорогу. В лесу ищи здоровье. Кто от природы бежит, у того старость всегда под боком…» Глаз на траву у нее острый, все приметит, ничего не упустит. — Заглянем-ка, милок, вон в ту низинку. Может, там медуница припозднилась, как бы опять к Юрке золотуха не вернулась. Медуница — один из ранних боровых первоцветов. Глядишь на нее и диву даешься: радугой полыхают на мохнатом стебельке пурпурные, фиолетовые, оранжевые, синие цветочки, будто не хватило для всех одинаковой краски. Но бабке и этот секрет известен. — Непонятно? А ты приглядись, приглядись… Что видишь? — Цветок… — А пчелок да шмелей не приметил? И правда, ползают по растениям золотистые шмели, пучеглазые мухи, гудят над ними осы, пчелы, порхают бабочки. — Для того и краса медунице, чтобы приманить разных насекомых. Напоит их сладким нектаром, а те разнесут на лапках пыльцу по лесу. И снова травка вырастет. Вот всем и хорошо. Идет она как-то плавно, неслышно, обочь каждого цветочка, в глазах светится радость. — Ты примечай, примечай травку-то, какую в дело, а какую и стороной обойти… «Стороной обойти»… В голодные военные времена травы были подспорьем в каждой поселковой семье. До первых борщевников из огородной ботвы в пищу шли любые зеленя: крапива, дикий щавель, подорожник, болотная резучка… Да мало ли еще какая трава оживала вместе с первыми лучами солнца. И не задумывались мы над тем, что можно есть, а что нельзя. Лишь бы не выворачивало от горечи нутро наружу. И лишь однажды услышал я тревожные слова: «У Сунгуровых парнишка белены объелся». Тогда и понял, что не каждую травинку в рот тянуть можно. Недалеко и до беды. Белену пробовал из нас каждый, а вот схоронили от нее только одного. Селилась белена за поселком, на кучах вывозного хлама, и привлекала взгляд красивыми желтыми цветками. К осени пушистые стебли покрывались точеными кувшинчиками, в которых при легком дуновении ветра раздавалось мелодичное шуршание. Семена, похожие на усохший мак, невольно просились в рот. С грибами мы как-то освоились быстрее. А вот травы… Наш, избегавший советов старших, ум не всегда подсказывал правильное решение: что съедобно, а что нет. Пустому желудку не прикажешь… Помню неуемное горе соседки Дарьи Величутиной. В лесу, на четвертый день после пропажи, по вороньему «базару» нашли ее телушку. На месте, где она околела, перебывал весь поселок. Старая Дарья, упав на колени, то поднимала руки вверх, призывая бога, то рвала скрюченными пальцами дернину и голосила. Потом тут же, в кустах, с ней отваживались женщины, поили из бутылки водой, натирали чем-то виски. Моя бабка, осмотрев вокруг зеленые потёки, уверенно сказала: «Чемерица. Коровы ее стороной обходят, а вот молодняк не понимает…» Пацаном мне так и не удалось повидать чемерицу, загубившую соседскую телушку. Встретил я ее спустя многие годы и удивился — так привлекательны были заросли этой обман-травы. Изумрудные продолговатые листья, схожие с подорожником, будто подкрашены умелой рукой художника. А над ними возвышаются полные стебли с метелками мелких соцветий. Но попробуй срежь стебелек на дудку, сразу же глаза наполнятся слезами, а в груди появится нестерпимая резь: яд ее проникает в кровь даже через кожу. Часто приносил я домой редкой красы цветок — лесной ландыш, не знал, что природа за что-то обидела его, сделав это привлекательное растение ядовитым. Просто, когда проглядывали из травы гирлянды белых колокольчиков, рука невольно тянулась к ним. Попадалось во время лесных хождений и другое, чем-то схожее с ландышем растение, с парными листочками и жемчужными сережками-цветками. И название у него красивое, певучее — купена. К осени на стебельке вызревали ядовитые темно-синие ягоды. Чем не черника? Бабка моя для понятных ей лечебных целей выкапывала корни купены, но звала их по-своему — «Соломонова печать». Я подолгу разглядывал мясистые желтоватые корни, обезображенные рубцами-отметинами. От всезнающей бабки приходилось слышать о водосборе, именуемом в народе голубкой, потому что схож его цветок с сидящими кружком голубями; о болиголове, ягодах «вороньего глаза» и «волчьего лыка»; о дурман-траве, белыми граммофончиками которой можно любоваться часами. А сколько маялись мы животами, исходили рвотой, охотясь за самым ранним весенним первоцветом — подснежником, пока не поняли — все наши беды от сладковато-горьких стеблей этого любимого нами цветка. Да, весна «кормит подножно», помогает дотянуть до огородной нови, до лесного гриба и ягоды, но пользоваться зеленотравьем надо умеючи, с оглядкой на старших, на их житейскую мудрость. Вот почему, когда бабка останавливается около крушины, я тяну ее в сторону. Чего это она? Не знает, что ли? Ветки куста осыпаны белыми звездочками — цветет крушина все лето, потому и ягоды отсвечивают разными огоньками. На одной веточке найдешь зеленые и розовые, красные и черные. И тут же белые лепестки еще незавязавшихся соцветий. Но это лакомство для птиц. Терпкие, горьковато-сладкие на вкус ягоды могут вызвать сильное отравление. Бабка осторожно обирает отставшую у корневища кору. «Настоим на теплой воде, будет бордовая краска. А из ягод можно любую приготовить. Какой цвет ягода набрала, такая и краска получится». Вот и еще для меня один урок. У запретного куста есть своя полезность для человека, не весь он бросовый. И я невольно оглядываюсь вокруг, примечаю уже знакомые мне травы: мятлик, пырей, полевой горошек, бессмертник, поручейницу… Горит невдалеке белое пламя ромашек, выказала себя оранжевым в траурных крапинках огоньком лесная лилия, прозванная нами саранкой; поблескивают в густой некоей золотые звездочки зверобоя; а чуть дальше переливается нежно-сиреневый разлив — цветет багульник. Легкий ветерок изливает на нас целый поток запахов, чем только и не пахнет: хвоей, живицей, грибной прелью, земляникой, медом многих и многих трав. Дыши — не надышишься… Высоко в небе жаром исходит солнце, его лучи уже прогрели землю, подсветили каждую хвоинку, и мне кажется, что из кустистых крон вот-вот брызнет теплый зеленый дождь. Пожуркивает где-то по соседству ручеек, точит в дерне дорожку-желобок, пробивается к реке. Видать, дал ему жизнь родничок, подает и нам свой голос, приглашает отведать студеной водицы. В самый раз по такой жаре и бабка спрямляет путь к невидимому источнику. А может, и не было никакого журчанья, зовущего голоса воды. Так, почудилось. Или обманом позвал нас в сторону лесовик. Только явилась нам нежданно небольшая горка, нарядная, яркая, будто облитая взбитым яичным желтком. И напахнуло на нас таким ароматом, что разом все остальное забылось. На длинных граненых ножках, подсвеченных белесым пухом, качались огромные кисти цветов. Будто и не цвела вовсе незнакомая мне трава, а излучала теплое пурпурное свечение. — Дух-то какой! — только и смогла вымолвить изумленная бабка, и лицо у нее озарилось улыбкой. — Ведь сколь здесь хаживала, а свидеться не случалось. Она гладит каждый цветок своими невесомыми ладонями и ласково нашептывает: «Материнка, материнка…» — А почему материнка? Лицо у бабки по-молодому зарозовело, глаза увлажнились, настолько приятна для нее эта встреча и интерес мой. — А кто лучше матери заслонит от беды да горя, исцелит от любой хворобы? Вот и в травке этой великая сила, укорот для любой болезни. И кличут ее так за духмяность особую, за то, что вобрала в себя все запахи лесные. Царь-трава, да и только! Жадно вдыхаю сытный медовый настой, срываю один цветок за другим, но бабка остужает меня. — Угомонись немного. Не одни живем. Пускай горушка и других порадует. Лес-то человека веками пользует, кормит-радует. Его жалеть надо. А то один обидит, другой, глядишь, из малых бед и большая получится… Винюсь про себя, не осуждаю бабку. Уж больно цветы заманчивы, разве удержишься. Ну а бабка… Нет сейчас для меня человека роднее и дороже. Знала бы она, как хочется прижаться лицом к ее ладони, сказать ей что-нибудь ласковое, доброе, и будь я волшебным лесовичком, то прежде всего вернул ей молодость, избавил от всех забот и печалей. Сидим мы у ароматной горки, без слов понимаем друг друга. Да и к чему слова при такой красоте. Не спугнуть бы ее, не обидеть. И весь этот мир, сотканный из ярких радужных красок; целительная тишина, полная загадочных звуков; врачующий простор, еще не познанный мною, — все это едино и неделимо, как звенышки одной, соединенной в кружевину цепочки, и все это незримо входит в меня каким-то радостным исцеляющим покоем, теплой волной согревает сердце. И я чувствую притягательную власть всего происходящего вокруг меня. Что я без этих сосен, без того вон куста колючей боярки, без огоньков лесной герани, без журчания ручейка? Так себе, сущая малость, ползущий по дороге мураш, на которого наступи сапогом и не приметишь. — Ну что, передохнул малость? — Слышу я как бы издалека голос бабки. — Вот и хорошо. Пора и к дому…ЗА БОРАМИ ЗА ДРЕМУЧИМИ
Светлое озеро за дальними борами упряталось и каждое свидание с ним живет во мне осколочком памяти. Как сейчас помню, постучал кто-то под самую петушиную побудку в наше оконце, а потом я услышал басовитый голос Макси Котельникова. — Подымайся, Степаныч, карета подана. Так он отзывается о своей скрипучей телеге. Таскает ее бесцветной масти, равнодушный до окружающей жизни меринок Сивка, столь постаревший на работе, что не коснулась его «воинская повинность», а то бы ездил где-нибудь в обозе или тянул по размытым дорогам солдатскую кухню. Нам подниматься не надо, давно уже на ногах. Бабка увязывает какие-то торбочки, мешочки, шепелявя губами: «Ложки, укропное семя, соль, кресало…» Главное, не забыть туго набитый кисет с ядреным рубленым самосадом. Было как-то, оставил дед свое зелье, вернулся с полдороги, себе и всем настроение испортил. Вот и мечемся по двору, складываем на телегу мордушки, сети, весла, ведерки, разные узелки… Не на вечер, не на день едем — на многодневье, и потому сбор серьезный, а подвезти нас до Светлого озера Макся Котельников подрядился за пудовку картошки и вязку вяленой рыбы. Промышляет он на своей «худобе» по местным лесам, собирает живицу; в огромной, похожей на шатер печи-смолокурне обжигает для сельских кузниц древесный уголь, гонит нужный всем деготь. А в свободное время, как говорит моя бабка, «набивает мошну»: подряжается развозить по дворам дрова и сено, пашет по весне огороды. Не за спасибо, конечно. Ну да не о цене разговор, нужда ее завсегда повыше. Тут уж Максю не усовестишь. Сколько спросит — так тому и быть. Да еще поблагодаришь, что откликнулся на просьбу, не указал на порог. Где еще в поселке в такое время лошадь достанешь? Мужиков всех война за собой увела, а отпускать и не думает. Вот один Макся с килой своей здесь пригрелся и о войне не кручинится. Только мне кажется, что не кила у него из штанов выпирает, а припрятана эта самая «мошна», из которой он сыпанул деньжат где надо, чтобы в бракованные попасть, от службы избавиться. Ну да придут наши батьки, с килой его разберутся. — Я, Кондратьевна, за картохой обратным следом заеду. А рыбки они на мой пай прямо на озерке навялят. На Сивке потом и слетаю, и вам свежатинки привезу. — Какой разговор, Максим Данилович, как сговорились вечор, так и сладимся. За нами обманного слова никто не слыхивал. И сомневаться не стоит. А может, чайку откушаешь, самовар дошел, а езда у вас неблизкая. — Да уж чаевничал. Увязывает дед поклажу, чтоб не растрясло ее по дороге, хмурит брови, оглядывая двор. Все ли в порядке остается, все ли ладно. Не утерпел, позабыл на время про телегу, подпер плечом нависший угол поленницы, качнул ее обратно к забору. — Все проверила? — повернулся к бабке. — Не призабыла чего? — Да вроде нет… А утро совсем загулеванило, затопило за речкой каемку неба нежно-рябиновым настоем. Воздух терпко пропитан запахами лежалого сена, конопли, поседевшей полыни и еще шут знает чего. Все в огородах дозревает, прет на удивленье, всего стало вдруг вдосталь, и эта перволетняя сытость томит нас, торопит на берега далекого озера, на жаркий костерок с запашистой ухой, на длинные разговоры-воспоминания. Вынес дед напоследок завернутое в тряпицу ружье, полупустой патронташ под кожушком опоясал. Все под рукой, все теперь на месте. Подсадил меня на телегу подальше от колес — не прихватило бы спицами ногу. — Ну, с богом, отец. Не прогляди парнишонку. К воде не приваживай, и чтоб гадюка не чикнула. — В лес одного не пускай, — слышу я уже на повороте улицы. Оглянулся, стоит бабка одинокой былкой у палисада, смотрит вслед. Махнул ей рукой — не печалься, навялим донного карася, грибов, ягод насушим — будет к долгой зиме припас. И на фронт посылочку соберем, отца с друзьями порадуем. Карась — он и в окопе вкусный. Пускай крепче фрицев колотят. Мне весело. Вот и я с дедом в добытчиках. Теперь уж не обронит кто ненароком, не обзовет в сердцах дармоедом. Пылит следом за телегой дорога, тянется за нами к лесу. И Сивка в такт своим шагам лениво помахивает блеклым хвостом, отгоняет учуявших его горячую плоть паутов и мух. Дед с Максей сидят молча, подымливают. Закрутка у каждого длиной в ладонь, не на одну версту хватит. Да и куда им спешить — путь неближний, наговориться успеют. А пока под сугревный дымок у каждого своя думка. У деда, наверное, об улове, о том, как обмануть нашей многочисленной родне очередную военную зиму, о сынах своих, день разлуки с которыми длиннее прожитой жизни. У Макси, пожалуй, думки бегут в другую сторону: не продешевил ли с извозом? А мне до его печалей дела нет. Лес рядом, не дает покоя. Накрыло его синь-небо. И такая алая полоска пролегла над зубчатой кромкой — словно полыхнуло из печи жаркое пламя да так и замерло — для глаза, для красоты, для отдыха. Всего здесь в меру: прозрачной голубизны, таежной многокрасочной зелени, разгоревшейся ослепительной зари. Воздух свеж, ароматен, напоен ароматом разных трав. Живи, дыши, любуйся! На десятки километров нет впереди торных дорог, приземистых деревень, людского говора. Первозданная тишь. Если не считать разноголосых птичьих песен. Но без них лес не в полную радость. Вот спугнул тишину звонкой дробью невидимый дятел. Тра-та-та, тра-та-та… Ему это работа и пропитание. Червячка из-под коры добыть. Лесу — лечение, а нашему уху — музыка. Бесхитростен и мелодичен звучный дроботок. Выбил лесной барабанщик ему лишь понятные звуки и замолчал. Видно, прислушивается. Какова его музыка? Всем ли в радость? А может, ждет на свой призыв ответную песню? Пускай! Заслужил такую награду. Дорога наша — две еле заметные колеи — петляет меж сосен. Порой в такой близости от их стволов, что приходится подбирать под себя ноги, не прижало бы к колесу. А лес совсем проснулся, сверкает сочными красками — не оторвать глаз. Разноцветные волны плещутся на полянках, к самой телеге подкатывает цветочное половодье. Стелется над травой и кустами паутина — видать, к теплу! — переливаются алмазами осевшие на ней капельки росы. И кажется, летит откуда-то солнечный искристый дождь. Вот оно, перволетье, жданное-пережданное! Откуда только и явилось… И, не выдержав такой красоты, я ныряю с телеги в пахучее искристое море. Играют лесные поляны многоцветной радугой. Золотыми звездочками горит-переливается зверобой. Точеными колокольцами манит к себе купена. А над ними покачиваются искристо-желтые корзинки девясила. Эту траву бабка всегда заготавливает впрок. Вялит пучками, насыпает сухое крошево в глиняные горшки. От всех болезней девясил: раны заживляет, ломоту в суставах снимает, хрип убирает, разве что со смертного одра не поднимает. Так о нем отзывается бабка. И корешок и лист со стеблем — все в дело идет. Вот тебе и маленькое лесное солнышко. Быть ему в нашей солдатской посылке, изживать окопную хворь. Разогретая солнцем горит в траве рубиновыми угольками земляника, наполняет воздух резким ароматом. — Дед, — восторженно кричу я и набиваю рот малиновой сладостью. — Смотри, какие бобины! — удивляется Макся. — И-эх, гибнет ягода без убору, — заводит он разговор. — Бабы на лесоповале. Мужики… — Он замолчал, видно, одумался, что все его ровесники именно там, где им положено находиться, а он вот здесь. — А сколько этого леса от нас на север немеряно. И везде шишка, гриб, ягода. А ежели собрать все это? — Да-да, — неопределенно тянет дед. А я, набегавшись вкруг телеги, припадаю среди узлов. Парят промоченные росой штаны. Солнечно, тепло, уютно. Качается надо мной небо, чуть припорошенное розоватыми блестками облаков. Качаются сосны. Томят, убаюкивают лесные запахи, и мое тело становится невесомым, плывет где-то там высоко-высоко… — Вставай, рыбаль, приехали, — подает откуда-то из этой бездонной сини голос Макся. Я привстаю на телеге, досадуя на свою ребячью слабость, удивленно оглядываюсь по сторонам. Вывернулся наш возок к раскидистому кусту боярки, усыпанному прозрачно-янтарной ягодой, затихли в песке колеса. Повернул Сивка голову, глаз большой, будто голубым молоком облитый, а в нем вопрос: ехать ли дальше? И верно, окончилась дорога, пришел ей край. Соскочил я на землю, размять ноги, разогнать по телу устоявшуюся в сонном забытьи кровь, да так и замер. Восковые, подчерненные снизу серебром стволы вековых сосен тянулись к небу. Дерево к дереву, будто подравненные сверху гигантскими ножницами, колупни золотистую чешуйку и — брызнет ароматная струя живицы — застоявшегося древесного сока. Снуют по стволам черные мураши, справляют свою работу. Здесь же, под кустом, их жилье — коричневая горка из прелой хвои, песка и мелких прутьев. Обошел я их городище. Потом муравьиного сока попробую, а пока надо оглядеться. Вот она, землянуха, на самом высоком обдуваемом месте. Затравенел давно дерновый настил. Лишь рядом углядишь небольшое, с тетрадный листок оконце, железный изгиб трубы, полуистлевшие плашки, ступенями уходящие в землю, — вход в землянку. В ней коротать нам ночи, спасаться от нудного гнуса. И здесь же тропка к шуршащим камышовым зарослям, а через них — к озеру. И нашел же кто-то такое веселое место. Видать, добрый был человек, любил лес, залитые солнечным светом поляны, и чтобы разговаривала-плескалась рядом вода. Отдыхал глаз от этой картины, переплавлялось во мне увиденное в светлую мелодичную песню. Кручусь я благодарно около деда, помогаю снимать наши пожитки. Потом все это разберем, определим к месту, а пока надо освободить телегу. Прощаясь с Максей, дед отсыпает в его кисет горсть самосаду, молча кивает. Довез — и спасибо, а уговор сам собой исполнится. Не лебезит, не суетится — не любит он этого. И так понятно, не за наши красивые глазки человек в такую даль ехал — подряжался… Я перетаскиваю узлы ко входу, первым забираюсь в землянуху-копанку. Внутри она выглядит добротно, стены сложены из крепких бревен, потолок забран жердевником, а из мебели — нары да ручной работы стол. Что еще нужно человеку для короткого приюта, какие удобства? Была бы крыша над головой, остальное все даст окружающий лес. Опасливо тычу палкой под нарами — не затаилась ли там змея, такое в бору не в диковинку. Дед хитро щурит глаза: что, мол, в штанах потяжелело? Быстро наводим в землянке порядок, раскладываем привезенные припасы. Наконец дед говорит: — Пойду, сетешки разброшу, а ты тут, рядышком, грибков поищи, только вдаль не ударься, а то и с вороньем не сыскать… Он как бы приценивается ко мне, можно ли доверить свободу, оставить наедине с лесом? Видно, решает, что можно. Навешивает на плечи сети, берет весло. Мне и с ним хочется, и новый лес — замана. С ведром спешу вдаль от нашего становища. Хотя куда спешить: баб-грибниц, а ребятишек и подавно, в такую даль и на аркане не затянешь. Так что все угодья эти мои. Главное, найти первый гриб, унять в себе азартную дрожь. А где один, будут и другие. Белый гриб всегда привередливый. Иногда и место подходящее, прелью-плесенью отдает, и земля дождями напитана, солнцем прогрета, а нет его, хоть убейся. А рядышком хрустят пересохшие мхи, воздух обжигает ноздри, а грибов столько, что ни корзины, ни рубахи не хватит. Вот и думай! Первый гриб, как всегда бывает, не на глаз попался, а под ногу подвернулся. Хрустнуло что-то под шапкой мха, отвернул я серебристую курчавину, а там литой бочонок. Белая как вата ножка цела, а шляпка в черное крошево превратилась. Припал на колени, обровнял ножом белоснежную мякоть и не спеша огляделся. И задрожало все во мне натянутой струной. В одном месте мох приподнялся, в другом земля нарывом припухла, в третьем и вовсе коричневое яйцо проклюнулось. Осторожно ощупываю мшистые взлобки, прицениваюсь к каждому бугорку. Теперь не просто удачливый, наметанный глаз нужен, привычный к грибной охоте. Скрипит, пошумливает бор. Разноголосо поет, пробует себя в песнях птичья молодь. Все позабыл я, ползаю по синим мхам. А на озере — шлёп да шлёп. Это дед ботом загоняет рыбу в сеть — батоуху, для первой ухи старается. И время летит быстрокрылой ласточкой. Кружу меж деревьев, сам себе аукаю. К ведру еще добрую кучку грибов нарезал — то-то удивлю деда. Да разве его удивишь. Таких карасей первым уловом взял, не караси — золотые слитки, одно любование. И вот уже весело потрескивает в костерке сухостой, оплывает пеной котелок. А я о лесе думаю, о том, как завтра снова пойду по уже знакомым и незнакомым местам, продлю свое счастье. Сколько сегодня подроста не взял, на утро оставил. И дед, будто угадав мои мысли, говорит как всегда тихо, неторопливо: — Лес завсегда добром платит, если любят его и привечают. Сколько от него людей кормится. А подумать, так сродни он человеку. Есть у него душа. Живой он. Ты послушай, как стонет дерево, когда его подрубают, как любую ранку свою слезой умывает — лечит. И по ночам не спит, что-то шепчет. Молодое дерево — всегда шумливое, с ветерком заигрывает, у него все горести впереди, а у старика — скрип печальный. Как его не понять, жизнь-то на исходе… Да, все мы на одной земле стоим, силу в ней черпаем — что человек, что дерево… Я люблю, когда дед просыпается от долгого молчания, лицо его разом добреет, наливается молодым румянцем. Высоко в закатном небе медленно плывет по кругу черный крестик — коршун. Есть в его полете какой-то нужный ему смысл. Тревожно подает на озере голос журавль. Ему печально отзывается другой. Дед провожает глазами коршуна. — Ишь как журавушки разговорились. За пушенят своих беспокоятся. А то как же! Все в этой жизни накрепко увязано. И человек, и коршун, и деревцо любое. Выпадет одно звенышко, и не будет цепочки. Вот так-то, внучек. Неси чашку, вечерять будем. Набрала уха аромату…ВЫШКА
В азартную грибную пору хоть раз да наведаюсь в родные края. Разожмет свои каменные объятия город, останутся позади мелкотравчатые просолевшие степушки, похожие на осколки неба озера, светлые березовые колки, и вдруг загустеет впереди синева. Стеной надвинется темно-зеленый бор, сдавливая с обеих сторон дорогу, и подкатит что-то знобкое к самому сердцу, улетят прочь заботы, одно останется в душе: тихий радостный покой, навеянный дремлющим лесом. И уже живешь ты не в этом дне, а в ином мире, уносит тебя волнение к самым истокам памяти, и ты превращаешься в худого вихрастого парнишку, что смотрел вокруг себя широко открытыми удивленными глазами… Чуть разморит раннелетнее тепло землю, обласкает ее первыми дождями, завздыхает бабка: — Отходили мои ноженьки, убралась молодость. А уж как до лесу была охоча. Не просижу бывало дома за пустым разговором. Слетали бы вы, орелики, попроведали лес: может, где и маслята проклюнулись… Намекнула бабка, будто вслух подумала, ну а нам вдругорядь говорить не надо. Старые плетеные пестерюхи из кладовой достать, замену ножам найти — минутное дело. Лестно раньше всех грибами разжиться. Это потом сыпанет их по нашим лесам, пойдут, как говорят, «мостами». И белый гриб, и масленок с моховиком, и груздь с синявкой, и рыжик, и прочее грибное съедобье. Но первые грибы — для всего поселка разговор, кому радостное, кому досадное волнение. Вот и не спим, ворочаемся на полатях, отнимаем друг у друга последние капли утреннего сна. Не до него теперь… Глянул я сверху — стоят на голбце наши корзины рядком, и в каждой завертыш из подсолнечного листа с куском картовного пирога. — Ну, орелики, вставайте чай пить да в путь-дорогу. Сейчас корову провожала, прелью аж в нос шибает, высидела земля грибочки, куда им деваться — на свет полезут. Сборы наши с птичий коготок. Сидим за столом, обжигаемся морковным чаем, уминаем прогретую в печи вечерошнюю запеканку. — Баб, а куда лучше? — спрашивает Генка. — Оно бы можно и на Левушкину дорожку или еще ближе, за кладбище, да только лес там махровый, земля поди не угрелась. Всё тень да прохлада. А вот к Шиляевской вышке, пожалуй, в самый раз будет. Горушки, ельничек, мох белый — в тепле земля нежится. Может, и повезет. Только на вышку ни ногой, костей не соберете. Смотри, Юрка, ты старшой, тебе и дёр первому, — наставляет она напоследок. Путаемся в сочной картофельной ботве, мочим в росе ноги, пробираясь огородами к лесу. Чтобы лишний глаз корзин не приметил, не упредил нас в таком перводеле. Поселковские пацаны страсть как ушлые, и спят-то, наверное, с глазами нараспашку. За огородами присоединились к нам Парунька с Рудькой, дружки наши, от которых и скрывай что — не скроешь. Покосился на них Юрка, да промолчал. Есть грибы или нет — неизвестно, а вышка — она ничейная, тут не укажешь. Строила ее сразу после гражданской войны бригада красноармейца Афони Шиляева, вот и прозвали вышку его именем. А нам она — для забавы, для запретных лазаний по источенным трухлявым стволам, по обрывающимся под ногами перекладинам лестниц… Стелется туман по логу, курится над мелководной Бродовкой. Перешли ее по жердяному мостку-перекидку. Никто вроде и не приметил. Хитра бабка, знала, какой дорогой можно в такой час незаметно поселок покинуть. Тихо идем, без привычных разговоров, пока не остаются позади последние избы. Наконец солнце малиновым диском всплывает над лесом, кровь ощутимо бьется в каждой жилке, прогоняя остатки утренней вялости. — Юрка, а почему солнце сейчас спелей малины, а к обеду заблестит словно зеркало? — пытаю я брата. — А иногда, бывает, как морковным соком облитое? — Сам ты морковным соком облитый. Накупался вчера в холодной воде до синевы, вот у тебя в глазах и мельтешит. Чувствую, что и сам он не может понять разноликости дневного светила, не знает ответа, потому и сердится. — А я слыхал, ежели соль совсем не есть, то и днем звезды увидишь. Словно ночью. Или в глубокий колодец спуститься и оттуда на небо смотреть, — вставляет Рудька. Молчит Юрка. В войну ему недосол получше нашего в память врезался, а вот звезд днем видеть не приходилось. Да и не только он, многие в поселке не столько от голода припухали, сколько от бессолья мучились. Наравне со спичками хранила бабка подернутую ржой крупнозернистую соль, укрывала от соблазна берестяной туесок в сундуке. Какие уж тут звезды. О том, чтобы мы выжили, думала. Вот и гриб ранний — не просто прихоть, а общий к столу приварок. Соберем на жареху — бабке одной заботой меньше. Сколько проселком отмерили — за разговорами не заметили. Перемахнули увал, заросший светлым сосновым лесом, начались горки, подернутые сизым курчавистым мохом. От его серебристого сияния сразу стало теплей и уютней. Рассыпались в цепочку, аукаем, хотя и так на виду друг у друга. Мох влажный, без привычного сухого хруста, ковырнул ногой и — отлетела седая шапка. Но это, если невзначай. Тут же и приложишь ее обратно, огладишь старательно. А иначе можно грибницу нарушить — усохнет прель. А солнышко совсем высоко всплыло, выцвела на нем алая краска, перламутровая пуговица, да и только. Брожу меж сосенок, выискиваю глазами маслянистые пятаки. Вот сейчас, сейчас… Нет, угасает азарт. Ошиблась бабка, не приготовил нам лес подарок. — Пошли к вышке, — командует Юрка. Не боится он дёру, знает, что ничего бабке не скажем. Обратной дорогой надергаем ей разных кореньев, нащиплем травы — улестим за ее же промашку. А вышка видна отовсюду. На самом высоком месте стоит, пирамидой уходит в небо. Мощные угловые бревна связаны поэтажно такими же толстыми лесинами. На каждом этаже дощатый настил, а между ними лестницы. И так до самого пика вышки, увенчанной смотровой площадкой. Долгие годы служила вышка людям ориентиром при разбивке тайги на кварталы, а в суховейное время — для наблюдения за пожарами. А сейчас она постарела, служба ее закончилась. Вышка болезненно поскрипывает своими натруженными суставами, из перепревших бревен ветер высеивает коричневую пыль — труху. Когда и упадет только, перестанет тревожить… Сидим на невысоком ровике — водоотводе, разглядываем прибитую к столбику доску. Краска на ней от времени обшелушилась, но догадаться, что было написано, еще можно. «Ава-рийном сос-то-я-нии… Зап-ре-ще-но», — читаю я по слогам. — Это тем, кто тайгу от пожаров сторожить должен, лазить нельзя, а про нас тут ничего не написано. — Юрка поднимается с земли. — Охолонусь немного на ветерке. Мы затаенно следим, как, обхватив руками лестницу, он медленно поднимается вверх, ловко минуя провалы на месте сгнивших ступенек. Замер я: а ну, сорвется? Но брат уверенно преодолевает этаж за этажом и наконец появляется на верхней площадке. — Эй вы, мурашки! — Он видимо уже освоился, осмелел и демонстративно склоняется над перилами. — Давай, кто следующий? Одновременно поднимаются Генка с Рудькой. Генка всего на два года старше меня и на столько же младше Юрки, но парень отчаянный. И нас не удивляет, что он пропускает Рудьку к лестнице, а сам приценивается к толстому угловому стояку. Бревно это все в надрезах, и многие поперечины уже выкрошились из своих гнезд. Но это не смущает Генку. Сейчас он похож на гибкого зверька — ласку, который легко скользит по наклонному бревну, и только оставшиеся перекладины и ржавые гвозди мешают его движению. Рудька — мой сверстник, хотя и на целую голову выше меня, и я чувствую, что если сейчас не поднимусь с земли, то провалюсь сквозь нее от стыда и горя. Ох, как длинны эти лестницы, в которые я влипаю всем телом, как подозрительно шатки и малы перекрытия и ненадежны перила. Но вниз уже хода нет. Только вверх, поближе к ребятам. Юрка втаскивает на смотровую площадку мое оцепеневшее тело, и я невольно отступаю за его спину, подальше от подгнившей дощатой кромки. Как же теперь спускаться? Где найти для этого силы? Как собрать воедино крохи своего ребячьего мужества? Думать об этом и то страшно. Где-то, намного ниже вышки, из стороны в сторону хороводят игрушечные елки. А может, это качается вышка? Наверняка она. И я чувствую, как раскачивает меня вместе с ней, и все плывет вокруг в каком-то ослепительно-радужном танце. Синее, зеленое, желтое… Еще секунда, и… Но тут сразу три руки ложатся на мои плечи. — А ты — молодчага! — откуда-то издалека слышу я голос Юрки, и эта похвальба успокаивает меня. Я возвращаюсь к жизни, осторожно дотрагиваюсь до перилины,пошатываю ее рукой — вроде еще крепка — и лишь тогда снова заглядываю вниз. Там одна Парунька. Она совсем увяла в росточке, похожа на осенний гороховый стручок. Что-то кричит нам и машет рукой. Какая она маленькая и, конечно, несчастная, потому что не может быть рядом с нами. А я впервые поднялся на заветную для каждого пацана Шиляевскую вышку, преодолел себя, свой страх, и теперь об этом будут знать все ребята в поселке. Гордость переполняет меня, я делаю еще шажок к перилам. Елки стоят на месте, все так же беспокойно мечется внизу Парунька, а Генка спустился этажом ниже и оседлал поперечное бревно — страха он не знает. Я ищу глазами поселок, но он надежно укрыт лесами. Лишь тонкой белой свечкой поднимается вдали заводская труба. Тайга сверху похожа на зеленое покрывало. И сколько же этого леса, где ему край, а где начало? И что скрыто под его бесконечным пологом? Высоко в небе, почти под самыми облаками, висит редкая в этих местах птица — орел-белохвостик. Интересно, что он видит с такой высотищи? Высматривает ли добычу, или просто прогревает на солнце свое молодое тело, радуется жизни и этому теплому летнему утреннику? И мы для него с такого поднебесья что козявки, меньше самого захудалого мурашика. Счастливый! Сейчас пролететь бы над землей с ним рядом, разглядеть, что делается внизу. Ведь есть же где-то белые города, спешат по рельсам поезда, летят самолеты, а мы вот тут затерялись в глухом таежном углу, живем для какой-то надобности, а для какой — непонятно. И как крохотны мы в этом бескрайнем мире, неприметные капельки в бурной таежной речке. Но раз есть у реки нашей жизни исток — наш родной поселок, эти вот леса и эта вышка — будет и устье, как без этого. И спасибо тебе, вышка, что помогла понять мне это, раззудила мое любопытство. Вырасту, обязательно пройдусь по этой земле. До всего дотронусь рукой, все повидаю…ХОЗЯЙКА ВЕРБНОГО ОМУТА
И не так быстрокрыло, не будь ее, пролетело бы детство. Вернее, показалось бы серым и неприютным, как слякотный позднеосенний день. Такое место занимает в моей судьбе родная река. Пролегла она крепкой нитью через мою память, и, может, потому недолюбливаю я до сегодняшней поры затихшие в безводных степушках села, будто погруженные в серую пыль времен. Не их вина, да что сделаешь. Везде находилось место человеку. Притыкался он к такому ковыльному углу, соблазненный нетронутой землей, огорчался безводьем, да так и обвыкал: обходился колодцем-копанцем, собирал талую весеннюю воду в самодельные запруды, сторожил каждую дождевую каплю, не примечая, что зелень в его краю бледновата от серебристого пыльного налета, а голубизны и вовсе мало — не хватает привычной людскому глазу озерной и речной синевы. По мне, веселый человек всегда селился по соседству с водным раздольем. Потому как нет для него покоя, если не пошумливает за околицей на перекатах речушка, не зовет на свои берега для совместного веселья или тихой неторопливой беседы. И мои ранние годы осчастливила река с немного странным для наших мест названием — Ниап. Пытался как-то вызнать у бабки, откуда у таежной речки такое неблагозвучное имя, но та отмахнулась от моей докуки. Ниап, и все тут. Уже позднее дошли до меня отголоски одной легенды о ханской жене-красавице, от любви своей опечаленной не захотевшей жить на белом свете и обернувшейся речкой. Только в слова те красивые не очень-то верилось. Ведь был же кто-то первый, кто произнес это слово: Ниап. Но, будь у реки другое название, понятнее и напевней, такой же радостью полнились бы наши сердца… В двухчасовом переходе от нашего села, за сеткой бесконечных троп и колеистых проселков высветлилась тайга большущей зеркальною плешью — в кружеве низкорослых кустов, в зеленой опояске лугов здесь покоится озеро. Зовется оно под стать реке: Тебеняк — так же непонятно, по-инородному. Может, в честь другой какой ханской жены? Все может быть… Еще на моей памяти было озеро намного больше, а теперь сдавило его топкой ряской, затянуло с краев камышом и красноталом, и даже возведенная земляная насыпь, видимо, не остановит его гибели. Повинны в том люди, их равнодушное отношение к природе. Одним днем живем, в другой заглянуть боимся. Вот и усыхают на глазах озера, мелеют реки, редеют под топором леса. Озеро это тоже оставило добрый следок в моей жизни, и я еще расскажу о нем. А сейчас разговор о реке, потому что там, у размытой нынче плотники, и начинается ее рождение. Не сразу, постепенно набирает река силу, кружит тайгой в глубоко промытом песчано-глинистом ложе, удваивая изгибами свою дорогу. Отвесные берега густо заросли смородиной, вербой и черемухой, густо увиты диким хмелем, а уж на самом верхотурье стеной вздымается медноствольный лес. В свое время отбывала река трудовую повинность, помогала людям, унося с весенними водами спеленутые прорезиненными ремнями связки добротной мачтовой сосны. Ремням этим нет сноса — и по сей день встречаешь их на прибрежье, висят они неистлевающими лентами, пугая змеиной окраской, напоминая об угасшем величии реки. Ее плесы, слегка подбитые серебристой рябью при ветерке, студеные от ключевой воды в придонье омута, ягодные заросли на крутых берегах изведали мы в обе стороны от поселка на многие километры. И сколь ни отваживали нас матери от речных походов, как ни строжили — на реке все это разом забывалось. Каждый из нас тонул в студеных омутах, проваливался под истонченный солнцем весенний лед, оказывался под идущим сплошняком сплавным лесом и бывал бит за ослушание, но не будь всего этого — многое, столь нужное для детских лет, осталось бы за их пределами. Ну, а при реке жить, да не порыбалить — скажи кому, засмеют. Хотя не всяк к такой охоте пристрастен. Но мы у воды росли, а потому искали в ней не только забавы и утехи, но и необходимый для семьи интерес. Речные берега щедро делились с нами смородиной и земляникой, черемухой и черникой, хмелем и сырым груздем. Но главное, что влекло нас, — это рыба, подспорье к семейному столу, весьма ощутимое, особенно в нелегкие военные годы. Когда дома появлялась низка чебачков или пескарей, радовались все. Не бездельем потеряно на реке время, будет к обеду сытный приварок. Не знаю почему, но удочка в наших местах не в почете. Может, крючки фабричной работы были в редкость, или так повелось от старших, что не передали они нам веселого азарта. А потому ловили мы речную молодь наметкой или легкой сеточкой-бредешком. Вот с него-то, пожалуй, и начался тот злополучный и удивительный день. Ранним утром подловил меня в ограде дед. — А ну, подсоби малость. Что он делает, я сразу и не понял. К квадратной рамке, сбитой из легких вешек, дед толстой крученой нитью привязывал кусок старой подопревшей сети. Мастерит он как всегда вроде и неторопливо, но сноровисто. Пальцы легко, молодо снуют вдоль рамки, каждый независим от другого, у него своя жизнь, но вместе они слаженно творят общую работу. И мне дед сразу же подыскал заделье — шкурить обрезок тонкой жердинки. А раз просьба связана с топором, меня упрашивать долго не надо. Топорик острый, походный, для постоянного соседства на поясе при посещении леса. Липкая чешуйчатая шкурка молодой сосенки снимается легко, маслянисто-желтые кольца ложатся к моим ногам, пряно пахнут разомлевшей на солнце живицей. — Ну как, — подбадривает меня дед, — будем с рыбкой? И только тут я понимаю назначение всех этих предметов: решетки, сетки, черенка. Это же наметка! Легкая, удобная в носке и, конечно, добычливая. Что стоит перекрыть ею узкую, сжатую песчаными наносами горловину реки и загнать в нее пескариную стаю? Я не обращаю внимания на испятнанные живицей ладошки, топорик летает в моих руках. — А когда пойдем, деда? — Да мне сегодня недосуг, управы много. А тебе, если невтерпеж, собери дружков, да по Ниапу и погуляйте. Может, щурят да чебачков и подловите. Эх, только бы Валька был на месте, не впряжен в какую-нибудь срочную работу. Но Валька, к счастью, дома и, к удивлению, ничем не занят. От него мы сразу же отправляемся к Рудьке. Тот горбится в огороде, окучивая картошку. Увидев наметку, Рудька бросает меж гнезд тяпку, уныло оглядывает сиренево-белое половодье. — Мать вот, по утренней прохладе велела, — и решительно машет рукой. — Потом доделаю… Я передаю ему ведро, в котором перекатываются три белобоких огурца, оставляю себе ботик — легкий шест с жестяной воронкой на конце, а самое ценное — наметка, — конечно же, в руках у Вальки. Рудька с опаской оглядывается на подворье — не мелькнет ли там материнский платок — и первым перемахивает через прясло. Как и за многими поселковыми избами лес вплотную поджимает Рудькин огород, и мы сразу же попадаем в его теневую прохладу. Утро росное, немного знобкое, и, пока мы выбираемся на дорогу, трава увлажняет до колен наши брюки. Но нас это не смущает, скоро поднимется над лесом солнце и все вокруг обогреет. А пока оно путается где-то в зеленой хвое деревьев, никак не может выбраться в голубое раздолье. До холодов еще долго, самое что ни на есть лето, но вот такие прохладные утренники уже стараются обнажить стоящие на отшибе березы, добавляют в лист желтой краски, а нет-нет да и явится на глаза куст рябины, будто взметнутся на зеленом фоне ярко-красные язычки пламени. Лес всегда наводит на раздумья — очарованный его броской красой, поневоле уходишь в себя, задаешь себе разные вопросы и самый главный, пожалуй, о долголетии природы. Ведь на наших глазах дряхлели животные, сочились серой трухой тесовые крыши, подгнивали столбы, падали палисады, бор же стоял зеленый и стройный в любую погоду. А ведь он тоже жил, болел, пил земные соки, зацветал по весне золотистыми свечечками — крупинками, вынашивал гроздья зеленых шишек, пел лишь ему понятные песни… Оставит острую метку топор на золотистом стволе, и побегут из ранки янтарные капли. Ну, чем не слезы? И смотришь — невесело стало дереву, усох, растерял хвою один сук, второй, а там и сменит на рыжую окраску вся некогда зеленая крона. И тогда подумаешь невольно: зачем обидели дерево? Так ведь, ради забавы коснулось его лезвие секунца. Сухостойные сосны, сбросившие не только хвою, но и кору, вызывают жалость. Постучишь по отбеленному дождями и солнцем стволу и услышишь печальный отклик, будто ответит хриплый старческий голос: боль-но, боль-но… И хотя такая сосна стоит порой долго — не умирают под землей корни, — но жизнь ее на исходе… Мы с лесом дружим. И потому без нужды не заломаем лишней ветки, не оголим грибную прель, не вытопчем ромашковую полянку. Да и как можно по-иному относиться к другу, от которого видишь одно добро. Вот и Валька осторожно обходит каждый куст, сплетенные пауками тенеты, бережно отстраняет от глаз низко нависшие ветки. Он уверенно забирает влево, спрямляя путь к неближней в этих местах реке. Подвернулась под ноги узкая затравеневшая дорожка, да тут же истончилась до тропки. А может, и свернула куда незаметно, недоглядел я — ноги мои в надежной обувке, и потому я не разглядываю настороженно траву, глаза поверху, по сторонам елозят. Лес мне всегда в радость и удивление. Каждое свидание с ним вспоминается долго. Восково-теплые стволы вековых сосен, зеленое кружево кустов, заросли папоротника — места здесь отменно красивые. Благоухает вокруг золотисто-лиловая некось. Воздух ядрено настоян запахами смолы и хвои, грибной прели и перетомившейся земляники. И кажется, что каждая хвоинка источает тепло и набрала столько краски, что, шевельни лапник рукой, брызнет на тебя зеленый дождь. И точно, догнал нас на полпути дождик-сеянец, припудрил влагой плечи. Глянул я вверх — синё, лишь белесый хвост — будто прозрачная дымка — следок от жаркого костерка — зацепился за кроны деревьев. Откуда только и влаги набрал, про нас заготовил? Дождик теплый, не в тягость. Редко такое увидишь: зеркальной ясности солнце в чистом небе и дождь. И травы разом принарядились, в каждой капельке горит, искрится свое маленькое солнышко, а прямо перед глазами в водяной пыли дрожит невесомый яркоцветный мостик. Радуга! Нет, никакому художнику не написать такой картины — красок не хватит. И настроение наше под стать этой красоте. Забыты горести, одна доброта в душе осталась. Что-то теплое расплескивается по всему моему телу, и мне кажется, что я уже вовсе и не я, а частичка этого леса, живу с ним одним дыханием, радуюсь вместе с ним наступившему утру, раскаленному добела солнцу и этому, неведомо откуда просыпавшемуся на землю дождю… Валька молчит, но затаенно улыбается чему-то. А Рудька — у него недавно выпал передний зуб — ловко насвистывает через дырку нашу любимую песню: «Там вдали за рекой догорали огни…» «Эх, ты, глаз-косоглаз!» — думаю я о друге. За прошедшую зиму он как-то незаметно вытянулся и ощутимо обогнал нас в росте. «В кость пошел», — говорит о нем моя бабка, которая еще молодым знавала его отца. Да и как не знать, когда они с моим батяней еще в гражданскую из одного котелка ели-пили, одной шинелькой укрывались. «Наш-то, как сбитень, росточку среднего, а выше его зародов никто не метывал. На месте не усидит, весь на ходу, посмотришь — будто бежать куда навострился. А Рудькин Михайло словно задумался о чем. А о чем, не поймешь. Все говорят, а он молчит, других слушает. Но если слово ввернет, то всегда впопад. Не сорил зря словами. А вот статью в кого пошел, не поймешь. Я ведь Рудькиных и деда с бабкой знавала, оба не из тех, кто толпу плечом раздвинут. А Михайло в женихах вымахал под притолоку. Рубаху сошьют — рукава расползаются. Многие девки глаз на него ложили, а он Рудькину мать выбрал. Сирота, ни кола, ни двора, ни юбчонки доброй. Да разве в таком деле кого слушают. Шибанула кровь в головушку и… прощай, молодечество. А Рудька в папаню ударился, мослатый. Ты дружи с ним, порода надежная. Сторонних словом худым не зацепили, и дурное к ним не пристало. А что победней кого по жизни шагают, не беда — зато живут по совести. Каждый гвоздь в хозяйстве своими руками вколочен. А ведь начинали на голом месте. У всякого ли руки подымутся?..» Вот почему Рудька, сколь я себя помню, всегда в моих дружках-сотоварищах. Все печали и радости пополам делим. Рудька, будто угадав мои мысли, протягивает нам с Валькой по огурцу. — Держите. У реки и воды напьемся. Огурцы немного горчат: видать, попали теневые, таились на гряде под широкими листьями, и я вздыхаю: — У Макси Котельникова небось слаще. Огород-то на солнцепеке и колодец рядышком. — А ты на чужое не зарься, свое потеряешь, — осуждает меня Валька. Крут он не только на словах, но и на деле. Сколько раз думу свою взвесит, лишь ему известно. Но что скажет, как отрежет. Возразить уже нечего. Потому как прав он со всех сторон. Вот и виноватюсь я запоздало: — Да мне что, до чужого делов нет совсем. Сейчас у всех огурцов наспело. Это по первости… — А мне с чужой гряды всегда огурец слаще кажется, — смеется Рудька. Весело так, беззаботно смеется. Забыл, видать, про неокученную картошку. И я не обижаюсь на справедливые Валькины слова. За ранним огурцом он и сам до чужого огорода охотник. Я гляжу на взмокревшую на его спине рубаху и, не утерпев, спрашиваю: — Валька, чего мы в такую даль забираемся? Порыбалить и здесь можно. Тут и река поглыбже, и омутов больше, чем в верховьях. Молчит Валька, голову скособенил, прислушивается к чему-то. И правда, журчит где-то неподалеку вода. Но тропа круто уходит в сторону, огибая затравеневшую низинку, а потом опять тянется навстречу солнцу… Нежно-сиреневые цветы волной подкатывают к нашим ногам. Терпко пахнет багульником. Разомлевшая трава дурманит голову, учащает биение сердца, и мы убыстряем шаг, чтобы скорее миновать это место. С нижнего сука ближайшей сосны медленно снимается глухарь. Валька провожает его завороженным взглядом. — Скрипач… — Почему скрипач? — спрашиваю его. — Перволеток. Петь еще не научился, хыркает только. Такого и палкой сшибить запросто. Рядышком подпускает, любопытничает… Да, улетела жареха. А мне глухаря жалко. Красивая птица. Пускай живет. Подрастет, лес песней порадует, птенцов копалухе поможет выходить. А без глухаря, без песни его весенней, какой же бор. Солнце уже печет во всю свою силушку, слепит, и над травами стоит зыбкое марево. В ярком духмяном разливе невольно примечаешь белые колокольчики купены, дымчатую горошину вороньего глаза, нежно-сиреневые лепестки дикой герани. По-особому красивы таежные травы. И у каждой свой норов, почти любая годится в дело. Только одну надо собирать на рассвете, с росной капелью на листьях, пока пчела не успела испить с цветка нектар, другую — наоборот, в дремотный полудень. А вот от того же вороньего глаза, что подобно перезрелой черничине просится сразу в рот, жди большой беды. Красива ягода, да ядовита. Срываю на ходу метелку желто-оранжевых цветков, покрытых темно-красными точками, мну их в ладони. На пальцы выбрызгивают кровавые капельки. Это — зверобой, у нас его называют «куртинкой» и «заячьей кровью». Трава и правда «зверя бьет», коровы от нее начинают беситься, лягать всех подряд. А человеку она на пользу, от ста недугов вылечивает. «Без муки хлеба не испечешь, без зверобоя здоровья не выправишь», — говорит моя бабка и пользует настои для укрепления десен, а мазь при лечении язв и ожогов. Мы же из лепестков делаем ярко-красную краску, а из созревших трехгранных коробочек вытрясаем мелкие, похожие на мак семена. Во рту они горчат, вызывают вялость и сонливость, но мы их все равно едим. И вот никто еще не умер. Да и не умрет, видно, потому что разной отравы и несъедобья мы перепробовали столько, что наши желудки уже не боятся яда, как Валькины пятки змеиных укусов. Высветлился на взгорье бор — это серебристые мхи, будто ранний снежок, припорошили землю, излучают голубое сияние. И сразу же хрустнуло что-то под ногой, глянул — пробрызнула сквозь беломшистую курчавинку настоящая кровь. Рыжик! Да не один. Разом приметил я несколько огненных пятаков. Любит этот гриб горелые места, побитые жарким палом ельники, почерневшую дернину на старом костровище и вот такие, прогретые солнцем горушки. Стоит он всегда чистый, будто умытый, крепкая шляпка от рос набирает густой красноты, и, лишь созревая, гриб показывает свою светло-оранжевую, а то и голубовато-зеленую бахрому. Соленый рыжик в доме — всегда для дорогого гостя, и набрать его на свежее жарево — мечта каждого грибника. Но сегодня нам не до этого, забота наша потяжелее — порадовать родных наваристой ухой. Вот и уводит Валька нас с приглянувшейся горушки в затравеневшую ложбину. Сочные мясистые листья, похожие на след коровьего копыта, перекрывают тропу. Трава эта так и зовется: копытень. Сколько ее ни топчи, все равно отрастет, не оставит полюбившееся место. А раз явился глазу копытень, ищи по соседству воду. И вправду, воздух заметно посвежел, и где-то совсем рядом, внизу, вызванивает невидимый родничок. К нему и спускается с песчаного откоса тропа. Тихоструйная речка открывается зеркально-зеленоватой заводью, притененной у берегов нависающими кустами смородины. Прямо из-под наших ног какая-то черная лента шлепается в воду, напугав нас на мгновенье. Рудька замахивается ведерком, но, увидев оранжевые крапинки на черной точеной головке, недовольно ворчит: — Ужака! Испугал… Убить ужа — накликать беду на всю родню. В примету эту мы верим, а потому ведем себя по отношению к ужам миролюбиво, играем с ними, греем их в пазушках, носим под кепками на голове, пугая девчонок. Может, и ужи чувствуют человеческую доброту, жмутся к жилью, выбирая для своих гнездовий прогретые огуречные гряды. А где поселится уж, там гадюке не бывать. Не подпустит он ее к человеку, не позволит обидеть нежданным укусом. Потревоженный нами «ужака» — зеркально-черная лента — стремительно пересекает реку, но мы уже не обращаем на него внимания. — Отсюда и начнем. — Валька, осыпая ногами комья земли, устремляется вниз, но на узкой полоске песчаного наноса, у самого уреза воды резко останавливается, будто наметка и вздувшаяся паруском на спине рубашка прекращают его разбег. Рудька, а следом и я на задницах соскальзываем вниз по крутому откосу, рядышком с выбитым желобом спуска, и уже готовы в радостном гике раззявить рты, но Валька предупредительно поднимает свободную руку. — Тш-ш!.. Распугаете рыбу. Воды в заводи — и колен не замочишь, чуть поглубже — у дальнего берега, где скрылся уж, а здесь солнышко беспрепятственно высвечивает на дне каждую галечку, каждую зернинку песка, и я замечаю, как у небольшого барханчика в светло-зеленых струях подрагивают короткие темные веретенца. Пескари! Вот она наша добыча! Не упустить бы… Не просеять сквозь частую ячею сетки. Пескарь, конечно, по нашему разумению — рыбешка глупая. Ему и жизни намеряно до первой встречи с прожорливой щучьей пастью, но просто так его не изловишь — пуглив не в меру. Стоит заслонить солнце облаку, скользнет по воде тень, и нет на облюбованном месте пескариной стаи. Была перед глазами и исчезла, лишь по дну еле приметно струится цевкой следом песок. А пескарню ищи где-нибудь по соседству, на новом прогретом мелководье. — Я спущусь ниже, — шепчет Валька, — насторожу наметку, дам знать. Тогда и… — Хватаясь за нависшие ветви смородины, он ловко поднимается на обрыв, с которого мы только что скатились. Колотится в груди сердце, не уймешь. Вот она, добыча, на виду. Пескаря, конечно, в ухе не соберешь, весь разварится, а на сковородке он хорош, да и так, над костерком подкопченный, дымом пропахший… Ну, а где рыбья мелкота, тут рыбаку может явиться интерес и покрупнее. Привычно снимаем и увязываем обувку. Я сращиваю тесемкой за ушки сапоги, хомутом навешиваю их на шею. Рудька расслабляет сыромятные шнурки на своих стареньких с отбеленными носками ботинках. Бот лежит между нами, и, пока я соображаю, кому первому он достанется, Рудька, преодолев в себе какую-то думу, снова зашнуровывает ботинки. — Промокнут — высохнут… Я знаю, почти уверен, что в предстоящем деле на шее мне сапоги сухими не спасти — все равно воды нахлебаются, — но как-то спокойнее от привычной заботливости к своим носимым вещам. Тревожась за друга, предупреждаю его: — Мать-то, за ботинки, знаешь… — А-а, за семь бед — один ответ. Впервой мне, что ли? Она и за картошку по голове не погладит… Негромкий посвист призывно раздается из-за кустов. Нашел, видать, Валька для рыбацкого зачина удобное место, перекрыл рыбе ход. — Иэ-эх! — кричит Рудька. — Поехали, ро́дные!.. Теперь чем больше шума и суматохи, тем лучше. Я взбалтываю ногами воду, шлепаю по ней ладонями, а Рудька резко взмахивает над головой ботом. Брызги — нет, не брызги, а осколочки солнца — взлетают вверх, и кажется, что на реке разыгралась настоящая буря: вода приходит в движение, клокочет, накатывается на берега, мутнеет от взбудораженного песка и ила. Но это, конечно, ненадолго. Муть тут же осядет, вода-то проточная, сама себя высветлит, нам главное — стронуть с места рыбу, выгнать ее к наметке. Мы с Рудькой кричим что-то несуразное, выделываем на воде кренделя, возбуждая себя криком, обретенной вольницей, переполнившим нас счастьем. За поворотом берега́, густо заросшие поверху кустами, раздаются еще шире, давая простор воде, по желтым откосам змеятся корни оказавшихся вблизи сосен. Одна из них, видимо, не выдержав напора шалой весенней воды, увлеченная собственной ядреной тяжестью, рухнула вниз. Вода, солнце и время сделали свое привычное дело — оголили сосну от хвои и сопревшего корья, и сейчас она огромной побуревшей костью почти полностью перекрывает Ниап. Около ее вершины взбитыми мыльными хлопьями скопилась пена, а рядом, посредине узкой проточки, и затаился наш Валька. Наметки не видно, из воды торчит лишь шест, который он крепко держит обеими руками и что-то напряженно высматривает в накатывающем на него замутненном потоке. Мы еще отчаяннее шумим и будоражим воду. Забыв про все, я с силой бью по ней сапогами, с каждым шагом сближаясь с Валькой. И вот он улучает момент, выдергивает наметку, и в ней что-то вспыхивает малиновыми угольками и зеркальными блестками. — Окунь, окунь, — ликует Рудька, — не упусти-и… — Не упусти-и… — вторю ему я. Мы на коленях ползаем по мокрому песку вокруг наметки, в которой бьются, отливая серебристой чешуей, три чебака и довольно увесистый окунище. Чебаки ровные, гибкие, похожие до последней чешуйки друг на друга: видать, и вывелись разом из одного икряного помета, плавали и кормились бок о бок, а потому и попали вместе в беду. Окунь горбат, но красив — с темноватым отливом вдоль колючего хребта и черными полосками на округлых боках. Ярко-красные плавники и такой же хвост огненными язычками подрагивают на солнце. А пескарей нет. Куда подевалась подсмотренная нами стайка, непонятно. Стрельнула в суматохе мимо наших ног или затаилась где-то в мутной воде? Нет, верней всего прошмыгнула беспрепятственно сквозь крупноячеистую сетку. Может, и подбирал ее дед с умыслом, чтобы не загубить напрасно рыбью молодь. Давно набрало солнце ослепительной белизны, плавится над самой головой, высветлило все вокруг, растопило утренние тени. Мы с Рудькой насквозь мокрые, но с удовольствием еще и еще раз окатываем себя водой, выискивая места поглубже, окунаемся с головой. Вода как парное молоко, и выходить из нее не хочется. Изрядно отмерили мы уже речным лабиринтом, проботали не один омуток, а в нашем ведре плещется всего десятка два чебачков-недомерков да мясистых крапчатых пескарей и лишь у самого днища таится полосатый окунь. Улов пока не очень знатный, можно сказать, «кошачий», но ближе к поселку, в низовьях, омутов будет больше, и мы надеемся на удачу. Очередной изгиб реки остается позади, и перед нами открывается темноликая протока в обрамлении густолистых корявых верб. Рудька с сожалением смотрит на меня: — Я вглубь полезу, а ты прижимайся к берегу, да сапоги не утопи. — Не утоплю. Где-то впереди не видимый нами Валька подает голос: — Давай, робя, шуми! Я «шумлю» около самых кустов, цепляясь за их теплые ветки, а Рудька делает шаг в сторону и сразу же проваливается в воду почти по грудь. Бот теперь ему не помощник, разве что на плаву подсобит держаться. Сжатая берегами река убыстряет свое течение, вербы склонились к самой воде, полощут в ней свои ветви. Ноги мои давно потеряли дно, я стараюсь держать их повыше, потому что там, в глубине, вода набрала остуды, да и так слышно — журчит, напевает где-то невдалеке ручеек, видать, пробился из-под суглинистого пласта неугомонный родничок, охлаждает речку. Ключей вдоль нашего Ниапа не так уж мало, вода в них разная на вкус: иную пей — не напьешься, пока не вздует живот, а от другой поневоле отвернешь нос — так напахнет протухлым яйцом. Но почти всегда в том месте, где вырывается на волю подземный источник, насобираешь маслянисто-вязкой голубоватой глины, из которой можно слепить свисток или какую-нибудь зверушку. И сейчас я невольно вглядываюсь в берег, но Рудька, которого течением вынесло далеко вперед, оборачивается и хрипит: — Не отставай! Шлеп, шлееп… Плыву я по-собачьи, стараясь по-резче ударить по воде руками и ногами. Сапоги, конечно, уже полны, тесьма тлеющей нитью обжигает шею, непомерная тяжесть влечет меня вниз, в холодный придонный слой, но я из последних силенок держусь на плаву, и кто-то неизвестный нашептывает: «Скинь сапоги, скинь», — распаляя этим мое отчаянье, но берег рядом, до кустов при желании можно достать рукой, и народившийся в груди холодок исчезает. «Когда же придет конец этой протоке и где же Валька?» Я старательно тянусь за Рудькой, похоже, и ему нелегко — ботинки сейчас что гири, — он уже давно плывет «солдатиком», держась руками за бот, и больше кричит, чем тревожит воду. Наконец течение выносит нас к круглой, как блюдо, заводи. Омут и мои страхи остаются позади, река ощутимо мелеет — ноги ловят дно, и, улучив момент, я выливаю из размокших сапог воду и начинаю потихоньку соображать. Песчаный островок в конце заводи, пробитый кое-где зелеными жалами осоки-резучки, расчленил Ниап на два рукава. Тот, что напротив меня, видимо, за лето под-мелел, его загатило сучьями и разным древесным хламом, воде здесь большого хода нет, и Валька наметкой сторожит вторую протоку — там я примечаю его синюю рубашку. Дно под нами постепенно поднимается, и мы с Рудькой, как богатыри в пушкинской сказке, возникаем из глубины, мокрая одежда облипает наши совсем не богатырские тела, вода стекает с нас ручейками, и, может, потому мы больше заняты собой и не замечаем, что происходит с Валькой. — Сю-да-а! — зовет он каким-то чужим голосом. Не сговариваясь, мы бросаемся к нему, увязая ногами в донном песчаном месиве. Кажется, что Валька борется с кем-то, пытается подняться и снова падает, и тогда из воды торчит лишь его круглая, как подсолнух, голова. На миг что-то черное, похожее на намокшее полено, появляется у Вальки в руках, он судорожно дергается в сторону, к песчаной полоске острова, и тогда я вижу, что в наметке, а вернее в обрывках сети, бьется огромная щука. Изгибаясь мощным, будто отлакированным телом, пробуравливая борозду в песке, она ползет к воде, и Валька животом падает на нее. Лицо у него испуганное, глаза что два позеленелых пятака, и он, пожалуй, впервые так растерян и не знает, что делать. Щука с силой бьет его хвостом, Валька вскакивает и в тот же момент, выхватив у сомлевшего от всего увиденного Рудьки бот, бьет рыбину по голове. Щука ненадолго стихает, а потом открывает в злобе зубастый рот — а может, это кажется мне! — и снова, дергаясь, рывками сползает к протоке. Валька снова бьет ее ботом, стараясь попасть чуть пониже головы, но разве такую громадину одним ударом успокоишь, и он, изловчившись, за хвост отдергивает ее к центру островка. — Теперь уснет… Вывалянная в горячем песке, щука смотрит на нас злым глазом-горошиной, пасть у нее приоткрыта — видна нижняя подковка челюсти, густо усеянная гнутыми внутрь зубами-зацепами. Такой только попадись! Валька обессиленно садится рядом с ней, тяжело и прерывисто дышит, видать, все еще приходит в себя. Мы с Рудькой молчим, ждем его рассказа. Нам-то что, отшлепали по воде, обувку не утопили — и ладно, а наш коновод вон с каким страшилищем схватился. — Будто торпеда выскочила, я и не понял сначала. — Валька встряхивает головой, рассеивая вокруг себя водяную пыль. — А сетка-то прелая, могла и пробить. А я, я-то по-первости и на ногах не устоял… Откуда только и взялась такая… Валька смолкает. Видимо, заново переживает случившееся. И то правда, откуда такой крупной рыбине здесь взяться. Верней всего, что сплавилась с озера по большой талой воде, облюбовала для кормежки холодную ключевую протоку, да припозднилась, а тут и вода скатилась в низовья, пленила ее песчаными перекатами, до следующей весны сделала хозяйкой Вербного омута. Но теперь рыбной молоди посвободней будет — поймали мы их обидчицу. Вот она, колодой лежит у наших ног. И мы, оглушенные такой удачей, лежим рядом с ней, теплый парок струится от мокрой одежды, журчит чуть пониже нас вода, шелестят листвой вербы. А над рекой, над зелеными шапками вербных вершин качается ослепительно-белесое марево, которое заполнило все небо, а сгусток солнца столь ярок, что при мимолетном взгляде на него глазам становится больно. У меня нет слов, чтобы сказать друзьям, как я люблю их, как дорожу их дружбой, как мне хорошо с ними сейчас на этом островке, затерянном посреди таежных лесов. Как хороши, как незабываемы такие минуты. Но лучшее сегодня у нас еще впереди. И, совсем разомлев от нахлынувших чувств, я отчетливо вижу, как нарочито медленно идем мы сельской улицей: Валька чуть сбоку, с наметкой и ведерком в руках, у нас с Рудькой на плечах шест, который прогнулся под тяжестью привязанной к нему щуки. А отовсюду сбегаются ребята, чтобы поглазеть на чудо, позавидовать нашей удаче, нежданному рыбацкому счастью…ВДОЛЬ КАНАВЫ, ПО МОСТОЧКУ…
Росли мы в свое время потихоньку, не то чтобы заморышами, но и не очень тянулись ввысь и раздавались в плечах: видать, было тому причиной не очень разносольное питание лихой военной поры. Но и жалобиться на скудость грех, лес выручал всегда: давал к столу грибы, ягоды, съедобное разнотравье, а при удаче — и боровую дичь. Вот почему с ранних лет дотошно изучали мы близлежащие леса, с каждым разом все дальше и дальше углубляясь от знакомых мест в тайгу, с оглядкой на приметные ориентиры и с тревожно-радостным ожиданием встречи с неведомой еще стороной. И это было как наваждение. Неодолимо тянуло под сень деревьев, за речку, за уходящую от поселка стрелой канаву, на новые нехоженые места, вслед за безмятежно плывущими куда-то облаками. Из рассказов старших, из первых прочитанных книг я знал, что есть на свете моря и горы, и реки не чета нашему мелководному Ниапу. А еще есть большие города, белые, как крыло лебедя-кликуна, залитые ярким электрическим светом. Верилось в это и не верилось, но тревожило всегда, особенно в тягучие вечера, когда перед сном собирались мы на кухне. Подкопченное стекло семилинейной керосиновой лампы, подвешенной за дужку к потолку, отражало металлической тарелкой-абажуром неяркое пятно света, сгущая в углах темноту и создавая тот спокойный тихий уют, который так располагает к беседе. Больше всего мы говорили про Сталинград, потому что именно под этим городом воевал мой отец, охотился за немцами со своей неразлучницей — снайперской винтовкой. А с последним письмом пришло новое слово: Саратов. Там в госпитале поправлялся отец. Как написал он в своем письме, «накрыли его засаду немцы минами и посекли, как капусту. В отместку за убитого им офицера». Отца за его раны и пролитую кровь мне до слез было жалко. Но главное, что он жив и слал приветы всей нашей многочисленной родне и всем знакомым. Я уже не раз рассказывал ребятам про его удачный выстрел и еще говорил, что мы с матерью собираемся в этот самый Саратов, на свидание с отцом. И мои друзья не смеялись надо мной, хотя, наверное, не верили в столь далекую поездку. Мать и правда обмолвилась в разговоре: неплохо бы навестить отца. Но все понимали, что это неисполнимо. В такое-то время, за тысячи километров? Но теплый уголек надежды уже разгорелся во мне, и я почти верил в эту встречу, жил ею и каждое утро напоминал матери о ее нечаянно оброненном слове. Но та только вздыхала в ответ. — А давайте фронтовику рыбки навялим, — предложил Валька, когда мы к вечеру собрались на заветной своей завалине у старой школы. — Раненым и больным завсегда соленого хочется. — Пескаришек из Ниапа, что ли? Так это разве для бойца рыба? — возразил ему Рудька. — Пескарь, он на сковородке хорош, особливо со сметаной, — задумчиво протянул Валька, — но мы на речку не пойдем, а махнем в Тебеняк, на озеро — щук вываживать. У меня и примана из ложки сделана. Блестит получше живого чебака, я ее кирпичной толченкой начистил. — Страшновато в этакую даль. Двенадцать верст, и все лесом. Да и дома не отпустят, — нерешительно намекнул я. — А мы им про это не скажем. Ну а лес… Что, мы его не видали? Дорогу я знаю, на мельницу два раза с дядькой ездил. А по пути кузнечиков наловим. Окунь до них здорово жоркий. — Тогда и червей накопаем. У нас в огуречной гряде их хоть лопатой греби, — как уже о решенном сказал Рудька. — И червей можно. Это для карася первое лакомство. — Валька у нас всегда в закоперщиках, если нет моих старших братьев. За ним и первое, и последнее слово. А тут и вовсе — рыбалить идем в неближнее место, щук да карасей ловить моему отцу в подарок. Ночевать убрались на Валькин сеновал, чтобы не проспать раннюю петушиную побудку. Домашним про нашу задумку я и словцом не обмолвился, по грибы отпросился. Меня и слушать бы не стали. Вот надергаем рыбы, тогда и разговор другой. Кто за доброе дело ругать станет? А грибов, при случае, и обратным ходом насшибаем. Солнце еще и крыши не коснулось, когда мы вышли с Валькиного двора. Остался позади поселок, росную песчаную дорогу вплотную обступили молодые сосенки. Никто их тут не сажал, нанесло ветром семена от недальнего бора. Стволы у сосенок корявые, многоростковые, а потому одеты они в богатые хвойные шубки. А вот уже справа встает спелый мачтовый лес, сосна к сосне, сплошная янтарная стена, что там за ней — не разглядеть, а слева начинается поросшая молодняком канава. Тянется она километровой нитью, прямит дорогу. Говорят, копали ее сразу после той давней войны пленные австрияки, а для какой нужды — никто не знает. Канава, да и только. Когда грибов на спешную жарешку надо, мы всегда по ней лазим. И с дороги не собьешься, и корзинку наполнишь. Растут по канаве красноголовики и обабки, а иногда и белый гриб порадует. Здесь же всегда водятся ежи, а потому безбоязно мнем мы костяничник и прелую хвою голыми ногами. Гадюка ежа сильней огня или мурашиной кучи боится, а нам этот зверек в радость. Встретишь ежишку, напугаешь по первости, иногда и катнешь колючий клубок ногой, чтобы услышать сердитое шипение, да и отойдешь в сторонку с миром. Разворачивайся, дружище, топочи по своим делам. Но сейчас нам не до ежей, дорога у нас дальняя. Сразу за канавой раздваивается она: одна на покосы правит, а другая — нам попутка. Идем, ежимся со сна. Воздух еще не прогрелся, сыроватый, но это ненадолго, вот только поднимется солнце… У каждого своя ноша: Рудька с ведерком, я — с корзинкой, а у Вальки брезентовый рюкзачок за плечами. И остальное все при нас: ошкуренные удилища из молодой черемухи, блесна Валькина, червяки в банке, съестной припас на весь день. А кузнечиков по солнцепеку наловим. Не заметили, как вдоль канавы проселок отмерили, отстучали босыми ногами по лежневому мосточку через усохшую, затянутую резучей осокой речку Марайку. А тут и вовсе встретил нас настоящий лес. Я и не видывал такого. Взялись мы с Рудькой за руки, примерились к придорожной сосне — не обхватишь вдвоем. Пилой-ручницей ствол пилить — у пилы развода не хватит. За деревьями и на земле будто в непогодливый день — сумрачно, настолько крона у великанов густая, не пропускает солнечный свет. Плотнее пошли, задеваем друг друга плечами, озябли, может, или еще какая причина. Взглянул я на Рудьку тайком, вижу, косится он на чащобу, на метровые заросли папоротника. Да и мне как-то не по себе. А тут еще Валька разговор завел. — Сказывал мне дедко про этот Крестьянский лес одну интересную жуть. Давно это было, когда еще царь верховодил, а может, и того раньше. И лес этот молоденький был, ровно как на канаве стоял. Бежали с далекого Сахалин-острова каторжане. Тайгой брели неходимой, Байкал-море на плотике одолели, дошли до нашего Крестьянского леса. И здесь решили сил набраться. А в сосняке, на елани, пас барских лошадей крестьянский сын Иванко. Накормил он их ржаной затирухой, напоил чаем брусничным, указал верную дорогу. А наутро стражники налетели. Видать, приметил кто-то беглецов у ночного костра, навел на Иванко беду. Ничего не сказал царским холуям крестьянский сын, да и не мог ничего сказать, так как от рождения был немым. В злобе убили стражники парня, забросали мхом да хворостом, а сами ускакали на своих конях. А незахороненный человек завсегда мается. Вот и ходит Иванко ночами по Крестьянскому лесу, бережет его от худых людишек. Где ногой ступит — белый гриб поднимается, а где слезу на землю обронит — зацветет цветок саранка. — Вальк, а Вальк… А он только по ночам бродит? — перебивает его Рудька. Норовит он попасть между нами, хоть на шаг, да подальше от леса. И я невольно высматриваю что-то за сизоватыми стволами. — Дуралей ты, что ли? Покойников с полуночи до первого луча встретить можно. Только они слепые, а когда идут, то гремят костями и руками впереди себя все нащупывают, — уже откровенно привирает Валька. — Коли увидишь, твори молитву или повтори трижды: «Свят, свят, свят!» Он и сгинет. — А если нет? И вдруг мы отчетливо услышали справа от нас потрескивание сучьев, потом в папоротнике завозилось что-то серое, огромное, нечеловеческий голос разорвал лесную тишину: «у-у-у!» Я увидел круглые от ужаса глаза Рудьки, удивленно-испуганное лицо Вальки и, раздирая глотку криком, ринулся вперед по дороге. Что было сзади меня, я не чувствовал и не видел. Да и когда было оглядываться. А впереди, в нескольких метрах, мелькали грязные Валькины пятки. За спиной, подгоняя его, бился истертый зеленый рюкзачок. Мне казалось, что сейчас костлявые руки достанут меня, сожмут запаленное горло, и скелет захохочет, потрясая мною в воздухе… Сколько мы отмахали проселком, не задевая залитых водой колдобин, не запинаясь об измочаленные колесами корневища, сказать трудно. Первым остановился Валька, вытер рукавом густо обсеянный крупными бисеринами пота лоб и что-то хотел спросить у меня, судорожно хватая ртом воздух. Задохнувшись от бега, я лишь по его губам понял: Рудька. И оглянулся. Из-за поворота вынесся наш товарищ, штаны на коленке у него были порваны. Он придержался около нас, оглянулся, грудь ходуном ходит, что меха в кузне. — Валька, а что это было? — Что-что, корова бабки Тюленихи, она у нее молоко приспала, в лесу шатается, здесь, видать, и ночует. — Корова? — А то кто же? Не Иванко же! — А тогда че ты наперед нас драпанул? — Это я вас попугать хотел, — вышел из щекотливого положения Валька. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. При лесе живем и леса боимся. Договорились про случай с коровой никому не рассказывать, иначе — засмеют. Прошли наши страхи, и лес добрей показался. А может, солнышко его высветлило, стволы подзолотило — каждая иголочка зеленым огоньком заиграла. И травы в тепле нежатся, росу допивают. Мимоходом ловим кузнечиков, накрывая их кепками. Ловить их тоже надо умеючи, сразу прихватывать пальцами за обе задние ножки. За одну возьмешь, без ноги упрыгнет. Словно ящерка! Той хвост прищемишь, крутнется тельцем раз-другой и метнется под ближнее укрытие, оставив на память извивающийся серый жгутик. Я всегда дивлюсь этому и жалею красивых юрких ящериц. Хоть и твари, а человеку полезны — мошек да комаров ловят. Да, много странного и непонятного в жизни. Иногда и задумаешься — откуда явилась такая красота, этакое изобилие красок, такое совершенство форм каждой лесной травинки, каждого цветка? Бабка наша уповает на бога — он все сотворил! И не верить этому, мол грешно. А дед по-молодому играет глазами: — Вся сила в семечке. В нем и тайны запрятаны Ты вот на отца похож, на мать сшибаешь, а не на Рудьку с Валькой. Так и в природе ведется. Обронит сосна шишку, разжелубят ее солнце да ветер, а лесной подстил семена примет…Глядишь: вокруг молодняк поднялся. И травка любая, и гриб, и огородный овощ — все себя через семечко повторяет. Природу, ее, брат, не обманешь. Есть семечко — будет новая жизнь, нет его — и любоваться нечем. — Валька, а откуда первые семечки взялись? — Какие еще семечки? — Вальке неизвестны мои думы, и вопрос его удивляет. — Ну, от которых первые деревья, трава, цветы взялись… — Ты от коровы драпал, случаем, того… — Он подозрительно смотрит на меня, и я замолкаю. Другим сейчас занят мой корешок: об озере, о рыбе думает, а я к нему с какой-то глупостью. Не только Вальке, и никому, наверное, не ответить, с чего началась-закрутилась вот эта жизнь. А может, и стояли всегда деревья, грелись под солнцем? Одни от старости падали, превращались в труху, на которой вырастали новые деревца? Все может быть… Вывела нас дорога к небольшому мосточку, под которым на дне овражка слезилась мелководная безымянная речушка. Лес позади остался, и дорога, огибая песчаные холмы, кое-где подбитые блеклой от пыли травой, привела нас к огородам. Я увидел приземистую деревянную церквушку, судя по ее виду, давно заброшенную, с забитыми досками окнами, с высоким почерневшим крыльцом. И сразу на восход солнца под гору от церквушки двумя порядками покатились избы, в чем-то похожие одна на другую. Может, почерневшими крышами, тесовыми воротами или наличниками, сделанными рукой одного мастера. А может, какой-то неприветливой нежилой темнотой своих окон. И лишь один дом, словно ненароком вышедший к самой дороге, всего лишь в семь венцов, срубленный из толстенных, почти метровой толщины бревен, осторожно поглядывал на нас узкими оконцами. Не дом, а крепость с бойницами, такому лютый сибирский мороз не наказанье, и ветрам не проникнуть за прочные стены. Поселочек намного меньше нашего и победнее народом. Улицу прошли — живой души не встретили. Дорога между тем круто свернула под гору, и мы вышли к мосту, рубленому, видать, с прицелом на большую весеннюю воду. Толстые, исщепленные местами плахи, плотно сбитые скобами, покоились на высоких почерневших сваях. — А это Ниап, — обронил Валька. — Ниап? — удивился я. — Наша река? — Она самая… Я с сомнением посмотрел на обрывистые песчаные откосы берегов, на ступенчатые тропки, круто спускавшиеся от огородов вниз, туда, где по каменьям беззвучно струился поток, который без особой надсады я бы перепрыгнул с первого раза. И это мне в удивление. Где набирает силу, откуда черпает воду река, чтобы около нашего поселка раздвинуть берега на длину вековой павшей сосны? Видать, и правда, дерево начинается с невесомого семечка, с крохотной коричневой слезинки, а река с такого вот ручейка, а может, даже с пробившего земную твердь говорливого ключа. Все может быть… Отшлепали мы босыми ногами по занозистому мосту, остались позади сомнения. Ниап так Ниап. Вальке обманывать не пристало. Улочка по эту сторону реки и вовсе на проулок похожа. Не избита колесами до песка, густая трава-муравка, которую у нас зовут птичьей гречишкой, подернула ее от избы до избы. И снова те же безжизненные окна — за стеклами, за геранью не угадаешь человеческого лица. Повымерли они все тут, что ли? Не поймешь. Даже не сбрехнет в подворотне какая-нибудь собачонка. А я беспокоюсь — где же озеро? Поселок позади остался, слева бор поджимает луговину. Уж не приврал ли про озеро Валька? Нет, не приврал… Явилась нам, поднялась из зеленей обдерненная травяными пластами насыпь. Потому и не приметили ее сразу. Высокие рукотворные валы уходили влево и вправо, а между ними чернел обомшелый сруб, в котором вместо окон были вставлены деревянные щиты-затворы. Через верхнюю кромку плах вода сбегала в темноликую заводь. Она-то и поит, не дает усохнуть ручью, давшему жизнь нашему Ниапу. Моментом одолели мы довольно крутой подъем и взлетели на широкую насыпь. И открылась нашим глазам такая неповторимая картина, что мы враз онемели, забыв обо всем. Будто накрыл кто сплошным оконным стеклом луговую чашу, столь огромную, что лес у дальнего закрайка кажется курчавинками зеленого борового моха. А над этим игрушечным лесом на глазах вырастает золотистая шляпа подсолнуха. И с каждой секундой обновляется все вокруг. Зоревая полоска медленно катится от дальних берегов к плотнике, и озерная ширь теряет свою зеркальную голубизну, какие-то невидимые светильники загораются в придонье, и вот уже все озеро полыхает малиновым пламенем, поджигая окрестные леса, камышовую опояску, плотнику и насыпь. И вся эта красота по частицам входит в меня, и сам я растворяюсь в ней без остатка. И нет уже ничего: ни далеко гремящей войны, ни пустоты в желудке… Забылись, закатились куда-то мои горести и печали. Есть только мои друзья и окружающий нас мир. Вот это, заполненное рябиновым настоем озеро, позеленелая плотника с шуршащей по шлюзам водой, притихший от общего горя поселок и народившаяся у заводи река… И все-таки где-то идет война. И живет это во мне тревожной натянутой струной постоянно и может забыться лишь вот в такие мгновения. И Валькин, и, возможно, Рудькин отец-безвестник уже навсегда прилегли где-то в далеких отсюда полях, и мой отец окропил своей кровью землю под Сталинградом за эту вот красоту, чтобы жила она всегда рядом с нами, жила вечно. И потому все мы так — и детвора, и взрослые — верим в неизбежную Победу, потому что нельзя отнять у нас привычный окружающий мир и передать его в чьи-то ненасытные руки. Стоим мы втроем на ветродуйном гребне охраняющего воду земляного вала, каждый по-своему меченный ненавистной войной, а потому дружба наша крепкой спайки и ее не разольет никакая вода. Впереди у нас целый день. Надергаем из озера чебачков, окунишек и карасей. А если повезет, то здесь, в глубинной круговерти у тесовых шлюзов, Валька выведет и подсечет на самодельную жерлицу увесистую щуку. Иначе зачем мы отмерили столько верст, ввели в обман родню. И Валька будто угадывает мои мысли: — Мелочь поделим поровну. Может, и поджарим что на костерке к обеду. Ну а щуку… Щуку сольцой приправим и на солнышко. Пускай Валеркин батяня набирает здоровья и бьет из своей снайперки фрицев. И я верю в его фарт, в нашу удачливость. Потому что и для Вальки, и для меня с Рудькой будущая посылка в Саратов — тоненькая ниточка к нашему недавнему прошлому, к незабываемым дням, когда беззаботно светило солнце и отцовские руки, их голоса всегда были с нами…СТЕКЛЯННЫЙ ЦЫПА
Прилегший на берегу Ниапа огромный зверь ни на минутку не стихает. Вздыхает, ворочается, ворчит, грозится своими огненными глазищами. Мальцом я пугался этого чудища, затаившегося за высоким забором, а потом привязался к нему всем сердцем, как к самому хорошему другу. Да и как было не полюбить его — наш стекольный заводик, который связывал всех в поселке соучастием в общей работе, поил и кормил каждую семью, а нам, пацанам, дарил неповторимые минуты счастья. Счастья, что рождалось от мимолетного общения с трудом настоящих кудесников — стеклодувов, с их поражающей смекалкой — удивительной чертой в характере русского мастерового человека, который ищет чудеса там, где вроде им и быть не пристало, и вносит в любую, даже самую грязную и монотонную работу дыхание светлого праздника. Не каждый, к примеру, в мастерстве мог с Иваном Соловьевым сравниться. Настольные лампы, кринки, кувшины, вазочки выходили из-под его рук на загляденье, излучали столько весенних красок, что хотелось ласкать их руками, будто ранние боровые первоцветы. Мужиков — настоящих мастеровых — всех без жалости увела за собой война, осиротила завод, оставив его немногим старикам, женщинам да глазастым подросткам. Последним я завидую: как же, рабочий люд, в школу ходить не надо, да и хлебная пайка потяжелей иждивенческого кусочка. Главная примета завода — высоченная каменная труба, над которой день и ночь не тает дым. Глубоко под ней, в топке, как тонкие соломины пожирает огонь березовое долготье, обжигающим потоком воздух идет к печи, плавит песок и разные там добавки в жидкое стекло. Труба не раз приходила нам на помощь во время лесных скитаний. Случалось, приплутаешь в тайге, начнешь потерянно метаться из стороны в сторону, пока не просветлеет в голове, не догадаешься забраться на вершину ближайшей сосны. И тогда среди зеленого разлива облегченно увидишь, что совсем рядом возвышается над борами белая свечка, и сразу успокаивается запаленное сердце — не даст труба потеряться, укажет обратный путь к поселку. Заводская печь и есть то многоглазое живое чудище, которого я так боялся. Печь без ремонта трудится всю войну, и мой дед говорит: «Прогорит кирпич насквозь, не сдюжит четвертого срока — быть тогда беде». Трудно поверить в его слова. Как это может сгореть сложенная из толстенных специальных кирпичей, похожая на громадную бочку печь, к тому же стянутая широкими полосами железа? Что она — берестинка или сухое полено? Работу у печи не каждый выдержит. Каменная кладка источает такой жар, что невольно прикрываешь лицо руками. Горячий воздух обжигает ладони, горло, раскаляет рубашку, костяные пуговки на которой становятся горячее малиновых угольков. И как только дед да и все другие, кого вяжет к себе работой печь, выдерживают такую парилку. А может, и не берет их жар потому, что наши бутылочки, говорят, хорошо жгут немецкие танки и осознание этого факта заставляет работать людей, не считаясь ни с чем, не прислушиваясь к ударам колокола на проходной — лишь бы дать норму, да еще что-нибудь сверх нормы… Горите, проклятущие танки — лишь бы выдержали, не прогорели каменные боковины печи, а сельчане выдержат, обеспечат фронт столь нужной бутылкой. На завод нас не пускают, строжат. Сидящая в тесовой будке, располневшая от своей болезни — водянки Настена Ильина, завидев кого-нибудь из ребят, высовывает в оконце голову: — Кыш, проклятущие! Нет с вами сладу. У будки рамы со стеклами поблескивают во все стороны, но глаз-то у сторожихи всего два, да и ругается она так, для постороннего уха. Разве нас от завода отвадишь, а о «секретной» его продукции известно в поселке последней собаке. Попугав нас своим басовитым прокуренным голосом, Настена покидает будку и, «случайно» не заметив, как ныряем мы под широкие ворота, медленно переваливаясь на своих распухших ногах, ковыляет к перекладине, на которой висит потемневший колокол. — Дон-н-н, дон-н-н… — плывут над поселковыми крышами и ближними борами печальные звуки. Не тает над трубой темноватый дымок, пожирает топка завалы березовых дров, заготовленных в деляне женщинами, пакуют проворные руки подростков в ящики еще не остывшие бутылки. — Дон-н-н, дон-н-н… — колокол задает ритм и течение жизни поселка, всех в нем живущих. И лишь только нам он порой напоминает о родительских наказах, о невыполненной домашней работе. А так, что нам время, когда чувствуешь за плечами крылья, а впереди еще целая жизнь. Не помеха нам проходная, не угнаться за нами грузной Настене. Да и ходим мы к проходной с единственной целью — поглазеть на прибитую к забору фанерную доску, на которой мелком записано, чья сегодня смена «лучше ударила по врагу». Но эту новость можно узнать и на заводе, там, где не стихает, вот уже четвертый год без отдыха бьется его сердце — плавильная печь. На заводской двор мы чаще всего проникаем через высокий забор, который тянется вдоль поселковых улиц и переулков, соседствует с огородами, березовой рощей, а дальними своими звеньями взбегает на приречный косогор. Подгнившие столбы кое-где не выдержали тяжести трехметровых, заостренных поверху плах, и забор целыми пролетами лежит на земле — подправлять его некому. Так что нам и лаз искать не надо, тем более нырять мышкой в подворотню — иди спокойнехонько, до Настены, как до неба; главное, не распороть нечаянно ногу — повсюду кучами насыпан стеклянный бой. Но такая печаль ненадолго, так как привыкли наши босые пятки к порезам — зеленоватыми осколками густо сдобрены многие улицы в поселке. Другое дело дротик — тонкая, как паутинка, стеклянная нить. Такую глазом не углядишь, иглой не вытащишь — одна надежда на печь… Помню, как огнем полыхала пятка, «поймавшая» где-то невидимую стеклянную занозу. Исковыряла мне бабка ее иголкой, отложила в сторону приготовленный отломыш алоэ: — Иди к деду, он тебя разом вылечит. А дед только усмехнулся, подставил ведро с водой: — Окуни свою страдалицу… Не понимая, что к чему, отмачивал я в воде ступню, усмирял нутряной жар. Дед поигрывал рабочей трубкой, на конце которой пламенел малиновый катыш набранного только что из печи стекла. — А ну, повернись. — Он развернул меня к себе спиной, согнул в колене пострадавшую ногу — что-то теплое, ласковое коснулось мокрой пятки, будто дохнуло от костра жаром, и разом утихла боль. — Ну, вот и все. Не успел тогда родиться во мне страх от мгновенного соприкосновения зароговевшей подошвы с испепеляющим сгустком стекла, а позднее я еще не раз прибегал к помощи стеклянного «магнита». Сам завод со стороны похож на длинный разновысотный барак, накрытый общей горбато-тесовой крышей, которая от многочисленных латок похожа на лоскутное одеяло. Зимой крыша под тяжестью снегов угрожающе прогибает вниз свою уставшую спину, будто хочет прогреть ее над печью, но людям некогда опаситься, смотреть вверх — их притягивает печь, не отпускает от себя ни на минуту. В этом бараке много разных загорожек, комнатушек, закоулков, бродить по которым интересно: всегда увидишь что-то новое, найдешь необычный кусочек стекла… Взрослые нас не гонят, им Настена — не указ, главное, чтоб не поранились, не обожглись об остывающие малиновые шкварки, не подсунули куда-нибудь руку. Бабка, правда, узнав о посещении завода, ругается — «опять тебя черти туда носили», но иногда сама припрашивает: — Сходил бы к деду, отнес поесть. Это значит, что дед опять подменил своего сменщика, тот приболел и не вышел на работу, а печь не остановишь. И попробуй покрутись около нее вподряд две смены, да еще без приварка. Тут и двужильному не под силу. И люди понимали это, старались не дать болезням одолеть себя, превозмогая недуг шли на призывный звон колокола. Да, у войны был жесткий начальственный голос, совсем как у наезжавшего с райцентра уполномоченного Маклакова. Обычно он останавливал лошадь у проходной, оправлял под ремнем гимнастерку и сразу шел к доске, внимательно списывал в свой блокнотик фамилии, против которых мелком были вписаны буквы «н/б» — не был. Пока на конюховке распрягали запаренного маклаковского жеребца, он сычом, ни с кем не разговаривая, ходил вокруг печи, заглядывал в дробилку, лабораторию, и там опять что-то писал. И каждый чувствовал себя перед ним виноватым. Потому что знал: сейчас уполномоченный до утра засядет в конторе, а посыльный будет метаться по поселку и заводу, отрывая одних от работы, других от домашних дел, чтобы он, Маклаков, узнал, почему часть бутылок стала потрескивать и пошла в бой, и почему человек не выполнил установленную норму. Бабка про него говорила, но вполголоса, чтобы я не слышал: «Опять этот лихоманец приехал, нет от него покоя…» Но приказать человеку не болеть не мог даже властный Маклаков: у жизни свои особые повороты, люди и без окриков работали на износ, предела которому они и сами не знали. А может, и знали. И лишь вера в неминуемую Победу да наши вечно голодные глаза помогали им держаться и делать невозможное. Только сейчас я это по-настоящему понимаю и как бы заново ощущаю тот давний всплеск доброты и ласки со стороны старших к нам, постигающим азбуку жизни в столь суровое время. И потому не только одни беды выпали на наше детство. Случались и радости. Подаренные взрослыми, рожденные мастерством их добрых рук, желанием хоть как-то облегчить нашу обиженную долю… Снова и снова возвращается ко мне один из тех давних дней. Помню тихое незлобное урчание весенней грозы, только что отхлеставший щеки окон ядреный холодный дождь, прибитый его тугими струями песок дороги, еще не успевшую потемнеть свежую зелень палисадов. Стоящий в школьном дворе тополь, унизанный грачиными гнездами, поймал закатный солнечный луч, и он вспыхнул свечкой, рассыпав искорки по листьям, подзолотив каждую веточку. Тихий покойный вечер. Лишь постукивает что-то на заводе, да ворчит свалившаяся за приречный бор туча. — Дон-н-н, дон-н-н… — справляет свое дело Настена, а может, и кто другой из вахтеров, таких же, как она, надорвавших в работе здоровье женщин. С глиняной корчажкой, увязанной в платок, мне не страшна проходная — обед несу деду! — но я продираюсь в щель между держащимися лишь на верхних гвоздях досками. В заводском помещении тепло, смрадно, на зубах сразу же начинает похрустывать горьковатая песчаная пыль. Дед стоит у печи. На лице, брюках, распущенной рубашке играют рыжие блики, такого же цвета язычки вырываются из круглых печных окошечек, опаляя жаром; горячее дыхание достигает меня, хотя я и стою далеко, у самой стенки. Печь посматривает на меня злыми малиновыми глазами, ворочает в своем брюхе огненное варево, которое без передышки вспухает пузырями, клокочет, громко вздыхает… Увидев меня, дед что-то маячит пальцами своему помощнику Косте Богданову и, пока я развязываю платок, подходит, садится на широкую черную лавку. — Ну, как вы там? — Управились… — Я снимаю с корчажки крышечку. Над корчажкой поднимается белесый парок — спорой ногой, как и велела бабка, дошел я до завода, не остудил варево. Я вижу, как добреет дед, отрешается от работы, унимая запаленное дыхание. Ему приятно, что в семье его не забыли, принесли вот горячей похлебки, и он поужинает совсем по-домашнему. — Костя, а ну, дуй сюда, — зовет он своего подручного и, видя его замешательство, говорит: «Давай, давай, не мешкай. Нам с тобой до нормы еще осталось начать да кончить. А на пустой желудок много не выдуешь…» Костя дома у матери — седьмой роток. И свой рабочий паек почти весь оставляет малышам. Отца они отплакали еще в начале войны, и теперь вся надежда многочисленных богданят на Костины руки. Он неловко топчется около нас, не решаясь присесть, поглядывает на меня, но дед ладонью припечатывает его к лавке. Кусок принесенного мною хлеба уже лежит на тряпице тремя равными обломышами, я понимаю намерение деда и торопливо говорю: — Мы только что вечеряли. — Ничего, а ты на сверхсыток, глядишь, и подрастешь чуток. Подрасти кому не охота. Уж не бередил бы дед мою рану, надоело на друзей заглядывать снизу вверх — они поднимаются как на опаре, а во мне что-то застопорилось. Будто худосочный обсевок на огородной меже. Но не объедать же уставшего деда, ему сейчас силы нужнее. И потому я ухожу от корчажки в дробилку. В мой живот хоть сколько толкай, все равно он будет урчать недовольно. А им с Костей хлеб на пользу, лишние бутылочки фронту… Дробилка — отделенный от остального заводского мира тесовыми перегородками закуток, в котором просеивают песок, промывают стеклянный бой, разбивают и растирают в порошок какие-то спекшиеся белые глыбы. Стеклянная каша в прожорливой печи варится беспрестанно и требует ежедневной добавки. Здесь все: земляной пол, доски, штабелек бумажных мешков у стены, насыпанный горкой песок, носилки с битым стеклом — припудрено едучей пылью. Работающая на завалке шихты тетка Агнея сдергивает с подбородка серую отвердевшую тряпочку и произносит устало: — Шел бы ты отсюда, милок, здесь же дохнуть нечем. И заходится в кашле. Совсем как мой дед от своего табака. У меня тоже начинает пощипывать в горле, глаза подплывают слезами, но мне жалко Агнею, и я остаюсь. Работа здесь самая тяжелая, может быть, потрудней, чем в деляне на заготовке дров, едучие порошки съедают легкие, заливают нездоровой краснотой глаза, и потому в дробилку посылают работать только добровольцев, для которых удвоенный паек «за вредность» поважнее собственного здоровья. Вот и Агнею силком никто сюда не тащил, сама напросилась: дома трое пацанят и каждый с утра заводит известную любой матери песню: «Есть хочу…» В напарниках у Агнеи Валька Сысоев со странным прозвищем Колчак. Хотя чего тут странного. Говорят, кто-то из давних Валькиных родственников ездил в обозе у этого самого Колчака, что в гражданскую приходил и на наш завод, порол шомполами рабочих, но те разбежались по окрестным лесам, а воевать против красных не захотели. Родившись однажды, кличка прилипла ко всей сысоевской родне, передается по наследству. Вот и отец у Вальки до войны был Колчаком, и сам он теперь носит это прозвище. Валька похож на маленького мужичка. Плотный, невысокий, вровень со своей совковой лопатой, которой он кучкует песок. Одежонка у него, видать, отцовская: и пиджак, схваченный в талии сыромятным ремешком; и кирзовые сапоги, в которых он утонул до самых коленок; и надвинутая до сизо-пыльных бровей фуражка. Валька старше меня всего года на три, но он работает, получает усиленный паек, и потому я для него — мелюзга, с которой не всегда можно и разговаривать. По той же причине он для меня не Колчак, а Валька Сысоев, ну, в крайнем случае — Сысой. При моем появлении он еще усерднее начинает подгребать песок, но Агнея охолаживает его: — Уймись, Валек, передохни… Глаза у Вальки, как у окуня, горят воспаленной краснотой, брови и ресницы распушились, будто покрылись изморозью. Он садится на березовый чурбак, достает из кармана самый что ни на есть настоящий кисет. — К деду, что ли, пришел? — К нему. Сменщик евоный заболел. Агнея ненадолго выходит, и мы остаемся вдвоем. — Закуришь? — дружелюбно предлагает Сысой, протягивая мне кисет. — Не-е, не хочется. — И мне в куреве нужды особой нет, а надо… Дым, он эту грязь, — Валька кивает на седые стены, — в грудь не пускает. Все как-то легче. Агнея-то опять пошла кровь из себя выводить. Который день уже харкает. При тебе-то постеснялась… А ты и правда иди отсюда, а то потом полдня этой едучкой плеваться будешь. Застилает мне глаза какая-то пелена. Может, виновата вот эта самая едучка, а может, жалость к маленькому мужиковатому Сысою, к харкающей кровью тетке Агнее подмывает слезами мои глаза. Я торопливо протягиваю Вальке руку: — Бывай… Дед с Костей уже работают у печи, пустой горшок увязан в тряпицу. Пора бы по бабкиному наказу возвращаться домой, но я присаживаюсь на лавку, наблюдаю за ними. Вот Костя сунул в малиновое оконце конец трубки, крутанул ее несколько раз в ладонях. Не каждый сумеет вот так, на глаз определить, сколько надо поймать на металлический стерженек стекла, чтобы бутылка в форме получилась ровной и тонкостенной, без всяких потеков и донных утолщений. Костей дед доволен, я это знаю, и, может, скоро благословит ему одну из своих стеклодувных трубок для самостоятельной работы. Костя ждет этого дня, мечтает стать настоящим мастером-стеклодувом. Ведь тогда на доске у проходной краской напишут: смена К. Ф. Богданова. Костя передает деду трубку с огненным солнышком на конце, и дед начинает свой обычный «танец». Сначала у него оживают руки, они как бы существуют отдельно от туловища, раскачиваются, плавно взлетают вверх, отрешенно опускаются вниз, легко играют невесомой трубкой, подкручивают ее, подносят к губам, и тогда в движение приходит все: ноги, спина, шея, голова. Огненный шар летает вокруг деда, растет с каждым прикосновением трубки к его губам, и я зачарованно слежу за его полетом. И может, потому до меня не сразу доходит, что завершает свой привычный «танец» дед не около просаленной бутылочной формы, а подходит к столу с металлической столешницей. Огненный шар медленно катится по ней в одну сторону, в другую, меняет свои правильные красивые очертания, и вот уже на конце трубки что-то бесформенное, уродливое, совсем для меня не понятное. Костя подает деду большие ножницы, и он стрижет ими вязкое стекло, будто баранью шерсть, что-то подбивает, похлопывает, вытягивает какие-то ленточки, завивает колечки. Радостное предчувствие обдает меня горячей волной. Я уже стою рядом с дедом — что мне малиновый жар! — да и многие женщины вечерней смены сгрудились вокруг стола, наблюдают за его руками. Да, я не ошибся в своей догадке — на глазах у всех рождалось настоящее чудо — стеклянный малиновый петушок. Вот и полураспущенные крылышки, и остроклювая головка со спадающим набок гребешком, и гордая округлость груди, и пышный ленточный хвост, и даже шпоры-отростыши. Оживи он сейчас, и будет, наверное, таким же горласто-драчливым, как наш куриный хозяин Цыпа. Бабка всегда держала задиристых петухов, которые — перья вон! — а соседских всегда бивали. А еще любила певучих. Голос которых проникал сквозь рубленые стены домов и слышен был не только в своем подворье, но и на дальних подступах к нашей улице. Это нам, ребятам, ранняя петушиная побудка в надоедливость, а хозяйкам — в успокоение: не проспали к началу своей извечной домашней управы. И несмотря на то, что из всех щелей выползала нужда, без всякой жалости донимала война, заставившая многих под корень извести дворовую живность, бабка уберегла от дедова ножа и коровенку нашу, и забияку Цыпу, не раз терявшего радугу своих перьев в поединках со своими куриными врагами. Эх, Цыпа, Цыпа! Сегодня с высоты прожитых лет и не припомню, угодил ли ты все-таки в чугунок, или доконала тебя в стаюхе обычная куриная старость. Не будь тебя, разве придержались бы в памяти рассыпанные в дворовой конотопке лучистые одуванчики — цыплята, а может, и припозднилось бы за дремучими борами солнце, не услышав твоей красивой предутренней песни. И в моей книге детства не оказалось бы одного дорогого листочка. А значит, было бы оно неполным, обделенным мгновениями радости… И сегодня в домах моих сельчан из-за резных стекол «стенок» или кухонных буфетов нет-нет да и явится глазу, обожгет нечаянно память, полыхнув радужным хрустальным многоцветьем, какая-нибудь поделка. Сделанная искусными руками в короткие минуты отдыха, рожденная воображением и светлым душевным откровением мастера. Нам, ребятишкам, на утеху. Потому и звал нас постоянно завод на высокий берег говорливого Ниапа, под свою горбатую крышу и каждое свидание с многоглазой печью сулило особые радости — не возвращались мы от нее без подарка, а то и просто горстки горящих самоцветами стеколок. Многое из той жизни утеряно безвозвратно, многое позабылось. А вот рукотворный петушок и сейчас стоит перед глазами, строжится гордо вскинутой головкой, черными бисеринами глазенок. Живет он во мне тихой радостью, дальними улыбками дорогих мне людей, что стояли когда-то вокруг стола в старом задымленном помещении нашего заводика, любовались работой мастера — моего деда, давно сошедшего с земной дороги к месту своего вечного покоя. А может, это его неугомонная душа продолжает жить во мне горячим осколочком, тревожит память, не давая забыть светлых счастливых минут среди всеобщего горя…Испытания
ЧЕРТОВА ЯМА
Нет, не приторопишь рассвет хворостиной, как нашу блудливую коровенку Зорьку, не подсушишь росные травы до восхода солнца, как бы этого ни хотелось. Будто недосуг светилу очнуться раньше времени, подзолотить вершинки заречного бора, помочь собраться нам в задуманную дорогу. Жди, томись, вылеживай на полатях бока, пока не растает за окнами сумеречь и бабка вслух подумает: — Ну, кажется, и обогрелась дорога. Пока до места доберутся, совсем теплынь подойдет. Пора будить… И не отправляла бы она нас в лес, да растревожили мы ее вечерним разговором, что уродило нынче за Чертовой ямой видимо-невидимо капризной ягоды малины. И правда, стояла в моих глазах вся усыпанная молочным цветом, едва выбросив первые листочки, колючая поросль. Заморозки в этом году припозднились, не успели коснуться цвета, тут уж деваться некуда — быть ягоде. Это любому понятно. Вот и загорелось бабке насушить ее про запас, чтобы поить всех в зимнюю пору запашистым чаем, лечить наши бесконечные простуды целебными настоями. А нас долго упрашивать не надо. Сами тот разговор завели, с расчетом на бабкин интерес к довольно редкой в наших лесах лакомой ягоде. Есть или нет малина, пока и нам неизвестно, хотя время, конечно, раннеспелке подошло. А вот Чертова яма всегда на месте. Огромным темно-коричневым блюдом покоится это озерко среди до удивления белокорых берез. Не озерко даже, а какая-то бездонная воронка, заполненная тяжелой непроницаемой водой, которая студит руки даже в самый жаркий день. Вот и не дает нам яма покоя, тревожит своей нераскрытой тайной, до которой, несмотря на все страхи, хотелось бы добраться. Кто ее так прозвал и когда, того и вездесущая бабка не знает. Но то, что водится в ней разная нечисть, верит, как верят в это многие бабки в нашем поселке, а мы, ребятня, и подавно. А потому не можем пройти равнодушно мимо заполненной дегтярной водой впадины, не подумав о том, что скрывается в ее глубинах. Зовет, тянет Чертова яма в свое придонье, под черное покрывало воды. И это желание, как жгучий крапивный зуд, не уйти от него и ничем не успокоить… Пока я укладываю в корзинку банки-набирушки и уже на пороге выслушиваю наперед известные бабкины наказы, брат Генка ныряет в кладовку. В руках он держит моток добротной веревки, и я догадываюсь, что у него свои, особые виды на наше лесное хождение и на Чертову яму, опять он что-то задумал такое, отчего мне заранее становится не по себе. Молчу: как бы ненароком его не выдать, придет время — расскажет, зачем утянул запретную веревку-увязку, к которой без ведома деда и прикасаться нельзя. Но что до этого Генке. Парень он живой, резкий, и все запреты не для него писаны. В ступе его, по словам бабки, не утолчешь и без поводка на улицу не отпустишь. А вот ведь не углядела, выпустила, да еще и с покосной веревкой впридачу. Веревка в хозяйстве — вещь, конечно, незаменимая. Без нее колодец не почистишь, со стога не спустишься, воз бастриком не затянешь. Да и мало ли для какой надобности она нужна. Вот и бережет ее дед пуще своего кисета, держит в кладовой под висячим замочком. Наравне с хлебным и другим припасом. Но Генка о возможной трепке не думает. Авось старики не хватятся, а там обратно на гвоздь повесим. Замок-то мы давно гвоздем открывать наловчились. По уговору захожу я за другом Валькой. Живет он по нашему же порядку, всего через четыре дома, в старом из почерневших от времени бревен пятистенке, с четырьмя окошками на солнечную сторону. Валька приходится нам родней, правда, не очень близкой, но все же мы с ним — «общих кровей». Голова у него лобастая, курчавая и круглая, как подсолнух, а потому понятно, что дразнят его Башкой. Прозвище, на мой взгляд, злое, но Валька, заслышав его, отзывается без обиды, не лезет, как другие, сразу в драку. Характера он доброго, и, хотя покрепче многих наших пацанов, силу свою не выказывает, а вот заступиться — это всегда. Вот и тянемся мы к нему, ловим каждое его слово. Наверное, и сегодня он в нашей компании неспроста. Нужен Генке в тайных его задумках-проказах надежный помощник, а кто лучше Вальки в рисковом деле сгодится. Валька встречает меня в ограде, ладошкой вытирает губы, будто только что ел блинки со сметаной, сыто жмурит глаза, но я-то знаю: живут они покруче нашего, припасов наперед не имеют, печь и ту не всегда топят, так как заправлять в чугуны нечего. Да и бабка, когда разговор заходит о Вальке, говорит лишь одной ей понятные слова: «Этот нигде не пропадет. С пальца ест, с пригоршни припивает». Не осуждает, а жалеет Валькину бедность и всегда старается положить в дорогу кусочек и на его долю. Одет Валька, как всегда: синяя сатиновая рубашка, перехваченная в талии шнурком, и брюки, на которых столько разных заплат, что не поймешь, какого они цвета. Обувки у Вальки нет. Змей он не боится, давит их окаменевшими от грязи пятками или ловит за хвост и, раскрутив над головой, с силой бьет о ближайшую сосну. Ну, а где Валька, там и Рудька. Его тоже дома не оставишь. Отцы, матери наши дружбе своей начало положили, и нам она наперед заказана. Я от него, как от брата, крошки не утаю, любой малостью поделюсь, а тут малина, ничейная ягода… За зиму Рудька заметно подтянулся и от большой худобы стал еще нескладнее. Перебранная матерью на десять рядов одежонка висит на нем так, что Рудьку впору ставить на огород, пугать обнаглевших за войну ворон. Нижняя губа у Рудьки изуродована шрамом — меткой, полученной во время одного из наших огородных набегов. Лицо друга будто припорошено золой. Бабка говорит, что зорил он сорочьи гнезда, вот и оконопател. Весь сор с яиц на лицо перекинулся. Но Рудька на конопушки свои давно плюнул — с лица воды не пить. Весна не одного его «сорочьим сором» пометила. Вон и Шурку стороной не обошла. Зовем мы ее чаще Парунькой, по имени матери, тетки Парасковьи, но она к этому привыкла и на «Шурку» давно не откликается, будто не ее и кличут. Шурку в наши походы приглашай-не приглашай, все равно явится. Откуда только и прознает. Да и как не прознать, когда у них с Валькой и дворы, и огороды соседствуют, а колодец на общей меже выкопан. Жерди с огорожи давно порублены на истопку, так что шагнул через межу, и считай — в гостях. Нам это намного удобней, чем ходить обычным путем через ограду, где всегда можно нарваться на родительские расспросы. Шурка — мосластая, худосочная девчонка с белой куделью спутанных волос, перехваченных над ушами простеньким платочком. Из-за волос к ней прилипла кличка — Седая, но кто назовет ее так, может и схлопотать от нашей ватажки, так как друзей мы в обиду не даем. В общем, Шурка — как и другие девчонки, не хуже и не лучше, разве только что глаза… Не глаза, а осколочки весеннего неба. Горят на лице первоцветами-васильками, и мы все украдкой любуемся ими. Шурка всего боится, и, быть может, потому нужна нам в лесных скитаниях, что ее вечные страхи помогают нам преодолевать подобное в себе и чувствовать себя ее защитниками. В нашем окружении Шурка оживляется, радуется каждому слову и смеется так громко, что у дороги сразу стихает стрекот кузнечиков. Она не спрашивает, зачем и в какую сторону мы идем — куда поведем, туда и ладно. А в лесу всегда заделье найдется. От поселка до Чертовой ямы нашим босым ногам — не больше часа неторопливой ходьбы. Если, конечно, не нырять постоянно в придорожные травы, не гоняться за юркими ящерицами, не обирать с обочин рдеющую землянику. Набитая песчаная дорога, отмеченная чьим-то одиноким колесным следом, уводит нас сквозь ельники-мелкачи к старинному сосновому бору. И зовут его по старинке — Крестьянским. Сосны здесь не в один обхват, не помечены ранами подсочки, до желтизны напоены живицей. Сколько лет им — не угадаешь. Еще дед мальчонкой бегал сюда, и дедов отец тут вырос. А лес стоит. И, видно, долго будет так красоваться. Солнечно в нем, тепло, уютно. Невидимый нам в зеленой кроне зяблик мелодично выводит свою бесхитростную песенку: рюм-рю, рюм-рю-рю… Жалуется на что-то или радуется нарождающейся заре? Неуемно стрекочут в придорожье кузнечики, шагнешь в их сторону — замолкнут, возвратишься к дороге — опять поднимают привычный гвалт. Вспыхнула прямо на песчаной обочине ранним костерком рябинка. Вокруг зеленым-зелено, а ей, видно, невтерпеж заманить на обед лесных пичуг, вот и расцветила листья зоревыми красками, подрумянила раньше времени грозди. Ягод много, примета верная — к дождливой осени. Не скоро еще залетье, незабываемая пора листопада, да и не так далеко. Рябинка решила об этом напомнить. Возится в ее ветвях какая-то пичужка, хлопотливая и домовитая: наверное, гнездо с птенцами от нас оберегает. Мы сторонкой минуем куст с серебристой непоседой, имя которой в народе свое отпущено: поползень. Видно, прозвали так, что мечется птаха по веткам, места себе не находит. Что ж, живи себе в удовольствие, радуйся солнышку, и нам с тобой веселее. Свежо, ярко горят на солнце листья кустарников, лоснится соком каждая хвоинка. Радужное цветочное половодье подкатило к самой дороге. Не утерпел, принял в сторону, туда — в зовущие разноцветы. Травы мне в пояс, иногда по грудки, не идешь, а разгребаешь их руками, будто плывешь куда-то, забыв обо всем на свете. И парят пообочь от проселка огромными свечками сосны-вековухи, и взбитые комья утренних облаков тоже спешат по слепяще-синему небу. Качается в прогретом воздухе, переливается бело-розово-лиловое марево, бродят медово-полынные запахи притомившихся трав. Все вокруг напоило солнце теплом и светом. Невесомым дождем стелется по некошеной траве паутина. Тут и там мерцают малиновые угольки лесной герани, золотистые звездочки зверобоя, а вон за резным веером папоротника затаился и вовсе редкий в нашем бору цветок — дикий пион. Тянется рука сорвать его, да красоту губить жалко. Пускай украшает лес, благоухает на радость шмелям и диким пчелам. Поднялся рукотворной горкой на пути муравейник, весь усыпанный понизу отборной земляникой. Млеют, лоснятся от сока ягоды. Спешно обираю кустик, другой, наполняю рот пахучей сладостью… Нет в лесу скучного постоянства, на одном и том же месте всегда находишь что-то новое, интересное. Здесь хочется говорить громко, смеяться, кричать во весь голос и даже петь песни. — Давай, на дорогу, — остужает Генка мои восторги. Идем врассыпку, не ступая след в след. Примета худая: чужой след топтать — умрет кто-нибудь в родне. Верь не верь, а нам забывать об этом не годится. Это Валька уже отца с фронта не дождется, а наш еще воюет, из снайперской винтовки бьет ненавистного фрица. Чем ближе подворачивает дорога к Чертовой яме, тем сдержаннее ведем мы себя, почему-то приглушаем голоса, а Шурка и вовсе переходит на шепот: — А правда говорят, что черти по ночам в трубе собираются, а коли вьюшку открыть, то и в дом залезут? — В трубе домовой живет, он их не пустит, — серьезно отвечает ей Генка, а может, и шутит, его ведь не поймешь с первого раза. — Мне мамка говорила, если черт на глаза явится, надо обвести вкруг себя палкой черту́ и сказать трижды: «Свят! Свят! Свят! Ступай из песка веревки вить!» Он и отстанет. Ему работу надо невыполнимую придумать: воду в решете носить или сквозь игольчатое ушко пролазить. — Эх, мне бы какого-нибудь самого захудаленького черта повстречать, — притворно вздыхает Генка, — я бы его упросил каждый день каральки со сметаной носить. И не только вьюшку, дверь бы ему открыл. — Враки все это, про чертей, — встревает Валька, — сказки для нервнобольных да девчонок. — Как же враки! Вон дед Глухарь с ними знался, так черти к нему и явились… Случай этот знал весь поселок. Кто посмеялся вдосталь, а кто и молитву вспомнил. Про Тимофея Глухаря говорили с опаской, будто может он заговорным словом остановить свежую кровь, выгнать из тела жар-лихоманец и даже усыпить человека своим тяжелым черным глазом. И правда, самые брехливые собаки виновато поджимали хвосты и прятались в подворотни, когда шел он улицей, ступая не по-стариковски легко, прямой, высокий, с вечно непокрытой головой, будто припорошенной ранним снегом. В его ограду нас не затащили бы на аркане. Потому что огородные ужи свободно ползали у него по заросшей конотопкой дворовой поляне, грелись на широких ступенях крыльца, а на самом видном месте при входе в сени висела вязка сухих змеиных шкурок-выползней. Умер Тимофей Глухарь недавно. То ли от дремучей своей старости — сколько лет прожил Глухарь, никто из стариков и не вспомнил, — то ли от какой мгновенной болезни оборвалась его ниточка жизни. Говорят, напился постной зеленой сыворотки, вышел за ограду, сел на лавочку и задремал. Будто солнцем его сморило. Идут мимо люди, здороваются, а он помалкивает. Так день и просидел, пока кто-то не из пужливых руку к нему протянул да и обмер: в распахнутых глазах Глухаря застыла мертвая отрешенность. Родственников у Тимофея поблизости не нашлось. Единственный внук защищал в эти дни Сталинград и по сей причине отписывать о смерти Глухаря никто не решился. Гроб ему одолжил сосед Кирилл Мухортиков, у которого по каким-то там старообрядческим обычаям он был излажен заранее и висел, пугая всех, под притолокой в амбаре. Мухортиков, давно поговаривавший о своей грядущей кончине, умирать вдруг раздумал, так как решил дождаться с войны пропавшего без вести сына. Известное дело, умерший человек особой радости не вызывает, но в последнюю путь-дорогу его норовит проводить каждый, прощая ему все обиды и сам прося прощения: «Если обидел в чем, то прости». Ночевать в недоброй избе Глухаря собрались не ведающие страха старухи, все как на подбор сухонькие, сгорбленные, похожие на оголодавших февральских ворон. Из любопытства присваталась к ним в поночевщицы и соседка Глухаря Воробьиха, с которой и приключилась эта история. Уже за полночь судачила она с одной из пришлых бабок, отирая свои бока на широкой печи. И в то же время не спускала глаз с комнатенки напротив, где на лавке под белым саваном отдыхал перед последней дорогой дед Тимофей. Мерцала в его изголовье свеча. Не шел к Воробьихе сон. И вдруг увидела она, как медленно поползла простынка, обнажая темно-восковое лицо усопшего… Что было потом, Воробьиха не помнит. Отпаивали ее сбежавшиеся сельчане огуречным рассолом, мазали чем-то виски, боясь, как бы не пришлось утром копать еще одну могилу. Едва отходили, а втолковать, что тянула за холстину хозяйская собачонка, так и не смогли. Черти, мол, за Тимохой явились. Не ангелы же невинные. Сама их видела. И многие в простое объяснение не верили. Вот и Шурка за материнский рассказ ухватилась. Черти, да и только. С ними Глухарь дружбу водил. Он и к Чертовой яме не зря хаживал. А где Глухарь, там и нечисть. Коротка за рассказом боровая дорога. Неприметно всплывает над деревьями солнце. И вот уже выходим мы на опушку Крестьянского леса и ископыченной тропкой спускаемся по крутому откосу. Где-то там, внизу (уже и слышен журчащий рокоток), в тени ракит и черемух таится река — извечная наша радость и утеха. Вместе с нами по склону спускаются березы, одни только березы, и потому лес здесь светел, напоен солнцем. Березовый лес всегда для тихой радости и веселья. У нас это место зовут Рёлкой, и до войны сельчане всем миром встречали здесь праздники. Но это было до войны. Змеятся по склону тропки, разбегаются в стороны, огибая корявые комли берез, и снова сливаются вместе, спрямляя путь к недалекой уже реке, к тихо журчащим родникам Но и река, и слезливые родники — все это где-то там.. Прямо перед глазами вдруг открывается впадина, почти до краев заполненная водой. Не вода, а свежевыгнанный деготь, под мертвойпленкой которого гляди — ничего не увидишь. Я жмусь поближе к ребятам, думая, что мы привычно, с берега «подразним чертей», взбудоражив воду кусками дерна и горстями песка, взбодрим этим себя и, пугая друг друга, бросимся прочь от Чертовой ямы. Но этого не случилось. Генка скинул рубашку и штаны, оставшись в одних кальсонах. Он был худущий, как и все мы, но уже распираемый подростковой силой, с четко ограненными мускулами на груди и плечах, с наметившимися бицепсами рук. И это выделяло его среди нас какой-то непонятной красотой. Видно, и Генка уже догадывался об этом, а может, что-то недоступное пока нам томило его и он все чаще и чаще, чем другие из нас, оказывался рядом с Шуркой, ловил сияние ее васильковых глаз. — Держи! Он протянул Вальке конец веревки, второй — крепкой удавкой опоясывал впалый Генкин живот. И не успели мы ничего спросить, как он пошел в сторону от Чертовой ямы, будто хотел возвратиться к лесной дороге, но натянутая веревка остановила его. Генка обернулся, прикрыв глаза ладонью, посмотрел вверх. Словно прощался с солнцем, Рёлкой, белокорыми березами, говорливой рекой, со всеми нами и, конечно, с небесными Шуркиными глазами. Никто на моей памяти даже из взрослых не купался в Чертовой яме. Так неужели Генка решился? Неужели он первым в поселке сумеет разорвать цепкую паутину страха? Заглянуть по другую сторону черного зеркала, что годами скрывает навеянные рассказами старших тайны? А Генка словно вбирал своим растревоженным телом теплые потоки солнечного тепла, калил костлявые плечи, руки, живот, прежде чем бросить себя (а мы в этом уже не сомневались!) в ледяную купель. Мне стало жутко и радостно от его замысла, от предчувствия чего-то большого и необычного. Я вспомнил, как однажды взрослые парни на небольшом плотике заплыли на середину озерка и длинным шестом пытались нащупать дно. Но шест резко ушел в глубину и не возвратился, будто кто-то там прихватил его себе на память. И перепуганные парни, пугливо озираясь, торопливо руками выгребали плотик к берегу. И сейчас я мысленно молил бога, чтобы Генка совершил то, на что решился. Доказал всем. И тем перепуганным парням тоже… Но жалость уже закипала слезами в моих глазах, и я готов был при всей нашей компании крикнуть ему: «Генка, братка, не надо!» И, как бы поняв мои сомнения, а может, преодолев что-то в себе, он сильно разбежался и, оттолкнувшись ногами от земли, ласточкой взлетел над водой. Мы разом сгрудились вокруг Вальки, который будто врос ногами в берег, спаянный веревкой-пуповиной с моим нырнувшим братом. Веревка медленно уползала от Валькиных ног, пока не натянулась струной, и Валька сделал два шага вперед, замерев у самой кромки воды и показывая всем видом, что готов последовать за своим другом. Прошла минута, может быть, две, но мне они показались вечностью. Я не сводил глаз с того места, где вода сомкнулась над Генкой. Сначала там лопались темные пузырьки, а потом их не стало, вода успокоилась и заиграла ровным бутылочным глянцем. Тревога охватила всех нас, я это видел по лицам моих друзей, и Валька торопливо дернул веревку. И вдруг вода пришла в движение, на поверхности показалось что-то грязно-синее, круглое, и мы не сразу сообразили, что это голый Генкин зад, а потом какая-то сила вытолкнула его из озерка на полметра и над лесом раздался жуткий крик: «Ма-а-а!..» В следующее мгновение, забыв про Генку, мы на одном дыхании преодолели неподъемный косогор и, обгоняя друг друга, бросились бежать по дороге. Подальше от проклятой Чертовой ямы, на поверхности которой что-то шумно плескалось и шлепалось, а может быть, уже… Опомнились мы не скоро, запалив себя в беге. Я ревел навзрыд, собачонкой скулила Шурка, Рудька кусал разбитую губу и лишь Валька молчал, что-то обдумывая своей курчавой башкой. И в этот миг из-за поворота показался Генка, за которым огромной змеей вилась веревка. Был он совсем голый, но его стыдливость, видать, осталась там, на дне Чертовой ямы. Мы смотрели на него, как на человека, который побывал на том свете и вот сейчас стоит перед нами, вроде бы все тот же, но уже какой-то не тот. Первой опомнилась трусиха Шурка, она протянула Генке штаны (когда только и успела их схватить) и едва слышно спросила: — Ты е г о видел? — Кого е г о? — вместо Генки повернулся к ней Валька. — Ну е г о, черта? Не разомкнулись омертвелые Генкины губы, может быть, и не слышал Шуркиного вопроса. Стоял он посреди дороги, весь грязный, какой-то синюшный и дрожал подобно мокрому кутенку, несмотря на солнцегрей и на пышущую жаром дорогу. — Холодно там, ключи бьют, — наконец, заикаясь, проговорил он и попытался улыбнуться. Но улыбка не получилась, какая-то разом переменившая его внутренняя боль исказила лицо, и мы поняли: есть предел мужеству и нашего верховода. Так и не узнали мы ни в тот час, ни позднее что же увидел Генка на дне огромной лесной воронки и кто сдернул с него подштанники. А может зацепились они просто за придонную корягу, и растерявшего последние граммы воздуха Генку пробкой выбросило из воды? Вероятнее всего, что так оно и случилось. Осталась эта тайна в глубинах Чертовой ямы. И пускай. Иначе не влекла бы она знобкой заманой новые и новые поколения подрастающих ребятишек.ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ, В ОГОРОДЕ
Детство наше было нелегким, но все равно не отнимешь у него беспечного озорства, тех маленьких радостей, что сопутствуют раннему возрасту. И потому так свежо сохраняются в памяти они на долгие годы… Ранним утром услышал я заполошный бабкин причет и пулей вылетел из дома. Что там еще случилось? Бабку я нашел в огороде. Она припала на колени возле огуречной гряды и, как мне показалось, отбивала поклоны. И, лишь подбежав поближе, я увидел ее лицо: крупные слезины катились по щекам, скапливались в потемневших бороздках морщин, но она этого не замечала. — Что же, роди-мый, будем де-ла-ать? И только тут до меня дошло: оборвали огурцы. Да не просто оборвали в беззлобной ребячьей забаве, а совсем нарушили гряду. Плети лежали неживыми желтеющими нитями, с усохшей на корнях землей, с увядшим навсегда цветом. И лишь зеленая завязь огурцов — крохотные, как недозрелые бобы, опупыши еще цеплялись за жизнь, бисерились росой. — Не убивайся, баб. Пойдем. Редко видел я в ее глазах слезы, разве что при читке фронтовых отцовских писем. Да и когда ей было разводить сырость, весь день на ногах, в бесконечной деревенской работе, как заведенная: скотина, огород, а больше — кухня. Жалят меня под сердце ее стенания, а как поможешь, что теперь сделаешь? Не укоренишь плети обратно в перегное, не оживишь потухшие цветки… И не дано мне понять, что моя маленькая беда несравнима с ее горем: стараниями и смекалкой бабки в это нелегкое время кормится наша немалая семья, теплится в доме уголек жизни. И для бабки огородный припас — это соленья впрок, завтрашний надежный день, зимний сыт-ник. И чья только злая рука оставила такую отметину, навела разор в огороде? Издавна повелось у нас в поселке: едва появится на унавоженных грядах огуречная молодь, забывают ребята про все неотложные дела и подвергают огороды лихим набегам. Чужие, конечно, но если и свой на пути окажется, и его зоришь наравне с другими, чтобы отвести от себя навет соседей. Гряды всегда обирали в меру, не нарушая посадок. Отцы за такие проделки наказывали беззлобно, улыбаясь втихомолку, и таилась за их улыбками память о давно ушедшем, непозабытом… Оборвать огурцы у прижимистого хозяина, что мог при случае попугать ружьишком или насторожить меж листьев жало литовки, считалось среди ребят делом особо почетным. Не староватый еще и почуткой до своего огородного добра Макся Котельников, чей дом зависал усадьбой над самой рекой, ночами просиживал с берданой на сеновальном настиле. Нам, мелкоте, в его владения хода не было. Туда ребята покрупнее шастали. Примерялись они к огороду с вечера, неторопливо прохаживались вдоль тына, мяли у повизгивающих девок ядреные груди, с ехидцей справлялись у снующего по ограде хозяина: — Ну как, дядька Максим, твои дела? Чтой-то у тебя подсолнухи еще в цвет не ударились, припозднился однако свежатинку желубить. И картинно сплевывали сырую подсолнечную шелуху. Макся ворчал недовольно про себя, косил недобро глазом. Для него вокруг все люди — не люди, а его добру завистники. Приценивался он к заросшим крапивой огородным закраинам — не проберется ли сквозь едучий заслон босота? К темноте загонял в скобы ворот плотные засовы, скручивал толстенную самокрутку и на виду у всех шумливо уходил к сеновалу, усаживался под стеной на березовый чурбак. Ружье, как подсолнечный будыль, привычно торчало меж коленей. Но под росное утро смыкала ему усталость веки, всхрапывал он так, что беспокойно вскидывались на насесте куры. Но парням и эта примета еще не время. Не хитрит ли? И, лишь уверившись в безмятежном караульстве Макси, осторожно сосновыми вешками раздвигали крапиву и один за одним ныряли в густую ботву. Заводилой в этих набегах всегда был Ванюшка Кудесник по материнской фамилии Слабожанин, лютый именно до этого огорода по причине, что однажды ударила ему вслед громогласная Максина бердана, ошпарила зад крупнозернистой солью. Вот и зорил по всему лету Кудесник ненавистную ему гряду, обирал с нее огурцы в непотребном для желудка количестве, щедро оделял мальцов. Хитер Макся, но при своем уме и Ванюшка. И потому, подобно минеру, гряду он всегда проверял ивовой тростью, до тех пор, пока не щелкал железными челюстями капкан, способный удержать своей хваткой не только заячью, но и рысиную лапу. И потом где-нибудь в прибрежном затишке, азартно похрупывая огурцом, Кудесник показывал нам прикованное к метровой цепочке орудие браконьерского лесного лова или ржавое лезвие литовки. — Смотри, какой зверюга! Если бы фриц сюда докатился, Макся вместе со своей грыжей к нему переметнулся бы да вот этой литовкой стал людей пластать. Харя старорежимная! Ванюшка без сожаления забрасывал свою добычу в речку, сплевывал: — В следующий раз я ему стекол в гряду натыкаю или змею в огород запущу, не все ему за мной охотиться. Так и воевали они по целому лету. Но даже Кудесник за свой телесный недуг не мстил так люто, как кто-то обошелся с нашей грядой. Ведь понимал каждый, что огород — спасение для семьи, запас картошки, овощей, зелени помогает перемочь долгую сибирскую зиму, когда поневоле скудеет лес. Вот почему и бабкам нашим всегда одно оставалось — хитрить до поры до времени, таить от собственных внуков первый вызревающий овощ. Да разве скроешь. Утром забежишь в огород по нужде, не на один раз ощупаешь грядку, и птахой забьется сердце, когда увидишь белобокий огурчик, хитро упрятанный бабкой под широкий лист или присыпанный перегноем, а рядом среди желтого многоцвета будто вызревающие гороховые стручки — опупыши. Хлынут, хлынут огурцы через день-другой, а этот первый, конечно, сразу в рот. Холодный, сладковато-горький, еще не озернившийся, пахнущий прелым навозом… На улице в такие беспокойные для нас дни нет-нет да и услышишь неслучайный разговор. — Ну как, соседка, своих окрошкой еще не баловала? — Какое там. В прошлогодье на эту пору не одно ведро наснимала, а ноне один пустоцвет. Что только и делать буду. — И у меня та же беда. Ребята малосольных просят, а где их взять? Хоть по поселку христарадничать отправляйся. — А ты огуречного цвету нарви, настой его на теплой водице да полей к вечеру. Авось завязь и появится. — Придется так и сделать. Но мы-то знаем эти хитрушки, нарочито затеянные разговоры. И окрошка ранняя есть уже во многих домах, и огурцы малосольные — только все это пока за прикрытой дверью, впотай от постороннего глаза — не навести бы кого с озорством на гряду. И бабка наша всегда от нас первый засол таила, а иногда и вовсе от гряды отвадить метила, рассказывая, что опять поселилась на ней знакомая ужиха. Длиннющая, черная и злая. Видать, гнездо свое бережет. И правда, вывернул как-то дед вилами из прогретого навоза почти десяток яиц, но давить их не стал, а бережно сложил в тазик и унес за огород на мшистую болотнику. Хоть и не очень приятен в соседстве уж, но вся обида на него, что напугает при встрече неожиданным шипом. А коль при доме обосновался, дружи с ним, молочком приваживай — уцелеет изба от пожара. Примета верная. Если обидишь, жди беду — молоко у коровы до капли исчезнет, она на ужиный присос и головы не повернет. Так наша бабка судила, стараясь погасить наш интерес к огуречной молоди. Но нам ли ужей бояться. Каждый их в кармане нашивал, обогревал своим телом в запазушке под рубашкой. И вот уже пополз меж нас слушок, что у Софрон Ивановны огурцы в ладонь наросли. Сладкие-пресладкие! Ну сладость — дело понятное. На чужой пасеке мед всегда гуще. А вот слушок проверки требует. Пускай с Максей Ванюшка Кудесник воюет, нам такой огород не осилить, против берданы не устоять. А Софроновский в самый раз. И с лесом рядом, и бабке за нами не угнаться — у нее ноги что тумбы распухли. Нетерпеливый Рудька, едва лишь мы собрались на завалинке у школы, чтобы обсудить эту новость, решительно заявил: — Залезем прямо сейчас. Софрониха небось поела и на голбце дрыхнет. А то она, хитручая, к ночи все спелые огурцы снимет. — Не знаешь ты Софрониху. Она маломерки рвать не будет, даст огурцу распухнуть, чтобы бочонок быстрее наполнить. Да и нам днем не с руки забираться, вдруг кто приметит. А ночью все кошки серые, попробуй докажи. Прав как всегда Валька, за ним последнее слово. Если и спит Софрониха, а ну кто из соседей за водой или по иной нужде выйдет? Тогда не избежать нам порки. — А про собаку вы забыли, — напомнила Парунька. — Она у нее хоть и маленькая, да голосистая. — Вот я и думаю, — чешет Валька кудлатую голову, — уманить бы ее куда… Ладно, есть у меня небольшой планчик, мне лишь бы Софроновского внука Юрку на улицу вытащить. Всего на минутку. В общем, уговор такой. После ужина отпрашивайтесь на сеновал спать, а как дома угомонятся, соберемся за огородом. Нам с Валькой совсем по пути, через четыре дома живем, но он от школы проулком сворачивает на соседнюю улицу и приводит меня к избе Софронихи. Какие-то мысли не дают ему покоя. То ли задумал прицениться к заборам, или усмотреть подходы к огуречной гряде. И вдруг выражение лица у него изменилось, исчезла в глазах задумчивость, и Валька всем телом подался вперед, будто охотничья собака, которая учуяла дичь в траве и замерла перед последним броском. А тут и я приметил у Софроновской калитки Юрку. Сидел он на кучке прогретого песка, копал в нем какие-то ходы-канавки, расставляя в них зеленые сосновые шишки. В другой раз Валька без слов прошел бы мимо, а то и небольно щелкнул охочего до ябед Юрку по стриженому затылку, а тут как-то подобрел, засветился улыбкой. Окажись у него в кармане леденец, протянул бы мальцу Наверное, и он приметил, что из накладного кармана Юркиной рубашки торчит огрызок довольно спелого огурца. Присел Валька на корточки рядом с горкой, голос медовый: — Небось с фрицем воюешь? — А с кем еще… — Ну и как, не подведут тебя красноармейцы, разобьют немчуру? — Разобьют. — Ты их получше корми, они, глядишь, и веселей воевать будут. Только твоего огрызка им маловато будет. — А у нас целый таз в кладовке стоит, да еще на гряде много. Во какие! — Юрка развел свои запесоченные ладошки. Пять лет Юрке, несмышленыш еще. Ему лишь бы хвастать. Невдомек, что рассекретил бабкину тайну, теперь держись Софрон Ивановна! Больше нам у калитки делать нечего, и Валька, подправив что-то в песке, поднялся. — Ну ты воюй, а нам некогда. Надо собаку в будку запереть. — В будку? А что, она у тебя до людей кусучая? — Да нет. Просто жалко ее. — А чего ее жалеть. Пускай, как наш Барсик, на цепке сидит и в дом никого не пускает. — Нет, жалко. Да ты, видать, не слыхал: у Макси Котельникова вечор собаку сыч утащил. Разинул Юрка рот. От удивления конопушки вокруг носа совсем ржавыми стали. — Это который по ночам летает курей таскать? — Он самый. — И нашего Барсика унести может? — Твой Барсик ему на один жевок. — Надо бабане сказать. — Не-е, ты бабке не сказывай, а перевяжи Барсику лапу, мол, о стекло порезал, и с собой ночевать возьми. Вот и убережешь от сыча. А бабке про то знать не надобно она собаку в избу не пустит, не прижалеет. Убежал Юрка в дом искать для перевязки тряпицу И мы дальше пошли, довольные столь успешным началом предстоящего дела. День дотянули в томливом ожидании, а вечер собрал нас четверых в мелколесье, на ближних подступах к Софроновскому огороду. Скатилось солнце на зеленые спины сосен, разом посвежела земля. Нетерпеливо коротаем время, ждем, когда сгустятся сумерки. Наконец загораются в окнах огоньки, стихает собачий брех, разные стуки-шорохи. И лишь у школы запоздало перекликаются ребята: наверное, играют в прятки. Но нам это на руку, для родных мы — у школы, а не здесь, под чужой городьбой. Осторожно касается моего плеча Валька. — Проберешься в ограду, посмотришь, закрылась ли Софрониха. Собаку Юрка наверняка под кровать спрятал. Во дворе и посторожишь, пока не свистну. Обмираю от радости и испуга. Самое важное мне доверяют, в пекло коновод посылает. А вдруг Юрка проболтался насчет собаки и бабка караулит с метлой в ограде? Да ей и метлы не надо, она что танк, в фуфайку вся наша ватажка влезет, идет — земля прогибается, голос как у артельного быка, а кулаки — любому мужику на зависть. Невзначай зацепит, и забудут, что жил ты на белом свете. Недаром и прозвали ее: Софрон Ивановна. — Паруньша, — прерывает Валькин шепот мои невеселые думки, — ты посторожишь у колодца. Как бы с той стороны не подловил нас дедко Богдан. Этот и по ночам не спит не хуже сыча. Но его далеко видно, он самокрутку всегда смолит А мы с Рудькой гряду с двух сторон проверим. В случае чего собираемся у моста. Ох, не говорил бы он про этот случай. И так стынет и не может растаять у сердца льдинка. Добро, коли спит Софрониха, а как сгребет своей ручищей? Или дедко Богдан наперехват выскочит? Ребята, конечно, драпануть успеют, а мне он дорогу перекроет Что тогда? Нашпарит крапивой голый зад да отведет в родительский дом? А там за такие дела.. — Ну, пошли. Валька по-кошачьи ловко ныряет между жердями, и я безропотно следую за ним. Вяжет ноги не усохшая еще картофельная ботва — когда только и кончится! Сопят позади меня Рудька с Парунькой: не поймешь, кому и страшнее. Но вот уже что-то чернеет впереди, и я догадываюсь, что это гряда. Валька ободряюще подталкивает меня в спину и приседает около гряды, а я пробираюсь дальше подобно бесплотной тени. Ни рук своих, ни ног, ни пульсирующей в теле крови — ничего не чувствую. Лишь только уши живут в этом мраке, ловят каждый звук. Шуршат сзади огуречные листья, хрустит ботва под ногами — и все это до того оглушающе громко, что я с трепетом жду — когда же лаем займутся собаки. Но они молчат… Черной глыбой надвигается пригон, и сгустки темноты у его стен так похожи на затаившуюся Софрониху. Но вот, наконец, и калитка в ограду. Обмирая, просовываю руку в прорезь, ищу запор. Что там: крючок, щеколда? Если сейчас бабка жахнет по руке, от нее одна размазня останется. Может, лучше затаюсь здесь? А случится шум во дворе — стрекану назад, только меня и видели. А небо вовсю вызвездило. Низом по огороду тянется белесая дымка тумана, и кажется, что все вокруг шевелится, все живое — не унять мне сердца. Жалею, что не сумел Вальке больным сказаться, сидел бы сейчас дома, не трясся в ознобе: Нет, от Валькиных глаз испуг не упрячешь, все углядит. Может, и на рисковое дело послал, чтобы страх я свой сам пересилил? Все может быть. Валька — верный товарищ, хорошо с ним всегда, надежно. И чего я боюсь? Собака не лает. Значит, дома закрыта Юркой. Да и Софронихе какой резон у калитки стеречь, ждать, когда огурцы оснимают. Мы бы от одного ее крика до моста не опомнились. Подумал я так, и вроде утих стукоток в груди, растаяла под сердцем льдинка. И захотелось мне выкинуть что-нибудь такое, чтобы удивились ребята и похвалил меня Валька, и в другой раз без сомнения остановил на мне свой выбор. Скрипи, скрипи, калиточка. На все я решился. Расстался я со страхом, все вижу вокруг не хуже кошки. А может, всплывший над коньком дома блестящий ломоточек луны подсветил ограду, загнал в углы темноту? На ходу, в непонятном азарте, обшариваю землю. Самое время накинуть клямку на пробой выходной двери и пришпилить ее щепкой. Сиди, Софрониха, до утра, пока не догадаются открыть тебя соседи. И вот уже залихватски весело поют во мне какие-то струны, и сам я себе в радостное удивление — неужто не боюсь ничего! — и даже легкий призывный посвист не срывает меня на поспешное бегство. Со двора бреду медленно, в огороде громко шуршу ботвой. За изгородью меня ожидают друзья. Рубахи у них топорщатся от добычи. — Ты чего? — удивленно встречает меня Валька, — когда я, опершись на верхнюю жердинку, перескакиваю через нее, и подопревшая жердинка с треском ломается подо мной. — На весь поселок шум поднял. — А кому нас ловить? Софрониху я снаружи надежно закрыл. Теперь ей до утра не выбраться, — жду я от нашего вожака похвалы, но он отворачивается от меня и, вывернув из штанов рубашонку, ссыпает огурцы прямо в траву. — Эх ты-ы! Огурцов Софрон Ивановне гряда еще не раз народит. Мы ведь опупыши не трогали. А избу закрывать… А вдруг пожар али еще что? Куда она, старая, с малолетком денется? Ты об этом подумал? Герой! Ладно, ждите меня здесь. Валька беззвучно преодолел трухлявую городьбу, растворился в темноте. Страх ему неведом.СТРАХИ НАШИ
Валькина мать, тетка Лукерья, явилась к нам после вечерней управы. У порога задержалась, молча перекрестилась на прикрытый иконами угол и лишь потом прошла к столу, присела на сундук. — Живы-здоровы? — Пока бог миловал… Когда бабка встречает кого-нибудь из подруг по своим божьим делам, она сразу добреет, губы растягиваются в улыбке. — Вы-то сами как? Могла бы и не спрашивать — будто живет Лукерья от нас за тридевять земель, а не на нашей же улице, всего через четыре двора. — А-а, день с плеч долой — и радешенька. А как новый встречать — думать не хочется. Бабка знает Лукерьину беду — променяла та последнюю свою надежду — швейную машинку. А куда денешься? Такая уж нынче зима случилась, морозно-злая да длинная. Все запасы подчистила. Вот и помог Валькиной семье выжить до первых трав полученный взамен машинки мешок картошки. С трудом, но перебедовали, отсиделись на картовной затирухе. А летом с голоду не опухнешь. Лес нашим животам — союзник понадежней второго фронта, всегда подкормит. — Твой-то что пишет? — обрывает бабка невеселую нить своих и Лукерьиных думок. — Воюет… Одна у наших мужиков работа. А здесь?.. И когда это все кончится? Валькиного отца, как и своего, я не помню. Но он, наверное, такой же, как мой дружок, круглолицый, зеленоглазый, а пепельные кудри не умещаются под солдатской каской. И уж, конечно, ростом повыше и поплечистее поселковых стариков. Иначе разве смог бы, как пишет, гнать немчуру с нашей земли. — А мы от Сереженьки, слава богу, карточку получили. Бабка достает из кухонного шкафчика небольшой сверток — видать, не раз за день разглядывала, потому и хранит под рукой! — аккуратно раскладывает на столе старые письма. Вместе с Лукерьей склоняются они над небольшим прямоугольничком фотографии. Я на ней изучил все до последней точечки. Снимок неясный, не все в нем уловишь, но главное понятно: около бильярдного стола стоят несколько мужчин. Один из них и есть мой отец. Он одет в серый халат, грудь прикрывает белая нижняя рубашка, с тесемочками у самого подбородка. Голова подстрижена, а вот лицо… Сколько я ни разглядывал, понять не мог: что там таится в его глазах? Может быть, радость выздоровления, счастье временного покоя от неустроенного фронтового быта, а может, тоска по нашему поселку, по своим близким? И почему неизвестный фотограф не снял его отдельно? Чтобы я мог разглядеть и погладить каждую черточку на дорогом лице, поцеловать обветренные губы, а может быть, и обогреть ладошкой затаившуюся где-то под халатом рану… На обороте фотографии короткая надпись. Лиловые чернильные буквы немного подплыли, но слова разобрать можно: Саратов, госпиталь… — Ну что ж, с радостью вас. Главное, что здоров, не бедствует. — Лукерья бережно проводит ладонью по фотографии. — Вот и повидались с Сережей… Господи, а зачем же я пришла? — спохватывается она. — Весь день как заведенка крутишься, вроде ничего не делаешь, а присесть некогда. Ты передай, Кондратьевна, своему, может, выберет минутку, заглянет ко мне. Печь что-то безобразничать стала, дым в избу гонит. Пока тепло, поправить бы. — Не беспокойся. Отдохнет с ночи, я его и пошлю Все ж таки свои, не чужие. Сходил утром дед к Лукерье, поколдовал у печи, вынес свое решение: прогорели в боковых дымоходах кирпичи, нужна им замена А где взять? Совсем закручинилась Лукерья, но дед ее утешил: — Снаряжай ребят на погорельский завод. Глядишь, половья и наломают. А я завтра после работы и начну. Погорельный завод! Вот он, рядышком, за длинным зданием школы, но… локоток тоже всегда по соседству, да его не укусишь. И место это ничуть не слаще мрачной Чертовой ямы. И может, потому так тревожно и сладко бьется сердце, когда слушаешь пересуды о старом стекольном заводе. По разговорам, сгорел он еще в гражданскую. От чьей-то умысливой руки или от баловства с огнем, а может, было ему так написано на роду, и за многие прегрешения сельчан, поднявших в эту самую гражданскую войну руки друг на друга — это уже по словам бабки! — ударила в него из гремучей тучи огненная стрела? Кто знает, на то она и тайна. Новый завод на пепелище возводить не стали, подыскали место красивое, солнечное, веселое: на высокой лесистой гриве, на самом берегу Ниапа. А старое постепенно превратилось в неуютный, заросший репейником и крапивой пустырь. С годами талые весенние воды забили ползучим песком и наносной глиной непонятные нам подземные строения, источили углы кирпичных фундаментов, а потом и вовсе упрятали их под сплошным зеленым покрывалом. Но так кажется только издали Если подойти поближе, то увидишь, как неровно растет разная дурная трава: где вздыбилась по-царски на малых курганах, тянет к солнцу свое колючее разноцветье, а где космами спадает в какие-то ямы. А если приглядеться внимательней, то сквозь разноликую зелень травяного несъедобья различишь ржавую накипь каменной кладки. Старухи в сторону пустыря привычно крестятся. Мол, поселилась там нечистая сила, бродит ночами по старому пепелищу, ищет что-то, и лишь с первыми проблесками рассветной зари исчезает под землей. И тот, на кого взглянет она своими огненно-зелеными глазищами, тут же превратится в горсточку пепла. В россказни про нечистую силу мы не верим, это старухи пугают нас, отваживая от захламленного пустыря, оберегая от увечья. Вон сколько сельчан по нужде раскапывало здесь земельные завалы, добираясь до каменных кладок, добывая для печей и банных каменок кирпич, и никого не испепелила своими глазищами нечистая сила. И не смешно ли, если бы мы не побывали там, где появляться нам не велено? Дед в добром духе как-то рассказывал, что хоронился в местных подземных переходах от Колчака красный директор завода с верной своей дружиной, а позднее скрывались в них от мобилизации дезертиры. Было ли это так, неизвестно, но вызнать нам хотелось, и потому не раз обшаривали мы пустырь, принюхиваясь к каждой щелочке в вылупившихся из земли, оплавленных давним пожаром каменных сбитнях. Боимся мы, если признаться, только покойников, и потому страхи наши рождаются ближе к поздним сумеркам. В такое время мы сторонимся пустыря, даже во время азартной игры в прятки не каждый решится затаиться в одной из его ям. А днем чего бояться? Да еще когда рядом верные дружки Валька с Рудькой. — Вот, мамка за работу дала. — Валька показывает нам испеченные непонятно из какого месива три небольшие лепешки. Серые, шершавые слипыши, чуть побольше донышка от стакана, в которых белыми галечками проглядывают картофельные крупинки. — Сразу сметелим или когда управимся? — А не все ли равно, где хранить. В брюхе-то оно понадежней, ни собака, ни кошка не стащит, — резонно замечает Рудька. Жуем Лукерьину стряпню без привычного голодного азарта — ни запаха в лепешках, ни вкуса, картошка и та не отдает привычной сластинкой. Но мы бы и за так помогли Вальке, без этих самых лепешек. — Я тут одну яму присмотрел, ее и расчищать не надо. Там уже кто-то ковырялся. — Валька уверенно ведет нас к дальней окраине пустыря, к сизым кустам одичавших акаций, сразу за которыми стеной поднимается хвойный лес. Дохнул встречь ветерок, напахнул ароматом разогретой живицы. Вздрогнули на акациях листочки и вновь поникли. День обещает быть теплым. Но речка недалеко, упреем — сбегаем, окунемся. Кирпичом с пустыря многие пользовались еще до войны, но добывать его нелегко. Старинный известковый раствор настолько крепок, что отделить один кирпич от другого в целости не всегда удается. Обычно в руках остаются неровные половинки с белыми нашлепками. И потому мы надеемся на деревянную колотушку и пешню с коротким кованым жалом, которые предусмотрительно прихватил Валька из дома. — Вот тут и начнем. — Он как копье втыкает пешню в землю. Видать, кто-то из баб копошился, только кирпич подпортил. Мы разглядываем свежевырытую яму, обнажившую большой рыжеватый горб, на котором не просматривается ни одного свежего кирпича — весь он избит, истюкан чем-то тяжелым, красное крошево хрустит под нашими ногами. — Ничего, — подбадривает Валька, — выберем сколыши, до целика доберемся. Давай, Рудька, наставляй пешню… Да не так, а меж кирпичами, по раствору. Взмахнул Валька колотушкой, брызнули из-под кончика жала искры, полетели в стороны красные осколки. Я любуюсь ловкими расчетливыми движениями друга и ничуть не сомневаюсь, что кирпич мы добудем, подлечим печь. Не замерзать же им зимой. Думали управиться к обеду, да не вышло. Только упарились, промочили рубашки. А в штабельке и полсотни кирпичей не наберется. И то в основном половье. А как хочется улицей прокатить тележку с горкой цельного кирпича. Чтобы потеплели грустные глаза Валькиной матери, и дед, похаживая около печи, не удержался бы от похвалы: «Молодцы, помощнички!» Уже в который раз примостились мы на краю ямы передохнуть от отяжелевшей колотушки, подуть на сбитые казанки. И Рудька, и Валька стали совсем рыжие от кирпичной пыли, словно мураши. Да и я, конечно, не краше. Но на речку никому не хочется. Может, потом. А вот есть… Сейчас бы съеденные через силу лепешки показались вкуснятиной. Дать бы Рудьке по шее. «В брюхе хранить надежней…» Нашел кладовую. Туда сколько ни клади, все пусто. Рудька, сколько я себя помню, все в моих дружках. Может, потому, что матери наши воспитывались в одном детдоме, а потом обе стали учительницами. Да и отцы были крепко повязаны особой дружбой, тревожно счастливой молодостью, которая у них пришлась как раз на неизвестную мне гражданскую войну, спалившую вот этот самый завод. Тянется Рудька вверх молодым нескладным подсолнышком, к всеобщей нашей зависти заметно опережает в росте свою ровню. Но друг он надежный, верный, на первый свист отзовется, из драки в сторону не вывалится, тайком кусок не проглотит. Разомлев от полуденной жары, я опрокидываюсь на спину, но прогретая земля не остужает разгоряченного тела. Качается в глазах небесная синь, все расплавило в ней солнце из края в край, не оставило даже белесой дымки. Не иначе, к вечеру соберется дождь. — Валька, а ты что-нибудь про заводчика слышал? — лениво размыкает губы Рудька. И его разморило теплом, вот и ищет заделье в разговоре. — Сказывала мать, что турнули его красные. С Колчаком бежал без оглядки. Да и не один он здесь жил, еще два брата заводом правили. Домов-то хозяйских в поселке сколько? Три. И правда, три. В одном, спрятавшемся за высоким забором, — детский сад, в двухэтажнике — заводская контора, а третий приспособили нескольким семьям под жилье. Видать, не бедствовали братаны, коли строили себе хоромы до тополиных вершин. — Богатые они были, — угадывает мою думку Валька. — Скотом торговали, лесом, пушниной, ну и стеклом, само собой. — Поди, и золотишко у них водилось? — А куда ему деться. Старший-то брат, как с беляками отступать, рабочим зарплату за полгода вперед выдал. Просил до его возвращения не останавливать печь, работать, как прежде. — Слушай, — оживляюсь я, — значит, он думал вернуться? — А, кому нажитое бросать охота. — А коли так, какая ему нужда все богатство с собой тащить? Лучше затаить до поры. В дороге-то ненадежно, мало ли что случиться может… Мои слова заражают азартом Рудьку. — Эх, найти бы ихний ларец с золотом! Ларец с золотом… Я вспоминаю стол, накрытый куском красного сатина, потное лицо уполномоченного из района, подрагивающий над листком бумаги карандаш в его руке, пухлую пачку бумажных денег и горку колечек, сережек, нательных крестиков, горевших в свете керосиновой лампы подобно уголькам, подсыпанным бабкой из загнетки под штабелек дров в печи. Что бы я сделал, зачерпни мои ладони горсть золотых украшений из найденного ларца? Поделился с бабкой, чтобы накупила она всякой всячины и не разговаривала по утрам на кухне сама с собой, не гадала, чем насытить нашу немаленькую семью? Или выбрал бы я из сияющей кучки самые красивые серьги и подарил их матери: на, носи на здоровье и не печалься о тех, что легли на красную скатерть и были занесены в общий список безвозмездной помощи сельчан фронту? — А я бы… — начинает Рудька. — Что, ты бы, — ехидничает Валька. — Вагон жратвы купил? Мы на миг замолкаем. Целый вагон еды! Такое трудно представить. Я и вагонов-то толком не видел. Вернее, видел. Когда катили в самом начале войны с матерью и братьями сюда, под крыло к деду и бабке, с далеких алданских приисков. Но в памяти зацепилось немногое: какие-то клетушки, полки, коридоры, забитые громкоголосым народом. Вероятно, это и был вагон, и если такой заполнить печеными булками, то их, пожалуй, хватило бы на месяц всему нашему поселку. И Рудька, наверное, думает о том же, а может, о своей махонькой иждивенческой пайке, которую на ладошку положишь и не заметишь, как ее не стало. Была — и нет. — Не-е, — раскраснелся он. Мне понятно его волнение: отказаться даже в мыслях от того, о чем наши желудки напоминают нам постоянно… — Я бы отдал все золото, весь клад, на строительство танков. Пускай давят проклятую немчуру. Вот он каков, наш друг! Я горжусь им в эту минуту. Почему сам до такого не додумался? «Поделился бы с бабкой». Мне, видно, собственное брюхо дороже отца. Вагон хлеба! Да мы здесь, в своих борах, на грибах, ягодах, траве разной перебьемся. Отцам нашим тяжелее. Им танки да самолеты позарез нужны. Силу силой ломят. А фашист весь в железо закован, к нему просто так не подступишься. Об этом старики на заводской лавочке толковали. Они с немцем еще в первую мировую знакомились. Зародившись, мечта о кладе не отпускает нас. И про сосущую боль в желудках забыли. Вот только навыбираем Лукерье кирпичей на печку, выполним ее просьбу, а там… Надо приглядеться к хозяйским домам, поискать тайник. И снова копошимся в яме: Рудька с пешней, Валька со своей березовой бухалкой, я поднимаю наверх выбитые из прочных гнездовий кирпичи. — А-а-а, — не то промычал, не то вскрикнул Рудька, и я сначала и не понял, что с ним случилось. Может, саданул Валька колотушкой по его пальцам? Я спускаюсь вниз, чтобы утешить друга и вижу растерянное его лицо. Руки у Рудьки целехоньки, а вот пешни в них нет. Отслоив очередной кирпич, она проскочила за каменную кладку, один лишь расшлепанный комелек деревянной ручки торчит снаружи. — А ведь там пусто… — Валька осторожно наклоняется, разглядывая небольшую, всего в пол-ладошки темную щель. Тянет оттуда затхлой сыростью, мышами, тленом сопревших трав. — Могила там, что ли? — выдыхает мне в затылок Рудька, и я невольно отодвигаюсь от опасного места. — Сам ты — могила! — горячо шепчет Валька. — А может, это… как его… склеп? — не унимается Рудька. — Куда богачей хоронили. Я слыхал как-то… — Слыхал — не слыхал! Собака лает — ветер носит, — сердится Валька. — Шурник это, верней всего, подземный ход от трубы к стекольной печи. Здесь же завод раньше стоял. Доставай пешню. Да не шумите вы на весь поселок! Мы, не сговариваясь, перешли на шепот. И мне кажется, что улицы деревенские затихли и завод примолк — все насторожились, пытаются разгадать нашу тайну. А кирпичи на удивление отскакивают от кладки легко, целехонькие — нет у них изнутри известковой зацепы. Штук пятнадцать сложил я кучкой на дне ямы, некогда поднимать их наверх. — Все! — Валька наконец откладывает в сторону колотушку, припадает к пролому, пытаясь разглядеть что-то там, внутри. — Не видать ни черта. Темно, как в могиле. Сказал и осекся. Под землю лезть, о чертовщине лучше не заикаться. Мало ли что. — Серянки с собой есть? Нет как на зло ни единой спички. Ни у меня, ни у Рудьки. Да и откуда им взяться. Дед трутом да кресалом пользуется, у бабки в загнетке угли под золой от растопки до растопки тлеют, а спички она от нас в сундуке прячет. — Ладно, попробую так. — Валька ужимает плечи, будто складывает себя вдвое, вихляя бедрами, с трудом протискивается между кирпичными зубцами. Мелькнули перед нами его грязные пятки, и он исчез, будто нырнул в речной омуток. Страшновато за Вальку. Не побоялся, полез вперед руками, а вдруг там свились в клубок змеи. Ведь сам видел, как прошлой осенью, на змеиное сдвиженье, ползли сюда, на пустырь, две смолевой расцветки гадюки. Хотя сейчас им чего здесь делать, по первовесеннему теплу расползлись по ближним лесам. Знобит меня как при простуде. Что там делает Валька? Почему не подает голос? Может, приключилась с ним беда, нужна наша помощь? И окликнуть боязно, вдруг кто в ближних домах услышит. Я припадаю к дыре, трусь щекой о Рудькину щеку. А вдруг и правда увижу золотое сияние, коснусь ладонями тяжелых искристых монет? Внезапно Валька из пролома протягивает свои черные, как обгоревшие сучья, руки. — Подсобите… В четыре руки мы вытягиваем его наверх. — Ход там какой-то. Я шагов двадцать ощупью прошел, на завал наткнулся. Тут без огня не обойтись. — Может, и правда клад там упрятан? Куда же еще заводчику его деть? — Разевайте варежку шире… Царевна спящая там в гробе хрустальном лежит, вас дожидается. Хозяин-то когда убег, завод целехоньким оставался. Дошло? Валька старше нас всего на два года, но он ходит в школу, довольно бойко читает книжки и рассуждает по-взрослому. Через него и мы узнали все буквы, хоть с задержкой, но разбираем слова на плакатах, прибитых к заводскому забору. — А если там дезертир этот таится, Павлушка Абрамов, что с госпиталя на фронт не явился? — то ли нас, то ли себя пугает Рудька. — Скажешь тоже! Кругом голодуха, а он бы выжил в подземке. Может, блинками его кто кормит? — А куда же он тогда делся? — А мне почем знать. Я у него в дружках не хаживал. Тайга вон вокруг немеряна. — Валька, а может, кого из больших парней позвать? — гнет свое Рудька. Совсем по-чужому глянул на нас Валька. Глаза злые, мечутся в них зеленые огоньки. Циркнул презрительно сквозь зубы: — Тоже мне, сороки. Разнесите по всему поселку. Если сдрейфили, так и скажите: я для такого дела посмелей кого подыщу. Только потом не скулите. А из винтовочки я и сам постреляю. — Из какой еще винтовочки? — разом насторожились мы. — А из такой… — Валька вывернул из кармана своих потрепанных брюк позеленевший остроносый патрон. — Я его там, — он показал рукой на лаз, — в темноте ногой ущупал. Хотел вас порадовать, да, видать, не в коня овес. Но коли так, какие могут быть сомнения. Есть в подземке патроны, как не быть винтовочке. Мы бы с ней горя не знали, на любого зверя пошли. Набили бы мяса, по мешку оставили родным — ешьте, а сами на фронт. Если ты при винтовке — кто откажет! Переметнулись мы с Рудькой взглядами: не дай бог раздумает Валька, готовы хоть к черту на рога — заворожил нас зеленый патрон. — Коли там винтовка, я на все согласный, — поперед меня вылез Рудька, и даже плечом в сторону оттер. — И я согласный. — Тогда клятву дадим, что никому не проболтаемся даже под пыткой об этом подземном ходе. — Землю будем есть или крапивой жалиться? И что накатило на Рудьку, кто его за язык тянет? Может быть, и словами обошлось бы, а коль напомнили, теперь-то уж выберет Валька самое суровое испытание, от которого не уйдешь, не открутишься. — Я думаю, земля всего надежней. И вот стоим мы на дне ямы, прижавшись друг к другу плечами, бубним дружно в три голоса: — Даю священную клятву земле, воде, огню и небу, а также погибшему на войне солдату, что никто не узнает о нашей тайне. Мы сосредоточенно давимся, хрустим зернистым песком, не смахивая со щек слез. Приметил я, что прихватил Рудька из-под ноги щепотку земли поменьше нас, да промолчал. Мне уже все равно, лишь бы скорей проскочил в горле тугой колючий ком. С крапивой клятва намного легче, поплюешь на обожженную руку или смочишь ее из собственного краника — глядишь, и утихла зудливая боль. — Ну вот… — Валька вытер с губ грязную накипь. — Теперь ни гугу. Иначе сухота привяжется и ноги в тростинки превратятся, как у Кольки-хромоножки. А сейчас… Валерка, я вроде у вас фонарь видел? — Есть, «летучая мышь»… Бабка зимой с ним корову доит, а сейчас он в амбаре висит. Только вот керосин… Она бутыль в кладовке запирает, боится, как бы дом не спалили. — А это на что? — Валька вытащил из своего бездонного кармана гнутый ржавый гвоздь. — Чик-чирик — и раскрылся твой замок. Понял? Понять-то я, конечно, понял, а вдруг застанет меня кто за этим делом — воровство в нашем доме не в почете. — Я прихвачу из дома штык. — Валька будто не заметил моих сомнений, а может, специально мне и были предназначены эти слова. Плоский, похожий на кинжал штык хранили в Валькином доме как память о деде, когда-то тоже воевавшем с германцем, и если кто одалживал его у них до войны — забить бычка или поросенка, — то нес при возврате на жареху лучший кусок мяса. — Налью керосину, не сомневайся, — заверил я друга, и Рудька заерзал, задергал плечами: все вроде стараются для общего дела, а он как бы встороне. — Я, может, что поесть придумаю и воды в графин налью. Во фляжку бы, конечно, лучше, но нет у нас ее. Мог бы и не говорить про фляжку, о которой он давно мечтает. Может, никогда не будет ее в Рудькином доме. Пропал безвестно отец, не подворачивает к их калитке почтальонка Кланька Сысоева. А фронтовые трофеи (память о четырнадцатом годе!), подобные Валькиному штыку или нашему ранцу из мохнатой телячьей кожи, лишь тогда случаются в доме, если возвращается с войны хозяин. — С графином ты хорошо придумал. С ним понадежней, воды побольше входит. А то подземка… может, она подо всем поселком петляет. — Валька неожиданно строжает голосом (командир, да и только!) — На все сборы — не больше часа, встречаемся здесь, у лаза. Помог мне Валькин гвоздик. Щелкнуло что-то в замочке, и выскочила из гнезда дужка. Налил я керосина полкринки — незаметно вроде — и заткнул бутыль деревянной пробкой. Хорошо, бабки дома нет, никто мне не мешает. Сейчас вот лампу заправлю и… Но, видать, верно присловье: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Углядел меня в амбаре брат Генка. И керосин вот он, в испоганенной криночке. А для чего, спрашивается, фонарь нужен, когда солнце в зените? Понял я, что Генку по кривой не объедешь, хитрован еще тот! Ты еще и рта не раскрыл сказать задуманное, а он уже про то знает. Пришлось про подземку все выкладывать, не сказал только про винтовку. Вот тебе и «ни гу-гу». Зря, выходит, землей давился, разболтал про нашу тайну. Как теперь в глаза друзьям глядеть буду? — Ладно. — Генке вроде и неинтересны мои признания. — Найдете что, меня не забудьте, а я пойду искупаюсь. С предосторожностями пробирался я на пустырь. Валька с Рудькой уже сидели в яме и тихим свистом оповестили меня об этом. Валька снял тряпицу с «летучей мыши». — С керосином? — Заправил. Гвоздок помог. — А я что говорил! Сказать бы ему сейчас про Генку, да не поворачивается язык. Осерчает, не бывать мне тогда в подземке, не стрелять из винтовки. Сижу на земле, набираюсь решимости. Что ждет нас там, во мраке подземного перехода, в который сейчас предстоит спуститься? Какие опасности? Но Валька, он протягивает мне свой штык — заиграли на широком лезвии солнечные зайчики, отяжелела от рукоятки ладонь. — Засвечивай, Рудик, фонарь — и в путь-дорогу! — Валька подмигивает нам и уверенно опускает в пролом ноги. И вот над нами лишь голубой осколок неба. После слепящего солнца глаза с трудом привыкают к густому сумраку. Валька вывертывает фитилек фонаря, оранжевый язычок почти касается стекол, свет раздвигает в стороны темноту — а может, и глаза уже обвыкли? — и я осторожно разглядываю наше временное пристанище. Стоим в какой-то узкой галерее — раскинь руки, и коснешься стенок — с полукруглым сводом. С моей стороны галерея забита до самого верху землей и обломками кирпичей — без лопаты здесь делать нечего. Зато за Валькиной спиной видны четкие очертания хода. Что скрыто в его непроницаемой темноте? Невольно я касаюсь ладонью холодных кирпичей, ощущаю застывшие смолевые потеки. Что-то тревожит меня, не дает сделать первый шаг. Может быть, этот нависающий свод, близко сошедшиеся стенки — привычная человеческая боязнь ограниченного пространства и нехватка свежего воздуха? Как же преодолеть себя, где найти мужество, чтобы добровольно направить себя в эту узкую каменную могилу? Валька поднимает фонарь, черным глянцем загораются стенки. Ход невелик, с обычное деревенское окно, и Валька, согнувшись, едва вмещается в него, почти полностью заслонив от нас свет. Я как привязанный следую за ним. Рудька сопит позади. Ему потрудней нашего: и ход для него пониже, и темнота погуще. Все натянулось во мне струной. Вот сейчас, сейчас ЭТО должно решиться, что-то произойдет, и мы приобщимся к чему-то важному, неизвестному, которое было скрыто до сих пор под землей, в кирпичной оболочке этого хода. Ведь случается же с другими, находят в самых неожиданных местах потайки со старинными монетами и различными украшениями. А здесь все-таки подземка… «Ну давай, давай!» — про себя приторапливаю я Вальку. В центре связки я чувствую себя надежно, и, когда ход немного расширяется, выглядываю из-за Валькиного плеча. Неяркий свет выхватывает из темноты кусок свода, на черном глянце кирпичей вспыхивают зеркальные искорки. Неожиданно я влипаю в напряженную Валькину спину, негромко чертыхаюсь. Фонарь выпадает из его руки, желтые тени проскальзывают по прокопченным стенкам. Смутно мелькнуло впереди что-то белое, и в тот же миг какая-то неведомая сила отбросила меня в сторону, и я упал лицом на кирпичную осыпь, не успев напугаться и не понимая, что же произошло. Прямо перед собой я увидел огромный темно-восковой череп — неземными зелеными огнями полыхнули пустые глазные впадины, ощерились в жутком оскале длинные зубы. — Ма-а-а-а! — Непроизвольно родившийся крик, казалось, вывернет наружу все мои внутренности. Что было дальше, я не знаю. Как не помню и того, кто из нас первым, а кто последним выскочил наверх. А может, и все мы единой пробкой вылетели на поверхность из узкой горловины лаза, обдирая плечи об острые кирпичные изломы… Остановились мы лишь у школы. На завалинке сидел Генка, привалившись к бревенчатой стене. Он лениво щурился на солнце и посасывал папиросный окурок. — Чего это вы, будто с цепи сорвались? — Да так, — первым опомнился Валька. Дышал он тяжело, запалил себя бегом, на целые слова не хватало дыхания. — На спо-ор с ре-ки бе-жим… — Оно и видно. Такие чистенькие. Рожи-то чернее сажи. — А ч-ч-че-го это т-т-та-ам бы-ло? — Сильнее обычного заикается Рудька. Шедший подземным ходом последним, он, вероятно, и не видел то, что явилось нам с Валькой, а когда мы, сминая друг друга, ринулись обратно, то и его повергли в бегство. Сказанное Генкой, видать, прошло мимо Рудькиных ушей, или он все еще живет недавним непонятным ему ужасом и не соображает, где находится и с кем говорит. — Где там? — вкрадчиво переспрашивает его Генка. — Ну т-т-т-ам! Мы с Валькой молчим. Стоит перед глазами жуткое видение — череп скалится… Действительно, что же это было? Может, и правда потревожили покой какого-нибудь мертвеца? Ведь видели же мы однажды неясные подрагивающие тени на ночном кладбище. И хотя мать объяснила мне, что в любых костях, в том числе и человеческих, есть особое вещество — фосфор, которое в темноте лучится зеленоватым светом, увиденное такое однажды уже никогда не забудешь. — Эх вы, кладоискатели, — не выдержав, внезапно хохочет Генка. — Лошадиного черепа испугались! — Так это ты… подстроил? — теперь до меня доходит, почему Генка так быстро смотался из амбара. Что стоило ему по свежему штабельку кирпичей отыскать лаз, набить перепревшими зелеными гнилушками валявшийся на пустыре череп и подложить его в подземный переход? А потом нежиться на теплой завалинке в ожидании интересного зрелища — бегущей в страхе нашей ватаги… — Фонарь-то, конечно, там бросили? — не унимается он. — Там… — мнется Валька, — не знаю, как и выпал. — Ладно, пошли, повидаемся с черепушкой. Фонарь все равно выручать надо. Сердимся мы на Генку и не сердимся. Прошел страх на свету, под жарким солнышком, вместе со смехом моего брата. — Вы про подземный ход никому не говорите. В прятки будем играть, спрячемся — с собаками не сыщут. Да и мало ли для чего он пригодится. Генка — кремень, а может, и покрепче кремня. Что услышал — вместе с ним и умрет. И потому мы уверены: подшутил он над нами, а о случившемся позоре никто не узнает. А секретом с братом почему не поделиться. Каменную галерею с небольшим боковым ответвлением на этот раз мы исползали всю из конца в конец, каждый кирпич в четыре пары рук пощупали. Среди кирпичного крошева и стеклянных осколков нашли лишь одну зацепку к старинной тайне — ржавый винтовочный затвор. Кто обронил его здесь — теперь не узнаешь. Может, и правда был этот теплый подземный ход между трубой и ванной печью старого завода кому-то надежным убежищем в годы гражданской войны и бандитского мятежа, кто знает. Камни об этом не расскажут.СВОЙ ОСТРОВОК В ТАЙГЕ
Издавна соседствует в наших палисадах пахучая черемуха с сибирской яблонькой-дичком, называемой всеми ранеткой. Выйдет кто из сельчан в жизни на собственную дорогу, первым делом смастерит себе домик, а для души, для сердечной радости обязательно принесет из леса, сизоватый гибкий прутик с комочком материнской земли, любовно обиходит его перед окном. Весной, по первому теплу вдруг полыхнет в садочке белое пламя и пойдет гулять по поселку из края в край. Черемухи полно во всех ближних и дальних лесах. Встретишь ее и на покосных еланях, и в тенистых затравеневших низинах, но больше всего это неприхотливое дерево прижилось по берегам Ниапа. Возвратные заморозки — зимняя отрыжка — часто губят буйно расплеснувшийся цвет, осыпают его до поры, и потому не каждый год урожайный на сладко-терпкую ягоду, впустую простаивают черемуховые рощи. Но если повременит ночная остуда, из нежно-молочного цвета дружно брызнет зелень завязавшихся плодов. Пройдет неделя, другая — и самое время собираться в лес, искать будылье, резать трубки для своей забавы — стрельбы крепкой ягодой. Кто посадил черемуху в нашем садочке, я не знаю. Но, видать, давно это было, еще в бабкину молодость, потому что поднялась она выше крыши, и верхние ветки покоятся на тесовом настиле. Ствол дед обиходил — срезал ножовкой нижние сучья, чтобы не застили свет, и по черным кочерыжкам, как по ступенькам, я легко забираюсь на раскидистую вершину. Снизу меня не приметишь, а мне с верхотуры видна вся улица, по-весеннему нарядная, солнечная — у каждого дома, подобно нашему, свое цветущее облачко. Воздух, кажется, дрожит от гудения пчел, ос и другой разной летучей мухоты — откуда только и берутся в таком количестве? — их неспешная работа идет буквально в каждом цветочке. Налетает теплый ветерок, тревожит черемуху, она подрагивает, шелестит каждым листочком, и нетающие снежинки, медленно опускаясь, припорашивают землю. Мне хорошо здесь, в ароматном закутке, в мирном соседстве с пчелами, и, пока я лениво думаю, чем бы сейчас заняться, на улице появляются мои друзья. Рудька, высокий, костлявый и потому какой-то нескладный, торопливо что-то объясняет Вальке, размахивая при этом руками. А тот идет молча, на плече — лопатка, на которой покачивается небольшая корзинка. Невысокий, крепенький, как набирающий силу гриб-боровичок. Разговорить Вальку трудно, он всегда в каких-то своих думах, но мы-то знаем — без затей он не может, и если что-то придумает, всем будет в удивленье. Еще вчера мастерили мы ходули, да такой пугающей высоты, что вставать на деревянные подставы, приколоченные посередине жердинок, приходилось лишь с забора. «Подросшие», учились ходить, задевая плечами урезы тесовых крыш, падали на землю, сбивая ладони и коленки… А друзья уже рядом с нашим садочком, таюсь я наверху — сейчас их удивлю-напугаю, но Валька задирает вверх свою кудлатую голову, кричит вполголоса: «Слазь живее…» И как только усмотрел меня в мешанине цветов и листьев, не глаз — востроглаз! Спускаться — не залазить, шурх-шурх по стволу, сучьям, и мои босые ноги касаются земли. — Бабка где? — спрашивает Валька. — Морковку в огороде расплевывает. — Тогда руки в ноги и — поехали. — Ку-да? — На кудыкины горы. — Валька молчит, испытывая мое терпение. — Землянку ладить будем, понял? Сказал он мне это, я и рот разинул. Где? Какую землянку? Зачем? Но Валька предупреждает мои вопросы: — Для себя будем строить. Кому же еще… И вот уже тропим мы незнакомый мне лес, все дальше и дальше удаляясь от поселка. Вверху, в хвойных вершинках, путается солнце. Желтые подрагивающие нити пронизывают дневную сумеречь леса, тянутся к земле, высвечивая яркие пятна на рыжем хвойном подстиле. Солнце в незнакомом лесу всегда бодрит, отгоняет страх. С ним не заблудишься. По всем приметам где-то впереди нас поджидает река, никак не миновать нам ее. — Сейчас уж недалеко. Я тут такое место надыбал… — как бы подгоняет нас идущий впереди Валька. Лопата у него — штыком вперед, корзинку давно передал Рудьке. Лишь я налегке, как сиганул из садочка, и был таков. Идем мы бездорожно, но ходко, а потому молчим, при быстрой ходьбе не до разговоров. Бор уступает место тенистой прохладной низине, заросшей черемухой и разным черноталом, и кажется, нет этому буйному засилью конца и края. Старые корявые стволы, густо увитые хмелем; темная обестравленная земля, будто изъеденная гарью, заваленная сучьями, вытолкнувшая на поверхность клубки змеиных корней — отживает свое, умирает черемуховая роща. Что случилось с ней? Вымокла ли от застойных весенних вод или сгубил ее нутряной, внезапно полыхнувший торфяной пожар? А может, и подошло время уступить место свежему, подросту, который она сама же и родила, а теперь губит, заслоняя живительное тепло и свет. Общение с мертвым лесом всегда в тягость, хочется скорее выбраться на светлые места, к теплому янтарному сосняку, к птичьим песням, унять в себе ощущение беспричинной тревоги. И потому невольно торопишься, ускоряешь шаг, с опаской посматривая, куда поставить ногу Но всему бывает конец: пробрызнуло впереди солнце, засветились восковым румянцем стволы — довольно крутой подъем вывел нас к опушке хвойного леса, под ногами засеребрился, похрустывая, молодой курчавый мох. — Приехали! — Валька смахнул рукавом пот с лица, лопата полетела на землю. — Тут нас и с собакой не сыщут. Пускай бродовские утрутся. Мы-то про их земляночку все знаем, а они… Разве в такую глухомань сунутся? Там, — он показывает рукой назад, откуда мы только пришли, — не пролезешь, разве по нужде какой, а здесь — река… И правда, река — вот она, совсем рядышком, катит неспешно свои воды, а я-то и не приметил. Да и как приметишь, когда из низины карабкались мы вверх, к светлому сосняку, и больше зыркали себе под ноги, опасаясь ядовитых после зимней спячки гадюк. — Может, купнемся? — предлагает Валька. — Вода-то, поди, еще о-е-ей, — нерешительно соглашается явно взопревший Рудька, но я уже машинально тяну с себя рубаху. Что нам донная остуда, купались мы и до черемухового майского цвета, поверху-то вода все равно прогрелась, напиталась жарким солнышком. Голышом с разбегу бросаюсь в омуток, выкинув вперед руки — а ну как где-то там, внизу, притоплены невидимые бревно или коряга. Тело мое стремительно уходит вниз, и, едва коснувшись пальцами песчаных наносов, я переламываю себя в поясе, переворачиваюсь, отчаянно рвусь к светлым проблескам над толщей воды. На какое-то мгновение я смят, раздавлен, напуган. Тысячи иголок разом впиваются в меня, тугие обручи сжимают грудь и сердце… Сердце, оно колготится где-то у самого горла, вместе со мной рвется из плена этой страшной купели. Пробкой, ошпаренный ледяным кипятком, я вылетаю на поверхность, и первый же глоток воздуха непроизвольно рождает во мне испуганно-ликующий звук. То же самое, видать, пережили и мои друзья. У Рудьки глаза, что старые медные пятаки, нижняя челюсть беззвучно дергается, никак не может остановиться. Лишь Вальке все нипочем, он стремительно подгребает к берегу, по крутому песчаному откосу которого змеятся отполированные водой до черноты корни. И только тут я замечаю — по рыжевато-синей глинистой проточке, разъевшей береговой дерн, сверху струится светлая нитка воды, подпитывает омуток. Теперь понятно, почему так обжигающе холодна и без того непрогретая речная вода. Мы цепляемся за упругие канаты-корни. Рудька с Валькой, что ранние пупырчатые огурцы, мелькают перед моим лицом посинелыми задницами, я невольно хохочу, но смех больше похож на громкую икоту. И вот мы наверху, какой-то бес поселяется в каждом из нас, подстрекает к безудержному веселью — мы бегаем вдогонки меж деревьев, цепляемся друг за друга, шлепаем по запретным местам, никого не стыдясь, да и кого здесь стыдиться, кто здесь нас видит в таком безлюдье. А островок наш — иначе его не назовешь! — этакой сопочкой взбугрился над тайгой. Как и когда удалось реке отслоить от высокого правого берега такой вот кусок земли, зачем было ей точить щебенистый суглинок, пробивать себе новую дорогу? А погибающая черемуховая роща, похожая отсюда, сверху, на иссохшую старческую руку, видать, и есть бывшее русло Ниапа, заиленное неплодородным песчаником, подтопляемое весенним многоводьем. И эта черная подкова надежно отгородила наш островок от остальных приречных лесов, от случайного глаза и, конечно же, от вечных наших недоброжелателей, бродовских пацанов. И это больше всего радует нас. Мы здесь хозяева. Усталые от беготни, валимся на теплую землю, усмиряем в себе азарт. Звонкая тишина оглушает, дышится легко, в полную грудь. Пряный запах идет от земли. В теплом мареве колышутся травы, кажется, что растут они на глазах, наполняются соком, распускают цветы, выметывают липкие листочки. И я чувствую это каждой частичкой своего тела. Все входит в меня волнующим радостным чувством, хочется приласкать каждую травинку, обогреть в ладони мураша, сказать что-нибудь нежное лежащим рядом друзьям. Что я без этого леса? Без шороха листьев, мелодичного скрипа стволов, без чистых слез родничка и солнца над головой? Вот плывет над вершинками облачко, а куда? И где прольется оно дождем или истает в жарких лучах? Или вот эта, заблудившаяся в сосняке береза. Кто занес сюда ее семечко? Ветер ли, птица? — Валька, а ты какое дерево больше любишь? — Рябину. — А я березу. Сок у нее больно вкусный. К березе, пожалуй, все относятся с уважением. Сколько пользы от нее человеку. Дрова — для большого жара, веники для здоровья, деготь — сохранить обувку, а чага — от любой нутряной болезни. — Ну, ладно, помлели на солнышке и хватит, не лежать сюда добирались. — Валька поднимается первым. Он выбирает чистое место между соснами, и я понимаю его без слов: копать рядом с деревьями нельзя, повредишь корни — усохнут, растеряют зеленую иглу. Дернину Валька нарезает большими кусками, подбивает их лезвием лопаты снизу, а мы с Рудькой осторожно, за уголки ладонями подхватываем каждый пласт и складываем штабельком в сторонке. Дерн нам сгодится, когда будем ладить крышу… — Вроде в самый раз. — Валька приценивается к темному прямоугольнику вскрытой земли. — Не маловата будет? — спрашивает его Рудька. — Тебе что в ней, телиться? Как-то непривычно видеть черную рану на груди цветущей поляны, но мне интересно, что будет там, за слоем перепревшей рыхлой земли — песок, глина или скрипучий галечник? Пока идет песок вперемешку со ржавой глиной. Валька с присыпочкой наполняет корзину, я отношу ее к берегу. Плетеная дужка впивается в ладонь, но я терплю. Следующая очередь нести корзину Рудьке, и пока он обернется, ладонь моя отойдет. Землю мы ссыпаем в речку. Вода в ней ненадолго мутнеет, рыжие космы, постепенно исчезая, тянутся по течению. За один день втроем землянку не сделаешь, надо не только выкопать яму, но и заготовить сухостойных жердей, укрепить ими стенки и лаз, вкопать столбы с матицей, настелить потолочное перекрытие и обдернить его, сколотить стол и нары. Но мы и не торопимся. Лето только набирает силу, все наши лесные походы еще впереди. Главное, что у нас есть тайна, с которой всегда живется интересней. Будем здесь рыбалить, варить уху, жарить на костерке грибы, любоваться рекой и лесом. Рубаха на Вальке потемнела, прилипла к телу, и он тянет ее через голову. — Держи! Я ловлю влажный тряпичный ком, встряхиваю его. Сейчас наброшу рубашку на сук, мигом ветерком подберет, подсушит солнышком. Спина у Вальки крепкая, отсвечивает золотистым пушком, и, когда он поднимает полную лопату земли, под кожей вспухают тугие катыши. Смотреть, и то любо. Я незаметно от друзей сгибаю в локте руку, напрягаю ее до боли, но моя синюшная кожа будто прилипла к костям, ничто под нею не бугрится и не катается. «Ничего, были бы кости, а мясо нарастет», — утешаю я себя бабкиными словами, надеясь на что-то доброе, хорошее в своей будущей жизни, которое обязательно должно случиться. Вот только возвратится отец, и тогда… Тогда на столе под полотенцем всегда будет лежать хлеб, подходи в любое время и отрезай, сколько хочешь. Почему-то отца я всегда представляю сидящим за столом, на котором попыхивает наш ведерник-самовар, синими осколочками сверкает в вазочке сахар, а в тарелке горкой навалены пшеничные ломти. Дальше этого мое воображение не продвигается. Отец, сахар, хлеб… — Валька, а ты когда-нибудь видел гору хлеба? — А что тут такого, — дернулся на его грязной шее кадык, — и ты в любое время посмотреть можешь. — Это где же? — Рудька опустил на землю корзину. — Да в пекарне… — Тьфу, — сплюнули мы разом с Рудькой. В пекарню путь посторонним заказан, здесь каждая буханка десятками глаз учтена и сосчитана. Мне об этом и бабкой и матерью не раз говорено было, чтобы не смел даже неподалеку крутиться. Расположена пекарня сразу за школой, в просторной избе с коваными решетками на окнах. Большую часть помещения занимают печь, огромное корыто для замеса теста и похожий на нары стол, колдовал за которым высокий костлявый Никифор Грядкин — катал, мял и укладывал в промасленные формы серые мучные сбитни. Выпеченные хлеба, похожие на рыжеватые кирпичи, отдыхали на том же самом столе, потом их взвешивали на весах и складывали в хлебовозку — деревянный ларь с замочком, установленный летом на телеге, а зимой на санях. Когда хлебовозка подъезжала к магазину, там уже всегда толпился народ. Продавщица изнутри открывала задвижку, и в стене образовывалось небольшое оконце. — Раз, два… шесть, — считала она громко уже учтенные и перевешанные вместе с пекарем буханки. Стоящие в очереди старухи и подростки невольно шевелили губами вслед этому счету. Хотя чего там… Каждый и так знал, какой кусок определят ему весы на карточки от этой общей выпечки. Отовариваться хлебом у нас, как правило, ходил кто-нибудь из взрослых, нас бабка старалась не вводить в искушение. Да и мы понимали: намаявшись в очереди, надышавшись до боли в желудке хлебных запахов, трудно не соблазниться и не отломить от семейного пайка хотя бы крохотулечку. Ну, а где малость… В общем, добром магазинные поручения кончались редко. — Ты чего размечтался, давай-ка в яму. — Валька протягивает мне лопату. Внизу прохладно, земля отдает сыростью. Песок уже подчистился, пошла глина, плотная, жирная. Теперь копаем втроем, подменяя друг друга. Я уже с головой ушел в яму, с трудом выбрасываю сочные ломти глины на травянистую бровку. — Может, хватит? — спрашиваю Вальку. — Не-е, еще на штык возьмем. Не конуру строим. А время на свежем воздухе, за работой летит быстрокрылой ласточкой — не заметили, как солнце прокатилось по небу и опять в леса нырнуть приготовилось. Прохладный сквознячок сочится меж сосен. Горят ладони, ноют плечи, да и лопата — чуть зацепишь глины побольше, кажется неподъемной. Я жду — сейчас меня сменит Рудька, но он неожиданно появляется на краю ямы без корзины, и по его взволнованному лицу я понимаю: что-то случилось. Предупреждая мои вопросы, Рудька торопливо шепчет: — Там-м плывет кто-то… Через минуту мы припадаем в траву рядом с Валькой, который лежит у самой кромки берега. Он прикладывает палец к губам. Я осторожно отгибаю ветку смородины. Впереди, в лучах закатного солнца серебрится, переливается чешуйками речной прогал. И там, у самого поворота — лодка, а в ней, согнувшись, сидит человек. С каждым гребком он приближается к нам, и я узнаю его. Макся Котельников! Зачем он здесь? Мне кажется, что Макся держит под прицелом своих глаз береговые кусты, чутко прислушивается к лесу — вон как ворочает своей цыганистой башкой, будто опасится чего-то. Хотя кого ему бояться, взрослые все в поселке, на работе, это нас затащило в такую даль. Непонятен мне Макся. Наш, деревенский, но как бы и чужой всем. Война незаметно сблизила людей. А может, просто каждый из них по одиночке боится бороться с собственным горем, вот и тянутся все друг к другу душой, чтобы выговорить свои надежды, отболеть сообща беды, отголосить похоронку. Страдания взрослых созвучны и нашим сердцам, оставляют на них свои зарубки, но для нас страшней всего другое — голод, который, особенно в долгие зимы, накидывает петлю на весь поселок. Ведь мы растем, и наши желудки, чем их не набивай, постоянно требуют пищи. Но даже в такое время, когда до сытости далеко в каждом доме, сельчане не растеряли своей гордости и христарадничать в открытую никто не решается. Такое падение — до сумы — презирается. Зато примечал я другое. Как бабка, улучив свободную минуту, перекрестившись на иконы, заворачивала в тряпицу что-нибудь из съестного и отправлялась на улицу. И я догадывался, куда. К вырытой на краю поселка землянке, где ютилась семья приезжих, прозванных нами вотяками. Да, голодовал весь поселок, кто больше, кто меньше, и многие по-соседски делились последними крохами. Но эта песня не про Максю. Уж он-то все, как курица, под себя подгребает. Взять хотя бы швейную машинку, что отдала Валькина мать ему за тощий мешок картошки. Недаром бабка говорит: «Одному — беда, другому — радость». Только радость почему-то одному Максе перепадает. Его и война стороной обошла, в подарок грыжу подсунула. А от килы Максе сплошная выгода, здоровья у него — хоть отбавляй, считай, один такой на весь поселок. Вот и сподобился, получил от соседнего колхоза лошадь, сложил в лесу печь-смолокурку, пережигает для кузниц уголь, гонит из бересты деготь — вроде как для фронта работает, а больше на себя. Каждый к нему идет с поклоном: на себе ни дров, ни сена не натаскаешь. — Ружье, ружье, — шепчу я друзьям, приметив блеснувший черным глянцем ствол, но Валька многозначительно показывает мне кулак. Лодка у Макси загружена какими-то мешками, осела по верхние борта, и, может, потому он плывет так осторожно, почти не всплескивая веслом воду. Вот он уже совсем рядом, под нами, и мне кажется, что я чувствую его горячее хриплое дыхание. Хочется вжаться в землю, исчезнуть с нее, лишь бы не встретиться сейчас с этим человеком. Непонятное всегда пугает, от него быть лучше подальше. Не приметил нас Макся, сплавился со своей странной поклажей вниз по реке. Вроде ничего плохого не сделал, проплыл мимо по каким-то своим делам, а испортил нам праздник. И солнце, и бор, и река — все стало не в радость. Будто затянуло округу серой пеленой, а потом коснулась души тревога. Сидим на горке сырой глины, не глядим друг на друга. И ступенчатый спуск в землянку доводить до ума неохота. — Может, того, домой? — неуверенно предлагает Рудька. — Ладно. — Валька встает, отряхивая штаны. — Землянка от нас не уйдет, доделаем, а вот, что у Макси в мешках, посмотреть бы хотелось… Прячьте лопату. Мы его у Филинской засеки перехватим. Не разминемся. Только, чтобы молчок. Но нам об этом и заикаться не надо, сами знаем, на что решились. Лесом дорога всегда короче. Река в тайге только что колесом не крутится, то левым, то правым берегом поворачивается к солнцу, и, пока Макся доберется к засеке, мы уже будем там. Осталась позади неприветливая черемуховая падь, и река потерялась, метнулась куда-то в сторону. Но я надеюсь на Вальку. Идет он быстро, уверенно, побелевшая на спине рубаха колышется перед моим лицом. Пыхтит сзади Рудька, топчет мои следы. Мне этот лес не знаком, не бывал здесь ни разу, ни за грибом, ни за ягодой. И потому примечаю папоротниковые низины — быть здесь груздю! — и любимые темношляпым боровиком пригорки с россыпью сизоватых курчавых мхов. Высветлило лес березовыми стволами, прошуршал он старым полуистлевшим листом, и снова кольнула подошвы хвойная осыпь, обступили нас гулкие медные стволы. Увязалась следом сорока, выдает нас своим стрекотаньем. Погоди, тварь белобокая, может, когда и сочтемся. Наконец, под ноги подвернулась не очень торная тропочка, подхламленная иглой и почерневшим листом, перехлестнутая ребрами выползших наружу корней. Годами люди набивали ее ногами, спрямляли путь к реке. И мы, вслед за Валькой, отдаемся ее власти. Куда она, туда и мы. Прорезалась впереди голубая полоска, расступились сосны, и тропинка, разъев канавкой кромку берега, скатилась к самой воде. Валька поднял руку, и я понял: перед нами и есть та самая Филинская засека-переход, которую по причине многоводности Ниапа в этих местах не миновать ни грибнику, ни ягоднику, если есть нужда перебраться с одного берега на другой. И снова таимся на берегу, дышать и то боимся. Переход — зависшая над рекой сосна — виден мне хорошо. Шальная ли весенняя вода, или налетевший ураган решили судьбу неосторожно выросшего на береговом откосе дерева, — сейчас не угадаешь. Но, видать, кто-то из мужиков еще в давние времена смекнул, что могучий ствол на этой речной излучине, над застоявшимся глубоководьем заменит мост, и не потревожил его на хозяйские нужды, а заботливо очистил от сучьев и стесал топором верхнюю боковину. — Тс-с, — напоминает нам Валька. Над водой звук далеко слышно. И, правда, сплеснулось что-то за поворотом. Раз, другой. А вот и он, Макся. В стеганой зеленой фуфайке, перепоясанной армейским ремнем — а войны и не нюхивал! — в шапке-ушанке не по сезону. Сытый, краснорожий, грыжа проклятая! Сосна Максе — не помеха. Слишком высоко зависает она над водой огромной желтоватой костью, и Макся лишь пригибает голову, отталкиваясь от сосны свободной рукой. И я вижу испятнанные чем-то бурым мешки, лежащее на них ружье. Неужели убоина? Дон-н, дон-н, дон-н, — доносится издалека мелодичный голос заводского колокола. «Пять часов», — подсчитываю я. — А ведь Макся в такую рань с мясом в поселок не сунется, — возбужденно шепчет Валька. Видать, и он разгадал содержание мешков. — Спрячет где-нибудь до потемок, не иначе… Валька, наверное, прав. Не резон Максе плыть к своему дому на виду у всего поселка: мало ли кто приметит странную его поклажу. Нет, не рискнет! И Валькин план мне понятен: выследить Максину потайку, а что будет дальше — увидим. Посмотрел бы сейчас кто на нас — удивился. Совсем на людей не похожи. Не идем, а крадемся, скользим от дерева к дереву подобно бесшумным зверькам — ласкам. Река то уходит куда-то в сторону, то вновь приближается к нам, но мы стараемся подальше держаться от берега. Изредка Валька, подав нам знак стоять на месте, исчезает в кустах у реки, высматривает лодку. Он — наши глаза и уши, от него зависит наше единоборство с Максей. Закатное солнце уже подсветило верхушки сосен, скоро и с них исчезнет золотистый румянец, но день-то майский, световать ему еще долго. Осталась позади Чертова яма — огромная чаша дегтярной воды, пошли горушки, заросшие молодым березовым лесом. Березы лишь у самой земли расписаны черными узорами, а у стволов и веток атласная кожа сияет свежестью первого снега, вокруг светло и просторно. Но в таком лесу и человек издалека приметен, и потому Валька оставляет нас в неглубокой ложбинке. Совсем недалеко отсюда, за этой светлой редкой соединяет берега Ниапа занозистый лежневый мост, а дальше река, как проснувшийся котенок, выгнет свою спину, прижмется к косогору, на котором и стоит наш завод. А земля уже заметно набрала остуды, идет от нее холодок, и я жмусь к Рудьке, улавливаю в его глазах тревогу: как там Валька? Его курчавая голова внезапно возникает рядом с нами. — Все! — с ликованием выдыхает он. — Завалил мешки чащей, здесь неподалеку, на берегу. Наверное, по темноте за ними приедет на своем лошаке. А может, и приплывет. В тальниковых зарослях Валька подводит нас к куче свежесломленных веток, разбрасывает их руками. — А может, он приметил, как сучья ложил, — осторожничает Рудька. — Где ему! Что он, сова, ночью разглядывать… Мешки мокрые, в кровавых потеках, и я чувствую тошнотный запах парного мяса. Валька развязывает тесемки на одном из мешков. — Смотри-ка, лося, гад, приструнил где-то, а может… может, мяско-то колхозное, а? Не по себе мне, немного познабливает: от сумеречной ли прохлады, или от какой-то неясной тревоги, не пойму. А вдруг Макся вернется, вот сейчас вскинется коршуном со своим ружьем над нашими головами, застанет нас за постыдным делом. Хотя нам ли краснеть от стыдобушки, мы, что ли, зверя порушили? — Пошли домой, — зову я ребят. Но Валька достает из мешка большой кусок ярко-красного мяса. — Это ему за швейную машинку. А то подмороженными картохами рассчитался, кила фашистская! — А что матери скажешь? — Что я, дуралом какой? Она за ворованное, знаешь?.. А мяско мы завтра на острове сварим. Землянку-то на подножном корме не скоро осилишь. Молча заваливаем ветками мешки с убоиной. Пропадай они пропадом! В полночь поселок всполошил суматошной набатной скороговоркой колокол. Ничего не понимая, прилип я к окну. Идущий откуда-то снизу, от земли, розоватый свет четко обозначил крыши соседних домов. Горело где-то у самой реки, недалеко от плотники. За окошком послышались встревоженные голоса, кто-то не узнанный мною пробежал вдоль садочка. А сияние над крышами разрасталось, яркие всполохи отодвигали в сторону темноту. Захлебываясь, колокол звал на помощь. — Баб, — неуверенно тяну я, вспоминая, куда забросил штаны. — И не выдумывай! — Она стоит в одной рубашке рядом со мной. — Не тобой зажжено, не тебе и тушить. Еще подлезешь, куда ни надо. Не понять ей моего горя, сидеть взаперти, как подмочившемуся кутенку в конуре, когда там сейчас такое творится. Будто наяву вижу я, как мечутся вокруг горящей избы люди, кричат что-то, не понимая друг друга, разноголосо скрипят журавли соседних колодцев, и ведра из рук в руки, по цепочке, спешат к огню. Конечно, из конюховки уже пригнали «пожарку» — поставленную на телегу здоровенную бочку с речной водой, и кому-то из ребят доверили отполированные до черного блеска ручки насоса. Но что жаркому чудищу эта бочка, что ведерные всплески колодезной воды. У огня нрав крутой. Вспыхнувшую свечой избу чаще всего отстоять не удается. И нажитое человеком годами вдруг разом превращается в пепелище… Людское горе, разрывающие душу причитания над свежими головнями запоминаются надолго. Может, потому и не пускает меня бабка на улицу, к малиновым всполохам пожарища. Но я-то знаю, сердцем своим она сейчас там, рядом с чьей-то невосполнимой бедой, и утром одна из первых навестит погорельцев и, как принято у нас в поселке, поделится и последним куском, и хозяйской утварью. Стих колокол, затушевала темнота окошки. Но мы не спим, ждем с ночной смены деда, разгадки случившейся огненной беды. И бабка, услышав скрип отворяемой во дворе калитки и знакомое покашливание, засвечивает лампу. Дед подает мне свою стеклодувную трубку, черный березовый кожушок которой все еще сохраняет тепло его ладоней, молча садится на сундук. Мне не терпится узнать, по какой же причине набатили, чье подворье полыхало, но первой не выдерживает любопытничает бабка: — Что там, отец, стряслось? — Максиму Котельникову баню подпалили. — Господи, что деется. И так у всех горя под завязку. Отстояли хоть? — Добро, река рядом, а то бы… Видать, наперчил кому-то круто, вот и отрыгнулось. Его ведь в избе устерегли, колом дверь припечатали. М-да, жизнь… Не знаю, жалеет дед Максю или нет, для него на все случаи жизни одно это присловье. И у меня мысли бегут вразброд: кто подпустил петуха Максе? Не любят его в поселке многие. Да и за что с ним миловаться? Если и поможет какой солдатке, так ей потом долго икать приходится. У Макси к собственной выгоде дороги торные. Я вспомнил Вальку, злые искорки в его глазах, когда там, у реки, он развязывал мешки с лосятиной. Неужели он? Нет, в такое трудно поверить. Валька не из тех, у кого чужая беда в душе праздником откликается. И как бы ни был он зол на Максю за променянную ему за картохи швейную машинку, так жестоко мстить не будет. Тут что-то другое. Непонятен мне Макся. Всегда он какой-то хмурый, нелюдимый. Может, и правда, не дает покоя, точит его болезнь. Ходит он как-то боком, развернув в сторону правую ногу и придерживая рукой свою распухшую грыжу. Но, видать, и у болезни случаются выходные. В такие дни Макся каждому встречному улыбается, особенно вдовым бабам, будто виноватится перед ними, что он-то вот живет здесь и мудрует, в глубоком тылу, а их мужикам уже не суждено вернуться в поселок. В доме у Макси редко кто опнется, да и встречает он каждого у калитки, едва всполошится лаем собака. Видать, есть тому причины и, может быть, одна из них — вьющийся по утрам из печной трубы дымок, белесые струйки которого разносят вокруг такой сытный аромат, что иногда мы бегаем к Максиной ограде, принюхиваемся к забытому мясному запаху. Подышим, наглотаемся слюнок, а Максе в отместку подбросим на крыльцо дохлую кошку или натрусим перед воротами резучего стеклянного боя. Доконала меня землянка и ночной набатный переполох. А может, вспыхнула во мне под утро жаром родниковая ледяная купель. Затяжелело тело, веки слепило — не открыть глаз. Лежу я в бабкиной постели, все вроде при мне: и руки, и ноги, и голова — и нет вроде меня совсем. Плыву, плыву куда-то… Сквозь горячечную дрему слышу с кухни негромкий голос соседки Капитолины Моржовой: — К Котельниковым с обыском из района наехали. Говорят, когда баню тушили, мясо горелое нашли. — Господи, страх-то какой! Ну и что сам поясняет? — спрашивает бабка. — Да у Макси, как у змеи, ног не сыщешь. Лося, мол, в лесу подобрал. Рысь его порвала, он и свалился. Хотел будто на нужды фронта сдать, да не успел. — Этот ужом из-под вил вывернется. Где его укусить. — Тут и простаку ясно. У него и в районе заручка найдется. Подмажет где надо и снова пошел лес чистить. Другого давно бы упекли куда подальше, а этот… Нет, видно, правды на свете. Кто последние жилы из себя тянет, а кто с жиру бесится. — Тише ты, тише, — улещает Капитолину бабка. — А что тише-то! Ты вспомни уполномоченного, что зимой приезжал, собирал деньги в помощь фронту. Морда красней кирпича, щеки как у борова расперло. С постных харчей, что ли? Сложил в портфель денежки, увязал в сморкастый платок наши сережки да колечки — только его и видели. А ведь ночевать опять же к Максе пожаловал, бабе евоной хвастал, что купил дом в городе и в районе его только бронь держит… Э-э, да все они одним миром мазаны. И мне неясно многое в этой жизни. Большинство сельчан голодует, изнурительная многочасовая работа на стекольном заводе съедает последние силы, но люди верят в победу и отрывают от себя последнее фронтовикам: собирают теплые вещи, сушат грибы, ягоды, лечебные травы, зимой стряпают и морозят пельмени. А Макся? Да что там говорить! У той же Капитолины забор между нашими огородами на подтопку разобран, а у Котельниковых в огороде новина навожена — одно к одному ровненькие золотистые сосновые бревна. Такому и война не помеха. Журчат неподалеку тихим ручейком голоса Капитолины и бабки, убаюкивают меня. Нанизывают они слово на слово, одну новость обсудят, за другую зацепятся. И несут, и несут меня теплые воды. Я пытаюсь вспомнить что-то недавнее, нужное, но снова медленно падаю в какую-то пустоту. Да и был ли он, Макся? Окровавленные мешки со свежим мясом, спрятанные в тальниках; яркие сполохи ночного пожара? Может быть, приснилось все это мне и исчезнет вместе с окончательным пробуждением. Все. Кроме нашей землянки.ЗМЕЙ ПОЛЕТЕЛ
А начиналось все так хорошо. И день родился теплый, ласковый, напоенный крутым майским солнцем, облупившим уже многим из нас вечно шмыгающие носы. Прогретая земля, освободившись от тяжести лежалых снегов, жадно выбрасывала навстречу светилу первую нежную зелень, дышала легко, со стоном, будто живая. У весны — особый аромат, но главное — ощущение ядреной свежести, пробуждающейся новизны. Трудно понять себя, взвесить свои поступки — какое-то тревожное ожидание живет во мне, не дает успокоиться. Дед говорит: «Я шило потерял, а тебе оно, наверное, в одно место воткнулось, на месте дыру вертишь». Ему бы только подтрунивать. Хотя от правды не уйдешь: в такое время грех не удрать из дома, не полюбоваться просинью неба, не послушать говор талой речной воды. Манит к себе школьная завалинка, набитая сопревшим опилом, нутряное тепло которой согревает нас, располагает к сердечному разговору. Скоротечные весенние дни выхлестывают наружу нашу энергию, подсказывают новые игры и забавы. Забываются на время разные обиды, один край поселка перестает враждовать с другим — всех примиряет лучистое солнце, которое одинаково щедро рассыпает веснушки на лицах наших и бродовских ребят. Венька Молокан держался особняком от наших ватажек, не союзничал ни с теми, ни с другими. Да и какая ему выгода в такой дружбе: сытый голодного не разумеет. Венькин отец тоже воюет на фронте, и в этом он как бы уравнен с нами в правах на участие в общих играх. Загвоздка — в другом. До войны заведовал Венькин отец пунктом по приему молока, который все для удобства называли молоканкой. Располагалась она в просторной чистой избе, поставленной на отложине небольшого озерца, на окраине поселка. К этому озерку у нас был особый интерес. Зимой посреди застекленевшего озерка мы вбивали кол, одевали на него обычное тележное колесо, от которого во все стороны лучами разбегались легкие шесты. Оседлаешь, бывало, санки и летишь по кругу, покрикивая тем, кому подошла очередь вращать колесо, чтобы крутили его быстрее, и, поймав нужное мгновение, расстаешься с концом шеста — неведомая сила выстреливает тебя в сторону, и ты летишь визжа от восторга, пока не воткнешься головой в зернистый снежный сугроб. Молоканка лишила нас этой забавы. До войны, когда в каждом дворе была корова, а то и две, вечерами у молоканки всегда было людно, позвякивали ведра, бидоны, натужно гудел сепаратор, из деревянного желоба с тыльной стороны избы струился зеленоватый ручеек, разнося вокруг приторно-кислые запахи и постепенно заиливая озерко. Полуголодное военное время, непосильные налоги на скот и, главное, отсутствие мужских рук — опустошили большинство сельских притонов, но будь в поселке хотя бы две-три коровенки, власти, наверное, не закрыли бы приемный пункт, заведовала теперь которым жена воевавшего Молокана, тетка Липа. Говорили про нее разное, но больше — худое. Потому что никто не понимал, что она делает со своими стеклянными пробирками, набирая в них на пробу удойное молоко. Только получалось так, что бедные коровы в вымени носят не молоко, а воду. И бабка моя возмущалась: в кринке сметанный усадок в добруюладонь, а снесешь молоко Липе — нет в ней лишней жириночки. Вот за это и не любили мы Веньку, отцовская кличка к которому, конечно же, прилипла сразу. К тому же не прочь он был прихвастнуть, похлопав себя по животу: вот, мол, опять напился свежих сладких сливок. И если случалась общая драка, каждый норовил прежде всего попасть в его нейтральный нос, дотянуться до его конопатой морды. Не хвастай, молочная душа, не все тебе брюхо ворованными сливками набивать, сопливой юшки своей испробуй. Ну а где сытость в такое время, там ожидай какого-нибудь нежданного коленца. Вот и в это весеннее утро поверг Венька всю нашу завалинку в безысходную тоску. Ребячий гомон я услышал издалека и пожалел, что припоздал к началу какого-то веселья, а может быть, интересной игры. Когда я обогнул бревенчатый угол школы, то прежде всего увидел Молокана. И сразу все понял. Венька с радостным криком бежал по школьному двору, а высоко в небе алым маковым лепестком парил… змей. Венька обеими руками крепко держал палочку, на которую как на веретено была намотана черная нить. Вот Молокан остановился, всем телом откинулся назад, показывая сидящим на завалинке ребятам, как тяжело ему держать на привязи свое летающее чудо. Испятнанные чем-то красным ладони Веньки вместе с веретеном метнулись вправо-влево, и рукотворный огненный листок там, в небесной сини, двумя нырками повторил маневр его рук. И снова ушел вверх, плавно покачивая матерчатым хвостом, будто соглашаясь с желаниями своего хозяина на земле. Запрокинув голову, я стоял сам не свой, оглушенный происходящим. Все забылось: сидящие у школьной стены ребята, залитые солнечным жаром окна домов, зеленые зубцы боров над коньками крыш… Лишь плыл по светло-струйной воде опавший осиновый листок. Куда, в какую даль? — Пошли на Релку, — командует на правах заводилы Молокан. — Здесь здорово не разбежишься. А змею простор нужен. Он скручивает на палочке нитку, и змей, недовольно покачиваясь, медленно теряет высоту. Сейчас он, как щенок на поводке, послушно скользит по небесной дороге, определенной ему Венькиной волей, его цепкими руками. — Тебя что, к земле приморозило? Очнулся я от короткого забытья, стоят рядом дружки Валька с Рудькой, на Молокана — ноль внимания. — Пошли отсюда. — Куда? — Уж очень мне захотелось вместе со всеми пойти на Релку, посмотреть, как раскрутится до предела катушка и поднимется над березовыми колками змей на недосягаемую для нас высоту, подмигнет оттуда горячей звездочкой. А может, не совладает с ним Молокан, вырвется змей из его рук и полетит свободно над борами. — Куда? — передразнивает меня Валька беззлобно. — Раскудахтался. Своего змея смастрячим, убавим Молокану радости. А то ишь ты, как петух, распушил крылышки. Со змеем мы, конечно, промазали. Опередил нас Венька и теперь надо так извернуться, чтобы по всем статьям его переплюнуть. Только как это сделать? Полполенницы дров перещупал Валька, пока выбрал ровный березовый сколыш. Повертел его в руках, оглаживая ладонями гладкую матовую поверхность. Приладил к срезу лезвие топора, прихлопнул по обушку ладонью. Срослись топор и полешко. Тюкнул Валька раз-другой по исщербленной колоде, и отлетела в сторону щепа-пластиночка. Легонькая, восково-прозрачная. Глянул я сквозь нее на солнышко — родилась в глазах теплая радуга. И вот уже из целого ворошка лучинок выбираем мы лучшие, самые ровные, самые невесомые. Ведь для воздушного змея что важно? Чтобы от легкого дуновения ветерка взмывал он вверх иссохшим березовым листочком. Вот почему с таким терпением подчищаем мы ножами каждую лучиночку, пока не становится она ровнее и глаже фабричной линейки. На такую капнешь разогретой смолой, и намертво приклеится к ней бумага — не сорвет ее никаким верховым ветром. А саму рамочку смастерить совсем несложно: увязать квадратиком четыре лучинки, соединить их для прочности крестовинкой — и готова! Держим ее в руках, поворачиваем всяко — хороша! Легка. И размером на добрый газетный лист. — Валька, а газета у вас есть? — любуясь рамкой, спрашивает Рудька. Хотя мог бы и не спрашивать. Какие могут быть в доме газеты, на какие шиши их выпишешь — бедность, как паутина, из каждого угла выглядывает. Да и в поселке редко в каком доме газеты водятся. Привозит их почтальон Кланька всего несколько штук, газеты одалживают друг у друга, носят из дома в дом, пока не изотрутся они на сгибах и не осядут в чьем-нибудь кисете. — Не-е, — думая что-то свое, не соглашается Валька. — Газета нам не годится. Там, на высотище, ветер хлесткий, враз размечет ее на кусочки. Молокан над нами первый и посмеется. Покрепче бы что. Может, Валерка, у твоей матери дома что-нибудь завалялось? Корочки от старых тетрадей… Мы бы их картовными жевышами склеили, конотопкой подзеленили. Меня уговаривать долго не надо, одна нога здесь — другая уже за калиткой. Молокану кто насолить не желает! Рванул вприпрыжку с Валькиного двора. Знать бы наперед, сократил дорогу огородами, а то вынесло меня на улицу, на которой из конца в конец каждую собаку увидишь. Вот и перехватил меня на полпути Юрка Аргат. — Куда летишь? — Домой. Бумага на змея нужна, — проболтался, не успев на бегу схитрить я. — На змея? — Юрка причмокнул синими искусанными губами, прищурил глаза, и его хитроватое лицо стало совсем непроницаемым. Живет Юрка на другом конце поселка, на берегу обмелевшей речушки Бродовочки, невдалеке за которой через луговину начинаются светлые хвойные леса, богатые белым грибом. Эти беломшистые боры бродовские ребята считают своими, нам туда хода нет, и потому каждое лето мы воюем. Конечно, в лесу дорог много и грибов всем хватает, но так уж повелось: поймают бродовские наших — подквасят носы, а грибы к себе пересыплют, мы их в наших лесах прищучим — тоже слезой умоем. Вражда эта то стихала, то разгоралась с новой силой. На дележку шло все: река, леса, улицы, места в школьных классах… Вот почему с опаской разглядываю я веснушки на Юркином лице, жду от него подвоха. Был бы сейчас рядом Валька… Юрка намного старше меня, уже несколько зим отходил в школу, и ему ничего не стоит дать мне подзатыльник, но я все-таки на своей улице, и подмога может явиться с любой стороны, хотя бы с той же Релки, где сейчас Молокан мучает змея. Но Юрка, видать, и сам помнит об этом, а потому горячо шепчет мне в ухо: — Я знаю, где есть бумага. Ох и змей славный выйдет! Только ты мне чуток подсоби. — А что надо делать? — Да ничего… Зайдешь в школу к тетке Сине, поговоришь о чем-нибудь, ну, мол, Витюшку евоного заглянул попроведать, а я тем временем в учительскую наведаюсь. — Так ведь она сейчас на замке? — Это моя забота… О воровстве в поселке слыхом не слыхивали (огуречные набеги на огороды таким злом не считались), и потому избы на замок редко кто запирал, легонькая клямочка, пришпиленная острой щепкой, — и все. Так уж издавна повелось. Но в учительской было столько соблазнительных вещей для ребячьего глаза, что в вечерние часы две половинки двери сторожил маленький черный замок. Меня там всегда привораживал голубой глобус, глядя на который, я никак не мог понять, почему с нашей круглой земли не стекут в пустоту воды рек, морей и океанов… Нет, все перепуталось в моей голове: глобус, учительская, тетя Сина, бумага… — Ты, я гляжу, тетки Сины боишься? — Что она, кусается… — Вот и я говорю. Да ты не робей. На тебя и не подумают. Мать — учителка… Так идем, что ли? По высокому крыльцу мы поднялись в небольшой остекленный тамбур. Школьный коридор был безлюден и по случаю выходного дня поблескивал недавно вымытыми полами. Юрка дышал мне в затылок. Одно осталось — идти к тете Сине, пособничать нехорошему Юркиному делу. Тетя Сина в школе — одна при всех должностях: и завхоз, и сторож, и повар, и техничка. Худенькая, невысокая, ну совсем как высохший гороховый стручок, она не ходит, а летает по школе. А иначе, наверное, и не успеть переделать работу. Одних только дров сколько надо перетаскать, чтобы ублажить ненасытные печи. А их в школе, что солдат в строю, около каждой классной двери поблескивают черными металлическими боками. И этот торжественный строй как бы удлиняет и без того немаленький коридор, который опять же моет неутомимая тетя Сина. Многим ребятам она пострашнее самой строгой учительницы: то отчитает своим звонким голоском за сваленную с вешалок одежду, то выведет на чистую воду курильщиков… Но козни ей ребята никогда не строили. И не потому, что в самое голодное время варила она в ведерном чугуне казенную картошку и заведовала сиротским столом, просто при видимой строгости ее жалостливой доброты хватало на всех. Да что там говорить, я и сам сколько раз видел, поддергивала она гирьку настенных (наверное, единственных в школе!) часов и незаметно подводила вперед минутную стрелку, чтобы укоротить урок. А уж коли прозвенел в руке тети Сины литой медный колокольчик, потом хоть сколько разбирайся учитель — нас обратно в класс не загонишь. Такой была наша тетя Сина. И вот сейчас по указке Юрки Аргата я шел к ней с неправедным делом. Господи, как несправедлива ты, мальчишечья солидарность! Ведь сколько раз каждый из нас пересиливал свой характер, совершая порой что-то непотребное собственной душе, лишь бы не прослыть трусом среди своей ровни. И повернуть назад нельзя — сопит за плечами Юрка. Школьная квартира тети Сины — бывший класс, превращенный в столовую, и потому бо́льшую его часть занимают здоровенная русская печь и стоящие впритык столы и лавки. Лишь небольшой, отвоеванный беленой дощатой перегородкой закуток и есть жилье, или квартира, в которой и спят тетя Сина со своим белоголовым Витюшкой. Воюет ли Витюшкин отец, или так кто-то однажды прислонился к судьбе тети Сины да навсегда и сгинул, об этом в поселке никто не знает. Письма к ней не ходят, а свою самую сердечную тайну держит она при себе. Знают сельчане только одно, что работала тетя Сина где-то в теплых местах, при угольной шахте, и война так стремительно стронула ее с родного гнезда, что бежала она из дома в чем была, прихватив лишь Витюшку — свою сердечную тайну. В наш поселок ее привела родственная ниточка. Но у родни она лишь опнулась, приживалкой жить не захотела, а потому сразу подыскала работу, да еще с жилым углом, отапливаемым казенными дровами, — не каждому эвакуированному выпадало такое. Я робко, без стука, открываю дверь. Голова Витюшки белым одуванчиком едва проросла над сиротским столом. Он еще совсем несмышленыш, но ложку в руке держит твердо, вылавливая ею что-то в глиняной миске. Меня он встречает радостным восклицанием: — Дя-дя! Дя-дя! Ободренный таким началом, я снимаю фуражку, тихо здороваюсь. — И ты будь здоров, присаживайся с нами чаевничать. — Тетя Сина выпархивает из предпечья. На ладони стакан с рыжеватым морковным чаем. Я еще до конца не знаю, что там замыслил Юрка, но как мне хочется сейчас, чтобы ничто плохое не коснулось тети Сины и ее Витюшки. Вон он какой худосочный, дунь — и осыплются с головы белесые волосенки. Мне хочется погладить его жидкие шелковистые прядки, ощутить ладонью, как в ложбинке, под мягкой кожей, пульсирует «родничок». — Как там бабушка ваша, не болеет? — Проворные руки тети Сины смахивают со столешни несуществующие крошки. — Ле-ет, ле-ет, — вторит ей Витюшка. — Здорова пока. — Я отпиваю глоток явно не для меня приготовленного чая и чувствую, как таким же морковным цветом разгораются мои щеки. — Вы мать берегите… Опять у нее на уроке сердце схватило. Каждую беду как свою переживает. А нынче бед под завязку. Тут никакого сердца не хватит. Она горестно вздыхает. — И все война проклятущая. — Уча-я, у-ча-я, — не унимается Витюшка. Обостренным до предела слухом улавливаю почти неслышный скрип входной двери, торопливо допиваю чай и бормочу что-то невразумительное. Мне не хочется видеть Юрку, но он перехватывает меня за углом школы. — Ты что, из бани выпал? — Чай пил… — Ишь ты, один делом занят, другой чаи гоняет. Ладно, бери бумагу. Он с хрустом, будто меха у гармошки, разворачивает белоснежный рулончик. Внутренняя сторона его разлинована на клетки, и в каждой из них нарисованы какие-то непонятные мне буквы. Я осторожно касаюсь бумаги: она легко течет меж пальцев. — Обожди! — Придержав рулончик рукой, Юрка что-то обдумывает. — За просто так и чирей не вскочит. Неси-ка что-нибудь пожевать, а то у меня… — Он ткнул себя в живот. — Так у нас… — Найдешь чего-нибудь! У вас вон куры, и те не съедены, а уж яиц, наверное… Замутила мой разум своей белизной бумага. Что я кроме газетных махорочных лоскутков видел? Забыл про учительскую, про тетю Сину и Юркины оттопыренные карманы — как бы не мое дело. Не помню, как очутился в ограде, проверил все устроенные дедом и потайные куриные гнезда, нашел лишь выструганные из березы яйца-подклады. Да и откуда им залежаться, настоящим? Бабка едва услышит хвастливое куриное «ко-ко-ко», тут же во двор, за яичком. А Юрка не таится, ждет меня у палисада. — Ну что? — Нет яиц. — Эх ты, ни украсть, ни покараулить. Тебе вот дай, а давалку — ее кормить надо. — Возьми… — Я протянул ему картовную шаньгу, стараясь не думать о том, что будет, когда за вечерним столом обнаружится ее пропажа. Их и лежало-то в тряпице всего четыре. Что-что, а к хлебу в доме относились свято. Каждый кусок проходил сначала через бабкины руки, лишь она распоряжалась этим продуктом. — Ну это куда ни шло… Юрка мигом упрятал куда-то шаньгу, будто и не было ее на моей ладони. С сожалением посмотрел на бумажный рулончик. — Держи! Яйца в другой раз принесешь. — Где взял? — сразу насторожился Валька, едва я очутился в его ограде. — Да, так… — замялся я, не желая выдавать своих тайных сношений с нашим вечным врагом Юркой Аргатом. — А-а? Мать из школы принесла. Видать, там без надобности. Химию-то в старших классах проходят, а где они нынче? А бумажка хороша. Из такой бы карты сделать. — Он развернул лист. — Мы эти клеточки поверху пустим, а снизу… снизу звезду нарисуем. Я знаю, где у матери в подполе свеколка прикопана. Звезду накрасим, она и полыхнет в небе. Каждый увидит. — Валька, а может, еще углем написать: «Смерть фашистам!» Тут уж Молокан вовсе губу прикусит. — А что, дельно! Углей в загнетке хватит. Теперь вот что. Я тут насчет ниток думал. Дома не стыришь, у матери каждая ниточка на бумажку накручена и примечена. Много не отмотаешь. Да и зачем нам обрывыши. — Бабка тоже коробку с нитками в сундук закрывает. Ей и про звезду расскажи — не даст. Скажет, баловство. — Нам бы «десяточку». Один тюричок. С «десяточки» никакой змей не сорвется. Беда: одно найдешь — другое не сыщешь. Но на то он и Валька, чтобы любой нашей закавыке укорот сделать. Нитки у скопаря[1] Макси есть. Только он их на яйца меняет или на медный металл. Я узнавал. «Яиц нет…» — с тоской вспомнил я деревянные подклады. Да и какие яйца от двух всегда голодных хохлаток. Вот если… Я перебираю в памяти домашнюю утварь: литой узкогорлый рукомойник, семилинейную лампу под потолком, оклады икон, ступку с пестиком, гильзы в охотничьем сундучке деда… — Валька, а самовар из этого… медного металла? — Наверное. Только ты… чего удумал? За такое геройство и тебе и мне с задницы всю кожу спустят. — Да я не про тот самовар, из которого чай пьем. У нас в кладовке еще один пылится. О нем уже все и позабыли. — Ну, коли так… Да, без воровства воровства не бывает. Видать, первый раз решиться трудно, потом уже не сробеешь. Не подсказало мне в ту минуту сердце скорой неминучей беды, а то заколготилось бы сильнее, ударило в голову горячей кровью. Но что мне будущие страхи, Валькины горячие глаза сейчас всего дороже. Огородами, в обход чужого глаза, приволок я самовар на Валькин двор. Рудька тоже явился с добычей: старым металлическим блюдом, из которого они когда-то кормили кур, позеленевшей трехстворчатой иконкой и увесистым пестиком, который Валька тут же отодвинул в сторону. — Что у тебя в голове — мякина? Я про медный металл говорил, а ты чугунку тащишь. — Так, может, скопарь и не приметит. Зато она вон какая увесистая. — Это Макся-то не приметит! Разевай рот шире… В общем, одна надежда на самовар. — Валька с сожалением осмотрел его со всех сторон. Натереть его битым кирпичом — засиял бы солнышком. «Что будет, когда узнает бабка?» — тревожит меня заноза-мыслишка, наливает жаром щеки. Но я бодрюсь. — Придется помять его, подпортить видок… А это возьми. — Валька протягивает мне краник с узорчатой литой ручкой, в ажурной кружевине которого изогнулся в прыжке рогатый олень. Так-то оно и лучше, не отдавать же оленя Максе. Обушком топора испятнали мы глянцевые бока самовара, наделали ему вмятин, чтобы не подумалось скопарю, что украли где-то исправный. Окольными переулками вышли мы к дому Макси, под собачий брех вызвали его во двор. Вывернул Валька из мешковины израненный самовар. — Вот. Нам бы ниток, «десяточку»… — Какую вещь испоганили! — догадливо осудил нас Макся. — Так он все равно без краника. Куда его приспособишь, — соврал я. Прикрикнул Макся на псину и больше не услышали мы от него ни словечка. Молча унес в дом самовар, молча возвратился и положил Вальке в запотевшую ладонь два тюрика черных ниток. Эх, спеши не спеши, а время не обманешь, да и майский день не так уж долог, не расправил свои плечи. Как не приторапливались со змеем, управились лишь к нарождавшейся вечерней заре. Было бы все под рукой, долго ли свершиться интересной для нас затее, а так… Скатилось солнце к зеленым ухабам заречных боров, вот-вот нырнет в прохладу хвойных лап. Зато на завалинке опять тесно: самое время вечерошним играм — пряткам, с забивом в землю по самую макушечку заточенного у основания кола или с забрасыванием палки куда-нибудь в сумеречный угол школьного двора, за полуразобранные штабельки березовых дров. Молокан, как мы и думали, тоже среди ребят, в самой середочке важничает. Видать, улестил кое-кого из них, дал поводить по небу змея и теперь, конечно, рассчитывает на особое положение в игре. В крайнем случае, первым ему «голить» не придется. Ничего, еще не все песенки спеты, остались кое-какие про запас… — Ну что, мужики, испробуем?.. — Валька не реагирует на временный успех Молокана. — Запустим краснозвездного, а уж потом и делиться начнем… Загомонила, зашевелилась завалинка, а потом и поднялась вся (один Молокан к ней примерз), чтобы разглядеть вблизи нашу работу. Прижал я осторожно змея к груди, словно отцовский портрет, — показываю ребятам. Горит на белом поле вишневая звезда, готова прожечь бумагу. А ниже, над самым обрезом, четкий строй дегтярных букв «Смерть фашистам!» Разве тут останешься равнодушным. — Запускай! — не просит, а требует кто-то. Вот она, наша счастливая минутка, навели мы тебе, Молокан, изжогу. И понятливые Валькины команды выполняем быстро и охотно. Рудька расправляет и поддерживает над землей длинную ленту матерчатого хвоста — не зацепился бы при разбеге за что ненароком! Я двумя руками бережно, в наклон от себя, чтобы сразу поймать ветер, придерживаю змея. Валька распускает на тюрике нитку, отходит от нас метров на пятнадцать. — Пошел! Одновременно мы начинаем бег. Сейчас у нас на троих одно дыхание, одно сердце, одна душа. Я чувствую, как напрягаются лучинки в моих пальцах, как паруском трепещется, прогибается бумага. Все! Мои руки свободны. Змей красивым нырком резко взмывает вверх. Кажется, он закрыл полнеба, или это мои затуманенные слезами глаза не видят больше ничего, кроме распустившегося над школьным двором ярко-огненного цветка. — Держи! — Валька возвращает меня к жизни: я вижу вокруг ребят, слышу их возбужденные голоса. Тюрик стремительно раскручивается в моей ладони, я левой рукой придерживаю нить. Она напряглась, водит руку то влево, то вправо — змей просится на волю, а может, хочет прикоснуться к плывущему над ним одинокому облачку. — Валька! — кричу я испуганно. — Давай второй тюрик. У этого нитка кончается. — Не боись, прорвемся… — Валька перехватывает нитку выше моих ладоней. — Смотри не выпусти! Незаметно наливаются темнотой опушки ближних лесов, заплывают сиреневым сумраком переулки, а там, в вышине, еще вовсю гулеванит закатное солнце, поджаренный его лучами горит малиновым угольком наш змей, вяжет мое сердце с ним прочная нитка-«десяточка». Но, видать, всегда коротки у счастья минуточки. Ох, коротки! Окликнул меня брат Генка: когда он подошел, я и не приметил. Да и некогда мне было головой по сторонам вертеть. — Пошли-ка, ухарь, домой. Там тебе гостинец приготовили. Бабка по самовару, как по покойнику, причитает. Куда дел-то его? Оборвалось у меня все внутри. Не расспрашиваю Генку ни о чем, и так все ясно. Плетусь за ним побитой собакой. Бабка сидит на сундуке в кухне, подтирает концом фартука сухие глаза. — Явился, окаянец, не запылился. И это надо такое удумать! — И заходится в причете, из которого я улавливаю отдельные слова: «матерью благословенный», «к свадьбе берегла…» — Не плачь, баба, — утешаю ее, — я тебе тюрик с нитками принесу. — Ты ведь не самовар исковеркал, в молодость мою топором саданул, душу живую из меня вынул. Только и памяти было… Есть у беды начало, а вот конца не видно. Не дошла бабка в своих разборках до уворованной шаньги (а может, еще и не хватилась?), как отворилась дверь, и, казалось, не вошла, а влетела в избу мать. И с порога хлесть меня грязным обтрепанным голичком. Холодные прутья ожгли мне щеку, взлетел я на печку, не успел и рта раскрыть, как веничек достал мое плечо. И тут я взвыл так, что, казалось, подо мной ходуном заходила печь. Не бивали меня так, да и вообще не бивали, а тут обшарпанный веник… — Любава, разве так можно! Опомнись! — услышал я строгий голос деда. Откуда появился он, в горячке я и не приметил. — Стоит ли того лоскут бумаги, чтобы так над парнем… Я еще разберусь, кто его в этот омут толкнул. — А самовар? — ввернула свое бабка. — Помолчи со своим хламом. Он у тебя полвека в кладовой пылился, не примечала, а теперь… Льняные волосы матери рассыпались по плечам, закрыли лицо. Мне хочется дотянуться до них, погладить. Обида моя густого замеса, но и в сердцах мне жалко бабку, деда, мать, рядом с которой он стоит, успокаивая. Для нее-то сорванный с учительской замок — стыдобушка на всю школу, а может, и на весь поселок. — Ведь он мне зарок давал, без нужды к школе не подходить… — Зарок не срок, если все их выполнять — жизни не хватит. Ты о том подумай, что они сегодня видят. Какие игрушки, какие сласти? Ты-то в школе в глаза их голодные насмотрелась… Да мне… мне его радость дороже всего этого хламья. — Так что теперь, воровству потакать? — Я же сказал, разберусь во всем, найду причину. И будет об этом. Господи, да было ли это? Или явилось сном из нереальной жизни? Конечно же, было. И горькие минуты детства — не такие уж горькие. Со временем выветривается их полынный привкус, не так остро воспринимается с высоты прожитых лет. А вот россыпи счастливых мгновений всегда живут в памяти. Как тот ярко полыхнувший в густой просини вечернего неба огненный цветок — сотворенный нашими руками краснозвездный змей…Родники
ПРОСЕЛКИ
Старые проселочные дороги. Прикрытые тенью вековых деревьев, проложенные через солнечные ельники, услужливо огибающие озерки и болотца — сколько неповторимой прелести в их убаюкивающей прохладе, в густо настоянном аромате трав, в нетронутом лесном окружении. Всегда волновали они меня. Куда ведут, где оборвутся? Но если дорога под ногами, ее надо изведать, пройти от начала и до конца. И пускай затянет небо хмарью, уходит куда-то робость, пропадает испуг от встречи с неузнанными местами, когда перед тобой хоженый, езженый путь — ниточка к человеческому жилью. Глянешь на сегодняшний большак, раздвинувший бор на добрый погляд, на буруны истолченного песка, поседевшие от пыли деревья — и поневоле придут на память дороги детства. Тихие, умытые утренней росой, с затравеневшими обочинами, ловко скользящие между берез и сосен. И загрустишь по былому… Проселки. Им, как и людям при рождении, тоже положены имена. Оставит кто-то едва приметный след на порыжевшей хвое, проведя за узду лошадь, а потом набивают окованные колеса колею, утверждают дорогу. А кто не побоялся первым беспутья — тому и память на годы. Вот и петляют по нашим борам дорожки: «Левушкина», «Гранка», «Убиенная», «Телефонница», «Канава», «Богдановский сверток»… Таких названий на карте не сыщешь. Они живут вместе с нами, приходят с детством, запоминаются раньше школьного букваря. Ведь не скажешь в обыденном разговоре: «Пойди от поселка на север, потом сверни на восток…» Язык от таких слов онемеет, на смех нарвешься. Да и не у каждого от таких объяснений в голове просветлеет. Заведется, бывало, бабка воспоминаньем про ягодные и грибные набеги, не раз сердечно повторится про лесные дорожки. И все-то у нее напевно, до словечка понятливо, все в память ложится, и уводят тебя тропы и проселки в желанную даль. — Еще солнышко ночную капель с трав не слижет, а мы уже быстрой ногой до Ниапской дороги доберемся. По холодку всегда ходко, сугревисто. А от поселка, почитай, пройденное и в семь верст не уложишь. И всё босичком, чтобы роска-то пяточки прижигала, веселей шагать приторапливала. А как Горбатый мост достанешь, нырнет встречь солнцу тропинка. Как раз о правую руку. Ее с сонливого глаза не каждый и приметит. Вот над речушкой Бродовочкой, по черемушью да по кустовьям, на восход и правишь. Тут уж ноги обувкой оборони или гляди в оба. Ненароком и хвост змее прищемить можно, а они после зимней спячки страсть как злючи, яд густой, что смола. Вмиг нога с полено распухнет. И такое случалось. Ну да сам человек виноватый… За Горбатым мостом — пошто так прозван, и не знаю — черемухой и небранной смородиной разжиться можно, а уж хмеля столько, что кустов не видно. Всё оплел. Нарвешь мешок, не тяжело и запасливо. Но это, как время приспеет. А тропка, та бежит дальше. К Большой гари. Лес там тягостный, неулыбчивый, без птичьих разговоров, без единого шепотливого листочка. Стоит, будто дегтем облитый. От молнии ли беда приключилась, а может, кто в худую забаву иль ненароком подобное сотворил, никому неведомо. От той гари левее держаться надо, пока мшаники не начнутся. Места тоже не очень приветные, дух для тех, у кого сердце усталое, непереносный. Багульник дурманит, в виски, в затылок бьет. Но без добычи и здесь не уйдешь, брусника гроздьями с кочек виснет, а по весне и ползуниха-клюква вытаивает. Ну, а коли брусника не дошла или год для нее урочливый, то рядом, в редколесье, сплошь черничные кулиги. Богат лес. Присядешь — вокруг темно-синий разлив. Бьешься, на одном месте ползаешь, губы, зубы, руки до локтей — все чернехонько. Не заметишь, как принесенную посуду наполнишь, да еще с присыпочкой, чтобы дымчатая горка в обратную дорогу ниже краев не утолклась, иначе, как по поселку пойдешь с недобором, осрамишься. Домой возвращаешься другим путиком. По гари с ягодой шагать невесело, не сольешь удачливый азарт и печальный лес воедино. Да и травки какой попутно приглядеть надобно, а она от Бродовочки вся по низкому левому бережку. Вот и метишь от мшаников так, чтобы солнце спину грело. Тут уж бояться нечего, мимо речки все равно не пройдешь, не промажешь, хоть как на глаза явится. Главное — бродок найти помелее, по мокрым бревнам-то переход не с руки. Сам-то нечаянно искупаешься — беда неполная, солнце враз обсушит, а вот ягода в воду угадает… Кому смех, а бедолаге слезой умываться. Радостного в такой нечаянности мало. Но при артельном деле подруг без ягоды не оставишь. Делились, конечно, или сообща добирали. У речки обычно не торопишься, не порожний идешь. Руки, ноги, лицо в воде остудишь, горло ополоснешь, напьешься, а уж тогда и на дорожку выбираешься. Лес там ладный, сердечный — не налюбуешься, сосна к сосне, будто примерял кто. Глянешь вверх — обнесет голову ветерком. А уж если почва пропрела, быть белому грибу. Самое его место. Тут уж соблазна не избежать. Ставим ведра на приметной горке и — врассыпную. Кто передник снимает, а кто и исподнюю рубаху. Помелее грибы с собой увяжешь, а которые на корню оставлять жалко — на сучки наткнешь, белке зимой подкормиться. Гриб — замана добрая, один ломаешь, два на примете держишь. Но всех с собой не унесешь, всего леса не обежишь… — Баб, — потянешь ее за рукав, чтобы продлить подходящий к концу рассказ, — а дальше той гари ты бывала? — Как не бывала. Хаживала. Только одной-то страшно. В тайгу эту нырнешь, как в омут какой. Ни конца ей, ни края. Сгинь человек, не сыскать сроду. Вот и сговаривались обычно ватажкой, по хозяйству замену искали, за день-то не обернуться. До Большой гари многим дорога была известна, а вот дальше не всяк заглянуть решался. Есть там одна примета — сосна с раздвоенной вершиной. От этой сосны-двуперстки и начинается совсем неприметная тропка. Вот ее и держись, в сторону не сбивайся. Часа три пройдет, а может, и больше, пока к землянке выйдешь. Про землянку ту разное говорили. Кто на дезертиров вину ложит, что в гражданскую от войны таились, кто на беглых людей указывал. Раньше-то, при царе, у нас острог здесь был. Кармелюк, говорят, сиживал, а на каторге, известно, жизнь не сахар, вот и бежал народ от тиранства, коль выпадал счастливый случай. Кто-то из наших мужиков, кому охота в затраву, землянку эту подправил, гнилье заменил, обдернил заново. Вот мы в ней на нарах вповалку и спали. К ночи начнем побывальщину собирать — страхота, за дверью темень, лес над нами гудит, скрип-стон сплошной, до ветру выйти боимся, так до утра и маемся. Кто порезвей, тот, чуть забрезжит, сразу в работу, только к чему спешить: больше брюха не набьешь, сверх принесенной посудины не наложишь. Выйдешь на зорьке росой сполоснуться да про все и забудешь. Место высокое, с поддувом, без комариного нуда. А вокруг — сколь глаз хватает — стелется брусничное море, впору в нем купаться. Не ягоды — любованье. И рвать такую красоту жалко. Но рвали — тешились, отбирали ягоду к ягоде. Неспешливо, под песню, под шутку необидную. В такие минуты не живешь, а под облаками летаешь. Ни забот, ни хворобы. Все позабыто, все тебя радует. Не застланное облаками небо, спокойный полет глухаря, ядреный чистый воздух и эти ягодные разливы. И сам ты светел и чист, как этот много проживший лес.АРОМАТНЫЕ ЕЛАНИ
Сенокос нам достался прежний, у самой Большой дороги. А до нее привередливыми проселками все семь, а то и восемь километров намеряешь. — Завтра и начнем, — объявил дед, вернувшись с сельской сходки. — Решили нынче на старых наделах пересидеть. Жаль вот, траву не попроведал, не знаю, что там и уродилось… Ушел дед к колодцу вымачивать лагушки: одну под воду, другую под квас. А бабка достала с полки корчагу, наладилась замешивать квашню. Покос — не шутка, на пустой желудок много не наработаешь. И готовятся к нему всерьез. Бабка загодя подкапливает куриные яички, собирает в кринку сметану, варит творог… А если порадует дед лесным трофеем, добудет глухаря или копалуху, то мясо долго настаивается в растворе каких-то трав, а потом коптится над черемуховыми угольями в жарко протопленной печи, собирая всех нас на кухне, в надежде попробовать хоть маленький шматочек пропеченной золотистой шкурки. На бабку в такие минуты лучше не смотреть. А ей, наверное, еще больнее видеть нас — выметнула бы лучше на стол горячие куски — ешьте, ненасытное племя! — да не одним днем живем. От коровы почти весь год кормимся, на нее и жилы выматываем. Одни налоги чего стоят. Это всякому понятно. Зато нет для бабки слаще минутки, когда при сборах на покос обронит будто ненароком: «Я там, отец, копченинки завернула, так вы ее в холодок приберите». Крякнет только удивленный дед: он про эту копченинку и позабыл давно. Растревожила деда сходка, нет ему покоя. Ходит по двору смурной, какой-то потерянный. — Мать, не помнишь, куда оселки подевал? — В амбаре, в ящичке под верстаком… Где же еще быть твоим точилкам. Там еще курица, было, нестись пристроилась, да я ее турнула. Нашел дед свою пропажу и снова к бабке. — А срезка, случаем, не попадалась, помнишь, недавно нож тебе острил? — Ох ты, господи. Да вон твоя срезка, на подоконнике лежит, глаза протирает. — Тьфу ты, память на вороных проехала! Знает дед, где у него что лежит, не растеря какой-нибудь, уважает в доме порядок, да просто зуд сенокосный унять не может и своим нетерпением невольно заражает всех домашних. Наконец, не выдерживает, выносит из предбанника отполированный до черноты чурбанчик с маленькой наковаленкой, притирает его к земле под навесом, за спиной пристраивает палку-рогульку. Здесь, в тени, лучше всего литовки править — не рассыплются по металлу солнечные зайчики, не утомят глаз. Я мощусь рядышком, на прогретых плахах крылечка. — Ну что, косарь? — Выцветшие брови деда сбегаются к переносице, в такой же сизомшистой бороде вызревает улыбка. — Видно, и твое времечко приспело. Доставай рукотворную. Генке-то с Юрием нынче по «шестерочке» налажу, хватит им баловством заниматься. Не чуя под собой ног, лечу в амбар. Здесь, под самым потолком, на тонкой жердиночке висит несколько кос. Металлическое жало каждой обернуто в тряпицу и увязано шнурком. Осторожно снимаю самую маленькую литовочку, невесомо легкую, с гладкой березовой ручкой, выношу ее на вытянутых руках. Поплевал дед на острый носок молотка, привычно положил левую ладонь на неширокое лезвие. — Тюк, тюк, тюк… — весело понеслось со двора. И сонливого, и ленивого разбудит, растревожит этот перестук. Не спеша истончает дед старинную каленую сталь, от пяточки к середке, от середки к носку. В глазах радостные огоньки от скорого свидания с лесом, от предстоящей светлой работы. — Литовочка эта в нашей породе скольких в люди вывела. С отцом-то твоим на артельном лугу не всякий в сноровке сравняться мог, знатный косарь вышел, а все она виновата, с малых лет к рукам притиралась. И Лева, и Ванюшка — через нее с травой знакомились. Теперь твой черед подошел. И вот наступает это заветное утро. Солнце нехотя всплывает над зареченскими борами, вишневым румянцем раскрашивает окна, и каждое бревнышко в нашей избе лучится восковым светом. Кажется, еще мгновенье — и вспыхнет она от нестерпимого нутряного жара. Бабка притворно охает у печи, печалится вслух о невыстоявшейся квашне, о неудавшихся хлебах, ищет сочувствия. Но нам не до этого. Посреди ограды стоит большая двухколесная тележка, весь груз на нее уложен, сверху половичком накрыт и увязан, торчат сзади лишь ручки литовок. — Ну, с богом, — наставляет нас бабка. Я с братьями — чем не тройка! — хорошо накормленные ради такого дня, а потому с особым настроением рысью вместе с тележкой вылетаем на улицу. На лавочке поджидает нас Перфилий Гуляев, известный в поселке бедолага и балагур. Присватался он к деду в помощники еще до сходки, о цене за страдный день сговорились быстро — в такое время от лишних рук никто не откажется. — Ну что, залетные, понеслись! — поощряет он наш эффектный выезд. — Считай, что покосу пришел конец. При такой-то гвардии! Ютится Перфилий, по-простому Пера, вместе с многочисленными сестрами, дочерьми и племянницами в небольшой барачной квартире. А кто в бараке бедует, ни кола ни двора собственного не имея, про того и так все ясно: жизнь для него не мать родная, а злая мачеха. Не сумел и Перфилий себя до собственной избы возвысить. До того ли, когда нужда из каждого угла выглядывает. И сколько ни старались Гуляевы, бедность свою так и не осилили. Жили в основном лесом, от него и питались. Нанимались по осени копать всей семьей картошку: двадцать ведер хозяину, ведро — себе. Ну и стол, конечно. А тяжелой покосной работы и заготовки дров в деляне избегали. То ли непривычны к ней были, а может, разомлели в бедной своей праздности: по лесу гулять с корзинкой само собой приятней, чем в жару выматывать себя на густом травостое. А вот прозвище главе семьи досталось явно не по чину — «Пера-Барыня». И умысел здесь виделся не в том, чтобы пообидней просмеять его бедность — как раз на такое вряд ли у кого язык повернулся — просто удивляла всех странная походка Перфилия. Вот и сейчас он не идет, а расхристанным маятником раскачивается над дорогой — все в его бескостном теле находится в постоянном движении, плавном и неторопливом. Разбитые, грязные ступни ног, которые все лето не знают обувки, кажется, не приминают даже дорожной конотопки. Змей и прочей гадости Перфилий не боится: может, навсегда изгнал из себя страх или знает какой наговор. Но люди утверждают, что видели, и не раз, как послушные его цыганскому глазу до самого хвоста поднимались перед ним гадюки, раскачивались сонно из стороны в сторону, а потом без привычного шипа исчезали в траве. Дед рядом с ним выглядит форсисто: высок, худощав, складен. Косоворотка перехвачена в талии узким ремешком, на ногах добротные сапоги собственной работы. На земле он держится твердо, шагает прямо, уверенно. Чувствуется по всему облику: хозяин… Немного приглядевшись к знакомым придорожным лесам, я прислушиваюсь к странному и не совсем понятному для меня разговору, который на ходу, неспешно они ведут между собой. — Человека на земле забота держит, — размахивает руками Пера-Перфилий. — Пока в бегах да в работе, о болячках думать некогда. Я по себе сужу: лето явится, я не болею и не люблю болеть. Потому что в лес надо, и думка одна: как семейство свое прокормить. А как зима на печь загонит и… началось. Тут кольнуло, там екнуло. И все лежанье не в радость, чувствуешь: силы по капельке из тебя вытекают. На глазах рассыпаешься… — А мне вот и зимой стариться недосуг. Не имею такого права. Сынов дождаться надо да внуков поднять чуток, а уж тогда можно и за речку… — А ты живи, ничей след не заступил. — Так-то оно так, да всему есть предел. И жизни тоже. Сколько намеряно — проживешь, чужого и при желании не прихватишь. — Нет, Степаныч, — помолчав, опять заводится Перфилий, — не ровно в жизни люди стоят. Взять хотя бы нас с тобой. У тебя до войны три взрослых сына в помощниках ходили — дай бог им вернуться! — теперь вот внуков целый нарост. По песчинке можно и гору насыпать. А мне каково, когда в глазах от юбок мельтешит. Только и осталось, что леса от грибов и ягод чистить. Топор бабе в руки не сунешь. — В этом браке сам виноват, — подкашливая, сквозь усы улыбается дед. — Да ты не паникуй, разохотятся девки, посыплются ребятенки, как горох. — Если бы всё по-хорошему. Только доброе-то всегда лежит, а худое впереди бежит. Где они нынче, женихи? Все в окопах парятся. Не вспоминали бы лучше про войну, не грустили. Лес-то вот он какой, светлый, радостный, совсем не для гореванья. Я гляжу, как над самой переносицей деда темным двукрылым журавликом прорезается морщина, над ней вторая, третья… И летит этот клинышек куда-то в глубины его серебристых волос, там обрывается его полет. А может, это и не журавлики вовсе, а бесконечные думы деда о сыновьях и внуках? — Ничего, — мрачновато роняет он, — хвост гадине прищемили, теперь не уползет в свою проклятую Германию. Замкнулся дед, попыхивает дымком самокрутки, теперь нескоро разговорится. А Перфилий подплывает к нам лебедочком, ему печаль неведома, вспыхнула искоркой на ветру и погасла. — Ну что, милованы, приутихли, сентябрем смотрите. На веселую работу торопимся, а песни дома оставили. А ну, родимые! — Он перехватывает у меня оглобельку, и вдруг пронзительно чистым голосом врезается в лесную тишину:Запевай, подруга, песню, запевай, какую хошь.
Гитлера на штык поддену, раздавлю его, как вошь.
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек…
ЗИМНЯЯ ЯГОДА
Прошли запоздалые затяжные дожди, и погрустнел сразу лес, растерял яркие осенние краски. В такое время тропишь меж оголенных берез первопуток — собственных шагов не услышишь, глохнут шорохи в устлавшем землю палом листе. Быстролетно сибирское лето, короче птичьего коготка. Не успеешь оглянуться, как уже заглядывает в окна хмурое въедливое предзимье — нелюбимая мною пора. Лохматые облака бесконечной вереницей тянутся над поселком, почти задевая крыши, и каждое одаривает землю тяжелой холодной капелью, а то и снежной крупкой. Холодно, слякотно, неуютно. Да и улица для меня под запретом — к чему лишнюю грязь домой таскать! Братья в школе, дед задержался в соседней деревне, перекладывает кому-то печь. Сижу на подхвате у хлопотливой бабки, коротаю с ней тягучие однообразные дни, похожие друг на друга, как потемневшие от дождя, взъерошенные воробьи под стрехой нашей стайки. Жду чего-то. А чего ждать? Все мне в тягость, в непонятную обиду. И своя жизнь, и бабкины просьбы. «Господи, — обращаюсь глазами к темному куску иконы, — лето тебе не вернуть, так позови зиму… Ты ведь все можешь». А по стеклам струится вода, качает черемуха черные упругие ветки, сплошь унизанные прозрачными бисеринками. Нет, боженька мне не потатчик, был бы он веселый, улыбчивый, разве не понял мое несчастье. А этот болезный, постный… Я тайком от бабки показываю ему кукишку. Да, видать, зря. Весь день, как сквозь частое сито, сеяло на землю влагу, а к темноте резвый ветерок разогнал над борами дымную хмарь, растащил в разные стороны облака, вызвездил над поселком небо. Ну, а раз прояснило — быть морозу. С утра липну к кухонному окну, примечаю уличные перемены. Затвердела на дорогах грязь, остеклилась застоявшаяся в колдобинах вода, почернело в садочках разное сухобылье. Через двойные рамы чувствую лбом морозное дыхание ветра. Откуда-то с зареченской стороны тянет и тянет к моему окну рой белых мух, с каждой минутой их становится все больше и больше, и вот уже за стеклами настоящая пурга: чья-то неведомая рука сыплет белый пух сверху, взметывает его снизу, бросает из стороны в сторону. Снег! Первый настоящий снег! Мокроватый, он липнет к столбам, заборам, забеляет темные крыши домов, причудливо меняет форму деревьев, и улица обретает другой вид: становится светлей, нарядней, просторней. «Покров завтра, — задумчиво отзывается на непогоду бабка, — не сойдет снег, видно, в зиму останется. Хотя… И с людьми, и с природой не поймешь, что творится. Все смешалось. Ох, господи, прости нас грешных… Да и какой без мужиков порядок…» Не поддакиваю я привычно бабке, не тревожу ее вопросами, и она обидчиво поджимает сухие губы. Сейчас ей нужна живая душа для откровений, для участливого разговора, но я весь там, за окном, в этом внезапно возникшем снежном хороводе, на пушистом покрывале обновленной дороги. Там для меня давно поджидаемый праздник — не каждый раз увидишь рождение зимы. Чаще всего она приходит ночами. Проснешься утром, а вокруг непорченой белизны снега́. «Да, — повторяется бабка, — без мужиков все сыплется, не хозяйство, а…» Она машет рукой, будто отгоняет надоедливого кота. Я ей не возражаю, хотя такое она говорит, конечно, зря. Это у кого-то дома без мужицких рук, а у нас… Я, дед да двое братьев. И каждый свою работу без подсказки знает. Корова в сухой стайке давно сенцом похрустывает, куры на насесте посиживают, у собаки и то в конуре тряпицей устлано. Это тот, кто не припас на предзимник сена или придержал в деляне дрова, пускай нос чешет: к кому идти на поклон, к Максе Котельникову или в заводскую контору — просить казенную лошаденку. Да и на чем поедешь, тоже вопрос: на санях вроде бы рановато, а на телеге… В общем, есть от чего растеряться. А у бабки все наперед продумано. Сиднем у нее не просидишь, от нужной работы не увернешься. Зато зиме трудно застать нас врасплох. — Баб, а когда дед вернется? — Соскучился, аль к слову пришлось? — Да нет. Обувать-то что буду? Сапоги все расхлябенило. — Беда с тобой. Все не так, как у людей. Вроде из дома по дождю не вылазил, а сапоги расквасил. Голимый разор! И не сопи, коли правду говорю, а то я укорот тебе сделаю. Такие мелкие перебранки у нас случаются часто, но я знаю, что бабкина строгость вспыхнет подобно патронной порошинке и тут же погаснет. Нет в ней зла на людей, а на меня, меньшего внука, и тем более. Вот и сейчас первой пойдет на примирение. — Ты вот деда не каждый раз слушаешь, а он к твоим катанкам еще летом подошвы пристрочил. Загляни-ка на полати. На одном дыхании взлетаю на полати. В углу, среди сложенных стопкой валенок, сразу примечаю свои: из серой шерсти, с узкими, по ноге голенищами. Вдыхаю запах прогудроненной дратвы — ровные стежки в два ряда бегут по кромочке аккуратной подошвы, а прохудившиеся задники подшиты мягкой желтоватой кожей. Все-то помнит дед. Когда и успел только. Валенки приятно греют ноги, в таких не стыдно пофорсить среди ребят. — Баб, а где у деда табачное корытце? — Тебе-то оно зачем? — А я ему махры нарублю. Он приедет, а в кисете табачок свежий. — Ну что ж, уважь деда. Сижу на приступке возле печи, мельчу топориком сухие табачные стебли в корытце. И чих нипочем. Приедет дед, обрадую его настоящим горлодером, табачок-то из одних корешков, без листьев. А за окном все то же белое гулеванье, и черемухи в палисаде не видно. Но снег не слякоть, теперь меня и запором не удержишь. Будем с ребятами ладить ледянки-самовозы, гонять на санках с дамбы, строить снежную крепость. Да мало ли чего интересного сулит нагрянувшая зима. Но первым делом надо попроведать лес, прочувствовать сердцем его обновление. Присыпанный снегами бор всегда встречаешь с какой-то тихой почтительной радостью, с трудом узнаешь исхоженные знакомые места, подолгу приглядываешься к ним и не можешь налюбоваться. Как в зеркало глядела бабка. Угребистый пушистый снег остался после Покрова, накрыл первым слоем сытую влагой землю. Теперь и весну можно ждать без опаски, не подведет урожаем. Но до весны-то еще надо дозимовать. А пока второй день нет ни земли, ни неба — сплошная белая круговерть: мечет снег снизу вверх, сверху вниз. Слетал я уже не раз во двор, обновил катанки, снежок помял в ладонях. Дома сидеть совсем невтерпеж, и потому я «прощупываю» бабку: — Баб, а мы с Рудькой по калину сговаривались, сейчас она небось сладкучая, мороз-то вон как окна раскрасил. — Это когда же вы с Рудькой договориться успели? — Да еще вчера… — Так то было вчера, а сегодня вон какая опять карусель. За окошком ничего не усмотришь, а в лесу каково? — Так мы же не сейчас пойдем, а когда пуржить перестанет. Знаю, хоть и соврал я про Рудьку, но уговаривать его не придется — мать у него в школе, и он сам себе хозяин. Сидит сейчас, наверное, у окна, зазря штаны протирает и думки его подобны моим. А вот бабкины думы разом не отгадаешь. Хотя чего там. Все сейчас в ней против моей затеи, вон как погода-то расхлябенилась. И калиной ее растревожил. По первому снегу не ухватишь, а по заносам и вовсе не доберешься. А там приспеет пора лесным птахам кормиться: что склюют, что под кустами раскрошат. — Ладно, — подводит итог своему молчанию бабка, — угомонится погода, тогда и сходите. Только санки с собой прихватите. — А их-то зачем? — Сушняку по пути наберете. Все недаром ноги маять. — Да у нас дров — поленнице конца не видно. — И зиме конца не видать, второй день как проклюнулась, а печки каждый день есть просят. Ладно, санки так санки. Сушняка мы хоть где наберем. Свалим жердь-сухостоину — и весь сказ. За нее и ругаться никто не будет. Разметало, видать, над поселком заряженные снегом тучи, или истратили они все до последней снежиночки, только стихло как-то разом за окнами. Понял я: пришел конец моему заточению. Бабка вздыхает, оглядывает меня со всех сторон. Фуфайка великовата, зато ремешком перехвачена — не поддует снизу ветром. Шапка и вовсе не знаю чья, большая, ватная, с потертым до белизны черным суконным верхом. Ну да кто в лесу на меня смотрит, лишь бы было не знобко, да не мешала одежда при ходьбе. Идти-то придется снежной целиной. — Далеко не забредайте, калины сразу за Ниапом по ближним покосам много, — наставляет бабка и ссыпает в корзину горстку ржаных сухариков. И вот уже осчастливленные временной свободой спускаемся с другом по свежей тропке к мосточку. Все вокруг обновил и высветлил зимний снегопад, будто заново народился поселок. Клубится над рекой туман. У берегов приправленная снегом вода уже загустела и похожа на овсяную кашу, но основное зеркало реки по-прежнему чистое, лишь набрало донной свинцовой синевы. Сегодняшний морозец — румяна для щек, метровой толщи воды ему с лету не осилить, не заковать речку в жесткий ледовый панцирь. Но вот и подкуренная туманной дымкой река остается позади, мы с Рудькой бездорожно углубляемся в лес, тянем за собой санки. Могучие сосны стеной смыкаются за нашими спинами, бор поглощает нас, и мы теряемся в его просторах, словно мураши в лабиринтах своего муравьиного города. Но это нас не пугает, сейчас не лето, и цепочка следов пуповиной вяжет с покинутым поселком и всегда выведет обратно. Пронзительная, до звона в ушах тишина стоит над лесом. Видать, внезапный приход зимы, похолодание застали врасплох лесных обитателей, нарушили устоявшийся ритм жизни, и сейчас им не до песен и не до своих разговоров. И мы невольно проникаемся значимостью происходящего, стараемся излишне не шуметь — как бы не спугнуть это ослепительное белое безмолвие. — Смотри, — негромко говорит Рудька. Он останавливается около толстой корявой березы. Невысоко над моей головой ее ствол вспух горбиком, покрытым мелкими завитушками почти прозрачных коричневых берестинок. — Срубим? Я отвязываю от санок небольшой топор, примериваюсь — остро отточенное лезвие впивается в сочную древесину. Взмах, другой — и вот у нас в руках скрученный из древесных жил нарост. К будущему лету будет заделье: топориком, ножом, осколками стекла обработаем этот сколыш, и родится самодельный шарик. Такому не страшен удар увесистой биты, летит он по дороге стремительно, будто скользит по стеклу, а если осалит кого невзначай, без слез не обойдешься. Березы в бору редки, и я приглядываюсь к каждой: не окажет ли себя на отливающем белой синью стволе коричневая шляпа гриба — целебной чаги. Нет, и деревья умеют хранить свои тайны. А вот красное на белом — издалека видно, и не хотел бы, а приметишь, и ноги сами невольно ведут меня к припорошенному снегом кусту, который и в такую неуютную пору не успел растерять своих ярких листьев. Рябинка! Редкая и потому радостная примета наших лесов. С особой нежностью люблю я это деревце. Есть в нем что-то ласковое, теплое, материнское, особенно в пору его белоцвета. Радует глаз гибкость ствола и веток, ажурная резьба листочков, кисти миниатюрных зонтиков-соцветий. Выйдешь нежданно к такому кусту и удивишься: кто ненароком обронил здесь зернышко? Птица ли какая, порывистый ли осенний ветер принесли безвестное семечко — начало новой жизни — и оставили его на влажном подстиле зеленых мхов? А уж потом тепло материнской земли обогрело его, помогло пустить белесые корешки, выметнуть вверх, навстречу солнцу, беззащитный росток. Но этого никогда не узнаешь. На то она и лесная тайна. Одно понятно: нелегко рябинке было бороться за свою жизнь. И коли в первые дни не сгубило ее невзначай широкое лосиное копыто, не вывернула в брачном азарте когтистая лапка глухаря, могучие сосны-соседки надежно прикроют от тяжелого мокрого снега, лютых зимних ветров, обжигающих лучей весеннего солнца, и расцветет она на радость путнику, обрадует броской красой. Не отвести глаз от рябинки в осеннюю пору, когда в предчувствии зимы набирает запасливая крона хвойных ее соседей столько зелени, что, кажется, разбухает вдвое каждая иголочка. И вот на фоне этого вечнозеленого засилья вдруг полыхнет нестерпимым светом ярко-малиновый костерок, что разом забываешь, за какой надобностью сюда явился. Будто собрал кто-то столько камешков-самоцветов, что не мог унести их разом и для чего-то оставил. Не утерпишь, нарушишь лесную заповедь, сломишь ветку с рябиновой гроздью, с ажурными листьями и бережно донесешь до дома, приткнешь в простенке меж окон, чтобы всю зиму хранить память о встрече… Одарила ягодой и эта, подвернувшая к нашему путику, рябина. Не утерпел, кидаю в рот стылые румяные горошины, медленно сосу, изгоняя из них холод, прикрыв от удовольствия веки. Кисловатые ягоды отдают едва уловимой сластинкой, будто напоил ночной морозец их ядреную мякоть каким-то особым ароматным соком. Делюсь с Рудькой сухарями, продлеваем обед. Хороши ягоды, ничего не скажешь! А горящие холодным пламенем кисти сами просятся в корзинку. Ладонью стряхиваю с них снежок, срываю одну, вторую — порадовать своих домашних — и вдруг примечаю: не одни мы лакомки у рябины. На одной из дальних сосен на заснеженных хвойных лапах загорелись яркие огоньки. Прилетели откуда-то целой стайкой снегири, гомозятся, вертят недовольно головками, будто хотят сказать: «Зачем к нашему столу подошли? Вам-то это в забаву, а нам в стужу — единственное спасенье». Уйдем, красногрудые, не станем вас объедать, полюбуемся только. Опалила радостью меня рябинка, на долгие дни согрела. Прощаюсь с ней взглядом и вижу: вокруг утонувшего в мягком снегу ствола красноватая осыпь искрошенных ягод — остатки прерванного нами обеда снегириной стаи. И еще примечаю мелкую строчку свежих следов к заснеженной кочке. Не утерпела полевка, выказала на белом покрывале свою заметную бархатистую шубку, проложила к кусту тропочку — подобрать крохи, оброненные снегирями. Созревшие ягоды на рябине частенько держатся до той поздней поры, пока не двинутся под весенним солнцем лежалые снега. И потому не обойтись здесь без одуревших от подснежных ночевок глухарей и копалух, для которых кисловатые ягоды — настоящее лакомство. К худу, к добру ли привечает кудрявая красавица лесных обитателей, пожалуй, и не ответишь. Только жди теперь в гости куму рыжехвостую, у нее в бескормицу такие места всегда на примете. Обязательно навестит лесную столовую. Что ж, своя жизнь у каждого. Кому охотиться, кому от охотника таиться. А вот без рябинки многим не обойтись. К месту она всегда, к общей надобности. Нет, в лесу одиноким долго не будешь. Застрекотала невидимая сорока, растревожила тишину. Белобокой непоседе до всего дело, как только и выследила нас: предупреждает кого-то о нашем появлении, а может, от рябины гонит. Да мы и так уходим. День-то заметно пошел на убыль, голубые тени легли на снег. Как бы не припоздниться, не остаться без нужной ягоды. Напугав, почти из-под ног срывается серый комок. Заяц! Рудька свистит ему вслед, но зайчишка и так напуган. Бежит размашисто, бестолково. Не успел полинять, сменить свою шкурку, вот и прячется под кустами. — Ушла, жареха! — возбужденно кричит Рудька. — Давай как-нибудь навострим здесь петель. Авось прищучим косого! — Давай, — соглашаюсь я. Уступил бор место лиственным деревьям. Сине-зелено-белые стволы осин и берез окружают нас. Здесь намного светлее, чем в хвойном лесу, листва с деревьев давно облетела, стылые ветви упруго подрагивают на ветру, и деревьям, наверное, сейчас тоже зябко и неуютно. Я почему-то всегда думаю, что деревья живые: они рождаются и умирают, а когда живут, веселятся, грустят, плачут и стонут, если причинить им боль. В общем, ведут себя совсем как люди. — А вот и калина! А вон еще! — радостно восклицает Рудька. И я вижу: прямо на нашем пути стоят три куста: на оголенных сизокорых веточках висят яркие гроздья. Точеные овальные ягоды наполнены рубиновым соком, в котором плавают плоские маленькие беловатые косточки. Сильно не корыстимся — весь лес с собой не утащишь — осторожно срываем кисть за кистью. Засветилась у меня корзинка алым светом, будто сыпанул в нее кто-то пышущих жаром угольев. И ладони не чувствуют холода испещренных трещинками веток и подмерзших ягод. Будто и впрямь струится из них невидимое тепло, а может, просто разволновалось сердце, все сильней и сильней разгоняет по телу кровь. Не утерпел, давлю пальцами ягодку — брызнул загустевший сок на язык. Сосу его и невольно морщусь: горька еще калина, ох как горька. Но и в этой терпкой горчинке уже чувствуется едва уловимая сласть. Да и откуда пока ей взяться. Вот повисят кисти под притолокой в холодных сенях, прокалятся морозами, и будет ягода сытной и сахаристой, растеряет свою горечь. Вот тогда и полакомимся сладкими киселями и сахаристыми пирогами, отведаем тягучей медовой кулаги. И, конечно, вспомним этот предзимний день и кусты калины на голубоватом снегу, протянувшие нам навстречу кисти с алыми каплями бесценной зимней ягоды.ЖУРАВЛИНА
Раскрытие секретов, узнавание родного глухолесья приходило не с первых свиданий, а через тягучие годы. Сколько раз подобно ниточке за иголочкой увязывались мы за старшими, сколько часов проводили наедине с лесом, пока поднаторели безошибочно определять низинки с синеглазой черникой, пронизанные солнцем полянки с сочной зернистой малиной, торфяные болотистые кочкарники с ползучей морошкой, усыпанные чернобокой брусникой согры, заросли папоротника с теневой кисловатой костяникой, выруба и опушки с запашистой клубникой и земляникой. У каждой лесной ягоды свое заветное место, своя устоявшаяся гармония с природой, к тайнам которой мы приобщались с малых лет. Детство познакомило меня еще с одной удивительной ягодой — журавлиной. В один из оттепельных апрельских дней хозяйничали мы с дедом в пригоне. Я привычно, с одного взмаха, вилами подшибал застывшие коровьи лепехи и кидал их в стоявший на санках короб. Рядом со мной шумно вздыхала Зорька, безобидная и послушная в эту пору коровенка с вечно печальными глазами. Бока у нее, что кузнечные меха, ходуном ходят, и, когда я незлобиво толкаю ее черенком вил, она поворачивает ко мне однорогую голову и тянется мокрыми губами. — Ну ты, не балуй, — не принимаю я ее ласку. Пригон наш похож на крепость. Вместительная стайка сложена из пахучих сосновых лесин и проконопачена мохом. В ней и зимует наша кормилица Зорька. Здесь же, на насесте, гнездятся куры-несушки и их хозяин — яркокрылый петух, известный на улице певун и забияка Цыпа. У петуха свои беды, в которых не обошлось без участия моих братьев. За его драчливость прошлой осенью они накормили его конопляным семенем, и бабка отпаивала опьяневшего петуха каким-то отваром, но он все равно обезножел и целую неделю отлеживался дома под лавкой. Видимо, и в его маленькой голове что-то прояснилось, потому что на братьев он кидаться не стал, а Генку, который надумал подсыпать ему толченого стекла, обегал далеко стороной. В эту зиму, в один из морозных дней, он подморозил свою красу — алый литой гребень, который почернел и наполовину отпал, и теперь петух, к огорчению бабки, перестал по утрам петь свои песни, поднимать ее раньше всех в нашем краю. Огорожа пригона рублена из тонкоствольных осинок, которые забраны в пазы угловых столбов-стояков. Все это сверху застелено жердями, на которые с осени уметывается зародец укосного сена. В пригоне всегда тепло, уютно, ветры не проникают за его стены. А вот Марту, недавно появившуюся телочку, еще надо беречь. Почти месяц прожила она рядом с нами, на теплой кухне, а теперь весенняя капель растопила и бабкину осторожность — отправила нас отгораживать в стае закуток, устилать его сенной трухой-обмяльем. Оно и понятно. К корове телочку не подпустишь, разом к вымени пристрастится, а уж тогда не видать летом молока, до первых снегов в лесу спать будут. Вот и стараемся. Дед топором постукивает, а лицом недовольный, не поймешь, на кого и сердится. На меня вроде не за что, вьюном кручусь. И глызы уже в огород вывез, и сена свежего надергал, осталось Зорьку к колодцу сгонять, напоить свежей водой. Не утерпел, ищу правду: — Дед, ты на кого в сердцах? Пускает он дымок сквозь пожелтевшие усы, бодрит себя ядреным самосадом, на холодке греется. — Да вон беда-то где обозначилась. Вертихвостки мох из пазов раздергали. Насквозь все видно. А вдруг мороз обернется? И погрозил кулаком стрекотавшей на воротах сороке. Не знаю я, что ему присоветовать, как возникшую нужду исправить. А он, вдруг повеселев, говорит: — Проси у бабки заплечные мешки, пойдем Моховое болото проведывать. Неуж на пазы моху не соберем. Радуюсь я перемене хозяйственных дел, не пугает и предстоящее объяснение с бабкой. Подумаешь, стайка. Поживет еще Марта в избе день-другой, не сгноит пол, а надерем моху, утеплим ее закуток. Недолги наши сборы, ворчанье бабки подстегивает, из дома торопит. И вот уже остались позади окраинные избы с сизыми дымками над крышами, с взбудораженными ватажками воробьев в палисадах. Сразу за поселком высокие сосны поджимают с обеих сторон накатанный санями зимник. На одной из них кору сдернуло проехавшим возом, на оголенной древесине застыли слезинки живицы. Я не удерживаюсь, собираю в ладонь янтарные капельки. Снега в бору еще довольно много, и дорога льдистым подтаявшим желобом бежит от поворота к повороту среди осевших снежных наметов. Солнце рыжим желтком путается в игольчатой кроне, голубые тени тянутся по снегу. Я давлю сапогами льдинки, дед оборачивается, в губах все та же самокрутка. — Не замерз? — Не-е, — мотаю я головой. — Фуфайку подвяжи туже, тепло и сбережется. Дед высок и складен, идет по-молодому, легко, помогая себе в ходьбе руками; голову держит прямо, будто высматривает что-то впереди, а мне все кажется, что он хочет выпрыгнуть из широких голенищ своих самодельных сапог — бродней. За войну он усох, провялился до черноты от морозов и ветров, словно заготовил себя впрок на долгую жизнь, а вернее, на ожидание с фронта своих сыновей — моего отца и двух его братьев. Дед — известный молчун, разговорить его трудно, в поселке про него говорят уважительно: «Своего ума не растерял, да еще чужого присватал». Оглянувшись — не отстал ли я, — дед сворачивает с торной дороги на снежную целину. Снег здесь сыпучий, зернистый, но солнце и еще довольно крепкие ночные морозы сделали свою работу, сковали поверху прочным настом. Меня наст держит, и я старательно обхожу оставшиеся после деда лунки — продавыши. Вокруг бело, чисто, и лишь под одной из сосен снег густо усеян коричневой шелухой. Видать, лакомилась шишками живущая где-то рядом белка, а может, и гостевала стайка залетных клестов. Бор постепенно высветляется березами, их становится все больше и больше. В чистом утреннем воздухе каждое дерево, каждый подросток обозначается так отчетливо, будто выкованы они из металла искусным мастером. Белокорые березы уже давно живут наступающей весной, томит их живительный сок, розоватым налетом покрылись ветви. Не хватает лишь песни скворушки — известного певуна и дразнильщика других птиц, но и это время не за горами. Наконец мы выходим на большую пустошь, посредине которой сломанным зубом торчит трухлявый березовый пень. Место здесь открытое, и снежные наносы подтаяли, отощали, обнажив ржавые космы кочек. Недовольная нашим появлением, с березового стояка-обломыша хриплым карканьем нас встречает ворона. Я замахиваюсь на нее рукой, всем видом показывая, что сейчас в нее чем-то брошу, но ворона старая, умная, и так просто ее не проведешь. Но мое кривляние ей не нравится, и она снимается с облюбованного места. Может быть, высматривала грязно-серая проныра несмышленыша зайчонка-настовичка или охотилась на отощавших за зиму мышей, да вот мы помешали. Я приглядываюсь к островку стрельчатого камыша и думаю, где мне взять жести для наконечников, не проверить ли бабкину кладовую, а может… Нет, дед за свой сундучок с инструментом и припасами по головке не погладит, а вот сыромятного ремня отведать запросто. Но и без стрел нельзя — ольховый лук еще с осени припрятан в амбаре. Стылые камышинки ломаются с хрустом, у меня уже их целый пучок, но стоящие на корню кажутся намного лучше и крепче, и я снова и снова тянусь к камышинкам. — Все болото решил, что ли, выстричь? — остужает дед мой аппетит. Он очищает камышовые заросли, присматривается к рыжим обесснеженным кружевинам. На березовый отломыш тем временем присоседился редкой красы дятел, словно долотом застучал клювом по стволу — полетела во все стороны труха. Этот и нас не боится — занят своим делом. Залюбовался я лесным барабанщиком, решил подобраться поближе, вот только куда наломанный камыш положить? Глянул я на ближнюю кочку и обомлел: будто усыпал ее кто-то знобко-белым горохом. — Де-да! — тревожу я дятла своим криком. — Ягоды! И здесь, и здесь! — вглядываюсь я в соседние кочки. — Ты посмотри, — удивляется он. — Клюква-подснежинка. Под боком у поселка, а уцелела. Сделать, что ли, бабке гостинец? — А что! Она обрадуется. И про ворчанье свое забудет. Ягод много. Дед снимает с плеча мешок, я вместо набирушки — варежку, отряхиваем с ним кочки от снежной наледи, очищаем ползучие стебельки. Клюква за зиму растеряла свой румянец, зато набрала в меру сласти, не так тверда и кисла, как осенью. За редкой этой ягодой я уже хаживал. Берут ее обычно в сухое предзимье, по первым легким морозам. Ягода в эту пору довольно крепка, но хозяйки знают: полежит — дойдет. Встречал я клюкву на замшелых лесных низинках, реже — на пнистых вырубках, потому что любит она затравеневшие островки и закраины паводковых разливов, заболоченные урочища с влагой, прогреваемой солнцем. Но самая добычливая ягода выбирает такие места, куда осенью пробраться можно лишь на лыжах-плетенках, иначе в лабзах утопнешь. И потому часто самая урожайная ягода пропадает, уходит под снег. Вот и нам подвернулась такая подснежника. — Ты бери, коли в охотку, — говорит мне дед, — а я потереблю моху. Короток ранневесенний день. Трудно в лесу уловить наступление вечера. В какой-то момент снег теряет свою искристость, становится серым. Слабеет свет, за ближними стволами сгущается темнота. И для нас незаметно пролетело время. Домой возвращаемся довольные. Мой заплечный мешок поубористей, но тяжелее. Но уступать я его не собираюсь. Сам собирал подснежнику, сам и вручу бабке. А у нее сегодня и не праздник — праздник, улыбка с лица не сходит. И глаза смотрят куда-то мимо нас, за стекла кухонного окна. Мороженая клюква мелкими камешками постукивает о днище таза. И вот уже он полный, я достаю с печи подойник, ссыпаю в него остатки. — Надо же, как уродило. Не каждый год клюкве радостный, особливо если сушит с весны, тогда не жди ягоды. Где брали-то? — На Моховом. Люди по осени всё в даль ударялись, будто там ягода слаще, а здесь под носом и проглядели, — вставляет свое дед, довольный, что угодили бабке. — Ну, я пойду, приберу корову. — Иди, отец, иди, — машинально отзывается бабка и поворачивается ко мне: — А как там, на болоте? — Так сошел снег почти. Не то что в бору или в поселке. — Главное, что под боком. Коль холода не вернутся — а где им вернуться! — еще бы туда наведаться. Не все поди кочки-то обобрали? — Да там ее… — Ну вот и ладно, вот и хорошо. Она осторожно, пригоршнями собирает в тазу чистые ягоды, выщипывает почерневшие усинки. Клюква медленно заполняет большую бутыль с узким высоким горлом. Настоится ягода в колодезной воде, все ей отдаст, и получится напиток ядреней любого кваса. Пахучий, бодрящий, силу дающий. — А я уж свое по болотам отходила. А бывало… Теперь только вспоминать. А ягода эта целебная, от всех болезней силу имеет, — продолжает добреть бабка. — И впрямь журавлина. — А почему журавлина? — Почему?.. Перебирает бабка в ладонях белые горошины, голос напевный, ручейком звенит, будто сказку ведет: — За дальними горами, за теплыми морями зимуют журавушки. Порой еще снег в колено, пурга поигрывает, а в небе знакомый голос услышишь. Это вожак кличет, стае путь в родные места указывает, весну на крыльях несет. Сколько земель разных журавушки минуют, пока до заветной сторонки доберутся. В дальней дороге стирают в кровь они свои крылья. А как силы восстановить, чем подкормиться? Одни снега вокруг. Вот тут подснежная ягода и выручает. Она и насытит, и раны заживит. Ну, а коли так, быть вскорости, по первым проталинам свадебным танцам, новым птичьим гнездовьям. Продолжится жизнь. Так что сговаривай дружков на Моховое, может, и повезет вам — журавушек повидаете. А ягод всем хватит. Лес, он запасливый, никого не обидит. — Баб, а почему журавушки из теплых мест сюда летят? Я бы навсегда при тепле остался. — А кровь-то родная, куда ее денешь? Зовет она, не дает покоя. Родина, что человеку, что птице — завсегда там, где они родились. Тут уж, милок, сердцу не укажешь.ВЕСНЫ ПРИМЕТЫ
Лют на исходе февраль. Что ни день, пуржит, мокрый снег набивается в сени, наслаивается сугробами у крыльца и калитки, налипает седыми бровями над урезами тесовых наличников. Бело вокруг, чисто, покойно. Дед чувствует непогодь задолго до ее наступления, чувствует своим израненным телом, вымученными долгим трудом руками. Он часто покашливает в кулак, трет немеющие пальцы. И чтобы скрыть это от домашних, а может, и от себя, забывается в работе: гудронит дратву, расщепляет ножом березовые пластинки на шпильки-гвоздики, перебирает кожаную обрезь — готовится к починке обуви. У бабки на каждый случай жизни своя примета, а к каждой примете — свой интерес, а потому всем в доме она приискивает какое-нибудь заделье. — Что-то куры сегодня с насеста не слазят, собака в конуру забилась, да и кошка вон пол скребет — пургу зазывает. Наносили бы вы, мужики, дров да воды про запас, чтобы избу потом лишний раз не студить. На лишний снег никто не сетует, все ему рады. Обернется он доброй влагой, одарит огород урожаем, трава на еланях будет укосной, не побоится летней сухоты, ну и лес без гриба, ягоды не останется. Не страшна нам метель. Корова ухожена, дровец на три дня в сенях запасено, в доме тепло и уютно. Да и какой страх — пометет, попуржит да перестанет. Зато солнышко будет ярким и ласковым. Проснешься утром, припадешь лицом к прогретому оконному стеклу, и будто коснутся тебя добрые материнские руки… Но первая мартовская теплынь всегда обманчива, нельзя ей полностью доверяться. Зима сопротивляется вовсю, в длинные хрустальные подвески превращает капель, ночной мороз до дна выпивает лужи, оставив лишь сахаристые хрусткие стеклышки льда. Утрами они вновь оживают темной, сдобренной половой и конскими катышами водой, и в каждой из них не гаснет, купается солнце. От лужи к луже пробиваются тонкие нити ручейков, которые с каждым днем набирают силу, подтачивают осевший снег, журчат весело, без передышки, и кажется, что это мурлычет пригретый на коленях котенок. Самое время просить у деда острый сапожный нож — из коры, щепок и бересты готовить парусник или ощетинившийся пушками боевой корабль и сплавлять их самоходом вдоль поселковых улиц. Да и мало ли интересного, веселого ожидает за порогом дома, особенно после длинной зимней засидки. Каждое утро в новинку, в радостное удивление от быстро меняющихся весенних примет. Выскользнешь на улицу да про все и забудешь. У основания столба, подпертого створкой ворот, будто сыпанул кто перезрелой клюквы. Целое полчище клопов-солдатиков оказало себя — выбралось погреться насолнышке. Как только и сумели сберечься от убойных морозов. — Цивить, цивить, — прощаются с зимой воробьи, приискивая себе места для гнездовий. Скоро, совсем скоро обрадует своим появлением пересмешник-скворец, и, если, не дай бог, успеет обжить какой-нибудь домик самозваная воробьиная пара, — быть в ограде большому шуму, не одно серое перышко упадет на землю. Но не скворушки, так любимые всеми, и даже не горластые грачи — примета весны. Первую весточку о ней приносят ласточки. Еще не ощетинятся крыши сосульками, не осядет снег под крепким настом, а воздух уже рассекают маленькие черные молнии. Красивых белогрудых птиц у нас ласково зовут береговушками, и на то есть причина: не лепят они свои глиняные горшочки-гнезда под карнизами деревенских изб и в потаенных местах стаюх и амбаров, а собираются у заснеженной еще реки. Может, не могут забыть прохладу летней воды, зеркальную ее синеву, сладких паутов и мошек, которых у реки всегда в достатке. По нескольку дней кипит на берегах работа, пыльный туман виснет у песчаных откосов, сплошь испятнанных черными дырками. Будто истыкал кто их палкой. Стремительно расстригают воздух ласточки своими раздвоенными хвостами, несут в клювах в пробитые в земле норы пух, соломинки, кусочки мха. Увидишь такое и спешишь к родным радостью поделиться. — Береговушки прилетели! — раззваниваю я по дому новость. И вижу, как светлеют у всех лица, каждому зима приелась. А бабка не забудет напомнить: — Вы их там не зорите. Ласточки, они к счастью… И правда, с прилетом береговушек просыпается все вокруг, исходят водой, плавятся снега, наливается свежей зеленью бор, и люди улыбаются чаще, что-то светлое вошло в их души, обновило кровь, и каждый живет в каком-то томленье, в ожидании добрых перемен. И забываешь разгульные песни февральских вьюг. Отпели свое, умаялись. Воздух пронзительно чистый, гулкий. Ступишь в вечерней тиши на вызревшее от морозца посредине лужи стеклышко, расколется оно под сапогом на десятки острых осколочков, вроде и негромко так хрустнет, но звук разом всполошит почутких деревенских собак. В палисаде у черемухи резко обозначается каждая веточка — напиталась влагой, готова взорвать набухшие почки. И у тополей ветви приобрели нежно-голубой налет, черные гроздья старых грачиных гнезд видны на них издалека. Все готовится к обновлению. Вот и старая ольха за нашим огородом ожила в одночасье, стоит по колено в воде, красуется. И не поймешь, чего на ней больше: буроватых бочат-шишечек или похожих на гирлянды сережек. Посмотришь на нее издали, от колодца, — будто плывет куда-то в фиолетовой дымке. Ольха первой открывает весну своим цветом. Еще и листочков в помине нет, а уже осыпала себя мелкими невзрачными цветками, что и вблизи разглядишь их не сразу. У бабки к дереву свой интерес. Опавшая кора, шишки, сережки, цвет — все у нее идет в дело. Лечит ольховыми настоями желудочные болезни, останавливает кровь. Но иногда и такое от нее услышишь: «Поперед березы лист выметала — к мокрому лету… Много сережек — к урожаю, к доброй огородине». С приходом теплых дней неудержимо тянет в лес, на ближние опушки, позабытые нами за долгое зимованье. На дорогах повсюду блестят лужи, мягкая лесная почва пропиталась влагой, набрала ее впрок. Стремительно, слой за слоем «съедает» солнце снега. Давно растопило снега февральские, январские, декабрьские, добралось до самых ранних, выпавших еще в ноябре, но в густохвойных мелкачах и теневых низинах слежавшиеся льдистые кулиги будут себя хранить долго, как в леднике. У талой воды какая-то особая сила. Вроде и тепла маловато, и у солнышка дорога невелика, а все зеленеет, отчаянно идет в рост. Посмотришь на какую-нибудь болотную кружевину, скованную ночной остудой, и приметишь: пробили, продышали ледяную корочку зеленые жала каких-то трав, а у кромки, рядом с побитым ветрами камышом уже распустила свои морщинистые ладони нетерпеливая калужница — наш сибирский желтоглазый лотос. Вытаяли из-под снежных зимних шапок муравейники. Солнце прогрело наслоения этих удивительных многоэтажных пирамидок, и лесные санитары возвращаются к активной жизни: распечатывают свои входы-выходы, прочищают лабиринты улочек, снуют по стволам деревьев в поисках добычи. В лесу, под сосной, можно встретить зайчонка-настовичка, полюбоваться его каракулевой шубкой. Главная в эту пору для него опасность — нелюдимая ворона, которая первой в лесу садится на кладку, а потому молчаливо-осторожна, не пугает всех своим криком. Птицы рады весне, на разные лады пробуют свои голоса. Мелодично перекликаются синицы, цыкнет иногда поползень или раскатится по лесу гулкая дробь дятла. Снегири — тоже весенняя примета. Будто румяные яблочки красуются на кусте боярки. И не поймешь сразу, не то свистят, не то вздыхают — с зимой прощаются. Иногда, если повезет, можно подслушать, как, очнувшись от затяжной зимы, пробует голос красавец-глухарь: щелкнет клювом раз, другой, потом сдвоит звук, зашворкает — и вот уже родилась песня… Да, все живое радо теплу. Пчелы, шмели, осы, бабочки ищут весенние первоцветы. А их много, стоит лишь приглядеться или проследить за полетом какого-нибудь золотистого шмеля. С первым чернотропом появляются бутоны мать-и-мачехи. Многослойные фиолетовые чешуйки надежно укрывают их от возвратных ночных приморозков, но днем ярко-желтые искорки сверкают по всему лесу. Вслед за этими маленькими «солнышками» появляются красно-лиловые хохлатки, розово-синие медуницы, ветреницы, гусиный лук, сиреневыми огоньками вспыхивает волчье лыко. Но главный цветок весны, конечно же, подснежник. К нему интерес особый. Сколько раз лес попроведаешь, наблюдая, как с каждым часом растут проталины, прогревая припорошенные хвоей бока, а все впустую. Но вот в один чудесный день будто по мановению волшебной палочки усыплет их подснежниками. Любуешься ими и веришь, был — а как же иначе! — Данила-мастер, и до сих пор скрыто где-то от людского глаза его рукотворное чудо — каменный цветок. Глядишь на первоцветы — словно из мрамора точены: по снежному фону лепестков бегут голубые прожилки. А рядом подснежники таких желтовато-теплых тонов, что кажется: вобрали они в себя всю живительную влагу весенних солнечных лучей. И не хочется губить такую красоту, противится душа, но рвали, несли душистые букетики в поселок, домашним своим в удивление. Родившиеся еще по снегу на исходящих парком проталинах ранние цветы зовут по-разному: прострел, хохлатка, ветреница, горицвет. Самый удивительный из них, подснежник, бабка называет любовно сон-травой. И, как всегда, права. Стоит засумерничать весеннему небу, укрыться за тучкой солнцу или дохнуть возвратному холодному ветерку, как цветок закрывает свою чашечку, а стебель клонится к земле — «засыпает». Говорят, что и сон человека на прогретой солнцем опушке, украшенной белыми звездочками подснежников, глубок и спокоен — так целебен их аромат. Весенний лес для нас всегда добрая примана. Все в нем радует глаз: тонкий прутик вытаявшего хвоща, поблескивающие лаком ноготки брусничных листьев, веточки вереска, пробившие хвою стрелки гусиного лука, не растерявшие во время долгого зимованья сочных зеленых красок. Стряхнул с себя снежный убор нарядный копытень, еще с осени заготовив бутоны, готовые распуститься в первый же жаркий полдник. И в деревьях наметились перемены. Заголубел молодой осинник. Заметно посвежела хвоя сосновых лапок. Гибкие ветви берез приобрели нежно-сиреневый налет — пробиваются земные соки к разбухшим почкам, готовятся они выбросить клейкие листочки, обновить своим нарядом лес. Охотились мы и за ранней вербой, нераспустившиеся веточки ставили в подогретую воду — к вербному воскресенью. Поставишь и в весенней сумятице позабудешь. А однажды коснется теплый луч твоего лица, проснешься и вдруг увидишь: стол накрыт чистой скатертью, а на нем зеленоватая вазочка и сиротливый вербный голичок в ней ожил — разбежались по веточкам желтые цыплятки-пушки. А рядом в кружке излучают тепло подснежники. И тогда входит радость в тебя, и ты веришь: в гости пришла весна!Память
ГЛУХАРЬ
Поселок наш в глухомани великой. Не то чтобы на краю земли, но до областного центра больше сотни километров верняком наберется. И то, если не заезжать попутно в придорожные деревушки, а держаться большака — старой сибирской дороги, на которой, кажется, и по сей день живут далекие отзвуки кандального звона: гнали когда-то этим трактом царские служки в каторжную неволю непокорный народ. На муки великие, на труд непосильный, на верную смерть… Но это теперь история. Давняя и многими позабытая. А дорога живет как самая нужная частица сегодняшней жизни. Раньше по ней до города по два дня с ночевками добирались, маету дорожную принимая. Теперь — благодать. Не хочешь рейсовым автобусом ехать, смежая веки под шорох асфальта, самолетом, пожалуйста. Не пройдет и часа, как под крылом мелькнет голубая змейка реки, качнутся навстречу крыши домов, а дальше — сколь глазу видно — сплошное зеленое покрывало, тайга дремучая. Да и в поселке лес огороды к избам прижал, под окнами задержался. Косули, бывало, на улицы забредали, а то и сам великан лось в гости жаловал, непугано принюхиваясь к сытным запахам деревенских стаюх. Рысей у самой околицы били — ради ребятни то делали, а уж про боровую дичь и разговора не было — развелось за войну в избытке. От великой нужды и бесхлебицы промышляли ее сельчане, в основном, петлей да капканом. Ружья редко кто имел. И дед мой не часто снимал со стены старую двустволку с красивыми завитушками по металлу: с зарядами туговато было. Уходили мы с ним из дома утрами по влажной от росы песчаной дороге, от раннего холодка ходьбой быстрой грелись. За поселком встречал нас лес. Притихший, необогретый. Я поплотней запахивал старый братанов пиджак, придерживая полы руками, дрожал тайком от деда. Он задумчиво молчал, попыхивал козьей ножкой и кашлял надсадно охрипшим за зиму голосом. Наконец солнце пробивало густую игольчатую крону деревьев, по земле ползли, натыкаясь на пни, ярко-оранжевые полосы. Бор просыпался, начинал звенеть мелодичными песнями. Откуда-то из-за голубого соснового мелкача, будто в гости, налетал ветерок, стряхивал с травы росную пыль, и она разом вспыхивала радужными искорками. Солнце доставало лучами до наших лиц, слепило глаза. Я закрывал их, жмурился в непонятном восторге. Стволы сосен наливались золотисто-восковым светом, все вокруг плыло в каком-то невесомом тумане, и, не выдержав такой красоты, я невольно срывался на радостный крик: — Э-ге-гей-й!.. Слова роились эхом меж сизовато-янтарных стволов, пока не стихали где-то вдали. И тогда вновь оживали затихнувшие птицы. Дед осуждающе оглядывался на меня, ворчал вполголоса: — Зачем красоту пугаешь? Лес, он не привык к постороннему шуму. Меня это назидание не смущало. Деда я любил и не боялся, потому что был он самый добрый и лучший из всех стариков на земле. Ходил он легко и прямо, по-солдатски размахивая длинными, не знающими покоя руками. Я едва достигал ему до пояса, но говорил он со мной как с равным, советуясь в мудреных охотничьих делах. Правда, когда с фронта от отца долго не было писем, его серые, отгоревшие от времени глаза темнели, наливались грустью и таили что-то невысказанное, и лишь в лесу дед оживал, из-под желтых от едучего самосада усов выскальзывала улыбка. От него я перенял дружбу с беззащитными лесными красавцами ужами, научился сосать муравьиный сок, отличать съедобные грибы и ягоды от ядовитых, выкапывать из земли тугие луковицы саранок. Он же приобщил меня к великому таинству — глухариной охоте. По старым, поросшим мхом и занесенным половодным илом палым стволам переходили мы мелководную, омутистую на поворотах речушку и углублялись в лес. Здесь, на залитых солнечным светом полянах, окруженных сосновым подростом, стояли у него ловушки-слопцы, этакие самодельные навесы из сухостойных жердей, похожие на вязаные бечевой плотики, под которые и укладывалась приманка для глухарей. Привлеченный зеркальным блеском стеклянных осколков или гроздью спелой рябины, краснобровый красавец заходил под навес, наступал на легонькую подвязную плашечку и… крыша рушилась на незадачливого любителя ярких украшений. Таких слопцов у деда было штук двенадцать. Первый находился недалеко от нашего перехода через речку, а остальные, сколько я ни старался, запомнить не мог. Петлявшая по лесу почти неприметная тропа, которую дед называл путиком, цепко держалась только в его памяти. За полдня мы обходили половину ловушек. Дед выбирал красивую поляну, садился на хрусткий белый мох и доставал из мехового ранца, сохраненного еще с германской войны, ржаной ломоть. Разломив его на две части и взвесив их на пятнистых от живицы ладонях, большую половину совал мне. Усталый, я будто не замечал эту обычную хитрость, выбирал из жесткой коврижки мелкие кусочки картошки, а уж потом, помаленьку, чтобы растянуть удовольствие, откусывал горьковатый, из несеяной муки подовый хлеб, подбирал с ладони мелкие крошки. Отдохнув, мы снова трогались в путь. Разноцветные мхи, ярко-оранжевые цветы саранок, россыпи шишек, усеянные маслятами ельники, будто забрызганные кровью брусничные поляны, фиолетовые разливы черничников, прямые стволы сосен с янтарными слезами живицы, переплетенные папоротниковым орнаментом груздяные низины, пятнистая от солнца земля — все слилось для меня в захватывающее чудо — лесную красоту. И расставаться с ней не хотелось. Возвращались мы обычно под вечер, когда на земле уже лежали лиловые тени. Если ранец у деда оттягивала добыча, то он сквозь зубы тихонько напевал про Петрушу-тракториста, чего дома с ним никогда не случалось. У реки, меж змеившихся по береговому откосу корней, я прятал кулек со стеклянной приманкой, а потом рядом с дедом мыл в темноликой воде ноги. Они приятно ныли, и натягивать снова сработанные дедом скрипучие, на белом подборе березовых шпилек сапоги не хотелось. На дорогу мы выходили босиком, сговорясь, что обуемся перед домом. Висел в нашей горенке в беленом простенке овальный барельеф. На суку, чуть распушив крылья и высоко подняв голову, гнездился глухарь. Черные с сизым отливом перья, темный веер хвоста и ярко-красные дуги бровей. Он до того походил на тех, из леса, что мне всякий раз казалось — еще миг, и он соскочит на пол и, волоча по щербатым плахам крылья, плавно пойдет мне навстречу. В ненастное предзимье дед уезжал в неближние деревни мастерить печи и стеклить обрезным стеклом рамы, исполнять различную плотницкую работу. Мать с ребятами уходила в школу, и мы с бабкой оставались вдвоем. Я помогал ей прибираться в комнате, чистил для запеканки картошку, молол на ручной меленке неведомо где добытые бабкой каменистые зерна. Тонкой белесой струйкой по жестяному желобу стекала в чашку мука. Не вытерпев, я захватывал пальцами щепотку, торопливо растирал языком теплую сытную кашицу. И бабка, уличив меня в этом грехе, беззлобно ворчала: — Опять губы набелил, мукомол несчастный! К большой перемене я бежал в школу, чтобы отнести братьям что-нибудь поесть. В длинном коридоре старого бревенчатого помещения было тепло и уютно. Из своей боковушки, служившей ей жильем, выходила техничка тетя Сина, подводила пальцем стрелку постоянно останавливающихся настенных часов и брала с полки медный колокольчик. Двери классов разом распахивались, и ребята шумно заполняли коридор. Некоторые молчаливо и как-то пугливо проходили на кухню и рассаживались за длинным, похожим на нары столом, который все называли сиротским. Тетя Сина ставила на столешню таз с мелкой вареной картошкой и, отойдя к крутобокой печи, тайком утирала слезы. Дома, как младшему, мне доставались самые заветные кусочки, отцу на фронт писали, что я сыт и живот у меня барабаном, но есть хотелось всегда, и потому, не доглядев до конца этого пиршества, я убегал домой. Бабка, управив свои неотложные дела, доставала с полатей прялку с куделью и, катая в пальцах веретено, задумывалась надолго. Я уходил в горницу, вытаскивал из-под комода смастеренное братом ружье и снимал со стены барельеф. Память возвращала меня к счастливым минутам, проведенным вместе с дедом в бору, я словно наяву слышал хруст валежника под его сапогами, улавливал лесные запахи. Начиналась ежедневная любимая мною игра — глухариная охота. Однажды мать пришла из школы намного раньше, о чем-то долго шепталась с бабкой, а потом села рядом со мной. — Хочу попросить тебя, сынок… Сам знаешь, как трудно всем сейчас. Вот окончится война, приедут с фронта мужчины, и наш папка обязательно вернется. Всего будет вдосталь. И хлеба, и карандашей, и бумаги. А сейчас нечем писать в школе. Кончились мел и грифель… Что такое мел, я знал. Маленькие белые кругляшки, которыми ученики писали на линованных дощечках вместо бумаги. Но при чем здесь я? Чем могу помочь нашей школе? А мать погладила ладонью мои волосы и как-то жалобно попросила: — Ты не мог бы отдать нам своего глухаря? Глухаря? Радостных встреч с которым я ожидал каждое утро? Который и в снах являлся мне во всей своей броской красе? Но глаза матери были сухи и печальны. — Ладно, бери, — сказал я дрогнувшим голосом, не чувствуя нависших на ресницах слез. Во дворе, под оханье бабки мы колуном разбили барельеф. Под краской оказался обыкновенный известняк. Мать в чистую тряпицу собрала все до последней крошки, а самый большой обломок, на котором красовалась яркобровая глухариная голова, протянула мне. — Возьми, сынок. На память. Большой будешь, вспомнишь…ЖИВЕМ, ВНУЧЕК, ЖИВЕМ!
Год на год не приходится. Как долго, нетерпеливо ждал я лето, а оно пришло на удивление такое смочное, что ни днем, ни ночью в небе просветинки не сыщешь. Не показывает солнышко своего лица, таится за обложными хлябями. Тяжелой дымкой тянутся над самыми крышами рваные тучи, цепляются за кроны тополей. Прохудилось что-то вверху, льет и льет беспрестанно. И жизнь какая-то тягучая и сонливая, совсем не в радость. Ненастье невольно меняет устоявшийся жизненный уклад нашего подворья. Не гомозятся привычно за наличниками воробьи, сидят взъерошенными пуховыми комочками, поблескивают черными бусинками глазенок. Куры тоже про двор забыли, притихли на насесте в стайке, что-то тревожит их, не дает покоя. И даже собака — будто и нет ее — забыла свои сторожевые обязанности, часами не размыкает глаз, отлеживается на обмялье в своей конуре, не пробует голос, а лишь скулит в дремотном забытье: видно, и сны у нее несладкие, с непогодой, про нелегкую собачью жизнь… В огороде же на глазах все прет, в зелень, в рост, в ботву, а не в овощ. Гниет в напитанной влагой земле молодая картошка, чернеют на корню помидоры, а огурцы, едва завязавшись, покрываются ржавой осыпью, словно коснулась их заморская болезнь — оспа, так безобразно изъевшая лицо нашего сельчанина Дмитрия Башмакова. Одни коровы ненастью рады, весь день в лесу отъедаются. Пауты да комарье от дождя попрятались, а травы — раздолье. Одурев от сытости, вечером, еще далеко от дома со стоном мычит наша Зорька. Идет она медленно, тяжело, широко расставляя задние ноги, оберегает разбухшее вымя, из которого во все стороны торчат соски. На таком травостое и не ведерница не подводит хозяйку, отпускает по полному подойнику молока. Но бабка заглядывает далеко вперед и потому непритворно вздыхает, будто сама себе жалуется. — Опять без сена останемся. И в какое наказанье такая мокреть? И молоку рада. Да кто ему не рад? Как ни тяжело пришлось в войну нашей семье, а перемоглись, устояли от искушения забить исхудавшую вконец коровенку. Помню, проснулся я от какого-то шумного восклицания. Потихоньку выбрался из-под вороха старых одеял и тряпиц, под которыми спали на полу вповалку мои родные и сродные братья и сестры. Шумно и нездорово дышали они во сне. Дотлевала за окнами зимняя ночь, скреблась в окно стылая ветка черемухи. Вжик, вжик, вжик — едва слышно доносились с кухни непонятные звуки. Через узкую щель между неплотно прикрытых половинок дверей в комнату проникал желтоватый свет. Любопытство пересилило мое желание возвратиться в тепло нагретой постели, и я тихонько подошел к двери. Дед сидел на голбце и, прижав к колену лезвие длинного ножа, точил его бруском. А перед ним стояла бабка и мяла в ладонях застиранный передник. — И не задумывай даже. Я сказала — не дам! Дед поднял голову, белые, заволосевшие щеки его задергались. — Да не могу я больше смотреть на них. Глаза одни да кости. Мне лучше самому за речку, пока в оградке место свободно. Да прав таких не имею. Восемь душ на тебя не бросишь. Он провел рукавом по глазам. — Ведь перемрут, мать. Что сынам скажем, как отчитаемся? Да ты сама понимаешь — до этой весны не сдюжим. Одна картофельная болтушка, да и той… Ну, картофельные семянки съедим, огород глазками засадим, что нарастет с них? А без картох и вовсе погибель. А тут все-таки мясцо, до зелени на ногах удержит. — Мясцо, мясцо! Какое тебе от Зорьки мясцо! Шкуру варить будешь? — Голос бабки теряет присущий ей крутой оттенок, становится вкрадчивым, плаксиво-просящим. — До весны, отец, как-нибудь перемаемся, а там, глядишь, и с молочком будем. А может, Зорька и теленочка принесет. Бычка или… — Бычка тебе, телочку… Да откуда они взялись у сухостойной? Ни одного быка в поселке нет. Да и падет твоя худобина не сегодня-завтра. На сухих вениках ее не поднимешь. И не уговаривай, кипяти воду. — Тогда меня, старый, сначала кончай. Тащи за мост на свою лежанку. Без коровы мальцам так и эдак погибель. Что случилось со мной в ту минуту, не знаю. Всполошив всех криком, я выскочил из комнаты и повис у деда на шее. — Не дам бабу реза-ать! До сих пор живет во мне вкус своих, дедовых и еще чьих-то слез. И тот леденящий сознание вой, будто по покойнику, что поднялся моим зачином в доме. Но Зорька осталась с нами, отзимовала и ту, третью, нелегкую, а может быть, и самую тяжелую военную зиму. Спасли ее наши слезы, нас — ее молоко. Вот почему и печалится сейчас бабка о ее судьбе, держит в заводе[2] всю семью. Покосы-то на сельском сходе давно поделены, а как в такой сеногной к косовице приступишь. Вся работа пойдет в убыток. Но деда и такая погода не трогает. На лице ничего не прочтешь, все за бородой и усами спрятал: и радость, и печаль, и думки свои хозяйские. С утра устроился под тесовым навесом, приладил на березовом чурбаке наковаленку и молотком каленым постукивает, отбивает литовку. — Дзинь, дзинь! — несется со двора под шорох дождя. Вскоре такие звуки рождаются на соседнем подворье, потом еще, еще — и вот уже кажется, что мелодичный перезвон плывет над всем нашим поселком — жадные до работы руки тешат себя забытым делом, вторят моему деду. И справлять его нынче придется немногим мужикам, что убереглись от немецкой пули, а в основном, дедовым погодкам, ребятне да бабам, которым за войну всякая работа к рукам прилипла. И то правда, не привыкли мои земляки к праздности, не в почете она у них, каждый подыскивает себе заделье, особенно в такое слякотное время. И меня бабка тревожит, спроворила какую-то работенку. — Эй, неподъема, хватит бока уминать, наживешь пролежни. Притворно жмурю веки, будто от сна еще не очнулся, даже всхрапываю для убедительности, но разве ее проведешь. — Кому говорю? Нехотя поднимаюсь с кровати, с угревистой мягкой перины, в которую я всегда ныряю утрами, едва бабка займет свое привычное место у широкобокой печи. Приглаживаю свои вихры, почесываю спину. — Если зачем на улку, то у меня обувка с вечера мокрая. — Обождет твоя улка. Сметанки вот подкопила, садись масло пахтать. Сбивать масло — работа, можно сказать, нудная, зато есть в ней свой интерес — тайком от бабки полизать сметаны, которую копит она неделями, таит от нас в погребушке на истончавшем за лето льду. — Дзинь, дзинь! — доносится со двора. Отбивает дед про запас косы, чтобы не отрывать себя на это дело в первый покосный день. Есть там и моя литовочка. Невесомая, с нешироким захватом, для радостного свидания с клубничными еланками. А дождь бусит и бусит, с легким шорохом задевает стекла, намокшие ветки. Гоняю я деревянной лопаткой-болтушкой в глиняной корчаге сметану, слева — направо, справа — налево, изредка запускаю в нее палец, а то и два, торопливо облизываю. Рукав рубашки — вместо утирки, чтобы убрать следы с подбеленных губ. Не примечает бабка моих хитрушек, а может, и делает вид, что не видит. Крутится у печи-неразлучницы, сочиняет что-то к обеду. Наконец и у меня в корчажке намечаются перемены. В белом сбитне появляются желтые крупинки. Их становится все больше и больше, они всплывают рыхлой шапкой наверх, липнут к лопатке. — Баб, уже готово. — Ну, вот и ладно. Вот и живем теперь, внучек. И что бы я без тебя, на что годна… Потрудился, глядишь и маслице свое, непокупное. Видишь, как светится. Она ловко перекатывает в ладонях похожий на спелую дыньку комок, бережно опускает его в кастрюлю с холодной водой. — Блинки-то гороховые любишь? Знаю, что до блинков охотник. Вот завтра и изладим. Можно бы и сегодня, да каши тыквенной напарила, ее съесть надо. — Ты мне пахты лучше плесни. Бабка склоняется над корчажкой, и я принимаю из ее рук кружку с густой сизоватой жидкостью, в которой горячо мерцают желтые крупинки. Пахта намного вкусней отснятой простокваши, пахнет свежесбитым маслом, отдает кислинкой и сластью одновременно. — Сходи-ка, порадуй деда. Пускай и он нутро обогреет. — Дзинь, дзинь, дзинь! — Деда взбодрил ядреный напиток, говорливей стал молоток. И мне становится тепло от нагретой боковины печи, от шелестящего за окном дождя, убаюкивающих бабкиных слов, сытного запаха пахты. И уже укачивает меня легкая лодочка, и плыву я в ней по нашей говорливой реке к своим недосмотренным снам.РАДОСТЬ В НЕНАСТНЫЙ ДЕНЬ
Землю по утрам покрывают туманы, и когда они тают, то вместе с ними растворяются яркие краски осени, чтобы не возвратиться уже до следующего года, не приветить наш глаз. Холодные дожди умывают дороги, секут безжалостно редеющий лес, сбивая с кустов и деревьев листья, обнажая темно-вишневые ветви черемух, лимонные побеги крушин. Меж голых стволов свободно гуляют сквозняки, а в сырых низинах сгущается темнота. Тепло заметно убыло, пестрая травяная некось превратилась в пряди полегших темных былок. И лишь рябины дарят всем свой вызывающе яркий свет. Не люблю я такую пору. Вернее, люблю, но не очень. От недавнего лета — одни воспоминания, а до зимних забав — ой, сколько еще куковать! Вот и опять зарядил с утра дождь, заструилась по стеклам вода. Влипнешь в стеколко носом, и освежит тебя уличным холодком. В палисаднике подрагивает последними листочками наша сибирская яблоня-ранетка, сплошь усыпанная гроздьми мелких янтарных плодов. Если не оберут их ранние птахи, по первому морозцу и нам будет лакомство. А пока висят они без дела, от такой кислятины воротит скулы, и наступает маета животом. Варенье из ранеток варить — сахару не напасешься. Да и где он, сахар? Так иногда, к чаю вприкуску. По махотному сизому осколку. Сунул я ноги в расшлепанные обутки, выскользнул во двор. Проторил сдвоенный след в набухшей конотопке. Не дождь, а сеянец. Летом такому бусенцу ласковое название — грибной, а сейчас… Крыши дворовых построек, заборы намокли до черноты. Кажется, дотронься — и останется на пальцах грязный след. Через узкую калиточку ныряю в огород. По бокам он забран тыном, отделяет нас от соседей, а за тыльной жердяной огорожей стеной поднимается темный лес. Снизу, как новогодняя елка ватой, он вздобрен лохмотьями белесого тумана. Туман шевелится, ворочается, словно живой, а может, и впрямь кто в нем затаился, высматривает на продувных местах себе добычу. Решился я добежать по копанине до конца огорода, попроведать стоящую там черемуху. И ей в такую мокрую заваруху, видать, не очень уютно. Еще по солнечному теплу обобрала наша ватажка ее до ягодки, лишила последней красы. И напрасно я вглядываюсь в голые ветки, не утаилась ли где последняя кисточка, — сами себя обделили, ничего не оставили. Усмотрел у корневища матовый блеск сердцевины. Пожировал уже какой-то смелый зайчишка, поточил свои зубы. Сказать надо деду, пускай черемушную рану закрасит чем-нибудь и обернет тряпицей. Не сгинуло бы дерево ненароком, не оставило нас без утехи… А облака совсем клубятся рядом, цепляются за вершины деревьев. Сейчас бы к дружкам наведаться да махнуть с ними на речку. Говорят, щука совсем озверела, в зиму себя готовит. Что ни брось, все с лету хватает, так и ждет приману с разинутой пастью. Может, и брехня это, да как проверишь. Не пойдешь ведь на речку без нужной справы. Сапоги на мне дедовы, пальтецо ветродуйное. Не пальтецо, а короткая накидушка, в которой, по словам бабки, только от долгов бегать. Вот летом я без заботы — длинные месяцы не знает сноса моя обувка — ноги, с вечно потрескавшейся, в россыпях зудливых цыпок, непробиваемой и непромокаемой кожей. Сейчас голой ногой земли не сдюжить — набрала остуды. — Опять на улку летал, — встречает меня недовольно бабка, — охота горловую болезнь зацепить, майся потом с тобой. А ты куда смотришь? Твоя привада. Это уже она к деду. Но у того на словесную бабкину атаку свой маневр: молчание. И вся его ответная речь в такие минуты состоит из нескольких непонятных слов: ну-ну, эх, жизнь, м-да… Но сегодня он заговорщицки подмигивает мне: — Что, кисло? Передых наступил в побегушках? — И как-то многозначительно посмотрел на бабку. — Надо, мать… — Разор да и только. Что за детки пошли, без огня все на них полыхает. Вчера штаны штопала, а сегодня весь зад наружу. И где только чертеняку носит? Вот погоди, соберемся с матерью письмо отцу на фронт отписывать, уж он тебе, неслуху, на конфеты отсыплет. — Ничего, мать. Бычью шкуру выделаю, глядишь, и выкрутимся, выберем Сереже на сапоги. Лишь бы живой вернулся. — А ты не каркай, старый. Тьфу, тьфу, тьфу, — трижды сплевывает она через плечо, — и в мыслях про то не имей! — Так и я про то, — виноватится дед. — Сережа нам еще и спасибо скажет, не преть же малому на печке. — Мог бы и посидеть. Не в школу. А от тепла еще никто не умер. Она брякает ключами — у нее их целая связка — отмыкает огромный сундук с давнишним своим приданым, шуршит какими-то свертками. И вот уже прочь тоска-печаль, светлый праздник рождается в моей душе. Не мечталось, не думалось — и на тебе — собрался дед тачать мне сапожки. Скажи друзьям — не поверят! Да не из какой-то грубой сыромятины, которую потом не размягчить ни водой, ни дегтем, а из самой что ни на есть фабричной кожи. Собрал он бархатистый лоскут в кулак, пожулькал осторожно, потом на коленях расправил — заиграла кожа глянцем, черное солнышко да и только. — М-да… На взрослые здесь все равно не выкроить, а нашему соколу в аккурат будет. Не поймешь, бабку ли утешает, или меня подзаводит-радует. Видно, не одному мне непогодь в тяжесть, и дед растерялся без работы, вот и придумал заделье, а может, просто дошли до его сердца мои ребячьи печали… Принес он из кладовки деревянный сундучок, откинул крышку — у меня и в глазах зарябило. Ножи, шильца, молоточки, медные гвоздки, кожаная обрезь разного цвета. — А ну, давай свою работницу… Он ловко примеряет к моей ступне березовую колодку, вслух думает: — Великовата немного — не беда. Из большого не выпадешь, пока портяночку потолще подвернешь, а за зиму и нога подтянется. В аккурат придутся. Обмерил дед ногу, расшевелил до дна во мне радость. Сижу сам не свой, в непонятные слова вникаю: передок, рантик, союзки, подбор… А он остро заточенным мелком размечает кожаный развертыш, режет его на шматочки, не боится. Нож у него из стальной пластинки, углом сточенный, острехонек. — Дед, а ты не испортишь? — Да вроде не случалось такого. А если на пару с тобой мастерить возьмемся, тогда и вовсе быть первому сорту. Враз тебя на Паруньке оженим. — Не-е, я жениться на мамке буду. — А чем тебе Парунька не угодила? — Она вон дылда какая, ее в огороде и в подсолнухи не спрячешь. — Ну тогда другую кралю подыщем. С хром-сапогами, да без невесты. Негоже. Как, мать, в нашей молодости говаривали: «Каков сапожок, таков и женишок?» Бабка видит, как я недовольно морщу лоб, подает голос: — Чего, старый пень, к парнишке прилип. Язык, что ли, без костей, мелет ни свое, ни наше. — Дед, — увожу я разговор от опасной темы, — а я тоже хочу сапоги шить. — Знамо дело, что хочешь, как без этого. Обувка для человека — главное. Нога в тепле, и душа поет-веселится. А кто сапоги мастерить научился, тому и жить не страшно. Выбрал он в сундуке пучок гибкой свиной щетины, рассыпал на столешне. Эта работа мне известна. Сейчас он несколько раз продернет толстую крученую нить через кожаный сгибень, обмазанный внутри смолистым варом, потом приладит к ее концу иглу-щетинку и — готова дратва. Да такой крепости, что не порвешь ее, не перемочалишь. От нее и сапог надежней казенного будет. Подыскал дед и мне интерес — шпильки готовить. Выбираю я в сундучке сухие березовые пластинки — все-то у него припасено! — осторожно по всей длине вострю у них краешки. Сейчас остается ножом расколоть их на ровные дольки, и замена гвоздям готова. Шпильки походят на фабричные спички, только раза в два покороче. Гвоздя они понадежней, подошве не дадут отвалиться и воду в сапог не пустят. А гвоздь сапогу нужен лишь для того, чтобы набить вместо каблука кусок старой резиновой автопокрышки. Ладит дед голенище, очки на кончике носа повисли, вот-вот свалятся. Летает у него в руках шило, поскрипывает при затяжке дратва. А в зубах его неразлучница-самокрутка. Я ее зову козьей ножкой, а бабка — иерихонской трубой, словами для меня непонятными, но по тому, как она их произносит, — сильно ругательными. А дед — сам себе на уме, пустит дым мимо порыжевших от табака усов, проколет в коже дырку, затянет новый стежок — еще работа подвинулась. Весело и красиво идет у него дело. У бабки одна забота — печь, около нее и крутится. Будто живет здесь. У ней ноша потяжелей всех в доме. Меня вот нужда по носу не бьет, можно без штанов и сапог и на полатях перебиться, унять гулеванную блажь, а ей каково? Еще с вечера думай, что утром в печь ставить, что оторвать от сердца, взять из скудного припаса на прокорм семье. Десяток душ накормить — не шутка. Набежит наш иждивенческий брат из школы, подойдут с работы матери — всем есть подавай. А хлеб пайковый — не разбежишься. По ломоточку к обеду. Одно спасение — картошка. Все прибранное с огорода в пудах учтено, на бумажке записано, и безграмотная наша бабка каждый день ставит в ней палочку. Значит, положенное на сегодня съедено, а на завтрашний пай заглядывать нечего. У зимы-подбирухи дней не перечесть, и каждый сытости просит. Мы все считаем бабку скуповатой, а моя мать — невестка ихняя — расчетливой и бережливой. И я вспоминаю ее горячий шепот, что мы потому и живы, что не одним днем живет наша бабка, а умеет заглянуть далеко наперед, рассчитать, как протянуть нашей немаленькой семье от одной огородной нови до другой. И эти думы потяжелей, чем нарубить дров или натаскать воды из колодца. Но иногда и на бабку, по словам деда, «накатывает добрый стих». Вот и сегодня скользит у нее по лицу улыбка: может, времена безбедные вспомнились, довоенные богатые застолья. — Ну что, притомились? Чай нелегко сапоги-то тачать? Она опускается на колени, рука ее ныряет под ситцевую занавеску припечной лавки и появляется с кринкой отснятой простокваши. Видать, творог варить собиралась. — Угощайтесь, работнички. Она протягивает нам по полной кружке, а кринку бережно накрывает белой тряпицей. Я потихоньку тяну этот густой сытный напиток, млея от кисловато-сладкого привкуса, всем нутром ощущая запах отделенной сметаны. До чего же вкусно! И дед от удовольствия крякает, но тут же приступ кашля гасит надуманное сказать им слово. Лицо у него багровеет, пальцы судорожно ловят ворот рубашки. Бабка уже с ним рядом, с баночкой какого-то отвара. — Прими, отец. Может, и полегчает… И сокрушается: — Это у тебя с войны подарок. Война для деда закончилась давно, а вот до сих пор он живет ее болью, хочет в работе забыться, да не может. Еще в первую мировую травили немцы его газами, испятнали тело рубцами-метками. На эту войну дед не угадал по возрасту, хотя и пытался — сынов своих заслонить хотелось. А пришлось вот нас, внуков, целую кучу кормить-выхаживать. Он, наконец, отошел, снова сворачивает свою козью ножку — неймется ему дымом давиться — и говорит, будто в чем провинился: — Душит, проклятый… Что его душит? Немецкий ли газ, истерзавший легкие, или осколок, который метил в сердце, но от ребра срикошетил и остался «подарком» где-то в груди? Я в такие минуты молчу, жалость переполняет меня. Ведь кровь-то своя, родная, как без жалости. И не дано мне еще понять, что осколок тот не только в деда метил, но и в отца моего, тогда еще не родившегося, в нас, будущих внуков, метил. Ему и наши жизни оборвать хотелось. — Ничего, еще поживем, — успокаивает меня дед. — Пофорсим в новых сапожках. Переменчиво ребячье сердце, забывчиво. Только что дедова боль тревогой во мне жила и вот куда-то исчезла. И бабка его словам улыбается, по-молодому у печи суетится. Я про запас шпильки строгаю, дед дратву наващивает. Все мы в спором деле, в нужной семейной работе, в ладном неворчливом согласии. И про ненастье забыли, словно за окнами просветлело. Хоть ненадолго, да заглянул в наш дом праздник.НЕ СИДИТСЯ НОВОСТЯМ НА МЕСТЕ
Было это в такое время, когда нужда многим давила удавкой горло, горе и печаль прижились в каждой избе, иссушив лица моих односельчан, навечно, казалось, согнав с них улыбки. Не до веселья — это всяк понимал. Война круто свое брала, исправно сосала мужичью кровь. Не переставали выть бабы. Да и как слезой не умоешься? Какого мужика в военкомат, в райцентр увезут — как в Чертову яму бросят. Был человек — и нет его. Жди взамен казенную бумажку, при виде которой женские лица искажала судорога, плач сотрясал в рамах стекла, а некоторые бедолаги и вовсе падали на пол замертво, вызывая истошный крик осиротевшей ребятни. Тут и без подсказки известно: отметила похоронка твою судьбу — не жди светлых дней впереди. Так, по крайней мере, каждой овдовевшей солдатке думалось. С каждым днем прибавлялось в поселке измученно-печальных глаз, а войне конца не виделось. Вот и тянулась безысходной слякотной колеей жизнь в нашенском таежном углу, но, видно, такой уж русский характер: горе — горюй, но иногда и через «не могу» улыбнуться надо. Иначе конец, в тисках сердце долго не выдержит. А тут еще случилось такое, что весь поселок ахнул, а потом сквозь слезы долго хохотал без удержу. У живущей над самой рекой Агафьи Неупокоевой родился ангельской красы ребенок. Что за беда, скажете, родился и все тут, свет никому не застил. В такое-то на детские голоса безлюдье радоваться всенародно надо, а не огорчаться. Так бы оно и было. Если бы не перевалило Агафье за семьдесят годочков. Задолго до случившегося конфуза стали примечать люди за Агафьей неладное: вроде бы округляется под фартуком бабкин живот, пухнет и пухнет с каждым днем — совсем как у какой-нибудь молодухи. Такой дым любому глаза выест. Поползли по улицам шепоточки. Из мужиков-то в деревне, почитай, один киловатый Макся. Кто еще и пухом не покрылся, а кто и растерял свои перья. Но и за каждым стариком в десяток глаз приглядывать стали: авось у ниточки какой ни есть кончик объявится. — Чего гадать? С нечистым спуталась, — уверенно заявила Тюлениха. Кое-кто из Агафьиной ровни молодость ее игривую в памяти своей высветлил: лихой была молодицей, с какого бока не ущипни — на губах привет да улыбка. Вот потому и сомнение: не ударилась ли от умственного изъяна в давно забытое? От слухов плетнем не отгородишься. Вызнав о таком навете, Агафья сплюнула в сердцах и оборонилась от поселкового мира запертой на щеколду калиткой. А в ночь на Ивана Купалу сразу после двенадцатого удара заводского колокола прокукарекал во дворе Агафьи еще несъеденный петух, а следом громко возвестил о себе криком младенец. Новость эту ни свет ни заря занесла к нам в дом соседка Капитолина Моржова. — Слышь, Кондратьевна, Агафья-то и впрямь разрешилась. — Господи, и что это только деется, — завелась своим любимым присловьем бабка. — В такое ли время над старухой шутки выкидывать. — Вот и Агафья божится, что разыграл ее кто-то, припозорил у самой гробовой доски. А ребенка-то куда денешь? Славный такой парнишонка, крепенький, скуластый, а волосом цыганистый, совсем как пуеровские девки. Сказала и осеклась. Будто что-то вдруг иное подумалось. — Ну, а Агафья что? — Бабка вроде и не приметила этого. — Беру, говорит, сей грех на себя, чей он, мне неведомо. Господь, он видит, чиста я перед ним, аки ангел. А про брюшину мою болтали, так то болезнь была. Киста. Я ее травами из себя вывела. — Навестить надо Агафью. Снести молока малому. Чей бы он ни был, а все живая душа. Так в лихую военную годину появился в нашем поселке новый человек — будто народилась в небе звездочка взамен упавшей, — а когда подрос, и впрямь вышел обличьем в приметную пуеровскую породу. Говорят, что Людка Пуерова, из-за войны невольно ставшая перестарком, по ночам ходила выть к старенькому Агафьиному заплоту, просила возвратить «до маткиной груди» свой подкид, но Агафья, которая еще недавно и жить-то собиралась до первых цветочков, обозвала ее кукушкой и на порог не пустила. Выходила дите картовной толченкой да жеваными хлебными катышами. Весь поселок помогал ставить мальчонку на ноги, понимая, что не только от девичьего позора случилось подобное — от беспросветной нужды, обильно сдобренной голодухой, и не такое придумаешь, а лишний рот в семье в такую пору — о-ё-ё… Как рождаются дети — для нас, ребятни, великой тайной не было. Что к чему, мы понимали, про аистов и капусту нам не рассказывали, да и какие там сказки, когда в каждой избе людей, что в стручке горошин. Где уж тут взрослое утаить от малых. Купались летом все вместе, телешами, оставляя на берегу одежонку до последней нитки, и мужики, и бабы, лишь девки на выросте в омутке за поворотом плескались, но туда ребят будто невзначай течением сносило.И тогда там начинался притворно-испуганный визг. Но взрослые при таком гаме лишь улыбались: каждому овощу свое время. И было в таком веденье и открытости что-то светлое, мудрое, данное от природы, когда телесного естества никто не стыдится, не прикрывает нарочно глаза ладонью. Но бабка все-таки нас строжила. Конечно, если примечала какие-то вольности. Да и не только нас. И деду перепадало. — Ты бы приструнил Генку, отец. Неспроста он около Шурки все крутится. Тут их на сеновале приметила, как бы чего не стряслось. Ведь глупыши еще… — Э-э, пускай примеряются. Война войной, а жизнь свое требует. Случится закавыка, оженим. Мне кажется, что он беззвучно смеется, чему-то радуясь, поддразнивая бабку, поперечничает ей. — Тьфу на тебя! Про подростков такое… Охальничаешь, а про то забыл, что в родне мы. Степан-то Кондратьич с их Пелагеей… — Завела меленку. Ты еще кума Никифора вспомни. Седьмая вода на киселе. Кто нынче на это смотрит. — Посмотришь, когда поднесет тебе Шуркина мать внучатный подарок. — Ну и посмотрю, — теперь уже явственно смеется дед, — что тут зазорного — дитенка увидеть. Это перед войной что маслята из лукошка сыпались. Через двор, да в каждом дворе. А сейчас одна Лушка Тарханова за всех план дает. Не поймешь, каким ветром и надувает. — Сказывают, мальцов приваживает. — Ну, видать, не такие уж и мальцы, коли соображение имеют. — Совсем сдурел, старый, несешь околесицу! — Так это ваша бабья порода дурная, от нее и вода мутится. Агафья, и та вон… Такие разговоры, вспыхнув нежданно, тянутся у них утрами долго, и я еще в постели узнаю многие новости, которые летают по поселку из края в край, не признавая стен и заборов. Каждое утро, будто на работу, является Капитолина Моржова. Пока отряхнется минуту-другую на сундуке, все новости в дом запустит. Я зову ее про себя капитаншей. Хотя чего в ней капитанского? Ни стати, ни голоса. Усохшее, как дряблая картофелина лицо, костлявые руки… Горя у Капитолины, как и у всех, — под завязку. Трое в армию призваны, о каждом в сердце своя печаль: что там с ними, не угадаешь, на карты да на ворожбу надежда плохая. Вот и приискивает Капитолина заделье — сольцы призанять или угольков взять на растопку, чтобы навестить нас, выговориться, излить свою душу, иначе предстоящий день будет ей в непереносимую тягость. Глядя, как раскатывает бабка небольшие, сдобренные чем-то до черноты катыши теста, Капитолина приискивает ниточку разговора. — До войны-то хлеб белее первого снега пекали, ноздреватый, пышный, с хрустиночкой… Давишь его ладонью, а он обратно пухнет. А запашистый… Я такого хлеба не помню. А вот «тошнотики» из гнилой картошки пробовать приходилось. Да разве может хлеб быть белее снега? Бабке, видать, охота поддержать разговор, вспомнить замешанное на опаре, выползавшее из корчаги тесто, но, увидев мои глаза, она обрывает растревожившую ее соседку. — Что было — травой поросло. Войну передюжим — не так заживем. Отвоюют свое мужики с германцем — досыта накормят. — Только бы возвернулись, — вздыхает непритворно Капитолина, уголок головного платка взлетает к блеклым, размытым слезами глазам. Забыла и про щепотку соли, что просила взаймы, и про печь свою нерастопленную. Сейчас ее сердце где-то там, со своими сынами, за нашими борами дремучими… — Твои-то что, пишут? Присела бабка на лавку, забыла на время свою стряпню. — Видать, пока недосуг. А может, где письма и на почте лежат. Почтальоны-то нонче не очень оборотистые. Заметил я, всегда ищут они причину задержки вестей с фронта, вливают друг в друга по капельке надежду. — А у Медведевых опять… Уже вторая… — Господи… — Глаза бабки обращаются в угол, где поблескивает рыжей позолотой икона Николы заступника. — Будет ли конец этому горю?.. Я гляжу на Николу. Постное лицо его мне кажется равнодушным. В печи, потрескивая, разгораются дрова, и лицо на иконе вдруг оживает, багровые блики подрагивают на его худосочных щеках, в глазах посверкивают гневливые огоньки. Мне кажется, что он смотрит на меня и недоумевает, почему о заступе за моего отца просит бабка, а не я, младший из трех его сыновей. Мне становится страшно, я боюсь, что эти огоньки в глазах потухнут, не примут бабкину молитву, и потому шепчу торопливо: «Боженька Никола, ты ведь добрый, заступись за моего папку и за дядю Ваню, дядю Леву, дядю Сашу. Отведи от них немецкую пулю. Ну что тебе стоит…» Я не знаю, как он будет искать на огромных просторах моего отца, оберегать его от пули и осколка, но бабка говорит, что «бог все видит, все может». Его надо только хорошо попросить. Иногда, чтобы навести на нее доброту и схлопотать лишний кусок, я подношу пальцы ко лбу, но делаю это торопливо, с оглядкой — не увидели бы мать, дед и старшие братья. Дед, когда бабка обращается к иконе, замолкает и уходит на улицу. Но однажды я подслушал его разговор с бабкой, из которого не все понял. — Если малого совращать будешь, ни одной этой доски в доме не увидишь. — А что в этом худого, отец? Бог плохому не потатчик. Озорничать будет меньше. — Я сказал — и всё. Исщеплю на лучину и спалю в самоваре. — Ладно, ладно, отец, не буду… Моя мать иконы не замечает или делает вид, что их нет, и в тот угол, где они висят, старается не смотреть. Она и по дому, по словам деда, ходит «шепотом», чтобы лишний раз половица не скрипнула. И живет с каким-то постоянным ощущением вины: видать, стыдится, что привезла нас с далекого Алдана — четыре лишних рта, без переменной одежонки и обувки. Догадываюсь: виноватится мать еще и потому, что лишь сама смогла отстрадать свое на проводах отца, а бабке не пришлось обнять его перед неизвестной дорогой. И это для нее горше всего. Да и я отца уже не могу представить. Каким он был в те последние минуты? Помню лишь щебеночную осыпь дороги среди зеленых сопок, уходящую куда-то вниз, в темный провал тайги; колонну пыльно-серых людей с котомками за плечами, с чемоданчиками в руках; мою мать, сидящую на голубом ноздреватом валуне рядом с этой самой дорогой. Я даже каждую прожилочку запомнил на этом камне — юркими рыжеватыми ящерками разбежались они по крутым полированным бокам. А вот отца не помню: ни рук его, ни лица, ни голоса. Лишь солоноватый поцелуй на губах — последняя печать прощания. А может, и не было ничего. Ни перекошенного горем лица матери, ни переполненных вагонов и приземистых сибирских станций, ни шумных очередей за кипятком у каменных водокачек. А живет все это во мне каким-то придуманным сном. Нет, война — не сон. Стоит зайти в любую избу, и все напомнит тебе о ней. Где-то далеко от нас кипит она обжигающим варевом, но горячие брызги беды долетают сюда, в наш укрытый дремучими борами поселок. Там аукнется — здесь откликнется. И главная ниточка к этой ненавистной войне — Кланька Сысоева, высокая мужиковатая девка с изъяном на оба уха. Глухота прицепилась к ней в детстве, и бабка не раз травяными настоями пыталась поправить ей слух, но, видно, болезнь уже пустила крепкие корни — целебная медуница оказалась бессильной. В мирное время на Кланьку никто глаз не положил — кому нужна глухарка? А сейчас наросло девок, что опят на осеннем трухлявом пне, и каждая не у дел — женихов под метелочку подчищает война. Вот и огрубела в перестарках Кланька, прогнала от себя все бабье (так говорит моя бабка), дымит самосадом наравне со стариками. Да кто осудит — она дома и за себя, и за мужика ворочает. И работу себе подыскала такую, где не каждый надолго опнется — нужно здесь каменное сердце, живое долго не выдержит. И не знают не успевшие оженить себя до войны парни, которым, может, и правда недосуг писать свои фронтовые приветы, что нет для их матерей сейчас человека дороже почтальона Кланьки Сысоевой, главной вещуньи сегодняшней жизни. За почтой Кланька ездит в райцентр, за сорок километров, и дорогу эту, туда и обратно, при всем желании в один день не уложишь. Отправляется она в понедельник, по любой погоде, на выделенном ей заводом мохноногом Карьке. В райцентре наш завод содержит свою «заезжую» — просторную избу, в которой можно при нужде заночевать и попить кипятку. Здесь и ночует Кланька. А утром, наполнив брезентовую сумку скопившейся за неделю почтой, отправляется обратно. Чтобы скоротать долгие нудные километры, Кланька перечитывает все распечатанные кем-то еще до нее письма, приобщаясь к человеческим тайнам, чьим-то переживаниям. Все, что пишут фронтовики, она знает наперед: кому передают приветы, какие наставления дают женам, о чем просят детей. Кланьке никто весточки не пошлет, блюсти себя не попросит, потому так интересны ей чужие заочные разговоры. Наполнив сердце тихой радостью, берет она отложенные в отдельный кармашек сумки листки с казенными словами, чтобы разом за всех нареветься и на оставшемся пути укрепить себя для встречи с сельчанками. Поджидая Кланьку, поселок затаенно стихает. И даже оставшиеся в живых собаки, будто предчувствуя непогоду, забиваются в свои конуры. Тревожное настроение людей передается им, и они смотрят на своих хозяев печальными глазами. Путь к почте лежит через нашу улицу, и мы обычно томимся на лавочке у садочка, высматривая Кланьку, а едва приметив, гадаем, к чьей же ограде она привернет. Однажды я услышал, как тихо и торопливо нашептывала бабка: «Пронеси, господи, пронеси…» Не понял я тогда затаенный смысл этого наговора. С годами дошло. «Пронесет» Кланьку мимо нашей избы, или крикнет она, не слезая с телеги, привычные слова «Вам, Кондратьевна, пишут!» — значит, останется бабке надежда до следующей недели, до новой поездки за почтой в райцентр, а остановится Кланька… В такие минуты у бабки не сердце, а весы, на которые брошено все: радость и горе, надежда и отчаяние. И лишь в брезентовой сумке таится ответ: что перетянет. О похоронках и говорить не надо. О них узнается как-то само собой. Вроде никто и не заходил, не обронил слова, а всем известно. И тогда собираются самые крепкие из женщин, те, кто свое до конца уже отстрадал, глаза до дна высушил, чтобы погоревать в обнимку с новоявленной вдовой, облегчить ее первые самые горькие страдания. Сообща бедовать всегда легче. На этот раз Кланька подворачивает лошадь к нашему палисаду. Я вижу, как румянец проступает на бабкиных щеках, и с тревогой думаю, где дома у нас хранится пузырек с нашатырным спиртом. Бабка отрешенно приподнимается с лавки, придерживаясь за штакетнику, видно, все плывет у нее перед глазами: что ждет ее сейчас, какие испытания? Но Кланька по-своему, как умеет, улыбается нам: — С радостью тебя, Кондратьевна! От Вани с Сережей весточки. Ничего не видя, бабка принимает в ладони два замусоленных треугольничка, торопливо хватает Кланьку за руки: — Ты бы зашла в дом, Кланюша, зашла бы, чайку испить. — Да нет, до чаев ли мне! Сейчас к Абрамовым надо… Ты бы радость свою к вечеру отложила. Сходила к ним. Петро-то… — Опять горе-то какое. Господи, и когда конец придет мучениям этим… Ты езжай, Кланюша, езжай. Я схожу к ним, поголошу. Как человека в беде оставишь. Эх, Кланя, Кланька. И без тебя нельзя, и с тобой плохо. Приехала, занесла в один дом радость, в другой — горе. Кому-то солнечный лучик заглянул сквозь оконце, кому-то заненастит теперь на весь остаток жизни. И снова неделю маяться сельчанам в тягостном неведении, прислушиваться к поскрипыванию ходка, к утробным вздохам усталого Карьки, который, видать, как и люди, не рад своей жизни, тяжелым и длинным ездкам — печальные глаза жеребца свидетельствуют об этом. И думы его, наверное, схожи с моими. Зачем, зачем мучаются так сельчане? Кто и когда прекратит их страдания? И есть ли предел их терпению? Ведь людям хочется улыбаться, носить хорошую одежду, иметь на столе еду. А вокруг одни изможденные лица, запавшие голодные глаза. И нельзя расслабиться, ведь «Все для фронта! Все для Победы!» «Дон-н, дон-н», — разносится голос колокола над поселком. «Дон-н, дон-н», — отсчитывает он время нашей жизни, часы томительного ожидания вестей с далеко грохочущей войны. Нелегки ожидания, еще страшнее тайны брезентовой Кланькиной сумки. Из фронтовых писем мы знаем: ломит русская сила немецкую, гонят наши мужики фрица назад в его распроклятую Германию. Теперь, раз дело под горку пошло, их не остановишь. А коли так, привези нам, Кланя, самую наиглавнейшую новость о конце этой проклятущей войны, утешь поселок…Возвращение
И РАСПАХНУЛАСЬ ДВЕРЬ
Казалось, раздвинулись стены нашей избы и стало в ней намного светлее, а может, и впрямь чья-то нерастерявшаяся рука успела в суматохе крутануть фитилек подвешенной к потолку семилинейной керосиновой лампы. Что делал я в ту минуту, не очень помню. Наверное, слушал привычно бесконечные вечерние разговоры о недавней войне, о том, сколько мужиков не придет до села — будь он, немец, неладен! — и когда же, наконец, возвратится мой отец. К добру, видно, вспоминали, не к худу… Отворилась нежданно дощатая дверь, обитая изнутри соломенной матрацовкой, и седоватые клубы морозного пара медленно покатились от порога к моим ногам. Кто-то большой, незнакомый, в мохнатой заиндевевшей шапке, длиннющем, до пола, тулупе заслонил темный проем двери, оборвав своим появлением неспешный ручеек беседы. — Сынок! — простонала бабка, может быть, еще и не узнав столь позднего пришельца, а почувствовав это своим сердцем. — Сергуня! — Она безвольно протянула вперед темные, с вздутыми венами руки. Разом все смешалось в нашем доме. Плач, смех, непонятные возгласы — на миг не стало видно того, кого бабка назвала Сергуней. Все бросились к вошедшему человеку, оставив меня на объемистом, обтянутом металлическими полосами сундуке. Мгновение я непонимающе созерцал эту сцену, а потом из меня непроизвольно рванулся звенящий голос: — Папка, папуля мой, роднень-кий! И этот пронзительный крик, видно, проник сквозь рубленые стены избы, потому что разом на соседних подворьях взялись лаем собаки. Я стучал голыми ногами по толстой крышке сундука и всем телом тянулся к большому клубку людей, к едва видимой мохнатой шапке. Скатился с плеч истертый вязаный полушалок, обнажив мое мосластое, с несуразно большими коленками тело, едва прикрытое самодельной рубашкой и короткими штанишками на помочах. Я увидел, как тянутся ко мне уже освобожденные от тулупа руки, и отец — а это был он! — медленно, преодолевая сопротивление прильнувших к нему людей, приближается ко мне. И они, опомнившись от моего крика, на миг отпрянули от отца, и он оказался рядом со мной. Мой отец! Темные провалы глазниц, запавшие, давно не бритые щеки, точечные бисеринки воды на рыжеватых бровях и ресницах… Огрубевшая жесткая ладонь коснулась моей головы, и я обмер от этого прикосновения. — Какой же ты худущий, сынок. Одни глаза… — С улицы не загонишь, постреленка. Одни побегушки на уме, — услышал я виноватый голос матери. Не знала она, куда девать себя, застыдясь этой нежданно-радостной встречи. Суетливо метались по кухне тетя Лиза и ее дочь Нонка, потерянно стоял у рукомойника дед, и лишь бабка уже опомнилась и, смахивая фартуком счастливые слезы, деловито орудовала кочергой, подгребая под сухой штабелек березовых полешек из загнетки горячие уголья. Я мостился у отца на коленях, боясь прикоснуться к его седоватой щетинистой бородке, но ладони непроизвольно гладили малиновые лучики звезды, перебирали холодные кругляши медалей. Отец заботливо укутывал меня в полушалок, бережно прижимал к себе, словно боялся раздавить мое хрупкое тело. И мои старшие братья Юрка и Генка смирились с этим, робко лепились к отцу с боков, преданно заглядывали ему в глаза. Жаром отдавала печь, отсветы пламени метались по беленым стенам, слезилась снежная наледь на стеклах. Вода с подоконников по тряпичным жгутам сочилась в подвешенные тут же бутылки. — Отец, ты чего столбом полати подпер, спроворь баньку, пока мы тут… — Сейчас, мать, сейчас, — с полуслова понял он бабку и, накинув фуфайку, молодцевато выскочил в сени. А бабка уже спустилась в подпол, вылезла без привычных своих «охов», заглянула, под занавес лавки, в кухонный шкаф — тихо постукивала какими-то банками, горшками, чашками. А глазами зырк да зырк в нашу сторону. Веселая, проворная — разом помолодела. В печи уже что-то шипело-шкварчало, по избе растекались манящие запахи, и мать с теткой в который раз пробежали из кухни в комнату. Там по такому случаю был выдвинут на середину круглый стол и накрыт белой скатеркой. Вошел дед, присел на голбец, успокоил на коленях руки. — Я, мать, сухоньких плашек накинул да бересты подложил. Она разом, банька-то, жаром возьмется, еще со вчерашнего не остыла. Пускай солдат наш попарится, снимет окопную усталь. Сполна, день в день, отмерил дед германскую войну, хватил лиха и на гражданской, а в эту не привелось. Староват оказался, хотя и очень сынов своих, нас, молодь, заслонить хотелось. Трех от сердца оторвал, за себя отправил, один вот пока вернулся, отец мой, его середний. Распрямила деда эта радость, расправила плечи. А на устах одно лишь слово: солдат. Будто забыл, что есть другие напевные сердцу слова: Сережа, сын. А может, отвык за эти годы или боится произнести их вслух, спугнуть ненароком залетевшую в дом радость. А у бабки свои заботы. Шинкует слезливый лук, ловит в кадушке рыжики, студенистые сырые грузди. — Ты, старый, не расхолаживайся, не мни кисет. Бери сечку да помельчи́ капустки. Да полукочаньев достань, на шестке разом отойдут. — Я, мама, сама. Пускай батя отдохнет, поговорит о чем, — неуверенно подает голос мать. — Куда уж тебе, присядь. Чай муж возвратился. А стол и Лизавета накроет. Нет матери места рядом с отцом, мы его заняли. Да и неизвестно еще, чья тоска по нему сильнее. Вот и летает мать из кухни в горенку, раскраснелась, изредка бросает на отца тревожно-радостные взгляды, вспоминает давнее. И старшая отцова сестра, тетя Лиза, вместе с ней, в одной упряжке. Не свожу я глаз с туго набитого рюкзака, что позабыто покоится у порога. Что там? А намекнуть неудобно. Скажут, что не отец тебе нужен, а гостинцы. Помолчу лучше. И снова тянусь к наградам. Нагрел ладошкой покрытую яркой эмалью звезду. — За что это, папка? — За войну, сынок, за войну. А в избе еще светлее стало. Засветила тетка медную с литым узорочьем на высоком подставе лампу, пристроила ее в горнице на комоде. Радость такая на всех свалилась — где уж тут керосин беречь. Это потом можно будет и при лучине посумерничать, а сегодня и свет яркий — на полный выкрут фитиля, и разносолы без меры — на стол. Не каждому счастье подобно нашему по вечерам в дом приходит. — А ну, орда, картохи чистить. Да попроворней! Вывернула бабка из печи ведерный чугун, прихватила его тряпицей — как только и руки терпят! — слила воду. Парит картошечка, полопалась от жары. — Баб, можно? Не хочется мне уходить с отцовских колен, пригрелся, сомлел от неведанной ласки. Глянула на меня бабка. В глазах искорки, будто из печи туда запрыгнули. — Эх, горе ты мое. Сиди уж! Окружили чугун на полу братаны, Нонка да Валька с Женькой — прибитые к нам войной бабкины внуки. Ничего, впятером управятся, не впервой. Весело катают в ладонях горячие, чуть побольше бобов картошины, сдирают с них тонкую кожуру, перешептываются. А в иной день такая работа в тягость. Одно заделье — живот набьешь. Давно дед нарубил капусты и еще не раз во двор наведался. Теперь вот снова остучал валенки о порог, волной докатился до меня холодный воздух. — Доспела банька-то. Малость угарно, так я не, прикрыл вьюшку — вытянет. И воды холодной с колодца принес. Так что собирайся, солдат… И снова ждет бабкиных указаний. — Веник кипятком заварил? — Распарил. Новый с амбарушки принес. — И щелок заварил? — Сготовил. Перебрасываются дед с бабкой словами, не поймешь, кто за хозяина в доме. Помню, не утерпел как-то, спросил об этом бабку. Погладила она меня шершавой ладонью по голове. — Конечно, голова дому — дед. Его и слушаться наперед надо. Только и то верно, что на бабьих плечах хозяйство держится. Не будь их, все пойдет прахом. А вообще-то, в народе так сказывают, что ночная кукушка всегда перекукует дневную. И улыбнулась задумчиво. Что те слова означали, в ту пору мне было неведомо. Только примечал я, что при людях всегда уважительно отзывалась она о деде, величала по имени-отчеству. А меж собой иногда и прикрикнуть могла, за нерасторопность или оплошку какую. Вот и решай, кто в доме хозяин. К одной оглобле привязаны. А руки у бабки как всегда отдыха не знают, на минутку не успокоятся. Снимают с кринки желтоватую сметану, разминают творог. — Любава, — это она к моей матери, — достань из комода Сережино белье — дождалось оно своего часа. Прокатай хорошенько да и сама в баню собирайся. Полыхнуло огнем материнское лицо. — Я сейчас, мама… А сама уже сноровисто достает с полатей рубчатый каток с вальком, пристраивается с бельем на краю сундука. Поднял меня отец легонько, словно выжелубленный подсолнух, подсадил на печь. Не журись, мол. Тепло на печке, сквозь тонкие плашки нагретые камни источают жар. А внизу «орда» наша опорожняет чугун, полнится тазик желтоватой картошкой. Сейчас из нее бабка спроворит десяток блюд: запеканку на молоке, сдобренную яйцом, салаты с капустой, огурцами, грибами, да и просто поджарит с вытопленными на вольном жару мясными шкварками. Она на эти дела — мастерица. Открылась дверь, робко, бочком (не напустить бы холоду) протиснулась соседка Настя Тюленева, которую за глаза все звали Тюленихой, хотя и не было в ее теле лишней жиринки, как на огородном пугале болталась латаная фуфайка. — С радостью тебя, Кондратьевна! И утерла кончиком полушалка глаза. — Прослышала вот, забежала. Может, моего где встречал? Не принято в деревне и незваному гостю на порог указывать, особенно в такие, вот радостные минуты, да, видать, что-то взыграло ревнивое в бабке, и нас удивила своим ответом. — Ты уж не обессудь, Настюха. Он ведь не на час возвратился. Приходи с расспросами завтра, а сегодня пускай с семьей свидится, ребятню приласкает — четыре года ведь… А про себя, наверное, подумала: сейчас разреши, весь поселок сбежится. А она еще и сама к сыновьей груди ладом не припала. — Да я ничего, обожду. Узнать лишь хотелось. Извиняй, соседка. Коль разрешаешь, я завтра наведаюсь. Может, скажет что Сережа-то… — Какой разговор, заходи. Ушла Тюлениха, не сомкнет глаз, будет до утра надежду свою тревожить. А вдруг?.. Три года не было ей писем с фронта, пропал без вести, как сообщила казенная бумага, муж Степан, состарил этой черной вестью когда-то самую веселую и голосистую на нашей улице Настюху Тюленеву. Вот и ходит она теперь до каждого, кого война живым домой отпустила. Не сидится мне на печи. И послушность свою отцу показать хочется, и вниз приспело. Там ребята уже картофельную повинность отбыли и к рюкзаку присоседились. Сквозь плотный потертый брезент пытаются содержимое вызнать. Добро, что никто их проделку не видит. Не утерпел, шепотом ябедничаю с печи: — Баб, а они к мешку норовятся. — А ну, кыш отседова, — замахнулась та тряпкой. — Ишь чего удумали, нет на вас управы. Солдатский-то ремень побольнее дедова. Сыпанули ребята от рюкзака, и лишь брат Юрка догадливо показал мне увесистый кулачок. Но теперь-то я никого не боюсь: ни братанов своих, ни ребят с чужих улиц — батька-фронтовик мне заступа. А дед по наказу бабки опять на улицу наладился: перекинуться через оконце словом с моими родителями — не угорели бы ненароком. И не успел отец дверь отворить, как бабка с ковшом навстречу метнулась. — Ну как побанилось? — Хорошо, мама! Сколько об этом мечталось. — Испей вот рассольцу брусничного. Не застуди только горло. Нет сейчас для нее минуты лучше этой. Вот он сон-вещун, в самую руку. Будто идет она полем бескрайним, ромашки качаются в пояс, а по синь-небесью плывет встречь белый лебедок… И мать моя сияет счастьем, молодая, красивая — гляжу с печи, не налюбуюсь. Протягивает отцу гимнастерку, чтобы при всем параде к столу садился. — Пап, — напоминаю о себе легонько. — А ты еще все тут. Не подморозил тыловую часть? Ну давай, расправляй крылья. Без страха ныряю к нему на руки. Из таких не выпадешь, не обронят… И вот все шумно рассаживаемся за столом. Сегодня всем здесь место — и взрослым, и нашему брату. А стол — не оторвать глаз. Горкой — из ржаной мучицы хлеб, золотистая запеканка, подбеленная молоком похлебка, соленья, начесноченные ломтики сала, творог в сметане, подтаявшая клюква… Э, да что там говорить. Когда еще такое будет. И пускай разом умнется многодневный припас, разве беда. Настоящая беда, она там, в окопах осталась. А отец вот он, живехонек. Жалеть ли тут сало и сметану. В довершение ко всему выметнула бабкина рука из-под ситцевого фартука бутылку довоенной водки. К сургучной нашлепке прилипли мелкие крупинки песка. — И-эх! — только и вымолвил от удивления дед. Где, в каком тайничке всю войну отлежалась, дожидаясь вот этой минуты — одной только бабке известно. Булькала водка о граненое стекло. Подрагивала у деда жилистая рука. И все наше многочисленное застолье следило за тем, как он наполняет стаканчики. Лишь одна мать припала к отцову плечу и, казалось, не замечала щедрого угощения… — Что ж, солдат. — Поднял дед свой стаканчик. — Спасибо, что пришел, что сумел одолеть супостата. А Лёва, брат твой… — Потянуло у деда губы. Неуж заплачет? — А! — Он взмахнул свободной рукой, будто уронил подрубленное крыло. — Знамо тебе, как ждали этого часа? Все вот тут, и бабы, и мошкота… Он неловко потянулся через стол. Заиграло звоном стекло. — Чего уж, за сына и я сполна отгуляю. — Широко улыбнулась бабка, белозубо. — Моя сегодня минутка. Она до дна опорожнила стаканчик, вилкой поймала груздяной пятачок. — Сдюжили, сынок, и ладно. Вон их сколько обогревать пришлось. — И вскинула над столом руки. — Все у сердца лежали, родная кровинка. А теперь уж не пропадем, всех на ногах удержим. Ну, чего присмирели, нажимай на еду, набивай пузо. И ваш сегодня праздник. Набивали мы животы щедрыми разносолами, гомонили вместе со взрослыми. — Пап, а пап, — не утерпел все-таки я. — А что у тебя в заплечном мешке? — Эх, елки зеленые, память будто фугасным снарядом отбило. А ну, братцы-кролики, несите до меня ранец. И вот разверзся этот загадочный мешочный клад. Первой появилась на свет ярко-зеленая шаль и легла на плечи бабке. — Вот уважил, так уважил. Только куда мне, старой, этакую красу? — А ты пройдись, пройдись, мать! Покажи сыновний подарок, — засветился от удовольствия дед. — Раньше-то, помню, щегольнуть любила. Проплыла бабка павой вкруг стола, в глазах — счастье, лицо доброе, светлое. Повела плечом, будто собралась лихо притопнуть ногой. — Хороша! — выдохнул кто-то восхищенно. Не поймешь, про бабку или про шаль. — А это тебе, Любаша. Неудержимо хлынул ей на колени тонкий шуршащий материал, резанули в глаза оранжевые цветы, рассыпанные по зеленому весеннему полю. И я увидел, как крупными дождинками покатились из материнских глаз слезы. Неужто и радость в слезах бывает? Тетке Лизе тоже достался отрез на платье, деду — пачка бездымного пороха и стеклорез с блестящей алмазной точечкой. На время содержимое стола было забыто. Все с удивлением и восторгом рассматривали подарки. И лишь я нетерпеливо ждал своей очереди. Легли в бабкин передник две пачки хозяйственного мыла. Дед уже попыхивал козьей ножкой, заправленной иноземным табаком. И вот наконец развернул отец байковую портянку, и я увидел вороненый ствол и рубчатую коричневую рукоятку. Пистолет! Если бы не виднелась из ствола серая пробка, его бы можно было принять за настоящий. Так он был неотразимо хорош. — Это мне? — не поверил я. — Тебе, сынок. Играй. И пускай только такая память о войне будет в твоей жизни. Я прижался губами к его теплой щеке и, не в силах больше владеть собой, выскочил на кухню. Вскоре туда явилась и вся наша «мошкота». Хвастать подарками. Братьям достались губные гармошки, Нонке — плюшевый заяц, Вальке и Женьке — костяные свистки. Вдобавок они принесли круглую жестяную коробку с липучими леденцами и тут же устроили дележку. Зажав в кулаке свою долю, я снова проскользнул в горницу. За столом шел оживленный разговор, поименно вспоминали сельчан: кто из них воротился, кто увечен, а кому и вовсе не удалось дотянуть до Победы. И получалось так, что вкрутую осиротело село, из каждых четырех солдат трое остались в дальней сторонке и уже никогда не увидят родных улиц, подступившего к поселку бора, не услышат голосов своих близких… Такую тяжелую дань приняла проклятая война из нашего таежного уголка. А за окнами, в палисаде, постанывала от мороза черемуха, скреблась о стекла стылыми ветками. Уходил прочь последний месяц сорок пятого года…МЕДОВАЯ БЕРЕСТИНКА
Приехала мать глубоким вечером. И недалеко по местным меркам райцентр от нашего поселка — всего каких-то полста километров, — но без приключений их не осилишь. Да и позднеавгустовские дожди изрядно подквасили дорогу. А у латаной заводской полуторки, что у ленивой кобылы, у каждого поворота причина для остановки найдется. Так что пассажиры порой пешим ходом быстрей добирались, оставляя шофера бедовать на пару со своей машиной. Столь дряхлой и ненадежной, что ее и на фронт брать отказались. Мать мы ждали в тайной надежде, что привезет она прозрачные, похожие на радужные стеклянные осколочки, леденцы, клюквенный напиток в бутылках, а может, и ржаные пряники. Все-таки райцентр, а не забытый богом глухой таежный поселок. И вот мать приехала, и мне с братьями нежданно-негаданно подфартило. Открыла мать свою старенькую сумку, купленную, видно, еще в счастливые довоенные годы, и высыпала что-то бабке в передник. А что, я сразу и не понял. Терпко-медовый аромат увядающих лесных трав властно перебил все запахи нашей кухни, наполнил меня радостно-тревожным волнением. Откуда, из каких заморских краев появилось оно здесь и легло мне в ладонь? Теплое, с тонкой прозрачной кожурой, до отказа напоенное яркими красками осени. Я ласкал крутой малиновый бочок, принюхивался к неведомому аромату. — Смотри-ка, чудеса да и только! Должно быть, добрые руки обхаживали яблоньку, я от одного запаха пьяная стала, в голову так и ударяет. Кажись, с четырнадцатого года таких не видала. Бабка склонилась над фартуком, прикрыв на миг свои отбеленные временем глаза. — И я не поверила. Уже совещание закончилось, а тут заведующий районо и объявил: по килограмму в руки. И деньги к случаю погодились, — виноватится мать, что не смогла привезти яблок больше. Выдав нам по яблоку, бабка остальные бережно увязала в платок и убрала в сундук. Не все сразу. По ломтику с утренним чаем — и взрослым диковинки отведать хочется. Я с завистью гляжу, как впиваются зубами в сочную мякоть мои братья, глотаю слюну, но надкусить свое яблоко не решаюсь. Хочется отдалить этот миг, продлить ожидание. Да и разве можно вот так, с хрустом и чавканьем расправляться с неземной красотой. Вечер тянется как во сне, братья подтрунивают надо мной, хлопают по взбухшему карману, где пригрелся солнечный фрукт — моя несъеденная пайка. Но я терплю, смотрю, как рассаживают они в кадушке с фикусом блестящие коричневые семечки, надеясь, что к весне проклюнутся те зелеными ростками. А мои семечки еще там, в медовой мякоти, за золотистой кожуркой. Не доверяю я братьям и все никак не могу придумать, куда же спрятать яблоко до утра, чтобы показать его друзьям, дать и им возможность полюбоваться необычным подарком. Знаю, что не посягнут братья на мою долю — с этим у нас в доме строго, — и все равно боюсь чего-то, сторонюсь их, не отвечаю на беззлобные шутки. Наконец ныряю во двор, в душный августовский сумрак. Теплом отдает нагретая за день земля, ласкается к голым ступням бархатистая конотопка. Источенным рыжим оселком зависла над крышей ущербная луна. Света от нее почти никакого, и потому небо кажется замалеванным густой синей краской. Качаются в нем холодные голубые искорки, и где-то далеко-далеко, под этим же небом растут чудесные деревья — яблони, усыпанные сладкими плодами. Только там, конечно, и солнце жарче, и звезды намного крупнее — по кулаку, и воздух прогрет до теплой истомы. И все там, поди, не так. Ведь покрывается по весне бледно-розовым цветом в палисаднике наша ранетка, но яблочки у нее кислые, мелкие — чуть побольше горошин. И лакомится этой малосъедобной кислятиной всю зиму разная птичья мелочь. Нам же от этой ягоды утехи мало. Одна резь в животе. Я мучительно думаю, где притаить яблоко до утра, потом решительно захожу в темный предбанник, где хранится берестяная растопка. Наощупь нахожу хрустящий завертыш, распрямляю его. Берестяная потайка с яблоком надежно умещается на полке, под самым потолком. Вот так будет надежней. Спим мы все вповалку, на полу, застилая его старым тулупом и разной верхней одежонкой, укрываемся длинным суконным одеялом. Братья давно уже посапывают, а мой сон чуток и неглубок, я готов очнуться от любого шороха. И лишь под утро проваливаюсь в зыбкую пустоту, и гаснут в небе горячие звезды, а ветерок волнует теплым дыханием мое лицо. И вижу я на широком подворье дерево, так похожее на нашу ранетку, только ветви его ломятся от тяжести напоенных солнцем яблок. Я радуюсь, что их так много, хватит всем: моим братьям, ребятам с нашей улицы и даже взрослым. Не по ломтику к чаю, а по целому красивому яблоку. И еще сколько останется. Лишь бы все их собрать. И я тороплюсь, срываю одно яблоко за другим, но ветви все также гнутся от нелегких плодов… Кто-то живущий во мне нашептывает, что все это сон и, едва я очнусь, придуманная мною картина исчезнет. Я ощущаю эту тревогу и не хочу просыпаться. Но сон, к сожалению, проходит. Уже давно за окнами плещется яркий солнечный свет, постель рядом со мной пуста — братья с дедом еще с вечера уговаривались идти в лес за валежником. И на кухне пусто, нет на этот раз у печки бабки, какая-то нужда увела ее из дома. Примечаю на столе стакан молока, накрытый тонким ржаным сухарем. Мой завтрак! На одном дыхании выпиваю молоко, с хрустом дроблю зубами усохшую в печи корочку. Сухарь мне кажется бесконечным, потому что я не глотаю размокшие во рту крошки сразу, а сосу медленно, как леденец, продлеваю удовольствие, и это на какое-то время заглушает постоянно напоминающее о себе желание что-то съесть. Во дворе тихо, тепло, уютно. Ночью прошел небольшой дождик, и теперь намокшие черные крыши парят на солнце, искрится каждой слезинкой густая мелколистная конотопка, янтарно светятся бревенчатые стены баньки и амбарушки. С огородов тянет горьковатым сытным дымком — дотлевает собранная в кучи и подожженная с вечера картофельная ботва. Вот и подкатило незаметно залетье, незабываемая пора листопада. Тополя на поселковых улицах, черемухи в палисадах стоят будто живые — налетит заблудший ветерок, и затрепещут каждой веточкой, теряя пожухлые листья, устилая ими песчаную землю. Август — месяц прощания с рекой. Цветет вода, лениво тянет течением зеленые хлопья. Матери нас пугают водяной чесоткой, но мы еще частенько нарушаем их запрет, в теплые полдники упрямо лезем в набравшую остуды воду, выискивая редкие чистые омуты. Но это уже скорее от бахвальства, от молодой всепобеждающей уверенности, что хвори придуманы для кого-то другого. И каждый день на закате лета нам в особую радость, в усладу нашей ребячьей жизни. Дни тянутся как липучий сотовый мед, на все хватает времени: набегаться до одури, побродить с корзинкой по лесу, выкопать в огороде заданную полоску. И все-таки томит тревожное предчувствие нудных обложных осенних дождей, грядущих холодов. Кажется, и улица затаила дыхание в ожидании скорых перемен, все вымерло, ничто не стукнет, не скрипнет… Нет, на нашей постоянной сборне у старой школы бунчат невнятно голоса. Значит, и мои друзья там — где им еще быть в такую пору. То-то удивятся они, когда я ненароком достану яблоко. Наша сборня — широкая завалина на солнечной стороне школы, длинное здание которой опоясано невысокой огорожей из тонкого горбыля, забитой доверху рыжими перепревшими опилками. Древесная труха предохраняет нижние венцы школы и деревянный пол от промерзания в зимнюю стужу, а в осенние дни намокшие опилки «горят», хорошо греют наши костлявые зады, и мы частенько коротаем на завалинке время, говоря и споря о всякой всячине, но больше всего о недавней войне. На приветном месте на этот раз собралось человек двенадцать. И мои закадычные дружки, Валька с Рудькой, здесь. Чуть в сторонке примостилась Парунька. Среди «чужих», не с нашей улицы, я сразу приметил похожего на выпавшего из гнезда взъерошенного галчонка Финку-Анфиногена, Костю Седого, прозванного так за белые, как взбитая овечья шерсть, волосы, и Веню Молчуна. Этот всегда на пару со своей думой. За день и словечка от него не услышишь. Как говорится, нашел — молчит и потерял — молчит. Но про себя Венька всегда что-то твердо знает, и это делает его для всех непонятным, даже загадочным, и мы с ним почти никогда не ссоримся, наоборот, готовы напроситься на дружбу. Еще на подходе услышал я въедливый голос Котьки Селедкова. — А мой тятька сказывал… Котьку пацаны не любили, за глаза и в глаза звали Селедкой и играть принимали в последнюю очередь, и то, если не хватало для ровного счета игроков. Все у Котьки было как-то наособицу, не так, как у других ребят. Какой-то плоский вдавленный меж висками лоб, морковного цвета брови, утиный нос, вислые губы и будто опаленные огнем ресницы-коротышки. И глаза на этом лице жили хитро, каждый сам по себе: то сбегались к переносице без причины, а то разбегались в стороны. Разговаривает Котька с тобой, а тебе невдомек: на тебя он уставился или высматривает что-то в соседнем проулке. В общем, и мы все красотой не блистали, а Селедку она и вовсе обошла стороной. Зато карманы у Котьки всегда были чем-то набиты, но мы старались не замечать, как он слюнявит палец, ныряет им в карман, а потом обсасывает налипшие на него белые крупинки сахара. Чтобы кто — не дай бог! — не попросил у него самую малость, Котька предусмотрительно носит в другом кармане щепотку серой соли, чтобы в любой момент ответить: — Да это у меня сольца. Мне фельдшер для зрения прописал. Вот и маюсь… Но больше Котьку, наверное, не любили за его отца, который на войне занимался необычным делом: хоронил убитых наших бойцов и немчуру и, по слухам, на этом деле сильно «погрел руки» — привез два чемодана разных вещей и целую коробку ручных и карманных часов. Может, про коробку и врали, но то, что по вечерам Котька слушает, как тикают в пустой кринке часы, видел Рудька собственными глазами. — И тогда тятька того фрица срезал из своего трофейного пистолета — «вальтера». Ему генерал за это руку жал. — Че загибать-то, — не утерпел я. — Твой отец мертвяков закапывал, а живого фрица и в глаза не видал. Котька на миг опешил, а потом его лицо стало под стать его морковным бровям. Он соскочил с завалинки. — Ну, если мой тятька врет… — Котька сжал кулаки, злые глаза зелеными горошинами катнулись куда-то вглубь глазниц, — тогда… тогда твой батяня-фронтовичок всю войну портянки на кухне сушил. — Портянки сушил? — завелся я. — Да у него сорок три зарубки на снайперской винтовке. Это тебе, Селедка, не кисло. Как немчуру кокнет, так и зарубка. Бычились мы с Котькой друг против друга, подскакивали молодыми петушками, и ребята уже разместились кругом, давая нам простор для драки. Пока всё по-честному, и кто кого оскорбил сильнее — нам разбираться Котька выше меня на голову, но я в драке увертлив, а за отца и вовсе постоять могу крепко. Нам обоим не хватает последней, самой злой капли, чтобы в ход пошли кулаки. — И пошто, если мой папка портянки сушил, у него звезда и семь медалей, а у твоего на груди ветер свищет? — Он, может, их потерял, когда в поезде ехал… — Котька заметно смущен: и сказал бы еще что, да нечего. О солдатских наградах каждому в поселке известно. Не любил мой отец с ними по улице ходить-побрякивать, но мать иной раз и приневоливала. Особенно по первости, когда он возвратился и всяк в гости позвать старался. А Котькин отец хотя и щеголял в хромовых сапогах и синем кителе при желтых погонах, да звезд на них не было. Встретили его как-то фронтовики, осмеяли за петушиный наряд. Ни офицер, ни солдат. Так, середыш без пуговиц. Вроде и при гвардейской части состоял, а в гвардию не сподобился. Но слова эти от фронтовиков исходили, и не мог я это объяснить Селедке, уколоть его похлеще портянок, но и у меня про запас козырь имелся. — А еще мой батька в самом главном немецком городе Берлине, на самом важном доме расписался, и теперь все, кто прочитают, про него и про наш поселок знать будут. Раззявил Котька рот, а закрыть забыл, будто карась, что на песке уснуть задумал. Встал ко мне боком, раскорячил ноги — вот-вот вдарит. Я тоже ногами покрепче к земле приспособился, склонил голову, надеясь поймать Котьку «на калган» и сразу расквасить ему нос. И быть бы неминуемо драке, кабы не Рудька. Протиснулся он между нами, раздвинул плечом. — Чистые петухи! Поцапались и хватит. Радовались бы, что отцы живехоньки возвратились. Мне вот и ждать некого. А я бы ему и без медали рад был. Лишь бы пришел… И враз обмякли мы с Котькой, будто вынули из нас какие-то стержни. Подумаешь, медали, гвардия… У друга горе покрепче едучей редьки, не от кого ему рассказы о солдатских подвигах слушать и каждое слово о войне мгновенно стирает с его лица улыбку, туманит слезой глаза. — Ну, ладно, — первым протянул мне руку Котька. — Замиримся, что ли? Про портянки, это я так. Не обижайся. Знамо, у твоего отца наград на любую генеральскую грудь хватит. Про то и тятька сказывал. Мы хлопнули ладонь о ладонь, скрепляя нарушенный мир, и я неожиданно для себя вытащил из кармана яблоко. Казалось, сбудься сейчас любое из придуманных нами чудес, оно не произвело бы такого впечатления. — Дели, — протянул я Рудьке теплый краснобокий плод. Он на миг оторопел, видно, не понимая, что я ему подаю, потом бережно принял яблоко в сложенные лодочкой ладони и поднес его к глазам. — Смотри-ка… И вдруг я увидел устремленные на меня отовсюду глаза ребят. И жило в них какое-то тревожное ожидание. — Как делить? — опомнился наконец Рудька. — Всем по ломоточку, — преодолевая всебе какие-то преграды, решительно ответил я. Единственный настоящий складной нож с двумя лезвиями и коротким шилом был все у того же Котьки Селедкова. Он его не каждому и показывал, не то чтобы давал построгать какую-нибудь палку. Но тут Котька безропотно достал из кармана складешок, сам вывернул из укрытия зеркальное лезвие. Через минуту все было кончено. Ребята сгрудились вокруг меня ошеломленные, благодарно потерянные. И лишь сладкий тонкий аромат, так непохожий на здешние запахи, исходил от наших ладоней, витал вокруг нас… Как-то в холодную зимнюю пору, когда снега надежно выбелили все в поселке, мы с бабкой привычно встречали утро на нашей кухне. Расшевелив пепел в загнетке, бабка шебалой подгребала мерцающие, не остывшие за ночь угольки под штабелек сухих березовых поленьев. А потом достала из-под лавки свившуюся в трубочку берестинку и уже хотела положить ее на уголья, да задержалась. — Ишь ты, как медом пахнет. С чего бы это? — И, догадливо посмотрев на меня, вздохнула. — Эх, времечко непутевое. Не жизнь — полынь при дороге. И когда это кончится? Сластинки ребята не видят. Она поднесла к глазам уголок фартука, будто подловила где-то соринку. Молча прошла в горницу и открыла зачем-то сундук…У ИРИСОК ВКУС ОСОБЫЙ…
Первый велосипед, как ни странно, появился у жившего рядом со школой Генки Савинова и наделал среди поселковой ребятни большой переполох. Хотя чего тут странного, был Генкин отец спор на руку, мастерил столы и табуретки, а для тех, у кого зудил лишний рубль, выполнял заказы и посерьезней. Например, кухонный буфет или этажерку. Свежая послевоенная жизнь захватила своим азартом многих. Углядели сельчане скудость своей обстановки — в войну-то больше об еде думалось, — и потянуло душой к новым наличникам, да чтоб по тесовой обшиве — резной узорчик, а на верхнем окладе — белые лебедочки. Символ семейного счастья. Кто его не желает. Ну, а в дом — шифоньер, диван с ватными подлокотниками, этажерочку на резном подставе, чтобы было куда патефон поставить, пустые флаконы из-под духов ну и разную глиняную лепнину, до которой бабы всегда были охочи. В общем, вовремя разглядел Михайло Савинов, Генкин отец, общий интерес, обратил его себе на пользу. Но тут надо быть справедливым: всяк при дереве живет, да не всяк в нем живинку увидеть может. А Михайло узор понимал, теплоту древесины чувствовал. Вот и прикипел к прибыльному делу, ходил по деревне, поскрипывая деревянной ногой собственной работы, предлагал свои услуги. Нехотя расставались хозяйки со скопленной денежкой, не ушедшей на многочисленные налоги, но какой игрок без азарта — каждая норовила поперед соседки справить деревянную обнову. Знай наших. Совсем, как в старинушку, хоть на вершок, а мои ворота выше. Что ж, и Михаилу винить особо не стоит цены на свое рукотворье (фронтовая закваска в нем осталась) установил твердые и по тем временам вполне доступные. Столько-то — задаток при сговоре, столько-то в расчет — за готовый товар. Этой вот трудовой хитринкой и создал Михайло излишний капиталец, захрустели в кармане бумажки, а коли так, решил чем-нибудь удивить деревню. Отца Генки, характер его и думки понять в то время было не по моим силенкам. А его самого опасался, особенно скрипучей березовой самоделки. Идет он улицей, приволакивает свою похожую на перевернутую бутыль ногу — прячься в садочке. Этот инородный для Михаилы предмет, притянутый ремнями к живой его плоти, вызывал в нас какой-то суеверный ужас. А чего бы бояться, попробуй ускачи за мной на одной-то ноге. Да Михайло ни за кем и не бегал, а наоборот, если встретит кого из нас, улыбнется тонкими обескровленными губами: — Живешь, пострел? Ну-ну, живи. — И скрипел по улице дальше. А вот его Генка и в забавах наших всегда хитрил. Играем, бывало, в прятки, оговорим заранее все места, где можно, а где нельзя хорониться, всех найдут — застукают, а Генки нет. Час ищут, другой, кое-кто и матюгнется: «Где это Липовая Нога?» — а он спокойненько дома сидит, из самовара чай хлюпает. Били его за это, конечно, по неделе на игрищах не замечали. Будто и нет его. Такой уговор держали. Валька называл это непонятным словом «бойкот». А что для пацана может быть страшнее этого самого бойкота? Сон потеряешь, от куска хлеба откажешься. Нет, наповал сразил нас Генка. Забыли мы про все его подлянки, сбежались вечером к школе, где вихлялся на велосипеде Генка, а сзади услужливо поддерживали его несколько ребят, не давали упасть. Велосипед поблескивал новой краской, горел голубыми и алыми огнями, а спереди, под рулем, на серебристой бляхе сияли буквы «МИФА». Но больше всех поразил звонок. Сделав неровный круг, Генка надавил пальцем на металлический язычок, и тогда на притихшей площадке раздалось заливчатое: триль-триль… — Расступись, народ! — закричал в упоении Генка, хотя на его пути никого не было. Подавленные, мы сидели на тесовой завалинке и с тоской смотрели на разноцветное чудо. А потом случилось то, что внесло сумятицу в наш дом и дома моих друзей, а я впервые в жизни был наказан матерью, и не как-нибудь, а принародно. Научившись немного ездить, Генка притормозил около нас, оглядел всех и сказал: — Кто хочет? Мы не поверили своим ушам. Генка, у которого не выпросишь на жевок хлебной корочки, предлагает покататься. — А можно? — приподнялся с завалинки Валька. — Складешок давай. — Зачем тебе складешок? — не понял Валька. — А то как. Велосипед — вещь дорогая, больших денег стоит. Его ненароком и сломать можно, — повторил Генка явно не свои слова. — Ты — мне, я — тебе. Идет? Валька молча долго смотрел поверх Генкиной головы, а потом решительно полез в карман. За неделю все наши любимые вещицы перекочевали к Генке, только мне не хватило сил расстаться с отцовским подарком — игрушечным пистолетом. Ездили мы изогнувшись в три погибели под рамой, падали, когда цепь «зажевывала» брючину, но на разбитые локти и коленки не обращали внимания, как и на Генкины советы — он обычно в это время сидел на завалинке и жевал кусок пирога или краюшку хлеба, принесенную кем-нибудь из нас. С седла до педалей доставал только Рудька, чем очень гордился. Ну, а теперь самая пора рассказать о том, о чем вспоминать не хочется, даже спустя многие годы… До сих пор помню послевоенные конфеты — ириски, уложенные в коробки рифлеными брусками, которые можно было ломать на маленькие квадратики подобно сегодняшнему шоколаду. Положишь такой кусочек в рот и долго млеешь от неповторимого вкуса сладких сливок. Откуда узнал Липовая Нога, что в соседнее село Ниапское привезли конфеты, я не знаю. Только вечером он гоголем подкатил к завалинке на своем велосипеде и сказал заговорщицки: — Завтра в Ниапское решил прокатиться. Там, сказывают, ириски залежались. Кто желает проветриться, запасайтесь деньгами. Рудька решил свои проблемы просто. Накануне его мать получила в школе зарплату, и он, улучив момент, открыл чемодан и выдернул из пачечки двадцатипятирублевую бумажку, для удобства скатал ее в рулончик. Показывая мне радужный катыш, сказал с удовольствием: — Всё, еду с Генкой. А у тебя как дела? Как мои дела? А хуже некуда. Тоскливые дела. Знал я, что отец и мать надумали отделяться, выходить из большой семьи и потихоньку прикапливали деньги на деревянный сруб. Так что просить их на забаву просто стыдно. Вот если у бабки… Заветные потайки ее, разные узелки и завертыши я знал наизусть. Да и куда ей было спрятать сокровенное от наших глаз. В кухне весь передний угол под иконой занимал массивный, крепко схваченный полосовой жестью сундук. Еще два таких же старинных сундука, только поменьше размерами, горкой возвышались в горнице. Выходила замуж бабка еще при разных там царях, была из семьи зажиточной и богомольной. Может, потому и подфартило деду на богатую невесту, что был он на стекольном заводе в почете, ходил в мастерах-стеклодувах, каких у заводчика, охочего на разные стеклянные диковины-поделки, было не так уж и много. Бабкино приданое — разные там шубы из плюша, шнурованные ботинки на каблуках, вязаные платки частью были побиты молью, а что уцелело для носки, перешло к заезжим казахам за невеянное зерно и синежильную баранину. Голод требовал своей дани, и бабка с большой печалью расставалась с каждой вещью. Вот почему и хранила ключи с особым усердием, пряча их от нас то под половик, то в кладовку, то в пустой горшок, что порой и сама забывала место своей потайки. Ключей было несколько. Особенно привлекал меня один — от кухонного сундука. Длинный серебристый стержень с замысловатой резной нашлепкой на конце венчал литой узорчатый поворотный диск, который едва умещался в моей ладони. Когда бабка осторожно вставляла его в створ замка и медленно поворачивала, сначала слышался щелчок, а потом раздавалось нечто музыкальное, будто скользила по истертой патефонной пластинке подтупленная игла. Но понять мелодию все же было можно. «Плавно Амур свои волны несет…» Долго в тот день пережидал я бабку, напрашивался на всякую работу, пока дождался нужной мне минутки: взяла бабка сито и отправилась искать яйца по куриным гнездовьям. Сунул я руку в запечье, где под тряпичной утиркой грелись оставленные бабкой ключи. Мне казалось, что замок на этот раз хрипит свою песню так громко, что бабка непременно бросит выискивать в пригоне куриные кладки и прибежит домой. Когда она возвратилась, я сидел на печи с лицом краснее морковной запеканки, елозил задницей по небольшому тряпичному свертку. Бабка подозрительно зыркнула в мою сторону. — Что-то ты больно смуреный. Поди опять сметану с кринки слизнул? — Да не-е, в животе что-то бурчит… — Вот вспучит тебя когда-нибудь, окаянного, узнаешь, почем фунт лиха. То боярки ком сметелишь, то черемухи с костями наглотаешься. Эвон карманы-то у штанов опять малиновые, не достираться. И когда только пучину свою набьешь? Ниапское, куда мы собрались за ирисками, село намного меньше нашего, дворов под тридцать, зажатых со всех сторон такими высокими соснами, что, кажется, солнечный свет касается окон лишь в короткий полуденный час. А присоседилось село рядом с той же рекой Ниап, что пролегла голубой лентой под огородами наших поселковых домов. И хотя Ниапское не у черта на куличках — всего-то до него семь километров, но всякий раз туда не ускочишь. Может, потому и залежался там названный Генкой сладкий товар, столь ходко раскупаемый в нашем поселке. Собрались мы, как и договорились, у моста. Сидели на толстых занозистых плахах, опустив над журчащей водой босые ноги. Явилось семь человек, кто с рублем, кто с мелочью, лишь мы с Рудькой (у меня в узелке покоились восемь мятых рублевок!) чувствовали себя богачами. Прямо подо мной у толстых сосновых свай вода пенится, бурлит, и сверху видно, как завороженно толкутся около этих водоворотиков стайки черноспинных пескаришек. Светло-зеркальную гладь стремительно чертят длинноногие жуки-бегунцы. С моста мне хорошо видна плотника, спаявшая вместе два земляных вала. Каждую весну шальная вода находит слабину в плотнике, выворачивает вбитые колья, уносит вниз ивовые плетенки, камни, наспех брошенные в проран мешки с песком. Но вода нужна заводу, и, чуть спадает ее уровень, люди снова соединяют горбылем сваи, восстанавливают сорванные в шлюзе тесовые щиты-задвижки, подвозят к разграбленной перемычке песок, липкую глину. На косогоре, над плотиной, стоит завод — большое многогорбое здание, накрытое разнозаплатной крышей, а чуть дальше — лесопилка, подпертая желтой горой опилок. По всему высокому левобережью разбросаны многоквартирные бараки, деревянные избы, бани, пригоны, подпирают небо могучие тополя — это и есть наш поселок, от которого во все стороны паутинками разбегаются по окрестным борам дороги и дорожки, тропы и тропочки, исхоженные нашими ногами. Одна из них начинается прямо от моста и поведет нас к заветному Ниапскому. — А вдруг не явится, хитрован? — нарушает тишину Рудька. Видать, денежный рулончик в кармане не дает ему покоя. — Тогда вечером ему нос расквашу, припомню ножичек, — мрачно произносит Валька. — Песок жрать будет. — Да вон он пылит, — обрадованно приподнимается с настила Петька Григорьев, перекинув из ладони в ладонь несколько запотевших монеток. Из переулка вывернулся Генка Липовая Нога, лихо крутя педали, одна рука на руле, вторая — поправляет фуражку. Форс, конечно, для нас, серой скотинки, — смотрите, мол, как я езжу. — Батька крапиву поросенку дергать заставил, все руки прижалил. — Он показывает нам ладони. — Насилу в кадушке с водой отмочил. А вы небось заждались? Было раздражение и нет его, улетучилось при виде велосипеда. А Генка, не слезая с него, спрашивает: — Сколько денег наскребли? — Да на ириски хватит, — довольный ответствует Рудька. — Конфеты само собой, а велосипед — особо, он тоже есть просит. И опять мне слышится в голосе Гении рассудительный голос его отца, одноногого Михаилы. — Мой уговор такой: триста шагов — рубчик. Кто хочет, порулили. — Генка, а у меня четвертная неменяна. — Рудька протянул ему скомканную бумажку. Глаза у Генки блеснули. Он бережно стал ее разглаживать на ладони, потом сложил пополам и сунул куда-то за пазуху — видать, имел там потайной карман. — Садись, Рудик, первый, а за денюжку (он так и говорил всегда, с каким-то особым почтением: денюжка) не боись. Вон до поворота доедешь, две нормы. Два рубчика мне, остальные пока твои. Завихлял по дороге Рудька. И нам дорога не в маету, следом бежим веселой стайкой, кричим каждый свое, улюкаем, забыв про жестокие Генкины условия. А Рудька, которого пленила езда, орал азартно, не оборачиваясь: — Я до муравейника, я до той вон сосны… И Генка тоже кричал на бегу: — Четыре рубчика, пять… Давно поселок остался позади, дорогу обступали высокие сосны, у подножий которых белые мхи сменялись зелеными, хвойная осыпь чередовалась с ярким густотравьем. В другое время сыпанули бы мы вдоль дороги, вспугивая молодых копалух, задерживаясь на высветленных от ягоды черничных еланках, срывая попутно для забавы гроздья рябины, ломая выстоявшееся будылье, перебрасываясь шишками, пиная перезрелые мухоморы… Но сейчас, захваченные азартной минутой, в три раза быстрее коротали дорогу. Промокла от лихой езды по зыбким перегоревшим пескам сатиновая рубашка Рудьки. Елозю и я по раме — с мягкого сиденья не достают пальцы ног до педалей. Подобрал до колена штанину, не исшамкало бы ее цепью. Солнце катится над дорогой, не успевает сушить взмокшие спины. Перекочевали в бездонный Генкин карман и мои рубли, и монеты Петьки Григорьева, и копленное месяцами серебришко других ребят. И лишь Валька отказался ехать, хотя не раз я видел, как рукой он что-то нашаривал в кармане своих брюк. Жердевая городьба огородов вынырнула из леса нежданно, подступила к самой дороге. Вот оно и Ниапское — темноватые рубленые дома под двускатными тесовыми крышами, высокие глухо закрытые ворота, двухметровой высоты заборы. Сгрудились, кучно идем чужой улочкой. Впереди всех, конечно же, Генка, под ручку со своим велосипедом. Вынырнул из одной калитки черноволосый малец да и застыл с открытым ртом: для него велосипед и вовсе диковина, это у нас от него зады пылают огнем. — Вот и магазин, — сказал кто-то из ребят. Ни вывески, ни какой другой приметы. Я бы прошел мимо и не догадался. Небольшой, но высокий, венцов в тридцать дом с тремя узкими оконцами, крутой ряд ступенек ведет к распахнутой двери. Внизу, за двустворчатыми воротами, вероятно, находится склад. Иначе к чему бы такой тяжелый замок. — Посторожите велик, — разрешил нам Генка, — я сейчас… И застучал сандалиями по узким плахам крыльца. Ушел в магазин и Валька. Мы присели на лежащее у стены бревно — нам в магазине делать было нечего. Неподалеку от нас собралось несколько ребят равного с нами возраста. Они о чем-то перешептывались, и мне это не понравилось. Мы молча поглядывали в их сторону, готовые к любым козням. Но, видно, силенок для драки с нами у них было маловато, и они понимали это. Наконец на крыльце показались Генка с Валькой, и мы облегченно вздохнули. Генка извлек из кармана какой-то лоскут, оказавшийся мешочком, опустил в него кулек, аккуратно завязал его веревочкой, а потом приладил этот сверток к багажнику. Между тем к ниапским ребятам, прибыла подмога. По мокрым волосам я понял, что прибежавшие ребята с реки, с купанья, причем у некоторых в руках были палки, а у одного настоящий пастушеский кнут. Валька, опустив в карман небольшой кулечек, поднял с земли обломок гнилой доски, я углядел на дороге кусок засохшей глины. Было ясно, что назревает драка, только вот кто ее начнет… Если бы не Генкин велосипед, сразу за магазином можно было нырнуть в спасительный лес, благо он рядом, а там нам и черт не страшен. А так наша дорога обреченно проходила мимо этой враждебно настроенной ватаги… Через огородные прясла выглядывали на улицу желтолицые шляпы подсолнухов. И у ниапских ребят, у всех как на подбор, головы с желтизной, отгоревшие от знойного июльского солнца, и потому их кажется намного больше. — Генка, садись на велик и гони прямиком на них, а за тобой и мы прорвемся, — взял на себя командирство Валька. — А вы, пацаны, кучнее держись, тогда никого не сгалят. Может, эта тревожная минута сплотила нас, забыли мы свои обиды на Генку, подсадили его на велосипед и сами плотной стайкой двинулись к желтоголовому разливу. — Бей стекларей — соленых ушей, — раздался звонкий голос, и в нашу сторону полетели камни. Один из них осой ожег мне ухо, но это лишь подстегнуло мои ноги, рядом бежали и что-то кричали друзья, а в центре, оберегаемый со всех сторон, пригнув голову к рулю, катил на велосипеде Генка. Сверкали под ним спицами колеса. Дерзкая атака ошеломила наших недругов. Они на какое-то мгновение отпрянули к заборам, оставив чистой улицу, и этого было достаточно, чтобы мы миновали крайние дома. Они поняли свою промашку и, рассыпавшись по дороге и по обе стороны от нее, начали преследовать нас, осыпая камнями. И мы хватали все, что оказывалось под руками, бросали в их сторону, отбегая все дальше и дальше от села. И никто сначала не заметил, что среди нас нет Генки. Лишь узкий вихлястый след тянулся по песчаной дороге. Возбужденно что-то кричали нам вслед ниапские ребята, грозили кулаками, но мы уже не обращали на них внимания. Еще неизвестно, за кем осталась победа. Молча сидели мы на обочине, окунув ноги в прогретый песок и разглядывая друг друга. У меня из мочки уха капала кровь, у Петьки Григорьева почему-то на коленке оказалась разорванной штанина и вокруг глаза наливался синевой синяк, а сам глаз, подернутый малиновой сыпью, сверкал страшно и отрешенно. Рудька потирал спину, видать, успели его зацепить палкой или достали увесистым камнем. — Я ему как врежу промежду глаз, аж искры сыпанули, — неожиданно похвастал он. — Это когда же ты успел? — Валька насупил припорошенные пылью брови. — Когда тебя бадожиной по ребрам приласкали? Тоже мне, герой — вверх дырой! Поперед всех сверкал пятками. Колупни-ка лучше от сосны живицы. И только тут мы увидели, что у нашего вожака волосы на затылке слиплись от крови. — Больно? — спросил я его. — Не-е, холодит только. — Чем это тебя? — Железякой какой-то. Принес Рудька желтоватый кусочек живицы и пучок ворсистых листков подорожника. Валька выбрал лист покрупнее, вытер его о штанину. — К утру затянет… Он зачем-то понюхал разжеванную зеленую кашицу, затем приложил ее к ранке, а сверху, как сургучную печать, пришлепнул шматок размятой живицы. — Крепче нового кумпол будет. Я с восхищением смотрел на друга. И, хотя каждый из нас, переживая недавнее, чувствовал себя героем, мы понимали, что до Вальки нам далеко. Ведь именно там, в Ниапском, он первым летел на супротивную стенку, а потом прикрывал нас от летящего роя камней. Может, и принял он беду, предназначенную кому-то другому. — А Генка куда запропастился? — вспомнил вдруг Рудька. — Умотнул ваш Генка и звонком не потренькал. Я его, труса ирисочного… В общем, чтобы никто его и в упор не видел, понятно? А это… поделите. — Валька вывернул из кармана помятый сверток, развернул, и на серой оберточной бумаге мы увидели два небольших брусочка коричневых ирисок… Проснулся я рано от какого-то скрипа и напугался. Рядом с печью стоял Михайло Савинов и что-то протягивал матери. — Уж ты прости меня, Люба, и ты, Кондратьевна. Несмышленыши ведь еще. Хотя… Я своему вечор, как узнал, всю шкуру с задницы ремнем спустил. Надо же придумать такое — дружков обобрать до нитки да еще в лесу бросить. Сейчас Рудькиной матери вернул двадцать пять рублей, а эти восемь — ваши. Холодея на горячих камнях, я с ужасом понял: открылась моя воровская проделка. И еще напугали меня материнские глаза. Круглые, как серебрушки-монетки, какие-то чужие… Не помню, каким ветром сдуло меня с печи и я оказался во дворе. Саднило попорченное во вчерашней драке ухо, обида захлестывала меня: никогда не поднимала на нас руку мать, а тут… И поделом, за грехи надо платить. А над улицей летал отчаянный ребячий крик. Кому он принадлежал, и узнавать не надо. Это подколотым поросенком визжал Рудька. Видать, драла его мать отчаянно, выдавая особую меру за каждый рубль неразменянной четвертной.РЕКА ПРОСНУЛАСЬ
Река той весной рано очнулась от зимней спячки, но первым из нас вызнал об этом Рудька. Ошарашенный этой новостью, он примчался к нам ни свет ни заря. Бабка уже привычно постукивала в кути ухватом, дед справлял во дворе свои хозяйские заботы, а я дотягивал во сне последние сладкие минуты. Сейчас, вот уже скоро раздастся незлобивый, но властный бабкин голос: «Тетеря сонная, вставай…» Но вместо этого уловил торопливый Рудькин говорок: — Баб Варь, мне бы Валерку… — Надо же, Валерку ему подавай. Носит тебя нелегкая спозаранок. Еще и петух не певал, а ты уже, опенок, вызрел. — Да это разве рано? Вы вон всю работу уже спроворили, печь протопили. Ребят в школу наладили. В печи и правда потрескивала смолевая растопка, а когда братаны в школу ушли, я и не слышал. — Ладно, ты мне глаза не засти, я не бельмастая, всего тебя насквозь вижу. Что за нужда такая ожгла? — Дело к нему. Да мне на чуток только. — Знаю я ваш чуток. Только за порог и — ищи в поле. А ему сегодня работа означена. Картошку в голбце перебирать, семянки на пророст доставать надо. А Рудька знай свое тянет, голос жалостливый, будто ручеек на перекате журчит, камешки точит — не каждое слово и разберу в его скороговорке. — Да нам… наведаться надо. Совсем ненадолго… Потом я и подсобить могу. Вдвоем-то долго ли? Рудька знает, как растопить показную бабкину строгость. И я торопливо надергиваю брючишки, затягиваю самодельный сыромятный ремешок, опоясавшись им почти дважды; не попадая в рукава рубашки, выкатываю на кухню. Лицо у бабки в малиновом жару, щека припудрена мукой, в руке гусиное перышко. На лавке, на жестяном противне, доходят морковные шанежки, которые она и смазывает этим самым перышком, окуная его в кружку. И только в честь чего она стряпню затеяла? Но сейчас мне не до вопросов, Рудька от порога маячит, подает знак: выйдем, мол, на улицу. Изба томит теплом, вкусными запахами, но раннее появление друга, его встревоженное лицо сейчас мне дороже самой вкусной стряпни. — Баб, можно? — А работа по щучьему велению исполнится? — Так мы… — Не знаю и знать не хочу. И, видя, что я потянулся кулачонками к глазам, поставила на шесток кружку с перышком. — Ну вот, и плакунчики в гости явились, будто на улке сырости мало. Надрываешь бабке сердце, а ведь ему тоже не век намерян. И где управу найти на окаянных? Притворство мое лишь на секунду. Да и она это знает, но отступать как бы не хочет: нашему брату только дай потачку, враз на шею сядем. — А ты у деда спросился? — делает она хитрый маневр. — Может, ему без твоей подмоги и не управиться. Сам знаешь, в хозяйстве каждая рука на подхвате. — Так я сейчас… Дед моим гулянкам не помеха. У него и проситься не надо, отпустит, кивнет головой седой — и все тут. — А ты сапоги не видала? — Куда ложил, там, поди, и ночевали. Сапоги, конечно же, заботливыми бабкиными руками поставлены на просушку в теплое запечье, и войлочные подследыши лежат тут же. Я быстро надергиваю сапоги. Огрубелые и ссохшиеся от постоянной сушки, они всеми своими рубчиками впиваются в живые колодки моих ног, в каждую выступающую костяшку, но я терплю. Сейчас смочу их в первой же луже, и кожа отмякнет, не будет давить мои привыкшие ко всему пальцы. Улица обдает нас утренней свежестью, воздух пронизан такой пронзительно-весомой синевой, что, кажется, можно черпать его пригоршнями, ощущать ладонями неуловимую тяжесть и даже пить, как студеную колодезную воду. Я с хрустом раскидываю руки и чувствую — обжигающая струя воздуха вливается в мою грудь, оживляет каждую клеточку еще недавно дремавшего тела. А солнце уже вовсю румянит стекла, наличники, курятся парком крыши, впитывая первое нежаркое его тепло, привлекая воробьиные ватажки. Но с закатной стороны снег на тесовых скатах лежит довольно плотными льдистыми покрывалами, развесив по урезу крыши хрустально-чистые сосульки. Их мы ежедневно сбиваем, соревнуясь в меткости, но за ночь они нарастают вновь. Сейчас нам не до сосулек. Дед покряхтывает где-то в пригоне, наверное, обихаживает после ночи корову — нашу кормилицу, отощавшую за зимние холода Зорьку. Я прислушиваюсь к его привычному кхеканью — видать, смолит свою самокрутку — и решаю, что объясняться с ним нужды нет. Еще придумает какое-нибудь заделье. — Куда? — спрашиваю я у Рудьки. — На реку. Там народу жуть собралось. Ледолом ждут. Бабке Тюленихе кости болезные подсказали — быть сегодня чистой воде. Я лишь на мгновение оторопел от Рудькиной новости — такое деется, а я в постели бока уминаю! — и тут же умом своим прикинул: какой улицей быстрее до Ниапа добраться. Забыл и про незаживающие на ногах болячки, и про терзавшие их сапоги. Главное, не припоздниться к самому интересному, усмотреть норов пробуждающейся реки, полюбоваться ее весенней удалью. Выходило, что бежать нам надо через школьную ограду, потом короткой улицей выбраться на площадь, а там проулками, проулками — до самой реки. Моя отчая улица в любую непогодь без грязи — крупнозернистый песок бурунами вскипает на ее поверхности, не могут его утолочь ни люди, ни скот. Но сейчас стылая земля не пускает воду в свои глубины, держит ее наверху, рождая звенящие ручьи-проточки, которые бегут каждый к своей заветной низинке. Обычно чистая в летнее время, проезжая часть сейчас бессовестно выставила напоказ весь накопленный за зиму мусор: шматки сопревшего сена, коричневую труху, щепки, палые листья, проросла коровьими шляпами на льдистых ножках — этой необычной весенней причудой, столь похожей на перезрелые грибы. Школа отгородилась от поселковых улиц щелястым забором, оставив кое-где узкие проходы с крестовинами-вертушками на коротких столбиках. Бруски крестовин отполированы руками до черноты, в иной раз мы не минуем их, не крутнувшись на скрипучей вертушке два-три раза, но сегодня в запасе нет и секунды. Школа — длинный потемневший от времени барак, с широкими глазищами окон и крыльцом с крутой лесенкой тесовых ступеней. Обычно в перерыв ребята с шумом распахивают створки дверей, давя и тиская друг друга в проходе, юзом съезжая по этим самым ступеням, сбивая в кровь локти, продирая на задницах и без того ветхие штаны. В свалке больше перепадает мелюзге, но все рады теплу и солнцу, а от синяков в школе все равно не уберечься. Нам с Рудькой осенью тоже идти в это мрачноватое здание, и мы думаем о предстоящем одновременно радостно и тревожно, с покорной обреченностью: хотели бы мы или нет, этого не избежать. Страшит нас потеря вольницы, необходимость рано вставать и в любую погоду отправляться на уроки. Обширный школьный двор пуст, лишь над тесовым белено-ржавым туалетом привычно, как над подтопленной банькой, струится белесый дымок. Сколько ни стараются учителя разгонять курильщиков — дежурят у туалета, вытрясают из ребячьих карманов табачную труху, — эту заману-беду не изжить. Нет едучего табачного крошева, зато моховой кудели можно тут же, из школьных пазов надергать. Я невольно оглядываюсь в сторону нужника, уж кто-кто, а пропахший табачищем брат Генка неминуемо должен быть там, но Рудька торопит меня: — Не отставай! Я едва поспеваю за ходким длинноногим дружком. Наши сапоги с хрустом давят тонкий ледок. Ночной приморозок до дна испил не набравший еще силы ручеек, который каждый день возникает заново, но к утру оставляет лишь тонкий серебристый налет. Покрытая кружевом матовых осколков-стеклышек дорога от школы желобом катится мимо приземистых деревянных пятистенков, которые держат вдоль улицы линию грудью своих палисадов, а сами подступают к ней где торцом, где осветленным окнами боком. Необычная примечательность поселка — тополя. Высоченные, неохватной толщины корявые деревья. Кто, когда, зачем посадил их в нашем таежном углу, так богатом лесом, не помнит и бабка. Может быть, бывший заводчик, в чьей усадьбе из множества комнат теперь детский сад. Но как бы то ни было, тополя обрамляют уютную площадь, достают почти до самых облаков. Сейчас на каждом из них беспокойно гомозится по целой стае грачей. Возможно, мы растревожили их ружейной трескотней, раздающейся под нашими ногами на льдистой дороге, а может, как и все живое, радуются они первому теплу, яркому солнышку, своему удачному перелету. Грачей мы никогда не зорим, они безвредны, не чета сорокам, хитрым и вороватым, выслеживающим нас лучше охотничьей собаки и предупреждающим всех своим стрекотаньем о нашем появлении, будь то в лесу, на речке или в чужом огороде. Рудька тоже косится на чернокрылых птиц, ищет смысл в их возбужденном крике. — Это они меж собой, из-за веток, дуралеи, дерутся, гнезда строят. И я примечаю, как грачи мощными клювами захватывают тонкие веточки, гнут, теребят их из стороны в сторону, пытаясь отделить от материнских сучьев, но живительные соки, видать, уже успели от корней подняться к самым вершинам, напоили каждую почку — вон как разбухли! — и ветки стали пружинно-гибкими, сломать их почти невозможно, и это выводит нетерпеливых грачей из себя. Многие из них ищут строительный материал на земле, важно вышагивают по дороге. Под неумолчный грай мы пересекаем площадь. Ее безлюдность подстегивает нас, мы переходим на бег, дышим тяжело, запаленно, но река уже рядом. Стоит миновать два рабочих барака, крутой тропой, поджатой с обеих сторон трухлявыми пряслами огородов, спуститься к песчаному откосу… Уже от бараков, со взгорья, я вижу темные кучки людей. Сильнее заколготилось сердце — неуж опоздали? Но нет, река, укрытая посеревшим снежным одеялом, покоится в своих берегах. Кто гуртуется на берегу, различить пока трудно. Всех подравняла и обезличила война, взяла на учет каждый тулуп и полушубок, приодев сельчан в серые, продольной строчки фуфайки. И люди стали походить друг на друга: своими заношенными ватниками, изможденными лицами, угловато-мосластыми фигурами, будто все они родственники, ближняя или дальняя, но родня, которую всегда угадаешь по едва уловимым чертам. А может, правда война сроднила всех единой бедой и непосильным трудом, подогнала одного под другого и одеждой, и характерами, и обличьем? К своему удивлению среди ребят я вижу Генку, наших друзей Паруньку и Вальку. А как же школа, уроки? Но и без вопросов ясно — сбежали. Какие к черту уроки, когда вот-вот огромный зверь, затаившийся где-то там, под толстой шкурой льда, зарычит во всю свою силу и стряхнет с себя надоевший ему за зиму груз. Молчит сосредоточенный Валька, ушел в свою думу, а Парунька как всегда неумолчно щебечет что-то свое, девчоночье, пытается заглянуть Генке в глаза, но он не слышит и не видит ее, беспокойно всматривается в противоположный берег, будто ждет появления там кого-то. И я, вдруг испугавшись, понимаю, начинаю понимать, что он решился на то отчаянно-ужасное, рисковое, на что не у каждого хватит духу и чего все опасаются, но ждут каждую весну. Я молча трогаю Генку за сальный рукав фуфайки, в глазах моих мольба, немой призыв родной крови, который нельзя не понять и не услышать. И Генка склоняет ко мне свое рябое лицо, привычно подмигивает. — Не боись, где наша не пропадала! В этом, понятном лишь мне признании — просьба сохранить в тайне от окружающих его задумку, его право на риск, потому что в таком деле самое трудное и почетное — быть первым. Но улыбка у Генки квелая. Видать, не дозрел он еще в своем решении до черты, за которой уже нет места ни страху, ни сомнениям. Вместе с нами кучкуются ребята с других улиц поселка, но на сегодня забыты все прошлые ссоры, не слышно обычной подначки, обидных насмешек, столь часто приводимых к дракам, к постоянной вражде. Всех примирила река. Такая у нее сейчас завораживающая сила. Недалеко от нас собрались взрослые, смолят махру. Курят они вкусно, не торопясь, с каким-то значением. В основном это фронтовики, которые, по их же словам, «все еще не очухались» от недавней войны, от всего пережитого. Всю зиму они «ходили по гостям», не отлынивали от работы, но и не приискивали ее специально. Им трудно войти в новый ритм жизни, от которого они давно отвыкли и в который, словно в глубокий омут, сразу с головой не окунешься. Каждый из них, конечно, заслужил любой желаемый им отдых, так как прошел войну из конца в конец и сумел уцелеть в такой мясорубке. И это уже счастье для них самих, для всех их родственников, пускай и приодетое в стоптанные сапоги и старые ватники, но все же счастье. Нас, пацанву, тянет к ним поближе — подловить, услышать их разговоры, полюбоваться на награды, призывно поблескивающие за отворотами фуфаек. Кажется, их совсем не волнует готовящийся к весеннему бунту Ниап, они этих речек насмотрелись, больших и малых, досыта наглотались и речной воды, и болотной жижи. — Спихнул нас тогда фриц под обрыв, к самой реке, сечет сверху из автоматов. На Волгу глянул — кипит от пуль, как варево в котелке. Дорогу к отходу, гад, отрезает, а нас не трогает, видно, от нахальства своего и убивать не торопится. Кто в воду кинулся, тут же кровью ее окрасил. А немчура сверху кричит: «Лазь, рус Иван, сюда. Лазь. Хлеб дам, девка дам». Издевается, значит. А куда наверх попрешь, когда в патроннике пусто. И на каждую славянскую душу по 5—6 адольфов. В общем, крутись не крутись, кругом смерть. А умирать зря кому охота. Единственного желал, жизнь подороже свою отдать, хоть одного фрица да прихватить на тот свет. Как выжил Три Ивана, а вернее Ван Ваныч Иванов, интересно, но узнать это не удается, так как его перебивает Вено Таракан, невысокий нахрапистый мужичок, с самой рани уже хлебнувший где-то бражки, а потому веселый и говорливый. В поселке про него судачат: «Куда стакан, туда и Вено. Как таракан за хлебной крошкой». Но я его не осуждаю. На фронте Вено не отсиживался в обозе, как красномордый Васюта Филинский, а лазил под пулями на переднем крае, снимал вражеские мины. Там же, на минном поле, и оставил правую руку. Сейчас рукав его фуфайки висит подбитым крылышком, а козьи ножки ему скручивают мужики. — Я столько Нюрку свою не щупал, сколько этими вот руками — трепыхнулся пустой рукав — той начинки из земли вытащил. А ведь каждая хреновина в чью-то жизнь метила… Вздыхают Венины сотабачники, но собравшая здесь всех река не отпускает времени на грусть. — За спасенные солдатские жизни тебе спасибо, — говорит Три Ивана. — Награды на фронте даром не раздавали. Эвон у тебя их сколько — не грудь, а иконостас. Похвала бывалого фронтовика распрямляет Вене грудь, незастегнутая фуфайка распахивается еще шире, и все видят: двумя рядочками приколоты к гимнастерке медали. — Так-то оно так, да разве руку они мне заменят. Медалью кашу черпать не будешь. — Ничего, Вениамин Степанович, — успокаивает его Три Ивана, — у тебя Нюрка уже в интересе, взамен одной твоей потери новый десяток рук нарожает. Заветную-то руку поди осколком не срезало? Мужики засмеялись. — Не-е, цела, — улыбается Вено. Я вглядываюсь в лица фронтовиков. Вроде и улыбаются, и щеки зарозовели от махры, а глаза стылые, не отпускает их какая-то внутренняя боль. И мне кажется, что их лица — это маски, на которых — хотели бы они того или нет — отражается все, что они перенесли. У фронтовиков счет к жизни особый. Война для них не закончилась, она продолжает в них жить какой-то непонятной для других тревогой, о которой не поведаешь даже близкому человеку. Вот и ищут солдаты по поселку друг друга, сходятся на перекуры, рассказывают побасенки, стараются всем показаться веселыми, а сами остаются где-то там, в давно осыпавшихся окопах. — А ведь воды нынче большой не будет, — вещает всезнающий Три Ивана. — Это почему же? — вопрошает кто-то. — А вон куличок над самым льдом гнездо себе мастерит. — Он показывает рукой на курчавину кустов на том берегу реки. — Примета верная. — Поживем — увидим, — не то соглашаются, не то возражают ему. И мне хочется, чтобы река родила большую воду, затопила все окрестные луговины, заполнила овражки и низины — будут тогда сельчане с добрым укосным сеном, с рыбой, а может быть, и с утиным мясом. — Гляньте, гляньте, — закричала Парунька. Все разом повернулись к реке. А я ничего не понял. Мне показалось, что кто-то рядом вздохнул глубоко и жадно, и это было похоже на вздох уставшего человека, который долго чистил колодец и вот, наконец, поднялся наверх из его удушливой глубины, чтобы глотнуть чистого воздуха. И этот глоток обжег легкие, вызвал непроизвольный кашель. Где-то в придонье Ниапа возник неясный шорох, который становился все сильнее, сильнее, постепенно перерастая в неясный гул. Лед на глазах начал вспухать, а потом медленно осел, будто уставшая от тяжести вода решилась приподнять свой ледовый груз, вздохнуть свободно и не смогла. Это было невероятно, но река дышала. И это ее, а не чей-то вздох услышал я так отчетливо. Впервые в своей жизни я видел, как просыпалась от спячки река, лед прогибал свою спину и с придыханием оседал. Казалось, Ниап не просто вздыхает, а разговаривает, жалуется, просит нас помочь ему освободиться из ледового плена. Удушливый приступ сотрясает мощное ледовое покрывало, вода толчками через прорубь выталкивается на поверхность, ей уже тесно, неуютно в своем скованном ложе. И вдруг раздался резкий треск, будто переломил кто-то сухую доску. Такой сильный, что многие из нас невольно присели, не поняв, что же произошло. У дальнего берега рванул кто-то снежное покрывало сильными руками, родилась трещина, которая стремительным черным зигзагом пошла в нашу сторону. Бабахнуло снова, и я замер от испуга и восторга: на моих глазах рождалось чудо. Река вздыбила свой загривок, будто из ее глубин, очнувшись, начала всплывать огромная рыбина, взламывая гигантскими плавниками холодный панцирь реки. Теперь уже выстрелы следовали один за другим, какая-то неуемная сила с азартом крушила полуметровый лед. Встревоженно застрекотали сороки, взвились над тополями грачи. Недавно неподвижное ледовое покрывало распадалось на сотни громадных кусков, которым вдруг стало тесно в ложе береговых откосов. И… лед тронулся! Сплошное стонущее, потрескивающее, шуршащее месиво. Льдины, словно живые, наслаивались одна на другую, лезли на берега, вставали на ребро, переворачивались, вспыхивая яркими зеркалами, отсвечивая стеклянной полировкой боков. Все разом заговорили, каждый что-то свое, радостное и доброе. — Ну как, Вено, а такие форсировать приходилось? — услышал я вкрадчивый голос Васюты Филинского. — Да это нашей трижды непромокаемой… не семечки — шелуха. — Вено качнулся к кромке берега, глянул вверх по реке. Оттуда подпираемая талой верховой водой напирала страшная живая лавина. Узкая полоска берегового припая держалась пока крепко, проползающее мимо чудище лишь покусывало и крошило его, но чувствовалось, что и его неподвижной жизни скоро придет конец. Замер, затаился берег. Неужто Вено решился? А что, и правда пьяному море — по колено. Мне кажется, что испугается Вено позднее, когда просветлеет в голове от хмеля. А пока подначенный краснорожим Васютой Филинским, в пьяном слепом возбуждении не сознает, что перед ним яростный весенний Ниап, а может, представляет его передним краем, минным полем, в котором надо сделать надежный проход — путик, отвести от однополчан осколочную беду. И легкий перезвон медалей напоминает ему об этом. Жаль, правда, что нет при нем верной помощницы — руки. — Не дури, Вениамин, — попытался остудить его Три Ивана, — куда голову суешь. Мало горя в поселке? — На войне не пропали, а здесь и вовсе не пропадем. — Остановился тот на миг, прицениваясь к проползающим мимо льдинам, и в ту же секунду Генка, слегка коснувшись моей руки, гибким зверьком метнулся мимо Вены в ледовое крошево. Вено хотел что-то крикнуть моему брату, но, видимо, нежданная конкуренция со стороны пацана в столь рисковой затее настолько ошеломила его, что он замер на берегу с открытым ртом. Теперь все смотрели на Генку. У нашего берега льдины ползли медленно, и маловесный брат легко перескакивал с одной на другую, не давая им погрузиться в воду. Но ближе к середине реки ледяные плиты буйствовали вовсю: сталкиваясь, дробились, и Генка невольно замедлил бег, выискивая глазами место для следующего прыжка, и сразу за его спиной крутанулась льдина, показав свое голубоватое брюхо. Но Генка, раскинув руки, уже пританцовывал на другом ледяном куске, и я сейчас молил лишь об одном, чтобы он ненароком не оступился и не угодил в воду. Тогда… Думать о том, как могут сомкнуться льдины над головой брата, было страшно. И все на берегу замерли, наблюдая за этим отчаянным единоборством маленького человечка с одичавшей рекой. Генка петлял как заяц. Наверное, на его пути была шуга или возникли водяные «окна» — отсюда усмотреть было трудно. Проворство, с каким он сокращал расстояние, приближаясь к заветному берегу, вызвало восхищение фронтовиков. Мысленно я тоже бежал сейчас рядом с ним по уходящим под воду льдинам, ловил воспаленно раскрытым ртом холодный воздух. Во мне жил его страх, по каждой жилочке разливались боль и тревога. «Не быть худу, быть добру». И зачем, братка, придумал ты себе и мне такое испытание? «Не быть худу…» «И-эх! — выдыхает облегченно Вено, —молоток-парень, весь в Чертушку-батяню». Я не оскорбляюсь за отцовское прозвище, произнесенное принародно, да и звучит оно как похвальба всей нашей родове, живчику Генке, который — наконец-то! — миновал опасный створ реки и появился на песчаном откосе. Улыбается Валька, Парунька возбужденно теребит меня за пальтецо. И во мне что-то взрывается внутри, уходит страх. Я горжусь братом, совершенным им на глазах сельчан поступком. Сегодня об этом будут говорить в каждой избе. Вот и знай наших! Это я, а не кто другой, сплю на полу в обнимку с Генкой, ем с ним из общей чашки. Не каждому из нас и приснится — опередить фронтовика, шагнуть в такое месиво. И не беда, что ошпарит солдатский ремень костлявый Генкин зад. Но я-то знаю, уверен наперед, что замрет на излете отцова рука. И у него было детство. Еще покруче нашего. Недаром и зовут его с малых лет Чертом, Чертушкой. Кто с непонятным страхом, а кто с любовью. Да и как без непонятности, без внутреннего ожога. Если творит человек для других непосильное. Уходит свечкой на дно пенной круговерти-воронки и возвращается невредимым. Или привяжет за спину тяжеленное тележное колесо и гусиным шагом меряет дно реки в самом широком разливном месте, где не каждый с разбегу и пронырнуть сумеет. Ну а кто может вырасти у Черта? Конечно же, чертенок, такой, как Генка! С нашей стороны он похож на отощавшего в перелете грача, совсем утаял в росточке, и быть ему таким еще долгие часы, пока не очистится от ледовой неразберихи река и кто-нибудь из взрослых на лодке-дощанке не выручит его из неволи. Но, видно, даже я, хотя и сплю с Генкой в обнимку и шепчусь с ним по вечерам, не знаю его — куковать в заречье он не намерен. В руках у Генки появилась легкая жердинка, он посмотрел вниз-вверх по реке, ненадолго замер, видно, приценивался к обратной дороге. Наливался восковым теплом за его спиной высокоствольный бор, отдыхало на его зеленой кроне солнце, пробуждая все вокруг к новой жизни. Вот и река не устояла, взбеленилась под жарким апрельским лучом, в одночасье пришла в движение. «Не быть бы худу…» Я вижу, мой брат решительно спускается с темной береговой проталины. «Не надо, не надо», — рвется из меня беззвучный крик. Пелена застилает глаза, скрывает маленькую фигурку среди торосов, и я чувствую, как Валька поджимает меня своим тугим плечом. Шорох, скрип, треск, грохот — все это обвалом обрушивается на мое сознание, закладывает уши. И где-то там, в многократно повторенном хаосе этих звуков мечется мой брат. — Давай, родненький, давай, — всхлипывая, нашептывает Парунька, и это проясняет мои глаза, и все вокруг принимает привычные очертания. Ярится река, тяжелая вода наступает на берега и крушит на всем пространстве льдины, будто хрусткие яичные скорлупки. И среди ползущих торосов Генка кажется одиноко обреченным. Как два ослабших воробьиных крылышка трепещутся на его поджаром теле полы фуфайки, шапчонка сбилась на затылок. Каким-то чудом он держится на подвижном ледяном крошеве, жердинкой как пикой отталкивает надвигающиеся со всех сторон глыбы. — Сгинет, Чертенок, сгинет… Надо что-то, мужики, делать, — Лицо у Вены растерянное, красное. Но Генка уже недалеко, каких-то метров тридцать отделяет его от нас, но эти метры заполнены ледяной кашей, в которой нет ни одной льдины, способной удержать человека. Генка понял это, заметался, пытаясь удержать равновесие, и вдруг река будто ополовинила его, а потом оставила на поверхности только голову. И тотчас кто-то большой, сильный рванулся мимо меня, раздался всплеск. — Вениамин, Вено, постой! — пронзительно закричал Три Ивана. Змеился за ним в ледовой шуге темный след, а кто-то уже бросил доску, тянул легкий бастрик, вываживая отяжелевшего от воды однорукого Вену. Не сумела взять свою страшную дань река и вроде успокоилась разом, а может, возбужденное людское многоголосье перекрыло ее недовольный шум. Генка клацал зубами, что-то силился сказать и не мог. Валька накинул на него свою фуфайку, а Парунька протянула обломок хлебной краюхи. Рядом подтекал водой Вено. К нему тоже услужливо тянулись руки, вставляли в рот запаленную цигарку. — Теперь, паря, считай, ты у меня в крестниках. — Он одобрительно хлопнул Генку по плечу. — Надежный человек на войне особую цену имел. Поначалу обидел ты меня. Я ведь Васюте нос утереть хотел… Да и не впервой мне такое. Ну да ладно. Давай-ка в барак. Обогреться, обсохнуть надо после такой Иордани. А может, и не ты у меня в должниках, а я… Того наперед ведь не угадаешь… Эй, Ван Ваныч, пошли до меня, за крестничка по кружечке пропустим. — Да у меня для такого раза и покрепче найдется. Как-никак, а не каждый день реки форсируют, да еще при такой-то падере. Поднимались они проулком, потемневшие от купания, два фронтовика и Генка — хрупкий зеленый побег меж крепко стоящих на земле деревьев. Сколько раз примечал я в лесу, как вольготно растет, дружно тянется вверх молодой подрост под защитой зрелых деревьев. Не страшны ему бури и ветроломы, обильные снегопады и ливни, лосиное копыто и острый заячий зуб. От непогоды спасет молодняк густая крона, а зайцу и лосю нет ничего страшнее рысиной метки. В природе, если подумать, всему найдешь объяснение. Все здесь увязано накрепко, подогнано одно к другому. Повреди у дерева корешок — целиком усохнет. Вот так и у людей. Поспешали Ван Ваныч, Генка и Вено к бараку, хлюпали сапогами. Что-то роднило их в эти минуты, вязало крепкой нитью. Может, отогрел Генка их души своим поступком, и каждый из них подумал, что не зря бился с лютым врагом — подросли их несмышленыши, расправили крылья и теперь, если надо, сумеют пройти, повторить их нелегкие дороги. Но лучше не надо. «Быть добру…» Мы, молодняк, гурьбой двигаемся вслед за ними, ловим каждое их словечко, готовы выполнить любую просьбу. Жаль, что нет этих просьб. Нам очень хочется вот так же, на виду у людей, на равных идти рядом с солдатами, под перезвон их медалей, но именинник сегодня Генка. Яркий солнечный свет заполнял улицы, дожимал ноздреватые теневые сугробы, съедал сосульки. Повсюду рождались ниточки ручейков, сливаясь вместе, они искали дорогу к реке. Парила земля, дышала, наполняя округу запахами пробуждающихся первоцветов. Радостно гомонили птицы. Случилось то, чего все ждали так долго. Весна разбудила от зимней спячки Ниап, вдохнула в людей живительные хмельные соки, теперь будут бродить — не остановишь.ЛЕТЕЛА ПЕСНЯ НАД БОРАМИ
Вот уже который день меня неодолимо тянет ТУДА, за речку, под зеленый полог лесов. И, наконец, я решаюсь… Бабка понимающе вздыхает. — Такая вот жизнь, внучек… Обидно: старые остаются, а молодые уходят. Жить бы сейчас да радоваться, но мы Ему не указ. — Она слегка поворачивает голову в сторону иконы, рука привычно взлетает ко лбу. — А ты сходи, сходи ТУДА, попроведай, поговори с ним, вот и придет облегчение… Она старательно увязывает в чистую тряпицу каральку и два вареных яйца. — Да не убивайся так сильно. Его уже не вернешь. А тебя эвон как на похоронах хватило. Думала, сама кончусь… Ну да ладно о том. Ступай, с богом… Не знаю, сколько дней удерживала меня бабкина кровать, но, видать, не скоро странное забытье отпустило меня, потому что все вокруг решительно обновилось. Лепестковый иней густо припорошил песчаные развалы улиц. Буйствует в палисадах черемуха и ранетка, а мне кажется, что это бело-розовые облака опустились под окна сельских домов и задержались там, напоив воздух терпким медовым ароматом. Налетает свежий ветерок, облака в садочках начинают шевелиться, и невесомые снежинки заполняют створ улиц, мельтешат перед глазами и, теряя остатки сил, медленно опускаются на землю. Жалеючи троплю душистую изморозь, проулками спрямляю путь к реке. Тихо пошумливает за плотиной завод, напоминает о себе. Но мне сейчас не до него. Я окунаюсь в прохладу леса и зябко передергиваю плечами. Внезапная болезнь выжала из меня остатки тепла, заметно убавила сил. Но я креплюсь… Высоко в небесной голубизне покачиваются свежезеленые кружева, роняя изредка желтые умирающие хвоинки. И гладкоствольные сосны вокруг совсем как живые скрипят, шевелят сучьями, касаясь друг друга хвойными лапами и порождая целый хор звуков — закрой на мгновение глаза, и отчетливо услышишь, как ведет на лесной елани свой нелегкий разговор литовочка с неукосной змеиной скрипун-травой. Но вот и поселковое кладбище… Сдерживая дыхание, осторожно миную затравеневшие холмики, присыпанные темной прошлогодней листвой и сопревшей хвоей; обхожу покосившиеся оградки, подгнившие снизу пирамидки и многорукие кресты. Невольно вглядываюсь в отгоревшие фотографии — и их не пощадило время. Какая-то неясная тревога охватывает меня, холодок подкатывает к сердцу: мне кажется, что десятки глаз наблюдают за мной, им интересно, зачем я здесь в такой неурочный час, к кому пригостеванил, у чьей могилы склоню голову или присяду… А я пришел на свидание к другу. И, может, потому так волнуется сердце, что отправился мой старший товарищ в общую страну человеческого покоя, осиротил меня своим нежданным исчезновением. Зачем, зачем он это сделал? Как жить мне теперь без его совестливых советов, без счастливых встреч на притененном вечернем дворе, как не обидеть его память какой-нибудь ребячьей промашкой?.. На фотографии он молод. Широкий гладкий лоб, темные курчавинки волос над ушами, оттеняющие его могучую лысину; прищуренный, похожий на школьную запятую разрез глаз и беззаботная доверчивая улыбка. Черно-белые клавиши аккордеона, будто уголок тельняшки, прикрывают ему грудь. И это хорошо, что он отправился в свою вечность веселым, красивым, песенным — первый фронтовик на этом печальном поселении. Другим так не повезло, лежат на чужих сторонках, а то и вовсе поодаль от нашей русской земли, без родственного догляда, без привычного поминанья по родительским дням. Я ревниво рассматриваю деревянную пирамидку, вставшую в изголовье могилы; не успевшую припылиться малиновую звездочку, вырубленную кем-то из куска листового железа; оградку из тонких ошкуренных жердочек, с «запасом» отхватившую кладбищенского места — все, что осталось на этот час от него. Для меня он всегда был и останется Колюней, и неровно выписанные масляной краской фамилия и цифры, меж которыми и уместилась его короткая жизнь, сейчас как бы разделяют нас невидимой чертой… — Ты прости меня, Колюня, если было что между нами худого, если чем-то тебя обидел, — мысленно обращаюсь я к нему. Не обижал я его никогда, и в задумках такого не было, но так уж принято говорить здесь такие сердечные слова. — Возьми вот, — я бережно, над тряпицей облупляю яичко, вместе с каралькой кладу к пирамидке. Тихим стоном — а может, мне показалось — отзывается ближайшая сосна. Время оголило ее ствол от усохших сучьев почти до самой вершины, испятнало ржавыми рубцами, наплывами. Я касаюсь ладонью одного из золотистых горбиков — он излучает какое-то внутреннее тепло, и кто знает: напоенный солнечными лучами просто делится им со мной, согревая мое одиночество, или… страшно подумать — это сигнал от Колюни из той незримой дали, суть которой для меня пока непонятна, но в которой, говорят, мы все когда-то будем… Умер Колюня совсем недавно, в самый разгар весны, когда вокруг все отчаянно зеленело, набирало положенный рост, распускало ранний цвет. В тот роковой день бисерил теплый майский дождь, так себе, даже и не дождь, а водяная пыль, от которой дышалось легко и свободно, в полную грудь. Но этот животворный весенний всплеск, радостные ощущения всеобщего пробуждения были уже не для Колюни. Он лежал в последней своей домовине спокойный и для меня непонятный, а в изголовье, на комоде, холодно поблескивал осиротевший баян. Расстался с жизнью Колюня легко, в одноминутье. Вышел на обогретое утренним солнцем крыльцо повидаться с подворьем, потянулся с хрустом да и присел на ступеньку, будто цигарку свернуть надумал. Где-то в испятнанной рубцами груди Колюни таился маленький кусочек железа — жестокая памятка недавней войны, таился до этого черного дня, пока не прибило его к сердцу, и он ужалил его ядовитой весенней гадюкой. Не стало Колюни, смолкли его красивые песни. Хотя нет, песни остались. В памяти всех, кто слышал живой Колюнин голос. А во мне они звучат, не стихают и сейчас. Как забудешь. Ведь и бабка про нас говорила: «Не разлей вода!» Мудрено, конечно, но верно. Точнее не скажешь. Никому вроде не напрашивался Колюня на дружбу, а любили его все, из края в край, и провожали на покой за речку всем поселком. Любили за характер улыбчивый, за песни душевные. А кто при песне — и так понятно — всегда человек добрый, на дружбу открытый… Своим главным богатством в доме Колюня считал баян, который называл германским трофеем. С ним он возвратился на пару с войны и не расставался даже в лучшие времена, когда подфартило ему у кого-то из фронтовиков в соседнем селе за бесценок приобрести белозубый аккордеон. Видимо, с баяном вязала его особая военная дружба, которая не знает измены и дороже всего на свете. Разлучил их крохотный осколок, гадючье жало. Баян Колюни веселил многих, желанным гостем входил в послевоенные дома сельчан. Столь до́лго жда́нная Победа тронула в людях какие-то дремавшие струны, а может, и надоело им жить своим нескончаемым горем и нелегкой изнурительной работой. Сначала робко, бедновато, а потом на удивление все хлебосольнее стали играться свадьбы: с многодневным гуляньем, с народом на пару горниц, с ответным гостеванием у близкой и дальней родни. А какая вечеринка без песни-веселья, без умелых рук гармониста? Ласковой матерью согревал неуютные дни Колюнин баян, заставлял хоть на время людей забыть недавнее горе. А Колюню в гости зови не зови, без приглашения явится. И на самое почетное место присядет. Анисья его — просмешница — выйдет, бывало, к артельному колодцу, час с соседками языком чешет. И все про своего Колюню. — Мой-то, воитель, вышел поутру во двор по нужде, повел своей носиной и кричит мне сквозь сенцы: «Онька, сегодня похлебку не направляй, а готовь суконную пару, что с войны привез. Вечером к Доможировым в гости звать будут». Чу, думаю, дуралей. Разевай рот шире, там тебе и ворота уже растелешили, и рюмку приветную до краев налили… Что, говорю, намек какой подали? Да нет, отвечает, пирогами оттуда напахнуло. А коли бабы с утра в бегах, у печки крутятся — быть к вечеру потехе… Смотрю, и правда, запошумливали к вечеру в том краю. А мой-то баян под мышку, я, мол, за тобой позднее пришлю — только его и видела… В каких только домах не перегостил Колюнин баян, где не надрывал свой голос, сколько под его сердечные всхлипы сбито каблуков и истерто подошв! Многим не давал он покоя. Вот и меня приворожил сразу и навсегда. Обычно приходил я к Колюне под вечер, к концу управы, когда в стаюхе и во дворе все обихожено, в избе прибрано и самое время передохнуть от бесконечных дневных забот. Детей у Колюни с Аксиньей не случилось, и, может, потому так искренне улыбались они мне, едва я, постучавшись в дощатую дверь, переступал порог их дома. И каждая такая встреча, каждое Колюнино слово оживает сейчас во мне свежо, и, наверное, никогда не выплеснется с родничком памяти, не растворится в забытье. Вот и тот, последний совместный наш вечер весь соткан из живых памятных минуток. Я закрываю глаза, и оживает все разом: Колюнины руки, его походка, его голос… — А я Анисье пеняю, видать, не опнется сегодня дружок закадычный, приискала ему бабка работу, а ты легок на помине, — заводится Колюня приветным разговором. — Да ты проходи, проходи в горницу, к чему косяки отирать, я вот только руки помою… Он распахивает резные голубенькие створки дверей и пропускает меня в горенку. Из угла тянет ко мне широкие зеленые ладони фикус, с беленых простенков, с фотографий в ухоженных рамочках, на меня смотрит многочисленная Колюнина и Анисьина родня. По мягкой домотканой дорожке я прохожу к комоду, на котором под вышитой розами накидушкой отдыхает баян, поблескивая матовыми пуговками, обласканными Колюниными руками. Осторожно, боясь потревожить их покой, я прикасаюсь к прохладным пуговкам, к лакированным планкам. Планки лучатся, горят неземным зеленоватым пламенем, в холодных языках которого светятся серебром ненашенские завитушные буквы. — Ну что, — появляется в горнице Колюня, — пойдем на улку, свежим воздухом подышим, расправим легкие — что нам в этих стенах томиться… Колюня всегда при шутке, грустным его я не помню. Да и какая грусть рядом с певучим баяном, с душевной песней — нельзя их слить воедино. — Анисья, — негромко приторапливает Колюня, — идем с нами. — Да у меня еще ни растворено, ни замешано… Чувствуется, ей тоже хочется присоседиться к нам на крылечко, да вроде неудобно отлучать себя от работы, которая в сельском доме всегда сыщется, сама к рукам липнет. Хотя уж в ее-то избе всегда чисто, солнечно, уютно. Отливают зеркальной синью беленые стены, белее первого снега на окнах занавески. Да и как песне жить промеж грязных стен… — Ладно уж, отдохните, потешьте душу. — Она выносит из горницы баян, бережно прижимая его к груди, как ребенка. Я всегда с волнением жду этой минуты. Вот сейчас Колюня поправит на плече потертый ремень, любовно огладит ребристые меха и осторожно коснется пальцами черно-белых кнопочек. Я завороженно смотрю, как чуткие пальцы Колюни неспешно бегут по пупыристому ряду кнопочек сверху вниз, снизу вверх, привыкают к баяну, пробуждают в нем первые звуки. И вдруг из их нестройной череды возникает знакомая мелодия, Колюня откидывает голову на левое плечо, будто прислушивается к ожившим мехам, ждет, когда родившиеся там звуки поднимутся на нужную высоту, и лишь потом запевает.— Там, вдали за рекой, загорались огни…
— Он упал возле ног вороного коня
И закрыл свои карие очи… —
— Степь да степь кругом…
— …Замерзал ямщик…
— Передай поклон родной матушке…
Эх, Анисья, нам ли жить в печали,
Играй, гармонь, и пой на все лады.
Я хочу, чтобы горы заплясали
И зашумели зеленые сады…
Где встречались, рвали цветы,
Там крапивы только кусты.
Мимо жгучих веток пройду
И другую тропку найду…
Любила, не жаль, не жаль.
Крапива, не жаль, не жаль.
Крапива жалит, жалит, жалит…
Сердце болит,
А гармошка не печалит,
Мне гармошка не велит…
Не жаль, жаль, жаль…
Дорогая, я вернулся,
Пойди замуж за меня…
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза…
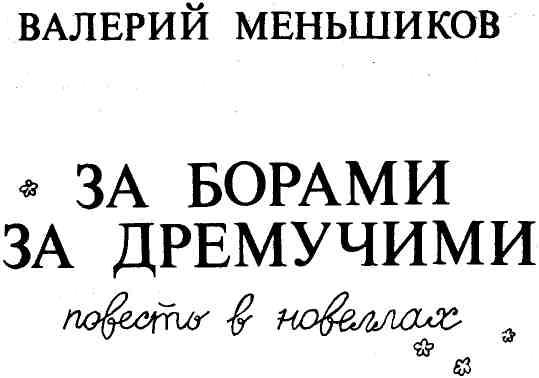






Последние комментарии
2 часов 15 минут назад
2 часов 34 минут назад
2 часов 35 минут назад
2 часов 49 минут назад
3 часов 34 минут назад
11 часов 44 минут назад