Иван Абрамович Неручев
Особо сложные дела

„Авоська“ старого знакомого
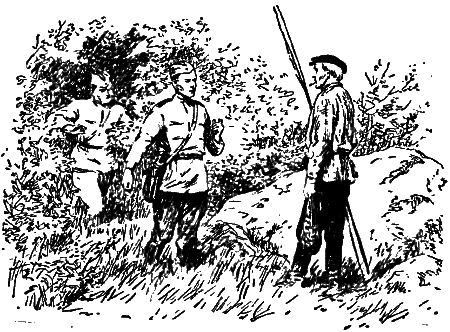
В Энской части были сильно обеспокоены. Фашистские стервятники несколько дней подряд бомбили важные объекты. Удивляла их точная ориентировка. Видимо, враг пользовался чьими-то услугами на нашей территории, и наверняка через радиостанцию. Дано было задание пеленгаторной станции прощупать эфир. Предположение подтвердилось: враг свил гнездо в западной части леса, близ высотки, метрах в 600–700 от реки. Передача велась в микрофон шифром на немецком языке. Вскоре на опушке этого же леса, расположилась боевая часть. Ей и было поручено прочесать лес, поймать шпиона. Поиски шли напряженно. Осматривали каждое дерево, обыскивали каждый куст. Безрезультатно: лесу не оказалось ни одной живой души. С пеленгаторной станции сообщили: вражеский передатчик смолк в тот момент, когда начались поиски. Комиссар и командир полка догадались, в чем причина провала операции: они действовали недостаточно осторожно. Раннее утро. Тихо. А сотни людей в тяжелых сапогах пробираются чащей, ломая сухие ветки. Треск и шум — лучшие пособники врагу. Ему было куда податься: огромный лес зажать в кольцо невозможно. Наконец, враг мог перебраться через речку и уйти в город К. Возможно, дозор, посланный на этот участок, запоздал…
* * *
На второй день, ранним утром, тем же лесом шли рядовые Даниил Петренко и Михаил Сидоров. Они направлялись к речке с пятиведерным баком, чтобы набрать воды для полевой кухни. Вчера они тоже принимали участие в неудачной облаве на опасного врага. Может быть, поэтому каждый из них с особой остротой думал сейчас о хитром, изворотливом шпионе, прислушивался к шорохам, зорко всматривался в лесную чашу. Куда же шмыгнул, где теперь притаился гад? Кто он и где его постоянное логово? Открылась гладь реки. Вправо от себя, в полукилометре, у сизого огромного камня, Петренко заметил черную фигуру. Он остановился и молча указал на нее Сидорову. Бойцами мгновенно овладело беспокойство: «Это он… Не упустить бы!». Жаль, нет у них винтовок. Если это действительно враг, его легко не возьмешь. Бойцы понимающе переглянулись. Петренко указал на пару гранат, подвешенных к поясу. Одну из них передал Сидорову. Оставив бак (дьявол с ней, с водой-то!), бесшумно поползли к загадочной фигуре. Вот она уже отчетливо вырисовалась: мужчина. Он стоял вполоборота к бойцам, слегка наклонившись над зеленой сумкой — «авоськой». Высокий, худощавый, лицо бритое, морщинистое; короткие седые, ежом, волосы. Петренко решил, что это учитель, Сидоров принял его за бухгалтера. Шопотом обменялись первыми впечатлениями. Заметили на камне около старика несколько удилищ… Так вот оно что! Рыболов! Как видно, улов в сумке подсчитывает!.. Всё же решили подползти поближе. Старик тем временем еще ниже склонился над «авоськой», почти спрятал туда свое морщинистое лицо… Чего он ворчит? Слова какие-то мудреные, не похожие на наши, и говорит быстро, без передышки — так рыбу не считают. Наконец старик поднял голову, посмотрел по сторонам, закурил папиросу и стал сматывать удочки. — Руки вверх! — приказал Петренко, выскочив из кустов с гранатой в руке. Подбежал и Сидоров. Они прижали к камню добродушно улыбающегося старика. — Экие вы петухи, — не поднимая рук, сказал он спокойно. — Робкого человека до смерти напугать можете… — Тебе говорят: руки вверх! — повторил команду Петренко. — Не то стрелять буду… — Стрелять-то чем? Гранатой… Сами еще взорветесь. — И старик протянул руку к гранате Сидорова. — Не трожь, гражданин! — прикрикнул Петренко. — Да что вы, товарищи красноармейцы? В своем ли уме?! Напасть средь бела дня на мирного человека… Если вы переодетые бандиты или мародеры, тогда скажите, что вам надо?! Деньги? У меня же ломаного гроша нет. Хотите отобрать удочки или «авоську» — сделайте одолжение… — Старик протянул бойцам и удилища и зеленую сумку. Красноармейцы растерялись. Нет ничего особенного в этом старичке, разве глаза, — взгляд какой-то тяжелый, неприятный. Шпионы, диверсанты представлялись им в другом свете. В каком — сказать не могли бы, не знали: до сих пор в жизни живого шпиона не видели. Петренко потребовал от старика документы, тот охотно предъявил их, похвалив бойца за бдительность. — Мне такая бдительность особенно по душе: я ведь сам усиленно насаждаю ее среди здешнего гражданского населения. Петренко раскрыл депутатский билет: депутат и заместитель председателя местного городского Совета товарищ Океановский Валентин Викторович… Печать, фотокарточка установленного образца, две подписи… — А вот мой партийный билет… Нет, в руки не берите! У нас этого не положено. Это дороже, чем гранаты, до которых вы не позволили мне дотронуться… Взгляните сюда! — Старик раскрыл партийный билет. — Обратите внимание, сынки, на мой стаж: он, пожалуй, равен вашему возрасту — с 1921 года… И снова всё было правильно: подпись, печать, фотокарточка… — А рыбу удить я большой любитель. Не прогуляюсь зорькой к речке, не подышу утренним лесом — целый день сам не свой, работник уже не тот… — Всё! — прервал старика Петренко. — Пойдешь с нами. Штаб недалеко — в избе лесника. Там лучше нас во всем разберутся. Старик рассвирепел. Он не находил слов, чтобы выразить негодование. Это же больше чем неуважение к возрасту, служебному положению, партийному стажу… Отлично! Он пойдет в их штаб и добьется от командира, чтобы бойцов наказали за неслыханное самоуправство и насилие над личностью. Правда, эта канитель, к сожалению, сорвет у него утренний прием трудящихся… Ну что ж! Тем хуже для некоторых. — Не пугайте, — невозмутимо кинул Петренко. — Тронулись! Погодите, вы сумку обронили… — А, к чорту ее, — зло отозвался старик, но сумку взял, когда ее поднял Сидоров. Невольные спутники молча шагали в глубь векового леса. Сидоров готов был провалиться сквозь землю от всей этой кутерьмы. Он был убежден, что они ошиблись, зря побеспокоили, обидели заслуженного, большого человека. Непонятно, что это стряслось с Петренко, почему он вдруг так заупрямился? Неважно чувствовал себя и сам виновник «заварухи» — Петренко. Документы и у него не вызывали сомнений, а вот сердце почему-то не сдавалось, оно сильно билось и словно сигнализировало: «Он, он, он, он!..»* * *
Когда Океановского привели в штаб, произошел конфуз: — А, старый знакомый! Мое почтение. Валентин Викторович! — задушевно воскликнул начальник штаба. — Какими судьбами в нашу берлогу? Начштаба Веселов познакомился с Океановским на деловой почве, не раз бывал у него в служебном кабинете и не раз пользовался его покровительством при получении материалов, необходимых для своей части. Океановский тотчас с нескрываемым возмущением стал объяснять причину своего невольного появления в штабе. Петренко побагровел, потупил глаза. Нечего сказать — поймал шпиона. И задаст же командир, что называется по первое число, разделает под орех, осрамит перед всей частью. Но что делать с сердцем?! Оно настойчиво выстукивает. «Он, он, он, он…» Как доказать свою правоту? Старик продолжал сетовать на бойцов, на их невоспитанность, бестактность, грубость… Начштаба, не дослушав Океановского, резко предложил Петренко выйти. Петренко сделал робкую попытку оправдаться. — Красноармеец Петренко, не заставляйте напоминать устав! — Есть, товарищ начштаба, не заставлять напоминать устав! — отчеканил Петренко. Козырнул, круто повернулся и вышел из штаба. Выйдя из штаба, он бросился разыскивать комиссара. Обида ли, боязнь ли упустить врага, а возможно и сочетание двух этих чувств подействовали на Петренко. Ему разом сделалось ясно, зачем «колдовал» старик над «авоськой», почему пытался ее «потерять»… А эти слова на незнакомом языке! Рассказывал же бойцам комиссар, что на днях в прифронтовой полосе политрук одного боевого подразделения в противогазе прохожего оборванца обнаружил радиостанцию. Оборванец оказался крупнейшим лазутчиком… Едва Петренко взволнованно закончил рассказ, комиссар сказал: — Молодец, Петренко! — Служу Родине, товарищ комиссар… Они вошли в штаб в тот момент, когда начштаба благодарил Океановского за пишущую машинку «Ленинград», которую тот обещал выделить ему из запасов Горсовета. Молча подняв с пола зеленую сумку, комиссар осмотрел ее. Там оказалась радиостанция, искусно вмонтированная в самое дно. — Обыскать! — приказал комиссар, кивком головы указывая Петренко на опешившего старика. — Есть обыскать! Тщательный обыск новых данных не дал. Однако достаточно было и первой находки. — Давно «работаете»? — сурово спросил комиссар. — Я вас не совсем понимаю, товарищ начальник! — обиженным тоном сказал старик. — О какой работе вы говорите? Да, он видит эту досадную чертовщину, которую комиссар именует радиостанцией. Возможно, это в самом деле радиостанция. В этом вопросе подвергать сомнению компетенцию начальника у него нет оснований. Однако всё несчастье заключается в том, что он любит утренние прогулки и рыбную ловлю. Не будь этого, он не нашел бы сегодня в лесу эту дрянь… Он клянется совестью коммуниста, что говорит правду… Пусть спросят всех его товарищей, пусть допросят весь город, где его знают от мала до велика, — никто и никогда не видел у него в руках эту поганую сумку. И зачем только он на нее польстился?! Весьма возможно, что враг во время вчерашней облавы бросил ее. Комиссар начал колебаться. Доводы Океановского произвели на него впечатление своей логикой и здравым смыслом. От Петренко это не ускользнуло. Не ускользнуло и то, что собственное сердце тоже начало сдавать; его тоже цепко опутала словесная паутина старика, оно не выстукивало больше: «Он, он, он…» В самом деле, почему не может быть так: кто-то бросил сумку, а он, старик, нашел ее и рассматривал, сунув туда нос. А чужая речь? Может быть, это только послышалось! И всё же комиссар еще не сдавался. — Прошу извинить меня, — обратился он к старику, — вам всё же придется зайти на несколько минут к особоуполномоченному… Это по его специальности… Проводите, Петренко, товарища… — Вот как! Значит, вы всё-таки мне не верите? Это вам так не пройдет! — гневно сказал Океановский и, выходя, хлопнул дверью. За ним поспешил Петренко. Комиссар и начштаба вопросительно посмотрели друг на друга.* * *
Следователь Захаров сравнительно легко определил, что дело Океановского является делом необычным. Осложняло работу еще одно обстоятельство: спешка — следствие надо закончить немедленно, этого требует военная обстановка… Захаров объявил Валентину Викторовичу, что он временно задерживается, что по существующим правилам к нему будет приставлена охрана… Нет, нет, это не арест, но всё же… Другого выхода при создавшихся обстоятельствах быть не может. За короткий срок Захаров дважды приглашал к себе Океановского, но, вместо допроса, которого ожидал тот, ограничивался мягкой беседой на посторонние темы. Третья встреча ознаменовалась острой словесной перепалкой. Следователь вызвал для очной ставки Петренко. — Сделайте одолжение, избавьте меня от встречи с грубияном, — попросил Океановский. — Вся моя жизнь — служение великому делу революции, весь мой долгий жизненный путь освещен лучами, возможно, маленького, но искреннего уважения ко мне окружающих. И вот, в самое грозное и ответственное время для Родины, когда каждый мускул напряжен, каждая капля крови зовет к действию, к мести проклятому врагу — в это самое время на моем пути появляется дерзкий мальчишка. Ни с того ни с сего он заносит над седой головой меч… — …правосудия? — Следователь пристально посмотрел в черные глаза Океановского: они горели неподдельным гневом. — Если, товарищ следователь, советское правосудие и самоуправство рядового солдата, да еще, вероятно, не слишком грамотного — одно и то же, тогда… Но я лучшего мнения о советском правосудии и лично о вас, хотя вы и доставляете мне большие неприятности… — Благодарю вас и за себя и от имени нашего правосудия, — ответил следователь, сильно подчеркнув слово «нашего». — Приступим к делу, — вздохнул Океановский, — не забывайте, мы оба с вами получаем зарплату и едим народный хлеб, который так дорог теперь… — Относительно дела должен сказать: тщательные обыски вашей квартиры и вашего служебного кабинета ничего не дали. У вас блестящие отзывы, и прошлое ваше безупречно… Словом, всё как будто в вашу пользу… — Почему же «как будто»? — Потому что пока я в этом не уверен. — Вот что значит профессия! Без подозрения ваш брат шага ступить не может… Следователь продолжал, не обращая внимания на последние слова Океановского: — Никто вас с зеленой сумкой никогда не видел. Я даже отыскал людей, которых вы приглашали с собой удить рыбу, собирать грибы… Вы, оказывается, любите и по грибы ходить! — Совершенно верно… очень люблю! — Так вот, они тоже не видели вас с этой сумкой… — Что же еще надо?! Может быть, прикажете головой о стенку удариться, чтобы убедить вас?.. Следователь не обратил внимания на иронию: — Нет, этого пока не надо… Есть всё же некоторые факты которые против вас… — Именно? — Факт первый странно, что вы нашли сумку, тогда как наши разведчики, прочесывая лес, не заметили ее… — Я тоже никогда не нашел бы, если б искал. Я рыл в этом месте землю, добывал червей… Это, надеюсь, для вас убедительно? — Буду объективен: ваши соображения не лишены некоторого смысла. — Они правдивы и, следовательно, безупречны. — Предположим. Объясните тогда, о чем вы «колдовали» над «авоськой» и на каком языке? — Объясню. Только заранее предупреждаю, будете смеяться над стариком… Дело в том, что я сызмальства привык наедине разговаривать с самим собой. Пойдешь ли, скажем, на рыбалку или по грибы, ходишь-бродишь. И вот возникает желание поговорить, поболтать. Иногда болтаешь со смыслом, а больше всего — просто так, что на ум придет, придумываешь всякие слова, стишки, какие-нибудь словосочетания. Я даже придумал своеобразный примитивный «шифр», которым иногда в шутку пользовался. Дурачился я этим «шифром» и на этот раз. Я даже хорошо помню, что говорил… Сумляра кальяра зельяра енляра альяра яльяра, сумляра кальяра несляра часляра тналяра яльяра, ктольяра жельяра польяра кильяра нульяра, дельяра ткальяра, тельяра бяльяра… Надеюсь, обратили внимание на подчеркнутое. Сложите это и получите: сумка зеленая, сумка несчастная, кто же покинул, детка, тебя… Глупо, сознаюсь, но от факта не уйти… — Согласен — забава не для взрослых. Однако Петренко утверждает, что вы завершили свое «колдовство» словами: «Ах, Федер Зенин!». — Он лжет… — А может быть, не совсем точно передает слова, передает их на русский манер… Ради чего ему лгать? — Орден зарабатывает… — На крови врага? В глазах Океановского метнулся еле уловимый беспокойный огонек, мускул щеки нервно вздрогнул. Он промолчал и отвернулся. Следователь пристально рассматривал его сухую, жилистую шею, седые торчащие волосы, синюю, линялую косоворотку, коричневый, в елочку, костюм. — Петренко — простой человек, высшего образования не имеет, это верно, — задумчиво продолжал следователь. — Но верно и другое: он честный человек и не способен на преступление. Петренко приводит даже такую деталь; вы дважды произнесли прощальную фразу и откланялись своему далекому слушателю… — Экая бурная фантазия! У меня даже появилось желание лично послушать этот возмутительный бред… — С этой целью я и пригласил Петренко. Вошел Петренко. Выслушав его рапорт, следователь объявил очную ставку начатой. Однако Океановский потребовал присутствия Сидорова — второго бойца, принимавшего участие в его задержании. — Странно, почему вы опираетесь только на Петренко, гражданин следователь? Не придерживается ли второй боец иной позиции? Они оба наблюдали за мной, оба подслушивали, одновременно подскочили — пусть же оба присутствуют здесь, на этой вашей очной ставке. — Согласен, это ваше право! — Этого требует истина, — резко сказал Океановский. Его надежды в какой-то мере оправдались. Выслушав, по предложению следователя, тарабарщину Океановского, Сидоров заявил: — Вроде похоже… На вопрос следователя, не слыхал ли он из уст задержанного такие, например, слова: «Ауф видер зейн», Сидоров, не задумываясь, ответил отрицательно. Таким образом, очная ставка не только не помогла, но основательно повредила следствию. Захаров вынужден был отпустить бойцов. Океановского же он не освободил. Не сказав ему ни слова, он позвал бойца из конвойного взвода и приказал отвести задержанного. Океановский заявил решительный протест. — Я хочу, чтобы вы, товарищ следователь, внесли полную ясность в мое положение… Дальше терпеть унижений не желаю! — Прошу еще немного повременить. Я принимаю все меры… — Я хочу продолжить с вами разговор один на один. Прикажите бойцу удалиться… Следователь согласился. Он искал новых путей к истине, но пока их не находил. Пусть старик поговорит, многословие подозреваемого иной раз помогает: человек может проговориться незаметно для себя. — Я вас слушаю, — мягко сказал следователь. — Давайте поговорим, товарищ следователь, по душам, поговорим, как коммунист с коммунистом и как деятель гражданского ведомства с деятелем военной власти… Мне кажется, что вы не понимаете, какое чините зло… — Даже?! — Зря иронизируете… Я постарше вас и, видимо, в жизни поопытней… — У каждого из нас свой опыт, свои понятия… Я хочу, чтобы вы уточнили свои слова. Какое и кому я причиняю зло? — Советской власти, ее органам… Не щадя авторитета ее представителя, вы, вольно или невольно, бросаете тень на всю нашу систему. Что могут подумать в народе о городском Совете, одного из руководителей которого хватают средь бела дня ни за что ни про что… Держат под арестом. Изо всех сил тужатся, чтобы собрать «доказательства», обвинить чорт знает в чем… Попробуйте после этого заставить народ уважать нас, руководителей… — Простите, я вас прерву… Вы шутите или говорите всё это всерьез? — Позволю на вопрос ответить вопросом: вы серьезно меня об этом спрашиваете? — Конечно! Как можно говорить всерьез о том, что ради сохранения престижа отдельных работников советской власти мы должны забыть о бдительности?.. — Я остаюсь при своей точке зрения — нельзя компрометировать честного советского руководителя… — Я рекомендовал бы вам проще смотреть на наше с вами положение. Враг коварен и иногда вынуждает нас причинять беспокойство своим же людям, за что им потом приносятся искренние извинения… — Я чувствую, товарищ следователь, что нам, поскольку мы в какой-то мере сквитались, лучше всего закончить беседу. В последний раз прошу: освободите меня под подписку или поручительство. Клянусь честью: мешать вашей исследовательской работе не буду, никуда не сбегу — стар и не иголка, — явлюсь по первому зову. Если же вы докажете, что я враг, — тогда поступайте со мной по всей строгости закона военного времени. — Несмотря на заманчивые условия, у меня в настоящую минуту нет возможности освободить вас. На следующее утро следователь, захватив с собой Петренко, отправился к месту задержания Океановского. Они тщательно осмотрели каждый клочок земли вокруг камня и даже на отдаленном от него расстоянии, искали разрытую землю, где якобы добывал червей старик и где он нашел сумку. Безрезультатно. Но зато они нашли другое: землянку под камнем. Вход в нее был искусно замаскирован. В землянке оказались автомат с двумя обоймами, пистолет, плащ-палатка, карты и шифр на немецком языке… «Теперь-то, старый волк, тебе не выскочить!» — подумал следователь. Однако волк оказался сильнее, чем о нем думали. Океановскому и на этот раз удалось поколебать неопровержимость собранных фактов. Откуда следователь взял, что он добывал червей у камня или где-то поблизости от него? Почему он думает, что сумка подобрана там, где рыл землю? Ничего подобного! Землю он рыл в другой стороне, на опушке у входа в лес. Неподалеку от камня хотел еще покопать, стал разгребать траву, напал на сумку, поднял ее и пошел к камню, забыв про свое намерение. И самое главное: на каком основании думают, что землянка принадлежит ему, Океановскому, и что всё обнаруженное в ней принадлежит ему? Не на том ли основании, что он останавливался около камня удить рыбу?.. Тогда с таким же успехом можно заподозрить его товарищей по рыбалке: они тоже не раз останавливались на этом месте. С неменьшим успехом можно утверждать, что землянка принадлежит хотя бы Петренко: ведь он брал здесь воду… — Шутки в сторону, товарищ следователь. Мне жаль вас! — Принимаю ваше сожаление, — сказал Захаров. Землянку они осматривали без света, в темноте, на ощупь. Надо осмотреть еще раз с фонарем. При вторичном осмотре землянки электрический фонарик помог, наконец, раздобыть большее: в углу, в сухих листьях, был обнаружен конверт, на котором значилось: «Глинобитная ул., д. 14, кв. 2, Валентину Викторовичу Чудновскому (лично)». Не было никакого сомнения, что Чудновский и Океановский — одно и то же лицо: имя и отчество совпадало, адрес совпадал, никогда в этой квартире и даже в этом доме никакого другого Валентина Викторовича не проживало. Теперь у Захарова были все основания пойти на решительный штурм преступника. На этот раз ему не удастся увильнуть! А ведь как увиливал, как ловко разрушал все доказательства! Следователь одновременно вызвал Океановского и Петренко. — Итак, приступим к делу. Я хочу облегчить ваше положение, хочу помочь вам признать свою вину… — Оставьте шуточки, товарищ следователь!.. — Кстати, я давно хочу поправить вас: у нас не принято разрешать обвиняемым называть следователей товарищами. Я для вас — гражданин следователь или просто следователь… — С каких это пор я стал обвиняемым?.. Вы, кажется, еще не предъявили мне никакого обвинения. Следователь пристально посмотрел на Океановского: — Остались формальности. Но прежде чем их выполнить, я всё же хочу помочь вам в признании. Вы, действительно, шпион Петренко прав в своих подозрениях. Вы шпион опытный и изворотливый. Вы ловко замаскировались. Документы у вас правильные, линия ваша на советской работе правильная, можно сказать, безупречная; тут ни к чему не придерешься… Вы совсем недавно приступили к практической шпионской деятельности, хотя в «кадрах» числитесь давно. Ваши хозяева держали вас в резерве — на всякий пожарный случай. И этот пожарный случай — война — наступил… На днях вы чуть-чуть не провалились: вы гели передачу в 600–700 метрах от места, где вас обнаружили бойцы. Вас засекли правильно. Услыхав шум и треск, вы бежали к реке и скрылись в землянку под камнем. Это ведь ваша постоянная база. Там вы хранили и «авоську» и еще кое-что… Автомат, например… Мне кажется, что больше запираться вы не будете, Океановский, то бишь… Чудновский! Услыхав последние слова, старик вскочил с места. Упершись руками в край стола, он впился глазами в своего противника. — Сядьте! — приказал Захаров. Океановский вяло опустился на скамью. — Установлено, — продолжал Захаров, — что к вам на квартиру в одно, как говорится, прекрасное время явился гость и вручил вам секретный пакет с весьма важными указаниями по поводу вашей деятельности. Пожалуй, не стоит перечислять, что вам предписывалось и о чем вы вели разговор с этим гостем. Не в этом сейчас дело… Океановский не мог дальше слушать. Он встал и охрипшим голосом обратился к следователю: — Отошлите его на несколько минут. — Он указал глазами на Петренко. — Я имею сообщить вам нечто важное. Захаров распорядился, чтобы Петренко ждал его вызова за дверьми. — Вы бесспорно одаренный человек — тихо произнес старик, опустив поблекшие глаза. — В другое время вы сделали бы блестящую карьеру… — Не хотите ли вы предложить мне заключить с вами сделку? — прищурился следователь. — Нет. Я не люблю делать нереальных предложений. У меня к вам другое… Но прежде всего о себе. Старик задумался. Он явно собирался с мыслями. Следователь сосредоточенно ждал. Наконец Океановский заговорил. О себе он скажет немного, самое основное. Сын полковника, мало известного среди старого офицерства. Может быть, из-за постоянных неудач или интриг отец сравнительно рано ушел в отставку. Большая семья вынудила родителя, кроме пенсии, искать дополнительных средств. Скоро он нашел такой источник. Он стал много ездить. Бывал во Франции, в Америке, в Германии. Ему платили щедро. Хозяева не подозревали друг о друге, а ведь предприимчивый родитель работал не только на них, но и против них… Не трудно догадаться, какую новую профессию избрал отец. К сожалению, эту профессию, не лишенную риска и соблазна (не только материального, но и несколько авантюрно-романтического), отец частично передал ему: его, Валентина Викторовича, также зачислили в «кадры», держали в резерве не только немецкие, но и американские разведывательные органы. Активизировали его, как ему, следователю, уже известно, гитлеровцы. Именно у них прежде всего возникла в этом надобность. Гражданин следователь должен понять, что он, Океановский-Чудновский, «работал» холодными руками, без души, вернее, по инерции. Но суть сейчас не в этом. — У меня к вам предложение: доложите, кому надо, о том, что я могу быть полезен, что я с лихвой перекрою всё то зло, которое причинил Родине. Пусть оставят меня «не разоблаченным», и я такое покажу… — Довольно! Всё ясно!.. Вы забыли только одно: в любом нашем органе нет места подлости, торгашеству, нечистоплотности, двурушничеству! И, вынув из полевой сумки бумагу, следователь спросил: — Может быть, желаете изложить свои показания собственноручно? — Вы ставите меня в такое положение, что я вынужден… — Разве я вас вынуждаю? — Вы меня неправильно поняли. Я имею в виду обстоятельства. Вам, конечно, известно, у меня есть дочь студентка, медичка, на третьем курсе; есть и сын… Следователь молча подал Океановскому стакан воды. Тот, не притронувшись к воде, поставил стакан на стол. — У меня есть сын, инженер, изобретатель, работает на оборонном заводе… Жена стара и больна… Вы, впрочем, всё это знаете… — Знаю, — подтвердил Захаров. — Но вы не знаете одного весьма важного обстоятельства. Важного не для вас, а для меня, для них, моих детей, которых, естественно, я люблю и судьба которых меня теперь интересует больше всего на свете. Впрочем, свою просьбу я включу в показания. Старик склонился над бумагой. Быстрым четким почерком он записал всё то, что рассказал следователю. В конце протокола сделал приписку: «Всё рассказанное здесь моей семье известно не было. Сына и дочь я старался воспитать настоящими советскими людьми. Мне хотелось, чтобы дети мои загладили, смягчили, отработали (не знаю, как лучше сказать, но дело не в словах) вину своего отца. Прошу не трогать их и, больше того, скрыть от них трагедию их отца» Протянув следователю этот протокол, Океановский тихо добавил: — Разве это последнее обстоятельство не свидетельствует, что я враг подневольный?.. — Нет, оно свидетельствует о другом: о степени и глубине вашего падения. — Пусть так. Но вы обязаны учесть… — Трибунал всё учтет, решая вашу судьбу. Следователь под охраной удалил разоблаченного лазутчика и позвал Петренко. Когда тот вошел в избу, они, не говоря ни слова, пожали друг другу руки, радуясь одной большой радостью — радостью бдительных и настойчивых советских патриотов.Исповедь шпионки

Перед судейским столом — женщина: высокого роста, с обветренным лицом, серыми беспокойными глазами, русыми, короткими, гладко причесанными волосами; на ней черный, английского покроя костюм. Женщина покусывает нижнюю пухлую губу: ее одолевает нервная дрожь, мешает овладеть собой, защищаться. А защищаться надо. В сознании мелькает последняя надежда на спасение: может быть, судьи поверят, что она сама обманута, сама попала в сети ловкого и злого человека, из-за любви пошла на страшное дело. Надо рассказать об этом суду, и рассказать так, чтобы поверили в ее искренность, в то, что она открывает свое сердце. Женщина отказывается от защитника. Ни судей, ни прокурора она не боится. Они поймут, должны понять ее сердце, ее ошибку, понять и пощадить… А может быть, не следовало отказываться от адвоката? Во всяком случае, пусть не думают, что ей нужны помощники, чтоб уйти от возмездия. Она примет любое наказание, но только не смерть… Борцов, председательствующий по делу, вторично обращается к подсудимой: — Что же вы молчите, гражданка? Вы, разумеется, можете не давать показаний суду. Это ваше право. Но лично я не советовал бы вам молчать. Иначе мы будем решать вопрос о вас на основании материалов предварительного расследования. Закон дает нам эту возможность… Прошу: дайте показания по существу предъявленного вам обвинения или сделайте заявление, что вы этих показаний дать не желаете. Женщина выпрямилась, посмотрела в окно. Небо безоблачное, просторное и ласковое. Хотелось бы думать о чем угодно, только не о суде, не о своей печальной участи. Но ее торопят, требуют ответа. Придется уступить. — Мне трудно, очень трудно говорить… Но я решила, я хочу, я буду исповедоваться… — Подсудимая стремительно повернулась к судьям: — Я хочу исповедоваться перед вами, граждане судьи, а через вас перед всем народом. — Она поднимает глаза к потолку. В руках мнет белоснежный носовой платок, с розовой каемкой, с большой буквой «А», вышитой в трех углах. — Я только прошу дать мне возможность рассказать всё, с самого начала и до конца. Женщина вопросительно замолчала. — Вы можете говорить всё, что относится к вашему делу, — разъяснил Борцов, — но не больше; в сторону прошу не отвлекаться. — Что относится к моему делу?! Как мне определить границы? Это очень трудно, почти невозможно… — Суд вас слушает! Подсудимая начала издалека. С неудачной любви своей матери. Мать была дочерью крупного новороссийского купца. Отец воспитывал ее в строго патриархальном духе. В 1918 году богача постигло несчастье: его единственная дочь должна была стать матерью от случайной связи. «Спуталась», как он говорил, с каким-то офицером. Офицер обещал жениться, но исчез. Отец проклял дочь, выгнал из дому, а через некоторое время вместе с белыми бежал в Грецию. Мать работала в советских учреждениях. Умерла она недавно; подсудимая тогда уже работала на телеграфе. Как-то вскоре после смерти матери в их район приехал молодой человек, сразу обративший на себя внимание. Это был землемер, присланный взамен старика, ушедшего на пенсию. У нового землемера была не только выгодная внешность — высокий рост, стройная фигура, пышные каштановые волосы с зачесом назад, карие ласковые глаза, — но весь его облик, все его манеры говорили о том, что это человек хороший, обладает тактом и чуткостью. Они познакомились. Стали встречаться. Скоро между ними возникла привязанность. Подчиняясь требованиям сердца и судьбы, они закрепили свое чувство законным браком. (Она понимает, не все люди верят в судьбу. Но тогда она верила и в судьбу и в святые чувства своего избранника…) Жили они очень хорошо. С увлечением работали, горячо интересовались делами друг друга, умели и развлечься: посещали концерты, театры, ходили в кино и всегда были вместе — это было его желание. Примерно во второй половине мая 1941 года (более точно назвать дату она, к сожалению, не может), когда еще никто в городе не догадывался о приближающейся войне, в их отношения с мужем ворвалось нечто новое. Муж сообщил: скоро вспыхнет война, каждый человек обязан заранее определить свое отношение к ней. Это во-первых. И во-вторых, все его симпатии на той стороне. Понимает ли она его? Она искренне ответила, — нет, не понимает. Тогда он рассказал о своей шпионской деятельности. Да, да, он давнишний шпион! К сожалению или к счастью, ему судить об этом трудно, но и она тоже шпионка, его ближайшая и активная помощница во всех делах, которые совершаются в этом районе, в этом городе… Она не поверила мужу: нашел чем шутить! Ведь у нее, по наследству от матери, больное сердце… Однако муж не обратил внимания на упреки жены. Он достал из кармана крохотный блокнот и, перелистывая его странички, испещренные какими-то остроконечными значками (после она узнала, что это шифр), спокойно перечислил факты, позаимствованные им из ее рассказов о работе на телеграфе. Все эти факты касались обороны нашей страны, и, по его словам, они уже были переданы, как он выразился, нашим «сегодняшним врагам и завтрашним друзьям». Даже смерть матери не потрясла ее так сильно, как это чудовищное объяснение. Она потеряла сознание. А когда очнулась, муж с тем же неумолимым спокойствием подчеркнул ей безвыходность ее положения… Она не должна думать, что он женился по расчету. Нет, тут просто удачное совпадение. У него ведь в этом смысле и на своей работе прекрасные возможности. Одна съемка местности чего стоит! Следовательно, никакой личной драмы нет, любовь остается в силе, будет и впредь такой же светлой и радостной… Она, конечно, может пойти куда следует (а вернее, куда не следует, — шутливо добавил он) и обо всем рассказать. Разумеется, в этом случае ему обеспечена «вышка» — смерть… А ей? Судьба ее сложится не лучше. Они совместно успели уже причинить огромное зло тому народу, от имени и в интересах которого будет действовать правосудие. Может быть, целесообразней поэтому не горячиться, проявить благоразумие, выдержку, немного поволноваться и… снова зажить в свое удовольствие?! С этими словами он выложил на стол несколько пачек новеньких сторублевок — 25 000 рублей. Она может располагать ими по своему усмотрению. В любое время он может получить еще, и столько, сколько им потребуется. Само собой разумеется, злоупотреблять деньгами не надо, следует опасаться бдительности советских людей… Тут же муж потребовал от нее новых данных, как будто бы для уточнения старых. Она подчинилась этому требованию, но в душе решила завтра же бежать… Надо спасаться во что бы то ни стало! Пришло «завтра», но оно не оправдало надежд: женщина осталась с петлей на шее, у нее нехватило силы расстаться с мужем, которого, даже теперь, она продолжала любить. Ею овладело тупое равнодушие. Она решила во всем положиться на господа. (Подсудимая просит не осуждать ее религиозность. У каждого человека свои убеждения.) Когда началась война, муж убедил ее, что как только фашисты займут их район, — можно будет уйти в отставку, на обеспеченный, бессрочный отдых. Риск позади, страх позади. А впереди — бесконечное счастье… Через некоторое время немцы действительно приблизились к району, уже слышались орудийные выстрелы. И он и она «работали» с крайним напряжением сил, похудели, проводили ночи без сна. И с каждым днем она всё явственнее ощущала изнуряющий душу страх; она боялась признаться в этом мужу, боялась, что он прикончит ее. (Муж рассказывал, что, по правилам их работы, малодушных беспощадно убирают с пути.) А неприятелю необходимы были всё новые и новые данные. Спешно, особо срочно! Порой казалось — всё рухнет, не выдержат нервы. Спасала близость избавления: еще день-два, пусть неделя, и они свободны навсегда! Они заберутся куда-нибудь в немецкий тыл, возможно, в какую-нибудь другую страну. (Она серьезно мечтала попасть в Грецию, повидаться с дедушкой.) Не тут-то было: гитлеровцев остановили. Муж и она получили приказ эвакуироваться из района вместе с советскими гражданами, однако не дальше прифронтовой полосы. Роль им вменялась прежняя. Она обязана будет любой ценой устроиться на работу, связанную с телеграфом… Он же… С ним было сложнее, — во всяком случае так говорил он. Землемеры в прифронтовой полосе не нужны. На военную службу его не брали: имел устойчивую «чистую». Возможно, устроится каким-нибудь эвакуатором при местном Совете или займется любой другой работой, лишь бы не навлечь подозрений… Она не выдержала, спросила в упор: — Когда же конец?! — Никогда, — ответил он как будто даже с огорчением. — Это на веки вечные. С этого «дела» отпускают только на тот свет, и обычно раньше, чем хотелось бы… Даже если кончится война, всё равно не уйти: «дела» будет по горло, каждый твой шаг, каждое твое желание — всё будет учитываться, всё принадлежит не тебе, а им. После войны мы займемся вылавливанием неблагонадежных, всякой там крамолы. Это тоже ценится и оплачивается щедро… Она еще раз ужаснулась и… снова положилась на волю господа. Эвакуировались в небольшой город В. На работу поступила сравнительно легко (она заранее запаслась отличными рекомендациями) и работала не покладая рук, с начальством и сослуживцами установив добрые товарищеские отношения. Ей доверяли, никому и в голову не приходила ее истинная роль. И тем не менее, душа была в смятении, что-то черное, отвратительное подбиралось к ней. Муж с некоторых пор повел себя странно. Они стали жить раздельно… Причем она не знала, где он живет. Даже сведения она должна была передавать ему где-нибудь на улице. Места встреч он назначал каждый раз новые. Всего этого требовали якобы условия особой конспирации. Нервы бунтовали. Она часто плакала, по ночам просыпалась, вскакивала, пыталась куда-то бежать, часами потом дрожала мелкой дрожью и думала, думала, думала… Решила, наконец, объясниться с мужем. Иного выхода нет, всё равно пропадать. Выслушав жалобы, муж сказал, что, вероятней всего, они снова «воссоединятся»; он уже запросил соответствующее разрешение (собачья жизнь, согласитесь сами!). Она ссылалась на свое бессилие, на страх. Загнал куда-то на окраину, забыл, что она женщина, забыл о своей прежней тактичности и чуткости, — всё забыл. Эта беседа закончилась мерзко: он надерзил и открыто угрожал. Очередная явка. Она должна, как всегда, с точностью до одной минуты — в 21 час явиться на Первомайскую улицу, к дому 12 и там передать мужу важные данные. Она решила еще раз поговорить с ним. Ей казалось, что она его теряет… Но это невозможно! Она не может остаться без него… Она ему скажет, что не желает впредь стоять в стороне от его хлопот, его усилий… Теперь она знает свою роль и хочет вести ее так, как надо: смело будет смотреть опасности в глаза, будет радоваться его радостями, страдать его страданиями. Она вернет его расположение, вернет! Размышляя об этом, она обнаружила, что сбилась с пути. Плохо!.. Муж ждать не будет. Он предупредил, что одно ее опоздание, и его перебросят в другую местность… Но что общего между ее оплошностью и его работой? Не придирка ли тут? Может быть, он ищет предлога порвать с нею, избавиться от нее? Уж лучше убил бы… Плохо зная город, она спросила встречную женщину, как пройти на Первомайскую. «Такой улицы поблизости нет». Пошла дальше. Натолкнулась на какого-то человека, спросила всё о той же Первомайской. Человек закурил, видимо, умышленно, чтобы раз глядеть ее лицо. Она успела определить, что он лейтенант, танкист, совсем еще юный. Лейтенант оказался очень любезным. Он великолепно знает Первомайскую улицу, им по пути. Она растерялась: как быть? Как отвязаться от ненужного спутника?! Не дай бог заметит муж, она тогда пропала… Лейтенант шел рядом, посматривая на нее. Неужели он чувствует ее состояние? Говорят же, что можно не только чувствовать, но и читать мысли на расстоянии… А что если он работник специального органа? Лейтенант спросил, какой дом ей нужен. Назвала первую пришедшую на ум цифру. Лейтенант оживился. Какое приятное совпадение: это как раз тот дом, где он расквартирован с товарищами. Интересно, кто ей нужен? (Неужели это замаскированный допрос?). Что ответить? Надо снова врать… А вдруг невпопад?! Она машинально прислонилась к заборчику. Лейтенант извинился и взял ее под руку. Он считает своим долгом помочь ей. Она сделала слабую попытку освободить руку, но из этого ничего не вышло. Лейтенант спросил, почему она дрожит. Промолчала. Что ответишь?! Напряжение нарастало. Лейтенант, после длительной паузы, снова стал допытываться, кого же ей всё-таки надо в доме номер 20? Она рискнула; ей надо девушку, по имени Вера… — Веру? — В голосе лейтенанта она почувствовала не то насмешку, не то удивление. Значит — ошиблась. — Правильное ее имя — Вероника… И Вероники у них нет. Дом № 20 — совсем крохотный, всего из трех комнат. В одной живут хозяева, старик и старуха, две других занимают они, военные. Да и вся Первомайская — небольшая улица, они давно здесь расквартированы и знают на этой улице всех местных жителей. Ни Веры, ни Вероники здесь нет. Может быть, она ошиблась в имени, а быть может и не только в имени?.. И лейтенант многозначительно пожал ее руку. Она решила воспользоваться этим намеком: да, отчасти он прав — никакой девушки ей не нужно, никого она на Первомайской не знает; и улица ей нужна другая, и дом номером другой… Так и быть, она будет откровенна: тайное свидание с любимым, с одним военным, которого знала еще в детстве, с которым долго не виделась, а теперь встретилась совершенно случайно, и он ее пригласил. Муж ревнив и деспотичен, если узнает — прибьет… Язык ее заплетался, она и сама понимала, что говорит не то, но потребность оправдаться в глазах опасного человека заставляла ее продолжать… Сейчас она даже не помнит всего, что тогда говорила. В конце концов, попросила лейтенанта оставить ее в покое. Нехорошо приставать к одиноким женщинам!.. Резко освободив руку, она сделала попытку уйти. И тогда услышала: — К сожалению, я вынужден задержать вас. Сами понимаете, такое время… — Да вы с ума спятили, молодой человек! — Не знаю… Может быть, я и неправ… — Лейтенант, подумав, продолжал: — Где бы нам лучше провериться? Вы особистов не боитесь? Ей ничего не оставалось, как решиться на крайность. И она решилась: с криком о помощи вцепилась в своего смертельного врага, стала царапать ему лицо, руки, кусалась, стонала. А когда подошли какие-то люди, рыдая заявила им, что лейтенант хотел ее изнасиловать. Их немедленно отправили в прокуратуру… Она повторяет еще раз: до сих пор, даже в нынешнем ее трагическом положении, она не может без стыда и сердечной боли вспомнить об этой дикой выдумке. Она прибегла к ней простоинстинктивно, когда почувствовала опасность, но раскаялась не сразу… Нет, нет, насилия к ней не применяли и не запугивали, просто настойчиво допрашивали — и только. В прокуратуре она заметила к себе сочувствие. С ней обращались подчеркнуто вежливо и как с женщиной и как с… потерпевшей. Совсем иначе отнеслись к лейтенанту. Его сдержанные объяснения подвергли ядовитому и даже грубому сомнению. И всё же она боялась, что не сможет довести до конца так удачно начатую роль, — где-нибудь сорвется. Пока выясняли личность лейтенанта, она лихорадочно подбирала подходящие ответы на вопросы, которые непременно ей зададут, и зададут немедленно. Надо убедительно объяснить, куда и зачем она шла. Почему по-разному отвечала лейтенанту… Впрочем, это ее дело, не хотела говорить правды. А что касается цели… Просто гуляла, вышла подышать свежим воздухом, и он пристал. Хотела по-хорошему избавиться, вежливо, просила, умоляла — ничего не помогло. Спасибо, подоспели прохожие… Всё получалось логично, стройно, доказательно. Началось следствие. Оно велось быстро, горячо. Ни одному слову лейтенанта-артиллериста не верили, каждое ее слово принимали за истину. Во многом этому способствовал сам лейтенант: он вел себя не только гордо, но и дерзко, обзывал следователя то чернильной душой, то мокрицей; короче говоря, между ними происходили беспрерывные стычки, пока в дело не вмешалась какая-то другая, непонятная ей сила: заменили следователя, с лейтенантом стали обращаться мягче, но допрашивали его всё же как обвиняемого. Она тоже решила изменить к нему отношение. Ей надоела игра… Нет, это не то слово. В ее сердце поднялась буря, если угодно, буря сострадания к несчастному молодому человеку, полному сил, энергии, чистому и честному воину. А какой он был гордый, независимый. Ведь если она не раскается, не скажет правды, он погибнет. И она раскаялась, подробно рассказала о работе своей и мужа, с начала и до конца. Больше того, она активно помогала поймать мужа. К сожалению, из этого ничего не вышло: он бесследно исчез, видимо, перебежал к ним, к своим повелителям и покровителям… Он будет жить. Это очень обидно, хотя она и любит его попрежнему. — Вы говорите о своем раскаянье… Но ведь оно появилось после того, как следователь, доверяя вам, всё же решил поближе познакомиться с вами? — К сожалению, эти моменты совпадают. Подсудимая замолкла. За всё время своих показаний она так и не изменила театральной позы. Правда, глаза смотрели теперь по-иному: беспокойные огоньки погасли, пустой взор скользил по лицам судей, голос постепенно угасал. В конце своей «исповеди» женщина уже не говорила, а шептала. Председательствующий спросил: — Почему вы мало рассказали о записной книжке мужа? Прошу вас, подсудимая, осветить подробнее эту сторону вашего дела. Где обнаружена книжка? Можете ли расшифровать ее записи? Известно ли вам ее содержание? — Записная книжка, действительно, принадлежит моему мужу. Ее я увидела впервые в тот день, когда муж сделал признание и, без моего на то согласия, объявил меня своей помощницей. Книжку обнаружили при обыске, в моем чемодане. Как она там очутилась, понятия не имею; муж был очень осторожен и аккуратен во всем, что касалось его работы… Расшифровать записей я не могу: не знаю шифра. — Ясно. Теперь скажите, вы переписывались с дедушкой? — Да. — С какого времени и как часто? — Сразу же после смерти матери. Я написала ему о случившемся. Он ответил. Приглашал к себе, обещал большое наследство. У него, кроме меня, никого нет. Переписывались мы не часто. — Материально он вам помогал? — Обещал, но я в этом, как вам известно, не нуждалась. Просила его не беспокоиться… — Понятно… Сколько же вы с мужем накопили денег и где их хранили? — Около 80 тысяч рублей. Хранил муж, но не думаю, чтобы в сберкассе. Это могло бы вызвать подозрения… По правде сказать, меня это тоже мало интересовало. — Но вы свободно пользовались этими деньгами или были ограничены? — Совершенно свободно. Признаться, я жила очень хорошо. — Можно, следовательно, сделать вывод, что вы изменили Родине обдуманно и корыстно? — Гражданин председатель, это так и не так. — А как же иначе! Вы передавали врагу ценные секретные данные. За это враг платил вам деньги, и вы их расходовали, без ограничения, на свои нужды. Как это назвать? Это и есть предательство и шпионаж. Так или нет? — К сожалению, так… На вопросы прокурора подсудимая ответила: — Всё же я считаю, что добровольно отступила от ложнообличительной позиции в отношении лейтенанта. Повторяю, мне стало его жаль. Да, я не отрицаю, что исчезновение мужа и обнаруженная у меня записная книжка с зашифрованными секретными данными по моей работе — серьезная улика против меня. Но я еще и еще раз категорически утверждаю, что не это толкнуло меня на раскаяние. Согласитесь, гражданин прокурор, что мне лучше знать свои мысли и переживания… Реплика прокурора: — Это верно. Но чтобы вам поверили, нужны убедительные доводы. Лично я, например, думаю, что вы подменяете одну лживую версию другой. Подсудимая: — Нет, гражданин прокурор, я говорю только правду, я исповедую свою душу. Это единственная у меня возможность избавиться от грехов, которые я вольно или невольно совершила. Перед судьями свидетель — лейтенант-артиллерист. Свидетеля выслушали с исключительным вниманием… Она, эта монашески-смиренная особа, в тот памятный вечер была совсем иной — смелой, говорливой, а главное — подозрительно путаной. Последнее обстоятельство и понудило его поступить с женщиной так, как он поступил. В самом деле, чем была вызвана ее нервозность? Тем, что он хотел проводить ее? По ведь ему в самом деле было по пути… Судебное следствие закончилось. Слово получил прокурор. Он начал с указания на то, что подсудимая отказалась от адвоката. Это ее дело. Подсудимая верит в бога. Это ее право. Подсудимая назвала свои показания — исповедью. Следует добавить, что это не просто исповедь, а исповедь шпионки, то есть человека, который предал землю, на которой он молился (нечего сказать, — верующая!), предал своих братьев и сестер по крови, всячески содействовал их гибели. Трудно представить себе кого-нибудь подлее и гаже предателя и изменника Родины! Подсудимая признала основное — шпионаж. Однако, признав свое преступление, она всеми доступными ей средствами старалась смягчить свою вину. Основным оружием для этой цели она избрала старое испытанное средство — игру на искренности, на чистосердечном раскаянии. Да, да, самая настоящая игра. И это не трудно доказать. Подсудимая полюбила. Любовь ее к «чуткому» землемеру совпала по времени с горем — со смертью матери. Возможно; тут ничего противоестественного нет. Но вот подсудимая узнала о страшном, узнала, что муж вовсе не землемер, а лазутчик. Что обязана была сделать, не только по закону, но и по совести, честная женщина? Разоблачить врага. В этом случае, она, как честно и своевременно раскаявшаяся, была бы отдана под суд, но не как шпионка, а как неосторожно выдавшая мужу государственные секреты Что же сделала подсудимая? Продолжала любить, продолжала подличать, теперь уже сознательно, загородилась боженькой (Между прочим, пора уже всем шпионам и их повелителям сдать в архив этот прием: избит он, затаскан!) Получала щедрые подачки от своего старшего партнера-мужа и жила на вырученные деньги в свое удовольствие. Но вот хозяин повелевает покинуть насиженное место, перебраться в другое и продолжать преступную работу. Почему бы ей не воспользоваться этим моментом, не прийти с повинной? Тут можно было бы говорить о каком-то снисхождении, смягчении ее вины. Сейчас же для этого нет никаких оснований. Больше того, подсудимая предстала перед судом как хитрая и закоренелая преступница. Одни ее приемы чего стоят — например, симуляция покушения на изнасилование. Поставить под удар честного человека, честного офицера, патриота — это мог сделать только человек без стыда и совести. Любой ценой она хотела спасти себя и погубить своего обличителя. Не удалось! Замысел сорвался. Тогда она, по независящим от нее обстоятельствам, перешла на другую роль. Подсудимая упомянула здесь о какой-то непонятной для нее силе, которая изменила ход следствия, которая сделала ее, потерпевшую, обвиняемой, а теперь подсудимой. Эта сила — бдительность наших людей, они получили дополнительные данные, разоблачили врага и спасли честного человека… Ей ничего не остается, как сделать новую попытку уйти от возмездия. Она надевает тогу смирения, становится в позу полуактрисы, полумонахини. Если раньше подсудимая играла на нашем бережном отношении к женщине, на охране нравственных устоев, на беспощадной борьбе с нарушителями этих устоев, то теперь она играет на другом: у нас в почете честное признание своих ошибок, и мы иногда щадим таких лиц, таких «раскаявшихся грешников». Подсудимая предусмотрительна, но мешают факты. Вот некоторые из них. Факт первый — подсудимая на новой службе скрыла, что она замужем и что ее дорогой супруг прибыл сюда одновременно с ней. Факт второй — при обыске у подсудимой нашли записную книжку, о которой она якобы не знала. Содержание записок расшифровать удалось, установлена прямая связь между работой на телеграфе подсудимой и «работой» ее мужа. Факт третий и последний — исчезновение мужа, который настолько был осторожен, что скрыл от любимой супруги свой адрес… Конечно, после таких красноречивых фактов ничего не остается, как изображать из себя невольную грешницу и каяться перед судом, народом и господом… Нет, не уйти подсудимой от расплаты. Факты изобличают ее как выродка, как заклятого врага! Подсудимая от речи в свою защиту отказалась. Пусть суд выберет сам из ее объяснений всё, что говорит в ее пользу, пусть взвесит на весах правосудия добро и зло, взвесит и вынесет справедливый приговор. В последнем слове подсудимая ограничилась небольшим заявлением: — Может быть, гражданин прокурор и прав, может быть, я не достойна пощады. Скомканный беленький платок с буквой «А» на трех углах был нервно зажат в кулаке. Антонина Адольфовна Алябьева добавила: — Мое тяжкое преступление не позволяет мне просить о пощаде. Чувствую всем сердцем, что вы не можете пощадить меня… На этот раз сердце ее не ошиблось, впервые подсказало ей суровую правду.
„Секретный сотрудник“

Марии минуло 27 лет. Она считала себя потерянной для семейной жизни. Кому нужна такая некрасивая: коренастая, большеголовая, широкоплечая! А руки? Такими ручищами впору дубовые брёвна катать. Кто может подумать, что она, Мария, кончила институт иностранных языков и успешно преподает в средней школе? Нет, не случайно ее не замечают мужчины. Увы, как видно, главная сила женщины — ее внешность, привлекательность… Мать Марии думала иначе. Она решительно не признавала невзрачной наружности дочери. Девка что надо: здоровьем так и пышет, на все руки мастерица, в городской газете портрет недавно поместили, всюду хвалят ее Марию, не нахвалятся. Что же еще надо? С лица воды не пить — это давно известно. Вся беда в том, что Мария скромна. Однажды — это было в первые дни войны с Финляндией — мать сказала: — Пора тебе, родная, взяться за ум, самой поискать свое счастье. Оно ведь, счастье-то, не только в учености, не только в работе… Мария смотрела на мать с недоумением: — Я не понимаю, о каком счастье ты говоришь? — Что ж тут непонятного? Чует мое сердце, что ты в девках останешься. Всё молчишь, всё ждешь, а теперешний мужчина любит, чтоб женщина сама проявила к нему интерес. Мария нахмурилась: — Вот что, мама, у каждого человека свое счастье. Прошу тебя: не будем больше говорить о моем замужестве…
* * *
Случилось так, что вскоре после этого разговора в столовой к Марии подсел молодой человек. Он был недурен собой, что-то располагающее светилось в его умных, ласковых и добрых глазах. Он показался Марии не то грустным, не то застенчивым. Вспомнив разговор с матерью, она подумала: «А почему бы мне, в самом деле, вот сейчас, сию минуту, не заговорить с этим молодым человеком? Может быть, у нас нашлись бы общие взгляды, вкусы, интересы?.. И почему, собственно, знакомство должны начинать мужчины? Откуда у них это право, кто его закрепил за ними? Пожалуй, мать права — надо самой искать свое счастье». И Мария, подавив смущенье, обратилась к молодому человеку: — Простите… который час? Спросила и вспыхнула… Молодой человек ответил. Ответ его прозвучал просто, непринужденно. Завязался разговор. Вскоре они беседовали так, словно были давно знакомы. Анатолий Яковлевич Суров оказался милым добродушным парнем. Они вместе вышли из столовой, продолжая спор о стихах Есенина: Толя Суров целиком отвергал поэта за упадочничество, Мария, наоборот, защищала его за глубокие лирические чувства. Подошли к трамвайной остановке. — Жаль, что мы не можем закончить беседу, — сказала Мария, — мне надо ехать. — Я тоже жалею, — отозвался Суров, — у вас очень интересные мысли. Честное слово! Если не возражаете, мы как-нибудь продолжим нашу беседу… Мария засмеялась: — Не возражаю. — В таком случае завтра в те же часы и в той же столовой… Хорошо? — Согласна. До завтра! Они расстались, крепко пожав друг другу руки. На следующий день молодые люди снова вместе обедали в столовой. После обеда долго гуляли по городу, продолжили свой спор и чувствовали, что он доставляет им обоим большое удовольствие. Прощаясь со своим новым знакомым, Мария смущенно спросила: — А что, Толя, если я приглашу вас к себе на чашку чая, познакомлю с мамой? — Если пригласите, приду… Он смотрел на нее своими добрыми глазами и улыбался. Улыбался по-хорошему, и Мария почувствовала, что ее сердце готово раскрыться навстречу большому чувству.* * *
Мария ничего не сказала матери о своем новом знакомстве. Если придет, увидит сама. Тайком от нее приготовилась к встрече — купила торт, конфеты, фрукты, даже бутылку вина. Анатолий Яковлевич явился точно в назначенное время, минута в минуту. Поздоровавшись, передал Марии пакет: — Это для общего нашего удовольствия. Мать с некоторым удивлением посмотрела на незнакомца. Суров почтительно поклонился ей. — Это моя мама, — пояснила Мария. — А это, мама, мой знакомый, мой… друг — Анатолий Яковлевич Суров. Разговор как-то не клеился, и Мария пригласила Сурова к столу. На столе появилось не только заготовленное Марией; здесь была бутылка «марочного», десяток пирожных, коробка конфет, яблоки, груши и виноград… — А ведь этот стол напоминает сейчас свадебный, — сказал Суров, лукаво поглядывая на мать и дочь… В каждой шутке есть доля правды. Мария оцепенела от счастья. Чокнулись. После первых рюмок беседа сделалась более откровенной, более сердечной Анатолию не потребовалось много времени, чтобы покорить старуху. «До чего же хорош парень, — думала она. — Обходительный, задушевный! Ай да Мария! Какого сокола поймала! Держись, девка, за него обеими руками, смотри не упусти!» Женщины рассказывали Сурову о себе, ничего не приукрашивая и не утаивая. Она, хозяйка дома, давным-давно овдовела; Мария осталась у нее на руках всего трех лет. Пришлось немало потрудиться, чтобы поставить девочку на ноги, дать ей образование. Теперь, слава богу, все трудности далеко позади. Толя тоже рассказал о себе. Он круглый сирота; с малых лет хлебнул много горя, был и пастухом, и учеником плотника, и сторожем. Не раз усталый до изнеможения спал под проливным дождем, просыпался в грязных лужах. Помог комсомол, направил в школу для взрослых. Нечего скрывать: учеба шла нелегко, пришлось начинать с азов, навыков никаких, да и времени нехватало; его отнимала тяжелая физическая работа ради куска хлеба. Всё же усилия не пропали даром: он получил среднее педагогическое образование. Правда, по специальности работать не пришлось: судьба бросила на другое поприще. К сожалению, он не может сказать, где и кем сейчас работает. Но это почетная работа, требующая исключительной осторожности, иначе, сам того не замечая, можешь повредить делу огромной государственной важности… Кстати сказать, никогда не надо смешивать служебный долг с бытом, не следует на службе жить домом, а дома службой. Всему должно быть свое место и свое время… Как бы в подтверждение этой мысли. Суров сообщил, что он женат, жена как раз и не понимает, вернее, не хочет понять этой простой мысли. Больше того, она предъявляет возмутительное требование — посвящать ее в служебные дела… Чем вызвано ее поведение? — бездельем. И как тяжело сознавать, что жена — близкий, родной человек — не желает заняться общественно-полезным трудом! В результате отношения стали невыносимыми. Он всё чаще думает о том, что развод неизбежен. Жена слишком надеется на свою красоту, но красота лица больше не влияет на него. Теперь он ищет другой красоты — внутренней. Мать сокрушенно вздохнула; она сочувствовала Толе, но не решалась посоветовать развод. Раньше, в ее молодые годы, между супругами тоже были недоразумения, однако люди оберегали семейную жизнь и к разрыву прибегали редко. Лучше будет, если он, Анатолий, обуздает свою строптивую супругу. Впрочем, этот совет мать постеснялась вслух произнести при дочери: та глаз не сводила с Толи. Да и он смотрел на Марию как-то особенно нежно и ласково… Что ж, чему быть, того не миновать. Теперь у молодых на всё свои взгляды, свои законы. Во всяком случае, она, как мать, рада будет любому счастью своей дочери, лишь бы это счастье не строилось на горе другого. Что касается Марии — она тоже горячо сочувствовала Анатолию. Но это было совсем иное сочувствие, тесно переплетенное с вдруг вспыхнувшим чувством. Мария была уже готова ради своей любви пойти на всё. Предложи ей сейчас Анатолий стать его женой без законного развода с прежней женой, она и на это согласилась бы. Пусть ее осудят знакомые, друзья, родная мать. Лишь одно тревожило Марию: что если только домашние неполадки привели к ней Анатолия? Может быть, он просто ищет понимающего слушателя? А пройдет семейная ссора, и не узнает при встрече ее, Марию… Однако тревога оказалась напрасной. Ровно через неделю, поздно вечером, Анатолий пожаловал к своим новым друзьям. В руках у него был большой чемодан. — Я больше не могу, — страдальчески сказал он. — Прошу простить, что ворвался не спросясь. Стыдно признаться, но от суровой правды не уйти: вот уже трое суток, как я скитаюсь по улицам… Долго думал и, наконец, решился: примете — с благодарностью останусь, откажете — уйду, не обижусь… Мать и дочь охотно согласились приютить обездоленного человека. Как же можно поступить иначе? Но мать сгорала от любопытства: что же нового произошло в семье Сурова, почему он ушел из дому куда глаза глядят? Об этом она прямо и спросила Анатолия. — Безумная женщина! — вздохнул тот. — Потребовала, чтобы я бросил работу! Видите ли, она не выносит секретов, тяготится ими, не признаёт их между мужем и женой. А ведь я… Вам, добрым своим друзьям, я скажу всего лишь два слова, и вы поймете мое положение: я… секретный сотрудник! Суров так значительно произнес эти два слова, что мать и дочь замерли, больше ни о чем не смея расспрашивать. С этого памятного дня Суров прочно вошел в новую семью, как любимый муж и желанный зять.* * *
Анатолий Яковлевич Суров приятно удивил обеих женщин: несмотря на свою молодость, он оказался чрезвычайно деловитым, энергичным, распорядительным и даже строгим хозяином дома. Мать почтительно назвала его «настоящим мужчиной» Мария тоже была без ума от радости. Главное, что ценно, — это полное взаимопонимание, повседневная и всё возрастающая взаимная забота. Лишь одно неприятно: ничего не говорит о своей работе, по ночам часто отлучается… Однажды она сказала об этом мужу: у нее не простое женское любопытство и она не собирается ставить ему ультиматум, как первая жена, — она хочет стать еще ближе к нему, хочет слить все свои интересы с его интересами. Чем же он занят? Толя внимательно выслушал ее и покачал головой: — Не к лицу тебе обывательское любопытство! Знаешь, я дал клятву о молчании. Не волнуйся. Не беспокойся… Я тебе доверяю во всем, но клятва есть клятва. Мария смирилась. Толя, видимо, прав. Она больше никогда не станет надоедать ему. И если нужно по делам службы уходить из дому ночью, пусть уходит… Что поделать? Надо терпеть. Ведь он же… секретный сотрудник! И всё же, несмотря на эти трезвые успокаивающие соображения, совместная жизнь Марии и Толи имела свои темные пятна. Прежде всего в их жизнь вклинивались два затруднения: одно с оформлением брака, на чем настаивала мать Марии, второе — прописка Анатолия по новому месту жительства. Оба эти вопроса должен был разрешить сам Анатолий, но он пропадал с утра до вечера, а нередко и ночи напролет. — Что поделать?! — вздыхал он, — сутки ограничены двадцатью четырьмя часами. Кстати, с оформлением брака можно повременить. И без того живем слава тебе господи, позавидовать можно. Что же касается опасений и предрассудков мамы, с этим можно не считаться: на то она и старенькая мама, чтобы жить прошлым, сохранять отсталые взгляды. Когда же теша напоминала о прописке, Анатолий объяснял, что бывшая его жена рассчитывает, по всей вероятности, на его возвращение, а потому и не дает ему отметиться. Впрочем, это всё пустяки. Не стоит омрачать тревогами и беспокойствами безмятежную жизнь. А с управхозом он всегда договорится. Так и жили, благодаря судьбу за счастье. Однако это счастье вскоре сменилось огорчением: на второй день после окончания финской войны Толя Суров получил куда-то длительную командировку.* * *
Пропадал Суров долго — около двух лет. Мать уже стала думать о нем: нашел, подлец, где-нибудь очередных доверчивых слушательниц, морочит им головы! Попалась, видно, Мария на удочку отъявленного проходимца, бабника. Ясно, что за гусь: покрутил, повертел чужой судьбой и смылся. Эх, Мария, Мария, куда ты, голубушка, смотрела, где глаза твои были!.. Зачем поддалась на вежливость, на обходительность? Ох, горе горькое! До чего непутевой бывает жизнь, до чего гадок бывает иногда человек! Она так думала, но говорила другое. Она успокаивала дочь, пыталась обелить Толю, придумать причины его задержки. Во всем виновата его секретная работа; она не позволяет ему вернуться или хотя бы написать, дать знать о себе… Мария всегда охотно выслушивала мать, цепляясь за любое ее предположение. Правда, она и без этого не потеряла веру в порядочность мужа, попрежнему сильна была ее любовь. Только смерть может разрушить эту любовь!* * *
…Суров вернулся на вторую неделю после черного дня — 22 июня 1941, года. Вернулся как ни в чем не бывало, и вел себя так, словно никуда не уезжал: спокойно, деловито. Он даже не счел нужным объяснить жене и тете, где пропадал. Ясно, что на эту тему говорить ему было неудобно: попрежнему мешала секретность службы. Всё же мать не выдержала: — Ну, хорошо, нельзя было написать. Пусть это запрещено! Но неужели нельзя было передать с кем-либо хоть два-три слова: жив, дескать, здоров, чего и вам желаю… За меня, дескать, не волнуйтесь, не пропаду, целехоньким вернусь. — Это уже не два-три слова, а целое послание, — рассмеялся Анатолий. — Значит, нельзя было… В противном случае я написал бы сотни таких посланий… Затем участливо спросил: — Вы лучше скажите, как жили без меня? Не обижал ли вас кто?.. Вот и отлично! Хорошо, что хорошо кончается. Мы снова вместе! Если бы вы знали, как я спешил, как рвался к вам, мои родные…* * *
Продолжая преподавать французский язык, Мария поступила на курсы медицинских сестер. Мать, не считаясь с нормами рабочего дня, сутками пропадала на заводе. Анатолий еще чаще, чем до «командировки», исчезал из дому на двое-трое суток, а иногда и на неделю. Словом, семья, как и многие семьи в те напряженные и тяжелые годы, спутала дни и ночи, забыла о личной жизни, об отдыхе, о развлечениях. Всё было поглощено борьбой — острой, непримиримой. Ни мать, ни Мария не имели теперь времени думать о тех вопросах, которые еще недавно так волновали их, — об оформлении брака, о прописке… В городе заговорили о коварных происках врага. Ходили слухи, что вражеские лазутчики подают тайные сигналы, указывают объекты для бомбежки. Громко прозвучал призыв советской власти: всемерно повысить революционную бдительность! Под влиянием этого призыва мать Марии призадумалась над поведением зятя: зачем он пришел в их дом? Любит ли он Марию? Если любит, почему не прописывается? Почему не оформляет брак? Решила посоветоваться с Марией. Но дочь ответила таким возмущенным отпором, что мать дала себе зарок никогда больше не говорить на эту тему. «Вот разве что родственнице — Грибановой рассказать. Она народный судья, имеет большой жизненный опыт». Грибанова внимательно выслушала обеспокоенную родственницу, но из сбивчивого ее рассказа никаких определенных выводов не сделала. Решила «выехать на место происшествия для производства местного осмотра», лично повидать Сурова. Несколько раз судья «случайно» заходила на квартиру Евдокии Анисимовны, и всё неудачно. Лишь шестое посещение свело ее с Суровым, «красавцем-мужчиной», как она с первого взгляда мысленно назвала Анатолия Яковлевича. Встреча произошла поздно вечером. Завязалась живая беседа. Толя еще в первые месяцы супружеской жизни узнал со слов Марии, что Грибанова — народный судья. Встречаться — они не встречались, — все были очень заняты… Почему же она пожаловала теперь? Может быть, старуха затащила ее с определенной целью? Решив получить ответ на этот вопрос, Суров перешел на игриво-легкомысленный тон: — Ох, уж эти мне законники! Всюду и везде они видят преступников… Думаю, вы и меня бы засудили с удовольствием. — При всем желании, Анатолий Яковлевич, не смогла бы: вы не моей подсудности. — То есть? — Суров зорко следил за каждым движением судьи, особенно за глазами. Но в них ничего не было, кроме простодушия. — А как же?! Если бы вы совершили какое-нибудь преступление, вас судил бы другой суд… — Именно? — Суд по месту вашего жительства. — А я хочу, чтобы меня судил трибунал!.. Нет, нет, вовсе не хочу! Смертельно боюсь всякого суда… Никогда в жизни не имел каких-либо проступков. И не летун. Вот, пожалуйста! — Суров с ловкостью фокусника подал судье очутившийся у него в руках паспорт. — Убедитесь сами: здесь имеется одна-единственная отметка о моей работе. Следовательно, тружусь достойно, с работы не гонят. Грибанова как бы машинально взяла паспорт и быстро перелистала; казалось, она ничего в нем не прочла. Но это было не так. За короткие мгновения она успела прочесть всё, что представляло для нее интерес: владелец паспорта был прописан по Боровой улице, дом 1!.. Место работы — неразборчиво, но начало работы, действительно, имеет отдаленную дату: «6/V-34 г.». Паспорт пятилетний. Дату могли и обязаны были перенести. Но почему в таком случае паспорт так потрепан? Жаль, что не успела взглянуть на дату выдачи… Да и не молод ли Толя для такого трудового стажа? Все эти мысли стремительно промелькнули в голове Грибановой. Напрасно Суров ждал дальнейших расспросов. Судья сослалась на усталость, на головную боль и оставила приветливых хозяев. Прощаясь с матерью, Грибанова шутливо сказала: — Совещаясь на месте, суд в единоличном составе приговорил: Сурова Анатолия Яковлевича за недостаточностью собранных по делу улик считать оправданным. — И добавила более серьезным тоном: — Нет, правда, я не нашла в нем ничего дурного. Мать облегченно вздохнула. Прошло несколько дней. В городе нарастала тревога. Участились налеты вражеской авиации и прицельные попадания в объекты жизненной важности. Радио и газеты настойчиво призывали усилить бдительность. Ни одного сомнительного человека не оставлять без тщательной проверки! Благодушие смерти подобно, невнимательность — тяжелое преступление перед Родиной. Снова заныло сердце старой матери. А тут еще Анатолий почему-то косо на нее поглядывает… Непонятен и его не в меру большой интерес к Грибановой. Что ему от нее надо? К чему он расточает похвалы в ее адрес? Она и умная, и дельная, и даже сердечная… Не собирается ли она еще заглянуть к ним в гости? Это было бы очень хорошо… Не говорила ли что-нибудь о нем?.. Странно всё это, очень странно… А что всё-таки здесь странного? За что можно ухватиться, если откликнуться на призыв о бдительности?.. Ох, куда она заехала?! Худо так придираться к человеку, к каждому его шагу, слову, взгляду… Он поймет, рассердится. Мария ей этого не простит. Она ведь безгранично верит ему. С этим надо считаться. Но нельзя не считаться с другим: она чувствует здесь что-то неладное. Грибанова ее успокоила… Но Грибанова что, поговорила с ним часок… А разве за час можно раскусить человека? Улучив минуту, Евдокия Анисимовна заглянула в паспорт Сурова и списала на клочок бумажки адрес его прописки. Не лишне сходить к его бывшей жене, попытать ее… Вот только как лучше это сделать — под своим или чужим именем? Лучше под своим: не умеет она ловчить.* * *
В кабинете следователя, возле его стола, друг против друга, сидели Евдокия Анисимовна и Суров; в углу, слоено всеми забытая, — Мария. Она плохо понимала происходящее, острую схватку между следователем и Суровым. — Следствие располагает данными, что вы никогда не проживали по Боровой улице и нигде на советской службе не состояли… — Очень рад за следствие! — язвительно кинул Суров. — Остроты оставьте! Прошу ответить: подтверждаете вы эти данные или желаете опровергнуть? — Желаю подтвердить, ибо они неопровержимы, — так же язвительно сказал Суров. — Тогда скажите, откуда вы взяли штампы, поставленные на паспорте, а также оттиски гербовых печатей? — Этот мой секрет можно расшифровать: всё дело моих рук… Не в том смысле, что я пользовался чьим-либо ротозейством… Кстати сказать, и это не так уж трудно… Но ведь я — помимо всего прочего — художник, могу нарисовать любую печать, любой штамп, да так, что лучшие эксперты мира не отличат их от настоящих… Хотите, покажу? Дайте тушь, кисточку, бумагу… — Не требуется. Верно ли, что вы «тройник»: во время финской кампании работали на Финляндию, в последнее время — на фашистскую Германию и в перспективе у вас была еще одна страна — кажется, Франция? — Это ваше личное предположение или же следствие располагает данными? — Не отвлекайтесь от ответа. — В таком случае, отвечу словами философа: я знаю, что я ничего не знаю. — А мы знаем, что вы лжете. Достоверно известно, что вы — шпион. — Этого я не отрицаю. Нас с философом надо понимать в том смысле, что ваша Финляндия и ваша Франция к моей шпионской деятельности никакого отношения не имеют. — А Германия? — Я вам уже дал по этому поводу исчерпывающие показания. — Повторите их кратко в присутствии свидетелей. — Понятно… Уважаемая теща и вы, моя «любимая» Мэри… Мария вздрогнула, услыхав это издевательское обращение, а мать вспылила: — Не смей так называть нас! Не смей, не то худо будет! Я не посмотрю, что здесь присутственное место… — Какова?! — воскликнул Суров. — Может быть, и вы, гражданин следователь, присоединитесь к этой фурии? Действуйте вместе. Нет, серьезно, ведь меня впереди не ждет ничего хорошего. — Не будем гадать об исходе вашего дела, — ответил следователь. — Однако не советовал бы вам глумиться над этими женщинами. Вы и без того основательно их подвели. — А они меня? Разве старуха не подвела меня? — Жаль, что раньше не сделала этого! — вскричала мать. — Попрошу, гражданин следователь, оградить меня от оскорблений, — сказал Суров. — Стоит ли вам оскорбляться, Анатолий Яковлевич?.. Лучше будет, если вы ответите еще на несколько вопросов. — Я, кажется, ни разу не отказывался отвечать на ваши вопросы. — Пожалуй, это верно. Прошу, перечислите ваши псевдонимы! — Их было у меня пять: Беспамятнов, Прутиков, Сенокосов, Улыбкин и Светлорусов. — Настоящая ваша фамилия? — Индюшкин. — Фантазируете. Следствие располагает данными, что это псевдоним вашего друга, тоже шпиона. — Рад за следствие; добавлю: и за вас, как за его боевого представителя… — Вы неисправимы. — Хорошо, гражданин следователь, я готов исправиться. Я решительно настаиваю на прекращении допроса: мне надоело торчать перед вами и перед этими куклами… — А я убедительно прошу вас вести себя по-хорошему. Подчеркиваю — прошу, а там дело ваше; по закону вы можете вести себя как угодно, лишь бы не хулиганить… — Спасибо за разъяснение ваших законов… — Стало быть, не ваших? — Не ловите на слове. Ваши они потому, что ими руководствуетесь вы: вы — юрист, а не я! — Ладно… Всё же попрошу сообщить настоящую свою фамилию, имя, отчество, подданство, происхождение, родственные и другие связи на нашей территории. Зачем вы продолжаете игру? При вашем положении… — Вы хотите сказать — безнадежном положении? — Я сказал то, что хотел сказать. — Юристам, как и математикам, следует быть предельно точными. Я не случайно добивался уточнения. Если мое положение действительно безнадежно, могу ли я рассчитывать, что вы облегчите его в какой-то мере, разумеется, при условии моей полной чистосердечности? — Ничего не могу обещать. — Не хотите или не в силах? Простите, что снова добиваюсь точной формулировки… — Участь преступников в известных случаях может облегчать только суд. — В таком случае, — раздраженно прервал Суров, — мы продолжим нашу беседу на эту тему в суде. — И он отвернулся, вызывающе закинув ногу за ногу. Следователь обратился к женщинам: — Может быть, вы желаете задать гражданину Сурову какие-либо вопросы? Мать встала, поправила свои седые волосы; могло показаться, что она хочет произнести пространную речь. Но речи она не произнесла, сказала всего лишь несколько слов, сказала тихо, но очень твердо: — Молодой, а какой страшный!.. Просчитался, однако, гад… Вы уж не взыщите, товарищ следователь, иначе как гадом назвать его не могу… Просчитался, говорю! С запозданием, с трудом, с терзаниями, а всё же вывели тебя на чистую воду. Думаю, теперь не избежать тебе расплаты. И на суд не надейся… Советский суд по совести судит. Можешь и впрямь считать, что твоим подлостям пришел конец! Мария ничего не сказала. Она всё еще с трудом владела собой. До сегодняшнего дня всё происшедшее, по предложению следователя, держали от нее в секрете; она думала, что Сурова арестовали за какие-нибудь промахи по службе, надеялась, что это лишь недоразумение… Теперь же пришлось убедиться в ужасном: человек, которому она отдала свое сердце, оказался шпионом, злодеем, врагом… А как он сейчас глумится над ее чувствами, с какой наглостью ведет себя, смотрит в глаза?! Продолжает ли она его любить? Нет, слава богу! Любовь умерла от ужаса, оскорблений, омерзения… Самоотверженными поступками Мария докажет, что она не последняя среди людей, которые, не щадя себя, отстаивают любимый город, любимую Родину.Человек с ракеткой
1

С волнением шел в родное село Иван Яковлевич Русанов. Пять лет не был он здесь. Школьные товарищи вряд ли сразу узнают его, когда-то тихого и робкого «Жан-Жака Руссо». Он вырос и возмужал. Шутка ли сказать: 25 лет — четверть века! Плохо лишь, что он до сих пор не сумел одолеть одну черточку в своем характере: застенчивость, робость… Почему бы вот теперь, приехав домой, не сказать матери, что любит Веру Семенову, студентку-однокурсницу, очень красивую и очень способную. Самую красивую и самую способную на всем белом свете. Что в этом дурного? Вера права — это ложный стыд, своего рода болезнь… Всю дорогу Русанов настраивал себя на определенный лад. При встрече он обязательно посвятит мать во все планы личной жизни — в скором времени они с Верой создадут счастливую семью. Конечно, мать одобрит это его намерение. Из-за тучного поля ржи на изгибе дороги показался человек. Размахивая палкой, он не спеша шел навстречу Русанову. Не учитель ли это? Точно, это Дмитрий Кузьмич! Неужели он не изменил своей привычки гулять после обеда? Русанов ускорил шаги и через минуту сжимал в своих объятиях Дмитрия Кузьмича. — Ох, ты! Ну и ну! Лев, настоящий лев… А забывать-то нехорошо… Не меня, нет… Мне-то что… Матери жаль — мало писал. Не оправдывайся! Помнишь золотое правило: хорошее поведение в оправдании не нуждается. — Помню, помню, — улыбался Русанов. — Молодец! Ставлю пятерку. Кто ты таков ныне и что от тебя народ может ждать? Порадуй старика! Русанов шутя назвал себя академиком, а дорогой не без удовольствия рассказал учителю, что все пять лет был отличником. Теперь ему предстоит поездка за границу, в Западную Европу. Закончить дипломный проект и завершить одно изобретение. — Специальность моя — геолог-разведчик. — Так, так! — кивал старый учитель. — Жаль, однако, что мало погостишь в родных краях. Дмитрий Кузьмич неожиданно остановился и, придирчиво осмотрев Русанова с ног до головы, сказал раздумчиво: — Молод ты для заграницы… Ну да ничего, обойдется! Только покрепче запомни: в чужих краях надо смотреть на всё нашими глазами — советскими. И жить там надо только советской душой.
2
Пробыв месяц в колхозе, Русанов и пять его товарищей по институту уехали за границу. Товарищи остановились работать в большом столичном городе. Русанов же выехал в провинцию, в горнозаводские районы. Вернувшись затем в столицу, он решил денек-другой побродить по городу, посмотреть, понаблюдать. Во время этих прогулок Русанову примстилась пара: пожилой субъект с клинообразной седоватой бородкой и молоденькая элегантная особа в зеленом платье, в зеленой накидке, с зеленым зонтиком. Он видел их на улицах, в парках, в коридорах гостиницы. Встретил он эту неразлучную пару даже на окраине. Правда, они не затрагивали Русанова, как будто не замечали его. Тем не менее, ему было неприятно: не может быть, чтобы в таком огромном городе так часто случайно могли встречаться одни и те же лица! Накануне отъезда Русанов возвратился в гостиницу поздно вечером. Из ресторана доносилась музыка. Почему бы не зайти и не послушать? Заняв у окна свободный столик, Русанов спросил бутылку лимонада. Слушая вальс Штрауса, он рассеянно оглядывал посетителей… Неподалеку от него мелькнуло что-то зеленое. Всмотрелся. Опять они! За соседним столиком. Субъект смотрел в окно, а его спутница в зеленом, затаенно улыбаясь, щурила ласковые карие глаза на Русанова. Оркестр заиграл румбу. Надоевший Русанову субъект пригласил свою спутницу на танец, и они поднялись, оставив на столике зеленую сумку. В это время Русанову подали лимонад. Напиток показался ему на редкость приятным. Наблюдая за танцующими, за пестротой и причудливыми сочетаниями красок. Русанов вдруг почувствовал тошноту. Поднялся, но тут же потерял устойчивость; столики, музыканты — всё плавно перевернулось и, свертываясь гигантским штопором, исчезло. Русанов очнулся, ощущая ноющую боль во всем теле и шум в голове. Он лежал в какой-то мрачной каморке на железной, жесткой койке. Против него на стуле сидел средних лет человек в белом халате и держал его за руку, видимо, нащупывая пульс. — Ну, слава богу! — сказал незнакомец с облегчением. Он объявил себя врачом и сказал, что Русанов впал в глубокий, опасный обморок. Это случилось вчера вечером в ресторане. Сейчас он находится в полицейском участке… — В участке? — с удивлением переспросил Русанов. Врач несколько смущенно ответил, что после каждого серьезного происшествия здесь принято приглашать в полицию. Возможно, доктор сказал бы еще кое-что, но в эту минуту вошел мужчина в сером костюме, полный, румяный. — Как чувствуете себя, наш гость? — спросил он. — Удовлетворительно, господин начальник, — учтиво ответил доктор. — Если я задам несколько вопросов, это не повредит его здоровью? — Я совершенно здоров, — отозвался Русанов, поднимаясь с койки. — Можно узнать, почему я попал сюда? — Я думаю, господин Руссо, состояние вашего здоровья позволит нам отпустить доктора? Когда доктор откланялся, начальник полиции заговорил. Он отказывается верить, чтобы такой приятный молодой человек, да еще с таким благозвучным именем, способен был на преступление. Очевидно, здесь недоразумение. Дело в том, что вчера вечером в ресторане у молодой, весьма обаятельной особы, супруги одного почтенного господина, похитили сумочку. Сумочка, конечно, сама по себе ценность небольшая, но в ней находились драгоценности. Вором дама считает… его, Руссо… Русанов вздрогнул: что за фокусы! Начальник несколько раз прошелся по камере, потом остановился против Русанова и, взяв его за руку, вкрадчиво проговорил: — Я тоже был молод, горяч и, если хотите, опрометчив. Всё же не до такой степени, как вы, молодой человек. Напрасно вы так нагрубили и ему и, особенно, ей. Это, конечно, не признак вашей правоты. А потом, ваш обморок… Как его объяснить? Возможно, это была симуляция… — Как вы смеете?! — Спокойно, молодой человек, спокойно! — повысил голос начальник полиции и, почти толкнув Русанова на койку, вышел из камеры. У Русанова сжалось сердце: он вспомнил, что с ним нет документов, оставил их в гостинице, когда переодевался. Через полчаса начальник полиции вернулся. Он казался недовольным, но речь свою повел в прежнем благожелательном тоне. Конечно, ничего не стоит погубить неопытного юношу: ведь обстоятельства сложились для него весьма неблагоприятно, факт хищения сумки неоспорим! Однако он, начальник, не просто блюститель порядка и закона, он еще и человек! И вот совесть подсказывает ему, что перед ним невинный. Если бы подозреваемый господин Руссо похитил ценности, то они либо были бы обнаружены у него при обыске, либо возникло бы предположение, что господин Руссо успел передать украденное соучастникам. Но полицией установлено, что он ни кем не общался. Следовательно, вынос и передача ценностей другим — исключаются. Таким образом, обвинение его в воровстве, безусловно, отпадает. Вывод: драгоценности похитил кто-то другой. И он, начальник, дал уже задание поймать действительного преступника. Господина же Руссо он готовотпустить немедленно. Вот и всё. Русанов повеселел. Стало быть, неприятная история закончилась благополучно. А всё же остается непонятным — с какой целью его оклеветали и доставили в полицию? И откуда здесь узнали про «Руссо»? — О, святая наивность! — засмеялся начальник. — Я рад, очень рад, что не ошибся. Молоды вы еще, господин Руссо. Отвечаю на ваши вопросы: первое — о клевете. Это не клевета. Люди, потеряв ценности, хотят их вернуть. Надо понять их отчаяние. Второе — о вашем имени. Вы напрасно хотите отказаться от него. Правда, у вас нет документов и я лишен возможности проверить. Однако у вас сохранилось неотправленное письмо невесте, где вы подписались: «Жан-Жак Руссо»… Не надо, не возражайте, не оправдывайтесь. На этом мы с вами пока и закончим нашу беседу. В своем сердце я сохраню вас надолго. Объявляю вас свободным. Во дворе ждет машина. Когда Русанов вышел, начальник сказал внушительно: — В интересах дела об этом недоразумении забудьте. Разболтаете — навредите себе и… мне. Учтите, что я подошел к вам по-отечески чутко и только в ваших интересах. Затем крепко пожал Русанову руку и пожелал ему благополучно вернуться в свою страну.3
Русанов оставил полицейский участок, подумав о том, что всё же с ним обошлись вежливо. Возможно, кто-то другой и затевал провокацию, но не вышло, помешали. Теперь ему уже ничего не сделают — через два часа отходит поезд. Из гостиницы он отправился на вокзал. За несколько минут до отправления поезда Русанов посмотрел в вагонное окно и… побледнел: на перроне стояла женщина в зеленом, с зеленой сумкой. Стало быть, с сумкой всё в порядке. Но где же муж дамы и зачем она здесь? Заметив Русанова, женщина, не меняя позы, улыбнулась ему. А когда поезд тронулся, подняла зеленую сумку, погрозила его куда-то в сторону и послала удаляющемуся Русанову воздушный поцелуй. — Тэк-с, тэк-с! — многозначительно загремел за спиной Русанова густой бас. Это был Грачев, инженер из группы Русанова, весельчак и балагур, с рыжими веснушками на белом круглом лице. — А хороша, — продолжал шутливо Грачев, — хороша! Теперь понятно, почему твоя личность увиливала последние дни от нашей компании. Тэк-с, тэк-с! — Оставь меня в покое! — вспылил Русанов. — А ты не злись, медведь! — не успокаивался добродушный Грачев. — Я, конечно, понимаю тебя: с собой ее не возьмешь. Сюда мы тоже вряд ли снова попадем. И будешь ты только вспоминать зеленые глаза, зеленое платье, воздушные, а может и не воздушные поцелуи. — Ладно, ладно, — сказал Русанов и растянулся на полке. Появление на вокзале дамочки в зеленом встревожило его. А что если она провожала мужа? Не едет ли он в этом поезде, где-нибудь в соседнем купе? Ведь достаточно ему сбрить бородку и переодеться, и Русанов его не узнает. Но зачем всё это нужно и, главное, кому? Если провокация в ресторане была бесцельной, к чему тогда ее затевали, зачем потащили его в полицию? Чем объяснить, в конце концов, великодушие полицейского? А что значит: «На этом мы с вами пока и закончим беседу?». К чему это «пока»? Или: «В своем сердце я сохраню вас надолго, господин Руссо»… И что он привязался к этой кличке, к этому «Руссо»? Может быть, посоветоваться с товарищами? Но откуда знать, как товарищи поймут его! Нет, нет, он не враг себе. Он ничего не сделал плохого, за что можно краснеть. Уже в самом конце пути Русанов попросил Грачева забыть об улыбке «зеленой куклы». — Странный ты, Иван, — ответил Грачев, — с тобой и пошутить нельзя. Можно подумать, влюбился в эту зеленую даму… Ладно, ладно, никому не скажу о ней ни слова.4
Прошло несколько лет. Русанов защитил докторскую диссертацию. Новатор в науке, он становился всё более популярным. О его работе много писали. Что же осталось в сердце Русанова от того далекого происшествия? Почти ничего. Лишь иногда, во время сна, в памяти проносились смутные обрывки загадочного происшествия. И тогда с утра, на час-два, у Русанова портилось настроение, он становился раздражительным, щемило сердце. Хорошо ли он сделал, что скрыл проклятую тайну? На этот вопрос он так и не мог дать себе вразумительного ответа. Один из отпусков Русанов проводил с женой на Черноморском побережье. Прогулки по парку, катанья по морю, экскурсии и, в довершение всего, спорт. Иван Яковлевич и Вера особенно увлеклись теннисом. Постоянным партнером Русанова был один приметный в тот сезон теннисист Глеб Николаевич Мирский, прозванный курортными острословами «человеком с ракеткой». Мирский привлек к себе Русановых не только мастерством игры. Он был остроумен, недурно пел, танцевал и умел рассказывать любопытные истории. Кем же был Глеб Николаевич Мирский? О нем ходили разные толки: одни считали его актером, даже замаскировавшейся знаменитостью, другие — преподавателем танцев, третьи — мастером спорта, четвертые — художником. Русанов же был убежден, что их новый друг работает в одном из советских посольств. Это угадывалось по изысканным манерам, по знанию заграницы, по разносторонней культуре, и даже, если угодно, это подтверждала и его скрытность — ценное качество дипломатического работника. Правда, Вера считала, что Мирский иногда излишне осторожен, слишком уж окутывает себя таинственностью. К чему это? Почему бы, например, не сказать о своем местожительстве и профессии. Кстати, об этом его надо прямо спросить, обменяться с ним адресами. Нельзя же, в самом деле, терять из виду такого культурного и обаятельного человека. По просьбе жены Русанов спросил об этом Мирского, когда они вдвоем катались на глиссере. Мирский удивился. Неужели он до сих пор не сказал, что он врач-невропатолог, живет и работает на Урале, в одном даже городе с ним, Русановым. Правда, он врач начинающий, никому еще неизвестен. — А вы, кажется, были за границей? — неожиданно, казалось бы без всякой связи с предыдущим, спросил Мирский. — Не кажется, Глеб Николаевич, а совершенно точно. Имел счастье и… несчастье. Русанов засмеялся. Последнее слово вылетело из его уст как-то неожиданно, само по себе. — Почему же несчастье, Иван Яковлевич? — спросил Мирский. — Я пошутил. Это было так давно. — Ах, да, Иван Яковлевич, — воскликнул Мирский, — я всё забываю рассказать вам интересную историйку про одного нашего соотечественника. С ним за границей, не помню где, произошло нечто, напоминающее сказку из тысячи и одной ночи. — Именно?! — насторожился Русанов. Мирский помолчал и коротко рассказал случай, который произошел с Русановым за границей. Правда, он говорил так, что рассказ как будто не имел никакого отношения к Русанову, но от этого легче не становилось. В рассказе Мирского были неточности. Он сказал, что тот гражданин, попавшись в воровстве, назвался Жан-Жаком Руссо и дал полиции обязательство сотрудничать. Безусловно, прячась под вымышленным именем, он и не думал о сотрудничестве, но всё же… — Как вам нравится, Иван Яковлевич, сей гусь, сей российский Руссо? Русанов был потрясен неожиданным оборотом дела. Мирский же, как ни в чем не бывало, запел. — Вы где же подцепили эту историйку? — спросил, наконец, Русанов. — Мне рассказал кто-то из бывавших за границей, а ему — врач, который, по приглашению полиции, пользовал больного. — Врач ли? — Что вы хотите этим сказать?! — изумился Мирский. — Не больше того, что вы сами сказали, — хмуро ответил Русанов. — И… давайте к берегу! Закончим нашу беседу на суше. Это будет для нас обоих безопаснее. Глиссер пошел к берегу. Мирский пожал плечами и сказал: — Прошу великодушно простить, но вы с ума сошли, дорогой Иван Яковлевич! Ей-богу! Нахмурился, рассердился… Что вас поразило в моем рассказе? Откровенно говоря, лично мне во всей этой истории не понравилась лишь выдумка о Жан-Жаке Руссо. Впрочем, врач не был убежден, что всё это правда; возможно, начальник полиции кое-что попросту поднаврал. Русанов молчал. Скромный и спокойный, он вдруг почувствовал, что возненавидел Мирского; с пристани он сразу ушел в свой номер, Мирский же отправился по парку на розыски Веры. Он нашел ее на пляже и пожаловался на неуравновешенность ученого. Обиделся! На что обиделся, почему обиделся?! Вера весело посмеялась над рассказом Глеба Николаевича и обещала немедленно помирить его с мужем. Слушая Веру, Русанов подумал, что, может быть, и в самом деле рассказ Мирского не более, как совпадение… Но всё же неприятные чувства не проходили; он забросил теннисную площадку и избегал Мирского, хотя при встречах был вежлив. Вера не понимала мужа. Она пыталась вызвать его на откровенность. Возможно, с ним случилось что-нибудь серьезное? Русанов отмалчивался.5
После возвращения домой настроение его не улучшилось. Не было сомнения, что Мирский умышленно рассказал ему о Жан-Жаке Руссо, имея в виду именно его, Русанова. Конечно, это была новая провокация. В этом его окончательно убедила ложь Мирского о том, что, дескать, он сам тоже живет и работает на Урале, да еще в одном с ним, Русановым, городе. Мирского никто здесь не знал. Русанов исподволь навел о нем справки в органах здравоохранения. Там тоже о Мирском понятия не имели. Потянулись длинные безрадостные дни. Работа не клеилась, нервы разгулялись во всю, отдых на курорте явно не пошел впрок. Вера пыталась разгадать состояние мужа, его грусть, хмурость, усиливающееся раздражение, — неужели всё это связано с Мирским? Зимой, чтобы забыться, Русанов стал много ходить на лыжах. Как-то вечером забрался в горы, далеко от дома. Наступила ночь — лунная, тихая. Русанов рванулся с места и стрелой полетел с высокой снежной вершины. Лыжи свистели, морозный ветер обжигал лицо. Лыжи стремительно вынесли его на равнину, по упругим снежным покровам — к городу. Всё вокруг стало лучше, милее. Выйдя на дорогу, Русанов увидел идущего навстречу лыжника с большой бородой, в белом плаще. Они поровнялись. Встречный поклонился и спросил, нет ли спичек. Русанов дал незнакомцу спичку. — Если не ошибаюсь, обстоятельства свели меня с Жан-Жаком Руссо? Русанов почувствовал, что лыжи под ним расползаются. Он с трудом снял их, вплотную подошел к «бородачу» и грозно спросил: — Это еще что?! — Ничего особенного, товарищ Русанов, — спокойно ответил «бородач». — Не смотрите на меня так. Уверяю вас, встречаемся впервые. Спешу поэтому отрекомендоваться: представитель той страны, где у вас некогда произошел казус. Ясно? Русанов, неожиданно для незнакомца, схватил его за воротник куртки: — Очень хорошо. Вас-то уж я как-нибудь доставлю куда следует… Пошли! «Бородач» засмеялся в ответ и с такой силой сжал руку Русанова, что тот вскрикнул. — Возьмите свои лыжи! — властно сказал он. — В нашей работе сила и ловкость так же необходимы, как находчивость и ум. Советую учесть это для дальнейшего. А кроме того, при мне оружие. — В руках «бородача» блеснул пистолет. — Я вас долго не задержу. Мне сейчас поручено лишь предупредить вас, что скоро нам с вами предстоит серьезно поработать… — Будь ты проклят, негодяй! — сжав кулаки, Русанов стремительно ринулся на «бородача». Тот ловко отскочил в сторону и снова погрозил оружием: — Пристрелю, как собаку. — А когда Русанов отшатнулся, безапелляционно добавил: — Даю месячный срок — приведите нервы в порядок, а там и за дело… — Выходит, вы уже считаете меня своим? — Выходит, так, почти своим… Вспомните хорошенько свои встречи с нашими людьми: с дамой, которая вас провожала, с Мирским, которого вы на курорте публично называли своим другом. Как видите, ваше обязательство хотя и выдано с глазу на глаз и написано измененным почерком от чужого имени, — в свете последующих фактов принимает для вас неприятный оборот. — Какое обязательство? — Если потребуется, мы сумеем ответить и на этот вопрос. А пока — всё. «Бородач», зорко следя за Русановым и не выпуская из правой руки пистолета, левой быстро надел лыжи и пошел в сторону леса. Русанов вернулся домой разбитый и полузамерзший. Он выпил разведенного спирта и кинулся, не раздеваясь, на диван. Вера еще не спала. Она спросила мужа, хочет ли он есть, но не дождалась ответа. — В чем дело? Что-нибудь на службе случилось? — Раз и навсегда заявляю тебе, — раздраженно ответил Русанов: — оставь меня в покое! — Не груби! — вспылила Вера. — И имей в виду, я тебя не оставлю в покое до тех пор, пока ты не выложишь всё начистоту… Русанов взял себя в руки. — Дай срок, Вера, и я всё тебе расскажу… Да, к сожалению, есть о чем рассказать. Мы должны отсюда уехать. Куда? Не знаю. Но уехать немедленно… Иначе катастрофа, гибель… Больше я тебе ничего не скажу… Пройдет время — всё узнаешь, дай собраться с силами. — Хорошо, милый, — смягчаясь, сказала Вера, — я согласна принять любое решение, лишь бы оно пошло тебе на благо… Вера не сомневалась, что странности мужа — раздражение, страхи — от напряженной работы. Его преследуют навязчивые мысли. В таких случаях, действительно, лучше всего переменить обстановку. Однако из попытки Русанова бежать от врагов ничего не вышло. Он не знал, под каким предлогом оставить службу. Он выбивался всё больше из сил. Приближался срок, назначенный «бородачом». Наконец срок настал. Тогда Русанов перестал выходить из дому. И вдруг грянула война.6
В первую же неделю войны Русанову поручили сформировать бригаду ученых и выяснить на Урале наличное и перспективное сырье оборонного значения. Русанов с радостью взялся за эту работу, он чувствовал себя уверенно и спокойно: конечно, «бородач» исчез бесследно. Однако Русанов ошибся. Через месяц, когда он освоился с новым делом, в его служебный кабинет в обеденный перерыв, как ни в чем не бывало, вошел «бородач». Предложил закрыть дверь и никого не впускать до окончания беседы. Русанов спокойно исполнил требование, вежливо предложил стул и заявил, что он «весь внимание»… Такое поведение Русанова обрадовало лазутчика, — наконец-то Русанов понял свое положение… врага Родины. Ведь за одну только их встречу в лесу ему не сдобровать. Наконец-то Русанов понял, что выбор сейчас у него небольшой: либо немедленная гибель, либо обеспеченная легкая жизнь. Работа предстоит ему не такая уж сложная: он будет информировать о своих достижениях по двум адресам: свое начальство и его, «бородача». Русанов внимательно выслушал лазутчика: — Хорошо… Я прошу вас зайти ко мне завтра… в два часа дня. — Я требую ответа и данных сию же минуту!.. — Нельзя требовать невозможного. Надо всё продумать и подобрать. — Откладывать не имею права. — Согласитесь, что вы явились как снег на голову. Я вправе был думать, что война прервала нашу связь… Лишней готовой копии моих донесений у меня на руках нет, значит надо всё подготовить. Прошу завтра в два часа дня. Русанов решительно указал на дверь. — Предупреждаю, — тихо сказал «бородач», — в случае вашей нелояльности ничто не спасет вас от возмездия. — Прошу, прошу!.. В этот памятный день Русанов явился домой раньше обыкновенного. Он был больше, чем навеселе. Пел, что-то декламировал… Затем подошел к жене, долго и пытливо смотрел ей в глаза: — Допустим, ты очень любишь человека. Допустим, ты безгранично веришь в его чистоту, в чистоту его совести. И вдруг выясняется: твой любимый — дрянь… Нет, не то… хуже, — враг. Я спрашиваю, как поступила бы ты с таким человеком? Вера растерялась: опять начинается старое. С нескрываемым раздражением воскликнула: — Я пожелала бы ему немедленной смерти! — Позволь! А если бы он сам открыл тебе эту жуткую тайну? — Мне надоела твоя болтовня… Говори скорей, в чем дело, или уходи с глаз моих. — Вот что, Вера. Я говорю сейчас о себе, выполняю то, что когда-то обещал… Помнишь? Перед тобой государственный… Русанов осекся. Он хотел сказать — «преступник», но не в силах был произнести этого страшного слова. Сами собой выступали слёзы. Он заходил по комнате. Вера холодно за ним наблюдала — ее глаза были сухие. Она не могла сразу поверить в это страшное признание. Когда же муж бросился на диван и застонал, она сказала: — Встань! Встань немедленно. Возьми себя в руки. Рассказывай всё подробно! Вечерело. Вера хотела было включить свет, но Русанов запретил — в темноте легче рассказывать, и он рассказал всё. Выслушав мужа, Вера облегченно вздохнула. — Какой всё же ты у меня дуралей, — сказала она. Поздно ночью Русанов вышел из дому и побежал по тускло освещенным улицам.7
Следователь усадил Русанова в кресло, подал папиросы, стакан с водой. Долго и сбивчиво излагал Русанов историю последних лет своей жизни. Следователю казалось, что он вот-вот скажет о главном, о предательстве… Несмотря на свой большой опыт, он всё же не мог составить себе отчетливого представления о характере преступления. Что это: желание предупредить какие-то события, сбить с толку или же покаяние запутавшегося человека? Как бы то ни было, решение сейчас может быть единственное: задержать Русанова и приступить к немедленной проверке. Следователь объявил об этом Русанову. Тот, хотя и не ждал ничего лучшего, побледнел и тихо спросил: — Что мне грозит? — На это пока ответить трудно. — Пока? Я всё вам сказал. — Если всё… — следователь взял со стола небольшую брошюрку. На ее обложке Русанов прочел: «Уголовный кодекс». Сердце его упало. Следователь, как будто не замечая состояния Русанова, подчеркнуто спокойно перелистывал кодекс. — Если всё, тогда ничего особенно страшного… Прошу ознакомиться, — и карандашом отметил какие-то слова. Русанов взял Кодекс (он первый раз в жизни дотронулся до этой книжки). Прочел отчеркнутое:«Недонесение о достоверно известном готовящемся или совершённом контрреволюционном преступлении влечет за собой — лишение свободы на срок не ниже шести месяцев».В камере, куда в ту ночь водворили Русанова, он не уснул. Только под утро им стала овладевать тяжелая полудремота. Русанова окликнули. Он вскочил. Перед ним стоял солдат. Следователь встретил Русанова приветливо: — Всё в порядке. «Бородача» изловили у вашего дома. Пожаловал туда на рассвете. Должно быть, решил последить за вами. Теперь чувствуете, как дельно вы поступили, поспешив к нам?.. Да, кстати, ваша жена очень волнуется. Я сказал ей, что вам всё же еще придется пожить здесь. — Я не возражаю… — Вот и хорошо. Русанов спросил — почему враги привязались именно к нему, что они нашли в нем для себя подходящего? На одной из последующих бесед следователь высказал ему свои соображения. Еще в институте Русанов отличался скрытностью и застенчивостью; враги подметили, что молодой человек из ложного стыда боялся признать свои ошибки, даже самые пустяковые, боялся осложнений. А так как он считался способным студентом и профессора пророчили ему большое будущее, враги и решили сформировать из него полезного для себя человека. Первый опыт был проведен за границей. Он, как известно, прошел удачно — расчет врага оказался правильным: Русанов не разоблачил «безобидной» их провокации, «постеснялся», испугался, как бы это не повредило ему, рассчитывал, что всё обойдется само собой. Что дальше было, Русанов помнит и, пожалуй, не забудет никогда. Всё же Русанов вернулся в камеру повеселевшим. Оставаясь в заключении, он помогал следователю разматывать паучье гнездо. Сначала «бородач» упорно сопротивлялся, пытаясь оклеветать Русанова. Но когда врага уличили во лжи, он понял, что для него выход один — заслужить «смягчение», и стал беспощадно разоблачать своих сообщников. С его помощью вскоре поймали и «человека с ракеткой» — Мирского, он же Камской, он же Винников, он же Горелик. Этот шпион не имел постоянного местожительства. За исключением нескольких зимних месяцев, жил на разных курортах, зиму же плутал по железным дорогам — в поездах, на вокзалах, завязывая знакомства и собирая у болтунов необходимые в шпионских целях сведения. Арестовали Горелика в Горьком. Вначале он тоже отнекивался. Когда же увидел Русанова, а потом «бородача», «безоговорочно капитулировал». Следователь закончил дело. Оставалось решить судьбу Русанова. Освободить его от ответственности нельзя. Он виновен — не заявил властям о «человеке с ракеткой». Виновен он и в том, что не рассказал в свое время о провокации за рубежом, но эта вина — моральная. Особенно велика вина Русанова за «бородача». Почему он немедленно не заявил властям об этом злодее? Следователь объявил свою точку зрения Русанову и тут же добавил, что мера пресечения — заключение под стражей — заменяется ему подпиской о невыезде. — Значит, я не предатель?! — радостно воскликнул Русанов. — Значит, нет… Предателей под подписку не освобождают. Но всё же совершили серьезное преступление. Как поступит суд, не знаю. Я бы вам, учитывая ваше чистосердечное признание, предложил отправиться на фронт. — С радостью! О, я буду драться, как… как тигр, нет, нет, как русский человек… Спасибо вам. Если бы я имел право, я назвал бы вас сейчас товарищем, другом, братом… — Подождите, Русанов, может быть суд посмотрит на дело иначе. Постарайтесь убедить судей доверить вам оружие. — Постараюсь… — Ну, ну, желаю успеха. Тепло простившись с человеком, вернувшим ему свободу, Русанов вышел. Что бы ни было в суде, но грязная ноша уже свалилась с его плеч. Конец терзаниям! Конец подлым проискам врага!
8
В ожидании суда Русанов всё глубже и глубже зарывался в работу. О предстоящем ни с кем не говорил, да и ему никто не напоминал об этом. И только накануне суда, в последнюю ночь, они с Верой передумали обо всем. Вера была спокойна за мужа. Следователь, освобождая, знал, что делал. Русанов должен идти на суд готовый принять любое наказание. Но вместе с тем он должен будет просить дать ему возможность своей кровью доказать преданность Родине. Эту ночь они не могли уснуть, но на суд пришли с хорошим чувством. Русанов разнервничался, очутившись на одной скамье с врагами. Неужели нельзя было отделить его от этой своры? Вошел состав суда. Все встали. Председательствующий попросил сесть. Сели не так дружно, как встали. Шпионы жались друг к другу. Русанов инстинктивно отодвинулся от них на свободный край скамьи, к решетке. Вскоре он стал спокойнее: он не враг — это судьи понимают. Русанов решил не защищаться. Не к чему. Записано всё правильно. Его возмутили новые попытки врагов увильнуть от наказания. Не выйдет! Русанов помог суду до конца разоблачить врагов. Под напором фактов они признали свои прежние показания на предварительном следствии. — Русанов! Суд предоставляет вам последнее слово. — Граждане судьи! — с волнением начал он. — Мне, если я правильно понимаю, удалось частично искупить свою вину. Но только частично… Поэтому прошу вас дать мне возможность расквитаться и с ними, с моими сегодняшними соседями по скамье, и с их хозяевами… В студенческие годы я отлично овладел пулеметом и занимался в кружке снайперов. Прошу вас, доверьте мне оружие, пошлите на фронт. Клянусь вам, я выдержу любое испытание, не остановлюсь перед смертью — это будет честная смерть. Я сейчас говорю об этом от всего сердца своего, сердца русского человека. Еще раз прошу: поверьте мне… Русанову поверили. Он был направлен на фронт.9
Отгремели победные салюты. Эшелоны героев-победителей нескончаемым потоком тянулись на Родину с полей грозных битв. Шли они и на Урал. Русанов попал в один из первых таких эшелонов. Приехав домой, он написал письмо своему учителю Дмитрию Кузьмичу:«Милый, добрый учитель! Прошу принять горячий привет и благодарность за поддержку меня во фронтовой обстановке своими задушевными советами… Я уже дома. Радость в семье непередаваемая. Я вернулся с высокой наградой. Не скрою от Вас: образ великого Ленина дает мне право смело смотреть в глаза окружающим… Всё же иногда в душу закрадывается неприятное: суд простил, а кое-кто простит ли? Не скажет ли: «У него, мол, были серьезные грешки, судился… Осторожней с ним!». Проклятое воспитание! Оно во многом явилось причиной моей ошибки. Порой мне хочется громко сказать нашим педагогам: больше занимайтесь формированием психики ребят, выпускайте их из школы более совершенными… Вы хмуритесь, Вам неприятно? Мне тоже неприятно… Если захотите выругать меня за то, что я от обороны перешел в наступление, не возражаю, и прошу немедленно прибыть ко мне… в гости…»Вскоре он получил ответ. Старый учитель писал:
«Не вытерпел я до встречи с тобой, чтобы не написать тебе, блудный сын, несколько «теплых» словечек… Что ж, насчет усиления воспитания в школе ты прав: тут надо много еще поработать. А вот насчет прощения грехов твоих — че-пу-ха: суд простил — значит, и народ простил… Шагай, мой друг, с горячим сердцем, неустанно отвоевывая на благо нашей Родины скрытые у природы богатства!»Русанов поцеловал письмо учителя и бережно спрятал вместе с орденской книжкой.
Особая любовь
1

В стенной газете «За советский быт», которую выпускала группа общественников одного из домохозяйств города, появилась заметка с выражением сердечной благодарности участковому уполномоченному, лейтенанту милиции Дмитрию Константиновичу Гранатову. В заметке рассказывалось, как Гранатов умелым вмешательством помог проживавшей здесь семье. Глава семьи систематически пьянствовал и скандалил; врачи избавить больного от недуга не обещали, — слишком запущена болезнь. Чего не сделала медицина — сделал человек с прекрасной душой: Гранатов… Копию заметки послали начальнику отделения милиции с просьбой прочитать ее на собрании и объявить в приказе Дмитрию Константиновичу большое, большое спасибо. Начальник милиции Горохов вызвал к себе Гранатова, поздравил с успехом и попросил поделиться своим опытом. В объяснениях участкового не всё понравилось Горохову, больше того, поразмыслив, он в принципе осудил «чрезмерное вмешательство представителя милиции в сугубо личную жизнь граждан». Неважно, что жена алкоголика сама обратилась за помощью к Гранатову, не имеет значения и то, что результаты получились хорошие. У милиции есть свои обязанности, кстати сказать, точно перечисленные в инструкции. И начальник отделения, напомнив Гранатову инструкцию, добавил: — Если правильно я вас понял, после появления заметки к вам образовалось нечто вроде очереди просителей по всякого рода семейно-бытовым конфликтам… Хотел бы я знать, кто будет за вас выполнять ваши прямые обязанности? — Очередей у меня никаких нет, — подавляя обиду, сказал Гранатов, — но граждане иной раз зайдут потолковать по тому или иному вопросу. В этом я не вижу ничего плохого. — Лейтенант Гранатов, вы сотрудник милиции, а не юридической консультации. Не путайте этих вещей. Гранатов понял, что возражать бесполезно. Отделение покинул он в отвратительном настроении. Что это — наветы завистников или неверное понимание новым начальником задач милиции? Где, в каком уставе сказано, что выполнение инструкции исключает душу, сердце! Нет, согласиться с Гороховым он не может — совесть не позволяет. Он пойдет к начальнику политотдела Журавлеву и обо всем доложит… Беседа с начальником политотдела началась с шутки. Журавлев рассказал Гранатову одну, скорее всего вымышленную, историйку. Два милиционера-новичка задержали хулигана и повели его в дежурную камеру. Хулиган оказался здоровенным парнем, сопротивлялся, замахивался на милиционеров. Тогда они вынуждены были завернуть ему руки назад. Хулиган присмирел и, жалуясь на неудобства, просил отпустить ему руки. Тут к милиционерам прилип какой-то сердобольный гражданин и потребовал прекратить недозволенные методы в обращении с гражданами. Милиционеры по молодости несколько растерялись и отпустили руки хулигана. Тот немедленно пустил в ход кулак, метя в голову одному из противников. Милиционер пригнулся, и удар угодил в зубы сердобольному гражданину… «Что же вы смотрите, товарищи! — истошно завопил пострадавший. — Скрутите ему руки… Наручники на него, мерзавца, наручники!..» — Урок неплохой, — закончил свой рассказ Журавлев, — действенный. Гражданин, получивший от хулигана оплеуху, просто не понимал нашего положения… Рассказывайте, товарищ лейтенант, что у вас случилось? Гранатов сдержанно поведал о своих разногласиях с начальником отделения Гороховым. Действительно, к нему, Гранатову, граждане иногда обращаются за советами по разным семейно-бытовым конфликтам. Неужели помочь гражданам предупредить или погасить конфликт — не есть прямой долг работника милиции? Заключение Журавлева было кратким: начальник отделения, конечно, неправ. Просят тебя люди о помощи, так помоги. Никакие инструкции не должны тебе мешать. Если же они мешают, значит, что-то неладно с самими инструкциями.
* * *
Как-то, вскоре после беседы с Журавлевым, к Гранатову в контору домохозяйства, где ему был отведен для работы угол рядом со столом паспортистки, зашла молодая, интересная женщина. Викторина Кузьминична рассказала о своей жизни, о своем горе. Это был своеобразный рассказ, в нем содержалось много неясного, много такого, что настораживало… За двадцатитрехлетней Викториной, сотрудницей торгового порта, настойчиво ухаживал тридцатилетний Арнольд Теодорович Безелевич, врач и, по совместительству, учитель танцев. Арнольд познакомился с Викториной на танцах в Доме офицеров и в тот же вечер объяснился ей в любви. Смущенная Викторина не отвергла скоропалительного объяснения, хотя и не отнеслась к нему положительно. Откровенно говоря, Арнольд понравился ей: рослый, с гордым лицом и усиками «бродяги», обходительный и первоклассный танцор, он невольно обращал на себя внимание. Арнольд признался Викторине, что уже слыхал о ней и давно хотел познакомиться. Арнольд ухаживал за Викой, как он теперь называл девушку, настойчиво и красиво, всячески ускоряя события и добиваясь регистрации брака. Он предупреждал каждое желание любимой, осыпал ее подарками и цветами, и вместе с тем предоставлял ей полную свободу действий… Викторина Кузьминична будет откровенной до конца: всё это ей нравилось, и в душе ее стало формироваться ощущение, что она на правильном пути, связывая свою судьбу с культурным, интересным человеком. Зарегистрировались и отпраздновали свадьбу пышно — было на что: средств у мужа и его родителей достаточно (отец тоже врач, мать заведует отделом универмага). Да и у нее, Викторины, был хороший заработок, очень хороший, что отчасти и привело к неприятностям. Арнольд вдруг не поверил в этот заработок, намекая, что деньги добываются, возможно, нечестно. К величайшему огорчению, она не могла точно назвать свою должность: именовалась научным сотрудником, а какого отдела, по какой специальности, сказать было нельзя. Арнольд продолжал настаивать. В семье, где нет полного доверия, никогда не будет настоящего счастья. Кроме того, Арнольд потребовал, чтобы она перестала держать его в стороне от своих сослуживцев. Шутка ли сказать, он до сих пор почти никого из них не знает! Что за затворничество? А через некоторое время появился еще один повод для семейных разногласий… Она расскажет об этом лейтенанту, уверенная, что ее откровенность он не употребит во зло… Дело в том, что муж просил ее через кого-нибудь из моряков передать письмо в некую страну его другу, который волей семейных обстоятельств, а отнюдь не из-за политических убеждений, проживает в этой чужой стране… Пусть не думает Викторина, что это переписка, в записке будет изложена просьба переслать ему, Арнольду, некоторые дефицитные лекарства… Она отказалась это сделать. Муж затаил обиду и стал относиться к ней просто враждебно. Достаточно сказать, что недавно он купил «Москвича», а лично денег зарабатывает как будто немного: в поликлинике всего на полставке, а вот «Москвича» купил… Может быть, помогли родители, но ей это неизвестно… На «Москвиче» он гоняет целыми днями, ее же не пригласил на прогулку ни разу… Какая же это любовь? Да и была ли между ними любовь, если она так быстро исчезла, да еще потому, что она, Викторина, отказалась раскрыть упрямому супругу служебные секреты и переслать недозволенными способами за границу письмо, хотя бы и безобидного содержания?!. Что делать? Как смягчить обстановку? Во многом она могла бы уступить мужу, за исключением одного: расшифровать характер своей работы, а муж в конце концов добивается именно этого. «Любишь, — говорил он, — откроешь душу, не любишь — не откроешь». Возможно, со временем ей и удалось бы как-то урезонить мужа, но осложнения часто идут чередой: ей предстоит длительная командировка. Она должна оставить город месяцев на восемь… На голову Викторины посыпались угрозы. Желательно теперь же оформить и развод. Ей, как важному работнику, который неизвестно куда, зачем и в качестве кого едет в столь длительное путешествие, пойдут навстречу, разведут вне очереди… Развод не так сильно беспокоит ее: как говорится, чему быть, того не миновать, может быть именно сейчас целесообразней исправить эту горькую ошибку. Но вот что неприятно. Выходя замуж, она оставила свою комнату и перешла на площадь мужа… И теперь Безелевичи угрожают ей в случае длительного отсутствия или развода выселением. «Имей в виду, милая, — предупреждают они, — это наша площадь, мы ее направо и налево разбазаривать не будем…» Конечно, она, Викторина, знает, — закон на ее стороне… Но пока закон вступит в действие, сколько ненужных осложнений и затруднений могут подарить ей Безелевичи! Сила у них большая, денег много. К сожалению, как теперь она, Викторина, узнала, ее родственнички живут по неписанному закону: «Всё продается и всё покупается». Взволнованная молодая женщина сдержанно дала понять Гранатову, что они уже и сейчас заигрывают кое с кем, например, с паспортисткой, которую приглашали домой на праздничный обед и даже сделали ни с того ни с сего довольно дорогой подарок… Гранатов, как мог, попытался успокоить посетительницу. Неприятно, что с мужем обострились отношения, но чего не бывает в семейной жизни! Что касается их особого, неписанного «закона», то об этом следует подумать. Есть еще у нас сорняки… Викторина грустно сказала: — Товарищ лейтенант, должна вас предупредить: мой супруг любому дьяволу в душу влезет… Вот вам красноречивый пример — это в какой-то степени даже по вашей части: как я вам сказала, у него есть «Москвич», водит он его очертя голову, лихачески, было уже до десяти нарушений. Сам муж хвастается: другого на его месте давно бы под суд упекли. А у него каждый раз дело кончается «легким испугом», незначительным штрафом… Гранатов хотел записать имя, отчество, фамилию мужа, спросил также номер машины. Викторина взмолилась: она не доносчица и пришла сюда с полным доверием только за помощью… Гранатов смутился: он не собирался причинить зло ее мужу, но, может быть, действительно, кое-кто из работников ОРУДа не понимает своих обязанностей… Кроме того, ее мужу такое послабление тоже не на пользу: лихачество никого до добра не доводит… Викторина сказала тихо: — Впрочем, делайте как хотите, вам видней… Мне всё безумно надоело, и я просто физически устала… Я хочу сказать вам вот еще что. Муж требует от меня такой искренности, в которую вошло бы и разглашение служебной тайны. Но, женясь на мне, он многое не сказал о себе, о своем прошлом, о чем обязан был бы сказать. От других я узнала, что он всю войну провел в плену у немцев, после, как перемещенный, блуждал по каким-то странам. Когда я спросила его об этом, он отделался шуткой: это дело, мол, политическое, а политика, говорят, женщин не украшает и даже пагубно отражается на их материнстве… Ты же собираешься быть матерью! (Мы тогда всерьез думали о ребенке, во всяком случае, я этого очень хотела.) Потом муж зло добавил: «Кому нужно знать обо мне всю подноготную, те, не беспокойся, всё знают». Ну что ж, знают, так знают, ее дело маленькое, она всего только жена — так, по крайней мере, думают и даже, не стесняясь, говорят Безелевичи… В завершение беседы она просит товарища лейтенанта не забыть про нее и, буде обнаружатся незаконные действия Безелевичей, пресечь их… Это главное, с чем она, Викторина, пришла сейчас сюда. Когда Викторина уходила, в контору вошла паспортистка. Она внимательно посмотрела на посетительницу, на лейтенанта и молча села за свой стол.2
Под влиянием разговора с Викториной Гранатов все последние дни думал о своей работе. Ведь не только прямые нарушения должны интересовать его, как уполномоченного, но и тенденция к ним. А в этом случае требуется особая, не предусмотренная правилами инициатива. Где всё же предел служебной деятельности? И всегда ли будет совпадать его служебный долг с моралью советского гражданина? Во всяком случае, Гранатову сейчас уже ясно: для представителя органов, призванных охранять социалистический правопорядок, трудно установить этот предел. Возможно, Викторина Безелевич под влиянием обиды кое-где сгустила краски, но не может же быть, чтобы рассказ ее являлся сплошной выдумкой. Она, скорее всего, сама не понимает опасности… Зачем Безелевич женился на ней? Что руководило им: молниеносная страсть или иная причина? Почему он требует от жены полнейшей откровенности, а сам скрытничает?.. А что значат его обширные знакомства, бесшабашное лихачество, безудержные кутежи?! Деньги в семье есть — работают все и получают прилично, но опять-таки, судя по словам Викторины, средств у них значительно больше, нежели могут дать ставки врачей и заведующей отделом универмага… Интересно узнать, на что в данное время больше всего направлены страсти Арнольда. Жена говорит, что он почти не занимается врачеванием, службу имеет всего на полставки, преподавание танцев бросил, гоняет машину… Всё это весьма примечательно и заслуживает большого внимания. Гранатов не скрыл удовлетворения, когда к нему в отделение милиции через несколько дней зашла Викторина Кузьминична. — Очень рад вас видеть, товарищ, — сказал он, вставая и указывая на стул. — Прошу! — Посетительница села и молчала; лицо мрачное, глаза опущены. — Как жизнь идет, Викторина Кузьминична? — мягко спросил лейтенант. — Жизнь у меня, кажется, окончательно испортилась. К моему огорчению, вы тоже, видимо, приложили руку к этому окончательному крушению моей жизни… Я пришла узнать, зачем, ради чего вы поставили под удар женщину, которая ничего плохого не сделала и зашла к вам с единственной целью… — Я не понимаю, — прервал ее Гранатов, — честное слово, ничего не понимаю… Что случилось? — Ничего особенного, если не считать, что муж на второй день после моей с вами встречи перестал со мной разговаривать; родители его ссорятся, как будто между собой, но, я уверена, имеют в виду только меня. То и дело я слышу эпитеты: «предательница», «внутренний враг», «любовь с помощью милиции» и прочее. Один из друзей Арнольда вчера встретил меня и прямо спросил: «Зачем ты, Вика, сделала это?» — «Что я сделала?» — «Спроси об этом там, куда тянутся вот такие губошлепые дуры, как ты…» Я думаю, этого вполне достаточно, чтобы сделать из всей этой атаки определенные выводы… — Где работает этот его друг? — спросил Гранатов. — Новую неприятность хотите мне сделать? — прищурилась Викторина. — Я хочу узнать, откуда ветер дует… Даю вам честное слово, я ни с кем не разговаривал о нашей с вами встрече, хотя, не скрою, все эти дни много думал о вас, о вашей судьбе… Как зовут этого человека? — Василием Васильевичем, — тихо сказала Викторина, — фамилия, кажется, Чайников, он старший инженер на литерном заводе… Муж часто говаривал: вот ты боишься подпустить меня к своим хахалям, а посмотри, что за человек дружит со мной, у него секретов во сто крат больше, чем у вас там, в каком-то дрянном порту… — Вы сами ни с кем не разговаривали о нашей с вами беседе? — Мне очень хотелось бы, чтобы вы были лучшего обо мне мнения, — обиделась Викторина. И, помолчав, добавила: — Впрочем, промаха теперь уже не поправишь… Оставшись один, лейтенант произнес: — Собака, безусловно, зарыта там, в конторе домохозяйства… Паспортистка — вот кто! И всё же, проанализировав хорошенько, как и при каких обстоятельствах проходила его беседа с Викториной, он не мог сказать, что виновата именно паспортистка. Она появилась в последнюю минуту разговора. Викторина никому не проговорилась, Гранатов тоже. Повидимому, в этой семье за простыми известными вещами есть и неизвестные. Надо что-то предпринять, но что? Он решил посоветоваться с начальником политотдела Журавлевым. Журавлев выслушал Гранатова. Рассказанное заинтересовало его. В самом деле, тут многое заслуживает особого внимания и специального исследования. Насколько это удобно по отношению к Викторине? Так вопроса в данном случае ставить нельзя: любовь к Родине, честное отношение к жизни запрещают это. Кроме того, внесением ясности в ее судьбу будет оказана ей помощь, в чем она сейчас крайне нуждается. Само собой разумеется, оказывая ей помощь, надо продумать каждую деталь. Если Арнольд Безелевич — враг, он примет меры… — Но ведь он почти ничего не знает, — заметил Гранатов. — Для того, чтобы забить тревогу, он знает многое, почти всё. У него конфликт с женой. Паспортистка сообщила, что видела жену у вас, что-нибудь добавила от себя… Всё! Рекомендую вам, товарищ лейтенант, взять под негласную опеку Викторину. Арнольда же я возьму на себя, словом, можете не волноваться…* * *
Гранатов и Журавлев в своем предположении о паспортистке не ошиблись: она, действительно, в тот же вечер сообщила Безелевичам, что Викторина о чем-то совещалась с Гранатовым и, кажется, долго. Ушла от него возбужденная. Родители Арнольда забили тревогу. Надо непременно узнать, что она там наболтала. И надо растолковать Гранатову, что Викторина не достойна доверия, у нее невозможный характер, из-за которого погибает он, Арнольд, да и они, его родители, не знают, что делать, хоть живыми в могилу ложись… Можно попросить паспортистку, а еще лучшесамому Арнольду пойти к уполномоченному и рассказать всё начистоту. Арнольд выслушал родителей и молча ушел в свою комнату. На второй день он зашел в контору к Гранатову и вызывающе предъявил участковому претензию, что тот собирает против него и его семьи грязь. — Что это еще за методы? Скажите честно: о чем вы допрашивали мою жену? Лейтенант и Арнольд в упор посмотрели друг на друга. — Не думаете ли вы, что я должен отчитываться… — Я этого не думаю, — нетерпеливо перебил лейтенанта Безелевич, — у вас была моя жена… и речь шла обо мне… Быть равнодушным к этому я не могу, вы сами это великолепно понимаете. — К сожалению, ничем помочь вам не могу. — Гранатов встал. — Я требую… Я буду жаловаться… — Дело ваше… — Да, буду… И вы пожалеете об этом… — Если у вас ко мне больше ничего нет, то я вас не смею задерживать, — холодно сказал лейтенант. — Ну что ж, благодарю за чуткость и прочее, прочее… Придя домой, Арнольд уклонился от разговора с родителями, прошел к себе и закрылся. Только вечером он вышел в столовую. Жена уже пришла с работы. — Ну вот, наконец и ты, — ласково сказал он. Викторина с удивлением посмотрела на мужа. — Я тут занимался одним делом и проголодался. Мама даст нам сейчас поужинать. По-моему, она напекла сегодня твоих любимых пирожков. Викторина переодевалась и мылась, недоумевая, чем объяснить перемену в муже. Весь вечер они мирно и весело говорили, а отправляясь спать, Арнольд сказал: — Вика! С ссорами покончено навсегда… Тебе больше не придется ходить к милиционеру и жаловаться на меня… Нервы, нервочки — вот в чем корень зла… И я виноват и ты виновата… Предлагаю — завтра мы едем за город, подышим воздухом, полюбуемся пейзажами… — На твоей машине? — На нашей, — поправил Арнольд. Обнял жену и поцеловал, как это делал в былые дни. Викторина подумала: может быть, и в самом деле взял себя в руки… — Только смотри, — сказала она, — веди машину нормально, а то окажемся мы с тобой где-нибудь в кювете… Арнольд усмехнулся: — Я люблю быструю езду, но не беспокойся… Ночью Викторина несколько раз просыпалась, прислушивалась к дыханию мужа и думала: может ли человек так, ни с того ни с сего, понять свои ошибки? Должна же быть какая-нибудь причина… Какая причина здесь? Та, что она была у Гранатова? Но ведь известие об этом посещении вызвало в нем третьего дня припадок ярости? Почему же вдруг всё прошло и в сердце вернулась любовь? Ночь не принесла Викторине разгадки. Наутро она пошла в магазин кое-что купить для прогулки. По пути случайно встретилась с Гранатовым. Тот обратил внимание на ее измученный вид. — Плохо спала, — сказала Викторина, — от радости: муж отошел, сдался, едем сегодня на прогулку, впервые за всю жизнь… — От души поздравляю! — Спасибо… К сожалению, что-то сердце шалит… плохо мне от этой «радости»… — Именно? — Это длинный разговор, а нам нельзя долго быть вместе: могут заметить и накляузничать… я так устала от всех этих передряг… Поговорим как-нибудь в другое время и в другом месте, если не возражаете… — С удовольствием… Вы не против, чтобы я вас проводил? — Не понимаю? — Вы когда выезжаете за город? — Кажется, в семь вечера. — Я зайду «случайно» во двор и посмотрю еще раз на вас… Викторина пожала плечами и, приветливо кивнув лейтенанту, вошла в магазин. В девятнадцать ноль-ноль Гранатов явился во двор, где уже стоял «Москвич» Арнольда. Лейтенант козырнул молодому врачу, тот почтительно приподнял кепку. Вышла Викторина. Выражение лица ее было и довольное и недоверчивое. Она взглянула на лейтенанта и села в машину. Арнольд смахнул с капота пыль, сел за руль и включил газ. Лейтенант быстро зашел во второй двор, вскочил на мотоцикл, заехал в отделение и, усадив в коляску милиционера, помчался по северному асфальтированному шоссе. Гранатов знал, что это излюбленное место Арнольда, который шутя называл эту дорогу — «САШ», что означало северное асфальтированное шоссе.3
Первые минут двадцать Арнольд и Викторина молчали. Они уже выехали за город. Машина заметно набирала скорость, которая была близка к ста километрам. У Викторины сжималось сердце, но самолюбие молодой женщины не позволяло попросить мужа быть осторожней. — Куда мы едем? — спросила она. — В небытие, — сухо бросил Арнольд. — В таком случае спешить не следует, — улыбнулась Викторина, — туда мы всегда успеем. — Нет, Вика, нам надо поспешить… Впрочем, ты права, хотя бы потому, что нам надо очень обстоятельно и откровенно кое о чем поговорить… Арнольд смолк, резко сократив скорость. — Скажи, Вика, ты по любви вышла за меня замуж? — Я собой никогда не торговала, и ты об этом великолепно знаешь. — А сейчас ты любишь меня? — По совести говоря, не знаю. Ты так много за последнее время причинил мне неприятностей. — Спасибо за правдивость… Теперь мне понятно, почему ты донесла на меня — мстила… — Я на тебя не доносила. — Сообщение о моем плене и попытке передать другу записку — что это? Викторину оглушили эти последние слова мужа: ему известно содержание разговора!.. А возможно, он провоцирует, выпытывает признание? — Я попрошу тебя встать на мое место, — продолжал Арнольд — что бы ты сделала с человеком, который предал тебя и поставил в положение смертельной опасности?.. — Можно подумать, что тебя в плену завербовали и что ты пытался передать записку в шпионских целях… — А почему бы тебе не подумать об этом? — Перестань дурака валять… Если ты хочешь говорить со мной серьезно… — Я говорю серьезно: допусти, что я шпион, а ты — жена шпиона. И вот ты вольно или невольно выдала своего мужа… Что я должен делать? — На твоем месте я пошла бы с повинной, честно рассказала бы обо всем, спасла бы свою жизнь, а потом честным трудом очистила бы ее от всякой скверны. — Казенные мысли… впрочем, они под стать твоей казенной душе — недаром же тебя потянуло к милицейской особе… — Если ты не перестанешь меня оскорблять, я выйду из машины… — Руль, голубушка, в моих руках, а руки мои, как тебе известно, стальные… Не отвлекай меня, у нас очень мало времени. Слушай дальше! Твоим советом я не могу воспользоваться: пути отрезаны… Те, кто сейчас повелевает мной, всё равно истребят меня… — Ты с ума сошел! О чем ты говоришь?! — Я говорю о том, что я шпион. Я не шучу. Поняла? Прошу ответить еще на несколько вопросов, если, конечно, можешь… — Пожалуй, теперь могу. — В тоне Викторины почувствовалась жесткая решимость, женщина упрямо тряхнула коротко подстриженными русыми волосами. — Можешь спрашивать о чем угодно… — Прежде всего я хочу знать, что тебя заставило домашние дрязги передать в лапы своего обожателя — представителя весьма небезобидного органа — Гранатова? — Глупую ревность твою оставляю в стороне. Я считала этот путь наиболее удобным и лично для себя безопасным. — А почему бы тебе не поискать сочувствия и помощи у твоих обожателей по месту работы? — Мне было стыдно сказать товарищам по службе о своем несчастье… — Пошла бы в юридическую консультацию… — Пошла бы, но в консультации дают только консультации, а мне нужна была защита. — Так, Викторина Кузьминична; теперь послушай меня. Сначала о любви к тебе. Я любил тебя, но любил особой любовью, попытался сочетать наслаждение с выгодой. Не получилось, и в том — клянусь! — нет моей вины. Я хотел тебя сделать своей помощницей, вместе нам было бы легче работать. Ты оказалась скверной закваски человеком, за что нам сейчас придется расплачиваться: мы должны умереть, и умереть добровольно, пока нас не прикончат другие… Это будет лучше и даже поэтичней, тем более, что я придумал соответствующий трюк… Попытка передать через тебя записку другу за границу была только проверкой тебя, не больше. Ты также должна знать, что первый общий сигнал о твоей встрече с участковым подала паспортистка, а до содержания разговора наши люди добрались другим путем, о котором я не буду рассказывать. Теперь ты понимаешь безнадежность нашего с тобой положения, понимаешь, что мы обречены? Викторина молчала. — Жалеешь… раскаиваешься? Викторина отрицательно покачала головой и твердо сказала: — Если ты не лжешь и не играешь со мной и задумал убийство… — Не убийство, а расплату… Мы привыкли платить полностью… — Ну так плати! — крикнула Викторина… — Что ты намерен делать, делай скорей… — Да ты не лишена отваги… Приготовься!..* * *
Из-за сосновой рощи вынырнул мотоцикл Гранатова. Гранатов увидел у груды камней разбитый «Москвич»… Человек в желтой кожаной куртке с камнем в руке стоял над другим, распростертым на земле. Увидев мотоцикл, он бросил камень и выпрямился… Подъехав, Гранатов узнал Арнольда. Мотоцикл остановился. — Напоролся на груду камней, — тяжело дыша, сказал Арнольд, — кажется, убил жену… Лучше бы себя угробил… — Чем могу помочь? — сочувственно спросил Гранатов и позвал милиционера с автоматом. Арнольд украдкой следил за каждым движением Гранатова. Откуда тот свалился на его голову? Может быть, ездил на какую-нибудь операцию?.. — Вас сам бог послал, — грустно сказал Арнольд. — Как вы думаете, жива Вика? — Вы же врач, что вы спрашиваете меня?! Арнольд расслабленно опустился на колено и приложил ухо к груди Викторины. В это время Гранатов и милиционер схватили преступника и стали вязать ему руки.* * *
Викторина осталась жить, хотя сотрясение мозга и перелом руки долго давали себя знать. Через месяц и семь дней она впервые допрашивалась по делу. Она помогла следствию ответить на многие вопросы. После ее допроса, содержание которого еще не было известно Арнольду Безелевичу, изощренный предатель сделал новый маневр. В своих показаниях он писал: «Тяжкие и бесперспективные блокадные дни вынудили меня пойти в армию. Но армия тоже не устраивала меня: смерть от пули не лучше смерти от голода или заразной болезни. Тогда я, воспользовавшись трудностями, в которых очутилась моя дивизия (она попала в окружение), перешел к противнику… Там я назвался Федором Карповичем Карповым, санитаром, и меня загнали в какое-то отвратительное логово, именуемое лагерем. Освоившись с обстановкой и не в силах больше терпеть лишений, я признался, что имею высшее медицинское образование, но не признался, что скрываюсь под чужим именем. Однако меня скоро разоблачили и предъявили ультиматум: я должен работать на них или меня немедленно умертвят. Я, конечно, выбрал первое, хотя практически на немцев не работал, не успел. Перед скончанием войны меня кому-то переуступили. Кому, я точно не знал. Меня перегоняли из страны в страну, пока из французского сектора Берлина не передали в советскую зону. После тщательного фильтража я вернулся к родным. Меня долго не прописывали, но отец всё устроил через одного своего пациента. Месяц спустя меня стали одолевать всякого рода заданиями. Первоначально мне удалось кое-что заполучить от Василия Васильевича Чайникова, но это была капля в море по сравнению с тем, что требовали от меня. У меня испортилось настроение, мною всё сильнее и сильнее овладевал страх. Хотелось жить, а смерть каждый день, каждый час, каждую минуту стучалась в сердце, страх высушивал душу. Решил найти постоянную и надежную сообщницу. С этой целью женился на Викторине. Но, как известно, провалился. Буду чистосердечным: я не полноценный человек — таким сделала меня жизнь, но у меня не совсем была убита совесть, она еще теплилась в душе моей. Я хочу, чтобы вы поверили в мое пассивное предательство, от которого я давным-давно хотел избавиться. К моему глубокому огорчению, это оказалось не так просто: меня преследовали, травили, как бешеного пса, мне грозили страшной карой, если я не буду выполнять всех их требований. Только под этим нажимом я кое-что сделал для них во вред своей Родине (об этом я уже дал вам развернутые показания). Чтобы избавиться от своих господ-поработителей, я решил спрятаться в тюрьме или каком-либо исправительно-трудовом лагере, там навеки порвать с родными, друзьями, после освобождения забиться куда-нибудь к чорту на кулички. С этой целью я стал лихачествовать, полагая, что совершу аварию и меня осудят. Но мне это не удавалось. Жена вынудила пойти на большее, потерять голову. У меня возникла мысль отделаться от нее… Нет, не тогда, когда она отказалась передать письмо, а когда связалась с милицией. Долго мы бились, чтобы узнать содержание беседы ее с Гранатовым, так ничего и не добились. Всё же здравый смысл говорил за то, что она предала меня и этим могла навести на след. Сказать, что я непоколебимо был убежден в этом, — нельзя. Прогулка на машине — это была последняя попытка повлиять на жену… Я ждал, что она начнет уверять меня в своей невиновности и убедит. Больше того, я надеялся, что она сдастся, примет мое предложение сотрудничать… Она, видимо, вам говорила, что я не сделал ей этого предложения: ни к чему было, настолько она вела себя вызывающе. Тогда-то и возникла у меня идея: «Сделаю-ка я небольшую аварию, срежу Викторину грудой камней. Если не будет полной удачи — добью камнем»… Не скрою, эту мысль несколько раньше подсказывал мой шеф. Я считал, что у меня не было выхода… Ни один технический эксперт не станет оспаривать, что я сам подвергался отчаянному риску, хотя я точно рассчитал всё, и расчет оказался верным… Впрочем, лучше бы я просчитался: при создавшемся положении вряд ли мои надежды на снисхождение оправдаются». Последняя фраза задела следователя: — Если бы закон позволил расстрелять вас, Безелевич, дважды, мы непременно сделали бы это; во всяком случае, я не колеблясь подписал бы такой приговор… И следователь пополнил «чистосердечные» показания Арнольда Безелевича. Оказывается, он был верным фашистским слугой, нет, не слугой, хуже: палачом в белом халате. Его так и прозвали мученики. Доктор Карпов-Безелевич умертвил до тысячи человек военнопленных, жертвами, как правило, являлись лучшие советские патриоты… Очень жаль, что до сигнала лейтенанта Гранатова специальные органы не имели возможности замкнуть круг, не знали, что «палач в белом халате» и есть доктор Арнольд Теодорович Безелевич. Иностранная разведка сделала всё, чтобы тщательно замаскировать своего агента и его преступное прошлое. «Палач в белом халате», выслушав следователя, что-то хотел сказать, но не смог, — мешала дрожь, от которой трясло всё тело.Дело № 08
1

Хорошо одетая молодая женщина вошла в парикмахерскую. — Садитесь, пожалуйста! — пожилой мастер почтительно предложил ей кресло. Варвара Петровна Акимова, жена главного конструктора завода, села в кресло под огромный металлический колпак. Мастер приступил к очередной «электропытке», как он шутя называл шестимесячную завивку. Чувствовалось, что Варвара Петровна была в хорошем настроении. Ее мужу, Антону Никаноровичу, недавно присвоили звание Героя Социалистического Труда. Варвара Петровна громко рассказывала мастеру, как мужу позвонил из Москвы сам министр и поздравил его. К восторженному рассказу словоохотливой клиентки прислушивались все мастера и посетительницы парикмахерской; одна из них, Анна Викторовна Дугласова, рыжеволосая, пожилая, не подавая вида, ловила каждое слово и тогда же сделала для себя вывод; «на эту особу надо обратить внимание». С этого дня Анна Викторовна не упускала Акимову из виду. Восемь с лишним месяцев она исподволь наблюдала за нею, собирала сведения, изучала ее характер, вкусы, привычки. Наконец, подвернулся подходящий случай для знакомства. Об этом знакомстве обе женщины позднее так рассказывали на допросе у следователя. «Это было осенью, — говорила Акимова, — кажется, во второй половине дня. Я зашла в булочную, и там мне нагрубила продавщица. Слышу позади себя сочувственный голос: «Не волнуйтесь, деточка». Я обернулась. Мне улыбалась пожилая, миловидная особа: «Не стоит портить нервы. К сожалению, она еще не понимает, что бескультурье теперь не в моде». Я пожала руку отзывчивой женщине — мы разговорились. Оказалось, живем почти рядом. Когда подошли к дому Дугласовой, она пригласила меня к себе. Она сделала это так просто и задушевно, что я, недолго думая, согласилась. У Дугласовой я познакомилась с ее соседкой по квартире Анной Кирилловной Губановой, которая была представлена мне как хорошая подруга и искусная портниха». Анна Викторовна Дугласова излагала этот эпизод так: «В булочной я бросила «пробный шар». Удача была полная. Я не думала, что гражданка Акимова такая чувствительная. Она поблагодарила меня за незначительное сочувствие чуть не со слезами на глазах. В разговоре я узнала, что ни одна из портних не удовлетворяет ее. Этим я и воспользовалась: затащила модницу к себе домой. Осторожности ради, я тут же поставила Акимовой небольшое условие: нашу мастерицу держать в строжайшем секрете, ибо Анна Кирилловна — честная труженица швейной фабрики и «недозволенным промыслом» не занимается, не считая, конечно, редких исключений, на которые ее вынуждают друзья». Эти сухие протокольные записи далеко не полно, а кое в чем неточно передают события и даже отчасти комкают их. В деле имеются точные, исчерпывающие материалы; по ним мы и проследим дальнейшие события. Первоначально Анна Викторовна «обрабатывала» Акимову одна, боясь, что ее партнерша Анна Кирилловна допустит по неопытности какой-нибудь промах. Правда, у самой Анны Викторовны практического стажа почти не было, зато теоретическая подготовка имелась солидная: окончила специальную двухгодичную школу, тренировалась у шпионов, прославленных в волчьем мире. Поэтому Анна Викторовна на первых порах плела паутину одна, была матерински нежной, заботливой, проявляла душевность, преданность. Немудрено, что Акимова полюбила Анну Викторовну и в душе называла ее «милой мамой». Как-то Акимова призналась в этом своей старшей подружке и просила не обижаться: это совсем не намек на ее возраст… Это от чистого сердца. — Разве я могу обидеться? — сказала Анна Викторовна. — Если хотите знать, — продолжала она с подкупающей искренностью, — эти ваши слова, моя дорогая, доставляют мне огромное удовольствие. Они содержат в себе добрые чувства. Я умею ценить их и плачу тем же. И Дугласова рассказала про свои отношения с Анной Кирилловной. Они живут как родные сёстры, у них общий бюджет, общий стол, короче говоря, они составляют одну семью и, конечно, с радостью будут дружить с Варварой Петровной. Во время очередной встречи «милая мама» сказала, что ей кое-что не нравится в Варварином характере; например, вся жизнь ее, Анны Викторовны, открыта для Варвары, а как живет Варвара — скрыто от подруг. А ведь суть дружбы в том, что постоянно думаешь о друге и хочешь знать, как он живет. Варвара Петровна смутилась, вспомнив, что еще ни разу не пригласила к себе своих новых приятельниц. Правда, на это были причины: ее муж часть работы выполнял дома и терпеть не мог, когда ему мешали посторонние. И еще, — пожалуй, самое главное, — Варвара рассказала мужу о своем знакомстве с Дугласовой. В этом рассказе не всё понравилось Антону Никаноровичу. — Это же, Варя, случайное знакомство. — Ты прав, но это — такие душевные и простые женщины. Нехорошо всех брать под подозрение. После замечания Анны Викторовны Акимова возобновила разговор с мужем, и Антон Никанорович в конце концов сдался: не стоит из-за пустяков огорчать жену. И вот в один из ближайших выходных дней Анна Викторовна была приглашена на чашку чая к Акимовым. На Антона Никаноровича она произвела великолепное впечатление. Теперь он уже не сомневался, что его Варя не ошиблась в выборе приятельницы.
2
На следующий же день Акимову позвонили по телефону в конструкторское бюро. — Не хочешь ли, товарищ Акимов, заглянуть ко мне? — спросил Размахов, начальник отдела кадров завода. — Сейчас или попозже? — Предпочитаю повидать тебя сейчас. В тоне Размахова Акимову послышались незнакомые нотки: то ли сухость, то ли встревоженность. В чем дело? Он поспешил в отдел кадров. Размахов вместо обычной приветливой улыбки и протянутой руки молча кивнул головой, а потом спросил: — Антон Никанорович, а не хранишь ли ты на квартире каких-нибудь служебных материалов? — Думаю, что нет. — Гм… только «думаешь». Значит, не убежден, что у тебя не завалялись где-нибудь, скажем в столе, те или другие черновые записи, расчеты, использованные чертежи? Акимов развел руками. Он не понимал, куда клонит Размахов. — Конечно, может быть, какие-нибудь листки и завалялись. — В таком случае, товарищ Акимов, немедленно отправляйся домой и хорошенько проверь свое хозяйство. Ежели что обнаружишь, — всё тащи с собой; что не нужно, истребим, остальное сдашь на хранение, как положено. — Могу ли узнать, чем вызвана такая срочность задания? И относится оно только ко мне или ко всем? — Чем вызвано, не знаю, передаю распоряжение директора. И как будто бы директор интересуется только тобой. Через полчаса Акимов был дома. — Что случилось? — недоуменно спросила жена. — Ничего особенного, Варя. Почему-то предложено посмотреть, нет ли у нас чего-нибудь недозволенного. — Видимо, очередное профилактическое мероприятие, — улыбнулась Варвара и, подойдя к мужу, добавила: — не надо огорчаться… — Откуда ты взяла, Варя, что я огорчаюсь? — По лицу вижу… — Мне просто жаль времени. Мог бы сделать вечером всё это… Акимов занялся столом, перебрал книги. Всё в порядке. Очень хорошо! Возвратись на завод, Акимов зашел к директору. — Ваше срочное приказание, Алексей Алексеевич, выполнено, — по-военному отрапортовал он. — У меня, конечно, ничего дома быть не могло: на квартире я давно выполняю только что-нибудь второстепенное… — У нас нет второстепенного, всё значительно. И потом, не надо забывать, что опытный враг по тончайшей жилочке может проникнуть в сердце. Вот почему, к слову будь сказано, я велел заготовить приказ, которым категорически запрещаю брать на дом любую работу. — Лишнее напоминание никогда не помешает, — согласился Акимов, — но обидели вы меня зря. — Я тебя обидел? Чем? — Во-первых, вы побеспокоились только обо мне. С одной стороны, нужно благодарить за внимание, а с другой — от такого внимания кошки скребут на сердце. Во-вторых, и общий приказ как будто бы вызван каким-то новым отношением ко мне… — Так. Всё понимаю, — сказал директор, — обижен моим вниманием! А ты не думаешь, что тебе могут оказать внимание не только свои? Надеюсь, помнишь: чтобы построить мост, нужны тысячи людей, а вот взорвать этот мост — достаточно и одного подлеца… Ясно, дорогой? — Алексей Алексеевич, всё это бесспорно. Да ведь говорим-то мы с вами чорт знает на каком языке. Ведь вы говорите и всё не договариваете. Ради бога, в чем дело? — Главное в нашей сегодняшней беседе, — засмеялся директор, — предельно ясно: я призываю к осторожности… — И это всё? — Всё. — Честное слово? — Начальник не имеет права давать честного слова подчиненному, — пошутил директор. — А может быть, всё же что-нибудь скажете? — не успокаивался Акимов. — Может быть, я уже на прицеле у какого-нибудь врага? — Чего захотел: разжуй ему и в рот положи! Полюбуйтесь, дескать, какая черная туча растет над головой… Ну-ну, не огорчайся… Я выделил тебя, Антон Никанорович, взял под свою особую опеку ввиду особого твоего положения. Ясно, дорогой? Провожая Акимова, директор, как бы между прочим, сказал: — Я хочу предупредить тебя, Антон Никанорович, еще об одном: мы с тобой сегодня ни о чем не говорили. Акимов понимающе кивнул головой и поспешно зашагал к себе, в конструкторское бюро.3
Варвара чувствовала себя с новыми подругами хорошо. Они дружили, казалось, по-настоящему, бескорыстно, без задних мыслей. Анна Кирилловна совершенно доверительно рассказала Варваре, как Анна Викторовна пострадала от неудачной любви. Она отдала любимому всю свою душу… а он жил странной двойной жизнью, скрытничал, секретничал. Анна Викторовна не выдержала и ушла от него. Тонкая у нее душа, большие требования к себе и другим. Варвара неоднократно восхищалась начитанностью, широким кругом знаний Анны Викторовны: вот как надо жить, как надо пользоваться дарами жизни! Неудивительно поэтому, что она прислушивалась к каждому слову приятельницы, к каждому ее совету. А советов было много. Однажды Анна Викторовна взяла под огонь семейную жизнь Варвары. Муж должен ближе стоять к повседневным интересам жены; жена, в свою очередь, должна жить интересами мужа. Другой путь, другие взгляды приведут к печальным результатам, к отчуждению, а затем к распаду семьи. Она, Анна Викторовна, знает много несчастных семей, она испытала эту горькую участь и на самой себе. (Анна Викторовна рассказала о крушении своей любви, пусть Варвара знает: ей доверяют самое сокровенное.) Варвару тоже может постигнуть такое несчастье. Анна Викторовна считает своим моральным долгом предупредить об этом. В самом деле, разве это не так? Муж Варвары с головой ушел в работу; работа у него захватывающая, творческая. Варвара же занята только обязанностями домашней хозяйки. Она никогда не жила по-настоящему интересами мужа, далека от них, надо думать, ничего не понимает в его работе. Чем дальше, тем хуже: муж сильнее погружается в свои творческие планы, она — в повседневные мелкие заботы. Это и есть духовная разобщенность в семейной жизни. В довершение своей атаки Анна Викторовна с неподдельной грустью заявила: — Тогда и мы, ваши верные друзья, не в силах будем, деточка, помочь вашему горю, развлечь и утешить вас. Подруги не могут заменить разрушенной семьи. Варвара была удивлена словами приятельницы: что-то странное чувствовалось в них, какой-то двойной смысл. Но какой? Не поссорить же она хочет ее с мужем? Что ей пришло в голову перестраивать ее жизнь? Не так уж она плоха. С мужем они друзья. Их интересы неделимы… И что значат все эти ее слова о работе мужа и о том, что Варвара мало знает про нее?! Анна Викторовна угадала тревожное состояние Варвары. Предусмотрительная женщина решила, что положение должно быть исправлено немедленно. — Знаете ли, Варюша, — сказала она, — чего я от вас хочу? Не знаете, не догадываетесь?.. Трудно, конечно, догадаться, скажу точнее — невозможно: чужая душа — потемки… Хорошо, я помогу вам: я хочу, чтобы вы выкрали… Нет, нет, это резко, грубо… я хочу, чтобы вы позаимствовали у своего супруга важные государственные секреты… Ведь они ему доступны, не правда ли? Хочу, чтобы вы эти секреты передали мне, как посланнице, нет, как наймитке международного капитала, как шпионке. Я же, в свою очередь, передам их куда надо. А сколько мы денег получим за это! Уверяю вас, моя деточка, что вся наша с вами дальнейшая жизнь будет обеспечена… Варвара во все глаза смотрела на Анну Викторовну. Она так молчала, так плотно сжала свои бледные губы, что в разговор решила вмешаться Анна Кирилловна. — Ну, к чему вы всё это говорите, Аннушка?! — замахала она руками. — Даже в шутку такое грешно говорить, право, грешно… — А если я не шучу? — Да что вы, Аннушка! — продолжала Анна Кирилловна. — Что с вами?! — Нет, серьезно, почему бы нам не заработать там, где можно заработать?! Я-то ведь, ко всему прочему, — рыжая. А рыжие — они коварные… Мне, конечно, чужды благородные порывы, любовь, сердечная привязанность, забота о настоящем и будущем своих друзей… Ведь верно же я говорю, Варюша?! Плохи дела нашей дружбы, ой, как плохи. — Кажется, я вам ничего обидного не сделала и не сказала, — возразила Варвара. — Возможно, я увлеклась, тогда простите! Но мне кажется, какая-то, пусть самая ничтожная, доля правды в моих словах есть: что-то неприятное промелькнуло в вашей душе… Ну, что вы скажете? Теперь Акимовой показалось, что все ее подозрения невозможный вздор, и она искренне воскликнула: — Да нет же, милая мама… Уверяю вас! Анна Викторовна горячо поцеловала Варвару, Анна Кирилловна улыбалась и бесшумно аплодировала. Вечером того же дня Варвара рассказала мужу, какую шутку выкинула с ней Анна Викторовна. Антон Никанорович напряженно и с заметным волнением выслушал жену. — Это чорт знает что такое, Варя! — взволнованно сказал он. — Ты что, Антоша? — А что если твоя приятельница говорила правду? — Оставь глупости! — Нет, нет, тут определенно что-то неладное… Антон Никанорович задумался. — Странное существо — человек! — сказала Варвара. — Непременно подай ему неприятности, и непременно покрупнее, да так подай, чтоб сердце сжалось от страха, чтоб душа в пятки ушла. Ты что — этого захотел, да?! — Нам надо с тобой, Варя, трезво оценить создавшееся положение. По-моему, за последнее время кое-что в нашей жизни осложнилось. — Может быть, ты что-нибудь от меня скрываешь? — Нет, зачем, — смущенно ответил Акимов; он сказал жене неправду, скрыл свою последнюю беседу с Размаховым. Это была очень странная беседа. В тот же день и примерно в те же часы, когда Варвара подвергалась атаке Анны Викторовны, начальник отдела кадров снова пригласил к себе Акимова. Цель этого приглашения первоначально носила деловой характер: надо было отрегулировать кое-какие вопросы, связанные с новыми штатами. На это было затрачено две-три минуты. Затем речь, как бы между прочим, зашла о быте, об отдыхе, о дружбе, о доверии супругов друг к другу. Зачинщиком разговора был Размахов. Акимов невольно заподозрил, что за этим, казалось бы безобидным, разговором кроется какой-то неприятный смысл. Он вспомнил беседу с директором и попросил начальника не терзать его и объяснить, что всё это значит? Размахов признался, что неспроста пригласил Акимова: есть сведения, что главным конструктором кто-то очень настойчиво интересуется. Акимов долго молчал, перебирая в памяти своих знакомых. Он вел замкнутый образ жизни. Новых знакомых не было. Кто же им интересуется?! И вдруг этот рассказ жены! Акимова точно ударило… Две милые подружки жены… случайное знакомство… — Послушай, Варя, — сказал он, — не можешь ли ты увидеть связь между появлением в нашем доме твоей рыжей приятельницы и моим самообыском? Если помнишь, он был буквально на второй день… — Ты можешь растравлять себя любыми, самыми чудовищными предположениями, — раздраженно ответила Варвара, — но у меня поддержки не ищи: я тебе друг, а не враг. Если же ты хочешь, чтобы я порвала с ними, то… то… ради тебя, твоего благополучия я пойду на всё. — У Варвары дрогнул голос, к горлу подступили слёзы. — Честное слово, Варя, не знаю, как и быть, — чистосердечно признался Акимов, — придется поговорить с Размаховым; выложу ему все эти «шутки» твоих Аннушек, может быть, он тут поймет, что к чему… — Нет, нет, ты этого не сделаешь… Антоша, милый, ты можешь окончательно опорочить себя, меня и подвести ни в чем не повинных женщин… Давай будем думать, думать и смотреть в оба. Я надеюсь, всё кончится благополучно. Однако эти надежды оказались тщетными. Тревога в доме Акимовых нарастала с каждым днем. Особенно плохо чувствовал себя Акимов. Он стал подозрительным; на улице, в автобусе, в трамвае казалось ему, что за ним кто-то следит; работая днем в своем кабинете, он вдруг вскакивал, подходил к наружной двери и прислушивался. Супруги узнали, что такое бессонные ночи, как они длинны и тяжелы, какие они отвратительные советчики в житейских делах. Жизнь потеряла свои простые маленькие радости. А тут еще пропали подружки, притихли, даже не звонят. Варвара зашла к ним — двери заперты. Зашла вторично в выходной день — картина та же. Странно! Уехали? Но куда? И почему не сказав ни слова? Прошло еще несколько дней. Варвара посмотрела на похудевшего мужа, и сердце у нее защемило… Что ж, если во всем этом виновата она, она всё должна и поправить.4
Около двух часов дня Варвара была принята следователем Сергеевым, светлоглазым молодым человеком. Следователь предложил посетительнице стул и даже как-то весело посмотрел на нее. В синеве его глаз явственно играли лукавые огоньки. Вероятно, его забавляла какая-то веселая мысль. Что значит молодость! — Итак, Варвара Петровна, — сказал Сергеев, — начнем нашу долгожданную беседу… Как поживают ваши Аннушки? Варвара Петровна растерялась. Она ждала всего, но только не такого вступления. — Что вы хотите этим сказать, товарищ следователь? — Меня интересует здоровье ваших подружек: «милой мамы» и «портнихи»… Впрочем, вы, кажется, давно их не видели и вам трудно ответить на мой вопрос? — Вы знаете… Я должна сознаться, — заговорила Варвара, — я шла к вам сюда с догадками, подозрениями… не более… вы же… откуда вы всё это узнали? — Это похвально, что вы к нам пришли, хотя могли бы прийти гораздо раньше. — Когда почувствовала, что должна прийти, тогда и пришла, — вот всё, что могу сказать. Но, ради бога, объясните мне, что случилось? — Конечно, я объясню всё, — сказал Сергеев и поспешно вышел из кабинета. Варвара застыла. Но вот стукнула дверь. Послышался голос Сергеева: — Прошу! В кабинет вошли Анна Викторовна и Анна Кирилловна. За ними шел следователь. — Садитесь! — указав на стулья у двери, предложил женщинам Сергеев. Те сели. Анна Кирилловна, склонив голову, закрыла глаза; Анна Викторовна вызывающе уставилась на Варвару, поправляя сбившиеся рыжие волосы. — Они?.. ваши подружки? — спросил следователь Варвару Петровну. — Да, это они, — ответила Варвара, вставая. Вошел солдат. — Уведите арестованных! — приказал следователь. — Значит, всё это правда? — тихо спросила Варвара. — Как видите, — подтвердил Сергеев. — Позвольте на этом сегодня нашу беседу закончить… Прощаясь со следователем, Акимова спросила: — Скажите, если можно, они что-нибудь успели? Сергеев не ответил на этот вопрос. Он ответил на него ровно через месяц, после окончания предварительного следствия.5
В этот день Сергеев пригласил к себе Акимовых, мужа и жену, одновременно. Акимовы всё еще были в неведении — удалось ли врагам использовать их неосторожность. Перелистывая объемистое дело за № 08, Сергеев отмечал для себя наиболее характерные страницы, которые он намеревался использовать в заключительной беседе с Акимовыми… «Я, как вы, гражданин следователь, назвали меня — шпионка, но шпионка пожилая только по возрасту; по стажу, по практическому же опыту совершенно юная, зеленая (извините за жаргон!). Примерно два года назад, сразу же после окончания специальной школы за границей, я попала один из южных городов Советского Союза. Там, в этом городе, я приняла поручение от неизвестного мне лица, видимо, резидента (прошу поверить, что по условиям конспирации я не знала, с кем имею дело). Воспроизвожу содержание этого обязательства. Первое — собирать сведения о настроениях советских граждан, вызванных теми или другими мероприятиями партии и правительства по вопросам внешней и внутренней политики. Второе — войти в доверие к представителям влиятельных кругов советского общества с целью получения особо секретных данных, касающихся, прежде всего, обороны страны. Третье — завербовать в помощники двух-трех человек. Все добытые материалы я должна хранить в своей памяти до особого указания. Деньгами я была обеспечена на полтора-два года. Дальнейшее финансирование предполагалось через связного, адрес которого обещали сообщить мне не раньше десяти и не позже четырнадцати месяцев. Практически мною сделано немного: я завербовала Губанову Анну Кирилловну (по мужу Вознесенскую), искусную портниху, работницу швейной фабрики. Завербовала ее относительно легко и была довольна своим выбором: она молчалива, достаточно хитра и осторожна. Главное же, из-за своей специальности Губанова являлась великолепной приманкой для модниц, среди которых всегда найдутся подходящие люди: жёны и дочери тех или иных крупных деятелей промышленности, военных ведомств и т. п. Первый мой выбор пал на Варвару Петровну Акимову. Этот выбор, как мне кажется, и привел нас к катастрофе… Ничего конкретного мне с Акимовыми сделать не удалось, никаких полезных сведений от них я не получила, несмотря на все мои приемы и усилия. Вот, пожалуй, всё, что я могу сказать о своей неудачной миссии. Показания написаны собственноручно и являются правильными». При очередном допросе, отвечая на вопросы следователя, Дугласова показала: «Мне стала надоедать предварительная обработка объекта № 1. (Еще раз прошу поверить, что Акимова была первой и единственной моей «жертвой», не считая, разумеется, Губановой, моей напарницы.) Мои первые расчеты на болтливость Акимовой не оправдались. Ее бахвальство носило общий, слишком отвлеченный характер, ничего путного из него нельзя было извлечь. Еще хуже обстояло дело с Акимовым. Он оказался совершенно недоступным. Моя охота за ним привела к смешному: я не смогла даже узнать, за что же, в конце концов, ему присвоили звание Героя Социалистического Труда. Акимов удивительно увиливал от разговора на любую тему, которая так или иначе затрагивала его работу. В связи с этими затруднениями у меня возникло опасение: не предупрежден ли он? Возможно, и жена его не та, за кого я ее принимаю, себе на уме. Не хотят ли эти милые люди, выполняя, в свою очередь, определенное задание, перехитрить меня? Положительные ответы на эти вопросы логически вели к мысли о провале. А в провал свой я фанатически не верила. На свою рискованную работу я пришла, как мне казалось, предельно выверенной тропой и еще не успела нигде оставить тех или других следов, по которым меня могли бы найти. После долгих раздумий мною и Губановой было принято решение сыграть ва-банк. Надо вызвать Акимову на какой-нибудь рискованный разговор, заставить высказать те или другие крамольные мысли, пусть даже отдельные слова, чтобы придраться к ней. Не удалось и это. Тогда я повела с ней тот нелепый разговор, о котором вам уже дано подробное показание. К чему он привел — вам лучше знать». (Анна Викторовна всё еще считала, что ее разоблачила Акимова.) «На ваши дополнительные вопросы, — писала Дугласова в том же протоколе, — отвечаю следующее: 1. Государство, в интересах которого я действовала, назвать не могу. Это грозит мне гибелью, если вы как-то пошалите меня за мою хотя и не полную, но всё же чистосердечность. И какая вам разница: любой враг опасен… Для вас, видимо, и так ясно, кто толкнул меня на эту работу и кто так щедро финансировал… Это, безусловно, не ваши друзья. Это люди, которые смертельно ненавидят вас, ваш строй, ваши успехи, ваши планы… 2. Да, я сознательно пошла на эту работу, но только не из-за денег. Причина здесь более важная, хотя она и не смягчает моей участи. Я имею в виду убеждение, окрашенное моей религией, моей верой в бога… Ваши данные о том, что мой отец являлся крупным промышленником царской России и был близок к императорскому двору, что я переброшена сюда на самолете с подложными документами, не совсем точны, они верны лишь отчасти… К величайшему сожалению и, возможно, к большому моему несчастью, в этом вопросе я тоже вынуждена быть сдержанной. Я понимаю, что мое вынужденное запирательство повредит моей судьбе, но ничего не поделать, у меня нет другого выхода… 3. Почувствовав угрозу провала, я действительно хотела отравить Акимову, но меня удержала Губанова. Она считала этот шаг преждевременным и в условиях нашей квартиры слишком рискованным. Я уступила ей, намереваясь сделать это, если не отпадет надобность, позже, на квартире у самой же Акимовой, тем более, что так легче было бы симулировать ее самоубийство. 4. Еще и еще раз прошу поверить мне, что я показываю только правду. Там, где правды сказать нельзя, я честно оговаривалась и по мере возможности объясняла причины моей вынужденной сдержанности». Антон Никанорович слушал следователя, он понял всё и способен был даже задавать вопросы. Что же касается Варвары Петровны, то она близка была к потере сознания. Само собой разумеется, что больше всего попало от Сергеева ей. Счастье Акимовых, что шпионка еще до встречи с Варварой Петровной была взята на учет и каждый ее шаг контролировался, иначе не миновать бы белы, да какой еще беды! Она что-нибудь, говоря ее словами, выудила бы, сделала бы свое черное дело… Вольно или невольно — это особого значения не имеет — они поставили бы под удар интересы Родины и погубили бы самих себя. — Почему же вы не схватили их раньше? — спросил Акимов. — Ведь вам же давно ясно было, что они вражеские лазутчики. — Раньше не трогали их в оперативных целях. Навредить же они не могли: все пути были им преграждены… Варвара Петровна встала и взволнованно сказала: — Поверьте в искренность моих слов… Я хочу, чтобы вы наказали меня, товарищ следователь… Мне будет легче, уверяю вас… — Вы уже и так наказаны, Варвара Петровна, — возразил следователь. Он скользнул взглядом по бледному, измученному лицу женщины. — За неосторожный выбор друзей жизнь наказала вас очень сильно… Провожая Акимовых до двери, Сергеев добавил: — А могла бы наказать еще сильней!«Американка»
1

Это дело зародилось в пивной, каких, к сожалению, не мало в нашем городе. Шум, галдеж, чад. В дальнем, плохо освещенном углу, за маленьким столиком, с крышкой из серого дешевого мрамора, угрюмо сидел завсегдатай этого неуютного заведения — Василий Иванович Антипов, лет тридцати пяти, здоровенный детина, монтажник судостроительного завода. К нему подошел пожилой мужчина во флотской, не первой свежести офицерской шинели, без погон и нарукавных нашивок. Он попросил позволения у Антипова занять свободное место за его столиком. — Какой может быть разговор, прошу! Первые минуты они сидели молча. Антипов уже пропустил сто пятьдесят «монтажных» и прохлаждался сейчас пивом. Сосед попросил сто «столичной». Выпил, не закусывая. — Это под «язычок», — пояснил он, обращаясь к Антипову, — флотская, привычка… Разговорились. Через несколькоминут человек в шинели назвался Антоном Ивановичем. В шутку добавил: — Только я не тот Антон Иванович, который уже столько лет сердится на наших граждан, а настоящий, живой. Между прочим, какие-то остряки прозвали меня «Антон Ванч — золотое сердце»… — Экое совпадение, — Антипов поднял голову на незнакомца, — у меня тоже есть ярлык, вроде вашего: «Василь Ванч — золотые руки». — Ну и чудесно, дорогой! — и Антон Иванович попросил официанта подать два по сто «столичной». — Нельзя не отметить такого приятного совпадения! — Сто «столичной» не возьму, — сказал Антипов, — пятьдесят нашей, местной, да, да, только пятьдесят, так сказать, по экономическому худосочию: давно была получка, малость выдохся… — Корректив не учитывать, — повелительно заявил Антон Иванович, — по сто «столичной» и добавьте пару бутылок пивка… Люди флотские терпеть не могут грошовых расчетов. Так-то, дорогой! Антипов промолчал, подумав: «А не вывелись еще на белом свете добрые люди». Чтобы поддержать разговор, рассказал о необычном поведении «Черныша» — кота, который с некоторых пор якобы ссорит его с женой и братом; жена грозит разводом, брат разрывом… — Кот-разлучник, злодей, — рассмеялся Антон Иванович, — забавно… Расскажи об этом, дорогой, поподробней! Василий Иванович в угоду новому собутыльнику рассказал историйку, которую не без удовольствия рассказывал здесь уже неоднократно: он пригласил к себе приятеля, изрядно выпили. Как положено, кот вертелся у стола. Приятель — дядька забавный, тоже с судостроительного — схватил «Черныша», разжал ему рот и плеснул туда рюмку водки. С тех пор кот в доме вроде дегустатора или сыщика: что бы он, Василий Иванович, ни выпил — водки ли, вина, даже кружку пива, — всё одно, выдаст жене. При малейшем подозрении она подносит кота к его рту и ехидно спрашивает: «Как, дескать, «Черныш», обстоят дела?». Ну, этот предатель, разумеется, знает свое: шерсть взъерошит и рвется из рук. Значит, карта бита, не отвертеться. Ведь до чего натренировался — «сен-сен» не помогает, проглоти его хоть кило; керосином пробовал глушить дух, всё равно не обмануть… Антон Иванович, слушая болтовню соседа, заразительно хохотал, время от времени хлопая его по плечу: — Вот это кот… Не кот, а настоящий академик! — Академики что… у нас на заводе теперь от них отбоя нет, я любого из них вокруг пальца обведу, а вот кота… — Женат? — спросил Антон Иванович. — Без малого пятнадцать, успел уже троих ребят нажить. — Жена работает? — Теперь все работают. — Тоже на заводе? — Нет, она у меня пильщик-надомник… — Это что еще за специальность? — Пилит собственного мужа в собственном доме, при ненормированном рабочем дне… Антон Иванович захохотал и спросил, кого он еще имеет из родных. — Имею братца, живет в одной квартире, рядышком. Он у меня сухарь, твердокаменный союзничек моей супруги и преданный друг всё того же стоклятого «Черныша». Если бы не этот мой братец, с котом давно было бы покончено… К сожалению, мой братец — милицейская персона, а милицию во всяком разе надо уважать, тем более в сержантском звании. — Чувствую, дорогой, положение твое не из легких, — шутливо посочувствовал Антон Иванович, — скажу прямо: ты в опасности, они тебя доконают… — Меня?! — задорно вскинул голову Василий. — Плохо вы меня знаете. Я просто жалею детишек, не то задал бы им такого перца… Чорта бы стошнило! — Выпьем за мир и дружбу в твоей семье, дорогой, — поднял стакан Антон Иванович. — О нет, за это пить не стану: я не люблю жену и ненавижу брата; не понимают они меня, не понимают моей души… — Тогда выпьем за твои успехи на работе… — И за это пить не стану: на заводе меня тоже не понимают… Никто меня не понимает… Выпьем за ваши успехи, за ваше счастье! Они чокнулись, выпили. Василий попытался водку запить пивом, Антон Иванович отобрал у него пиво: — Пока воздержись, дорогой, быстро охмелеешь… Нравишься ты мне, что-то в тебе есть такое, притягательное, ей-богу… Василий недоуменно развел руками. Антон Иванович задушевно добавил: — Хочу поплакаться и я, хочу пофилософствовать. Ты в философии понимаешь? — В пивных все философы, можете выкладывать любую материю. — А ты в самом деле не лишен остроумия. Антон Иванович распахнул шинель, на груди разноцветом горели орденские планки: два ордена Ленина, три Красного Знамени, «Ушаков», две «Звездочки», медаль «За победу над Германией», остальных не понять. Что значит не военный! Во всяком случае, Василий понял одно: перед ним важная персона в прошлом, не контр-адмирал ли… Хотя нет, шинель не та… А может быть, маскируется. Антон Иванович отгадал состояние нового знакомого и пояснил: — Мы тоже не лыком шиты, дорогой: в недалеком прошлом я капитан первого ранга, ныне пребываем в отставке, на пенсии. А вот этот узор, — Антон Иванович любовно провел ладонью по орденским планкам, — все эти регалии находятся на моей груди за вождение боевого корабля по «дороге смерти», от Кронштадта до Ленинграда и обратно. В Ленинград возил раненых и больных, в Кронштадт — продовольствие… Слыхал, наверное, про наше неуловимое «суденышко» — фашистские стервятники около двух тысяч бомб сбросили, и всё мимо; говорят, от их бомбежек «Маркизова лужа» на семь метров глубже стала… За каждый такой рейс — орден его командиру. А теперь вот — в отставке… Василий Иванович спросил осторожно: — И как же вы теперь, довольны своей судьбой? — Во-первых, перестань «выкать» — терпеть не могу почестей, за что, не хвалясь, был всегда любим подчиненными: во-вторых, нет на свете человека, полностью довольного своей судьбой. Лично же я материально обеспечен отменно, нужды ни в питии, ни в еде не испытываю. Но, как говорится, не единым хлебом человек жив будет… И Антон Иванович с грустью и волнением рассказал о своей тоске по морю, по кораблю, по товарищам — офицерам и матросам; лучше моряков нет никого: отважные, выносливые, щедрые. Василий полностью разделил восторги своего собутыльника, и они выпили еще по сто граммов «столичной» в честь этих замечательных качеств флотских Антон Иванович с восхищением стал расхваливать свое прославленное в тяжкие годы блокады судно. Он утверждал, что это лучший корабль в мире… — Ты хочешь сказать — был лучший корабль, — поправил его Василий. — Нет, дорогой, я не оговорился и корректив твой отвергаю: он был, есть и будет лучшим кораблем в мире. Все теперешние произведения по сравнению с моим красавцем, ей-богу, сущие корыта… Жаль, что ты в нашем деле простак, я бы в пять минут доказал, что не вру… — Хорошего, однако, ты мнения о нашем брате, — иронически посмотрев на собеседника, проворчал Василий, — по-твоему, мы, рабочие, — пешки, строим с закрытыми глазами… Ловко! А ты знаешь, что у нас передовой рабочий по знанию корабля, по пониманию его души — не уступит инженеру? Читал, небось, «Журбиных»… Это ведь как раз про рабочих нашего завода написано. — Всё это, дорогой, пропаганда, нужная, полезная, не спорю, но пропаганда. В нашем деле — моряк есть моряк, а капитан всегда будет капитаном. Так и у вас… Василий резко встал, уперся руками о серую мраморную крышку столика и выпалил: — А хочешь я тебе докажу, что я, «Василь Ванч — золотые руки», тоже знаю в корабельном деле больше любого инженера, больше тебя, больше всех на свете, да, больше! — Сам никогда не хвастался и, честно скажу, терпеть не могу хвастунишек… Проучил бы тебя, но, повторяю, полюбился ты мне, чувствую всё же, что ты, как говорится, в общем и целом существо хорошее… — А ты попробуй, проучи… — Честное слово, жалко… Эврика! Давай заключим пари, а? — По рукам! — Василий протянул собеседнику увесистую ладонь. — На что спорим? — Американка! — решительно беря руку собеседника, сказал Антон Иванович. — Только условие: слово держать крепко, по-флотски… — Есть держать по-флотски, — дружески пожимая руку Антона Ивановича, самодовольно осклабился Василий, обнажив ряды пожелтевших от курева, плотно прижавшихся друг к другу зубов. Антон Иванович попросил официанта подать по сто пятьдесят «столичной» и две порции горячих молочных сосисок. Пари надо скрепить. Конечно, Василий Иванович пропал: он непременно проиграет… Знает ли он, что расплата будет невероятно тяжелой? Ах, не знает и знать не желает, потому что не проиграет? Антону Ивановичу следует лучше подумать о себе? Ну что ж, он не отказывается думать о себе.
2
Василий не сразу приступил к обоснованию своего утверждения. Он не знал, с чего начать, хотя практических знаний у него было достаточно. На заводе его очень ценили за эти знания, за смекалку, за множество рационализаторских предложений, которые он внес и осуществил за семнадцать лет работы на заводе. Если бы не его порок — любовь к спиртному, Антипову, как монтажнику, не было бы цены… Антон Иванович, по-своему истолковав паузу, позвал официанта и предложил подать «два по сто». Официант мялся — не многовато ли, товарищи: в подобного рода случаях здесь принято посетителей сдерживать. Беседу можно продолжить и на улице, благо весна, воздух хоть и прохладный, но всё же чистый… А в самом деле, может быть выйти подышать весной, посидеть где-нибудь на лавочке? Антон Иванович попросил счет. Официант спросил, как подсчитать — раздельно или вместе?.. Что за вопрос, конечно, вместе… Платит он, Антон Иванович, который никогда не унывает и ни на кого не сердится. Знайте наших, флотских, их доброту и щедрость, их любовь и уважение к гражданским, особенно к тем, кто своим неутомимым трудом строит им пловучие дома и крепости… Собутыльники вышли, оставив позади себя пивной шум, гам и мутно-красные шары с надписью: «Пиво — водка». Зашли в прилегающий к заводу небольшой скверик (пивная тоже находилась недалеко от завода). Сели на скамью. Антон Иванович глубоко вздохнул и неожиданно обрушился на самого себя и своего соседа. Если критически взглянуть на дело — нехорошие они люди: пьют, как скоты. Зачем? Кому это нужно? Разве не из-за водки он, заслуженный, боевой капитан первого ранга, слетел с поста и бродит теперь с невыносимой тоской в груди… А разве Василий Иванович, человек с золотыми руками — зря так не прозовут! — разве он не из-за той же слабости, при нынешних неисчерпаемых возможностях учиться, топчется на одном и том же месте… Василий даже обиделся на собеседника: что ему взбрело в голову ныть, читать все эти нудные нравоучения?! Хватает ему нравоучений дома, и впереди всё те же жена, брат, «Черныш». Хотел плюнуть и уйти. Неудобно: пил-то за его счет. Можно потерпеть, наверное скоро отойдет… Но Антон Иванович не унимался. Пьянство — это страшное зло, пьяницы невыносимы ни на работе, ни в быту. Вот он, Василий, сетовал на жену. Да на нее молиться надо, страдалица она — вот кто его жена! Каждый день смотреть на рыхлую, неживую физиономию, слушать какую-нибудь несусветную чушь — разве это не пытка, разве это не мука?.. А что ждет детей в семье пьяницы? Василий не выдержал, поднялся со скамьи и зло спросил: — Ты что, собственно, затеял: угостил и гложешь?! Это раньше так бары над своими холопами потешались. Но ты хоть и капитан, почти герой, но не барин, а я не твой холоп… Поищи другого дурака! Антон Иванович властно дернул за руку разгневанного приятеля; тот чуть не упал, сев на свое место. Шуток не понимает, чудак человек! Потом, почему бы и не покритиковать себя в таком свинском состоянии?.. Кстати, он всё больше и больше берет себя в руки, после выхода в отставку пьет уже не так часто и не так много, почему и стал чувствовать себя значительно лучше. Это же самое он советует и новому своему другу… Да, да, он объявляет его своим другом и предлагает заключить словесный договор: отныне пить только вместе и не более 250 граммов водки и по пол-литра пива на брата, причем пить раз в неделю, не чаше… — Ты что, всерьез всё это говоришь или шутишь? — развел руками Антипов. — Не отплыть ли нам восвояси?.. — А пари? Или гайка слаба, похвастался и в кусты?.. — Кусты под стать трусам, а я иной масти человек… — Буду рад за тебя и за себя — значит, я не ошибся в тебе… Василий начал бойко свой рассказ о радиотехнике, которой они оснащают новые корабли, но его перебил Антон Иванович. Если в дальнейшем Василий намерен угощать его такими «новинками» и «глубокими» познаниями, то лучше сдаться, считать пари проигранным: его корабль широко всем этим уже пользовался… Возможно; он, Антипов, спорить не станет; о радиотехнике упомянуто для начала. А вот что ему, товарищу капитану первого ранга, известно о теперешней настоящей новинке в мореходстве… о радиолокации? Ах, мало, почти ничего. То-то! И Василий повел сбивчивую, под влиянием хмеля, речь о радиолокации, долго говорил о распространении радиоволн, о том, как они сталкиваются со встречными предметами и снова возвращаются к прибору, фиксируя их на экране; они, эти волны, способны мгновенно добраться даже до луны и вернуть ее облик на земной экран… Понятно? — Пока я ничего не понял, дорогой; видно, я серьезно поотстал, — разочарованно заметил Антон Иванович. — Во всяком случае, чувствуется, что ты кое-что кумекаешь… — Ты прости меня, дружище, прости… Сил больше нет, язык не того, отказывается работать, перехватил… Ты прав, капитан, водка — бяка, и я больше пить ее не буду… сегодня, ей-богу, не буду… А может быть, вернемся и тяпнем еще по маленькой в счет моего выигрыша, может, тогда и язык перестанет дурака валять?.. — Хватит, дорогой, хорошенького понемножку, — твердо сказал Антон Иванович, — а что касается пари — согласен на ничью… — Э, нет, товарищ капитан, не пойдет, категорически против; я выиграл пари, а ты сел в галошу со своим знаменитым кораблем и со всей своей техникой… Приятели встали и в обнимку поплелись к дому, где жил Василий. По пути продолжали болтать. Из слов Василия можно было понять его настойчивое желание встретиться в ближайшие дни на том же самом месте, где состоялось их счастливое знакомство. Он тогда непременно докажет правоту своих слов, наповал сразит Антона Ивановича, в пух и в прах разнесет его неверие в силу теперешнего рабочего человека… Впрочем, если Антон Иванович забил отбой, боится проиграть пари, тогда не надо, не надо, не надо. И за то спасибо, что было, — за доброе угощение, за совместное времяпрепровождение, за лекцию против пьянства и тому подобные удовольствия. Антон Иванович снова жаловался на тоску по морю, по кораблю, по флотским товарищам, что-то упомянул о своей семье: о жене, назвав ее испытанной, чуткой подругой, и о двух сыновьях студентах, собирался куда-то выехать из города на два-три дня, — он свободный человек и ему это удовольствие вполне доступно. Очередную встречу с Василием брал под большое сомнение: видимо, он, Антон Иванович, бросит пить совершенно… Подошли к дому Василия. — Пойдем ко мне, — душевно предложил Василий. — Жены твоей боюсь, — пошутил Антон Иванович. — На жену плевать, а потом она у меня морских, кажется, уважает… Брата тоже не бойся: милиция — это явление безобидное, надо лишь уметь ее понимать. — Нас, флотских, с ними примирить трудненько: походка у нас разная. Но мне никакая милиция не страшна. А вот твой кот — его я боюсь: с детства не выношу черных кошек… Истребить бы их поголовно. Минуты три они поговорили о черных кошках и закончили беседу тем, что Василий Иванович пообещал завтра же изничтожить своего кота, как носителя многих бед и несчастий для человека…3
Василий вырос в здоровых бытовых условиях. Его отец, Иван Петрович Антипов, потомственный рабочий, пил по рюмке водки 5–6 раз в год по большим праздникам и по случаю семейных торжеств; мать в рот не брала спиртного. Вообще в роду Антиповых не было пьяниц, а род давнишний, могучий, каждая, семья отличалась многодетностью и строгими моральными устоями. У Ивана Петровича тоже было семеро детей, троих отняла война — двух сыновей и дочь; две дочери замужем, трудятся в текстильной промышленности; с ним вместе жили два сына: Василий и Иван, оба работали с отцом на судостроительном заводе. Сыновья ни в чем не подводили старика — ни в труде, ни поведением. По дружной, хотя уже и пострадавшей, но крепкой семье неожиданно был нанесен удар. Однажды Иван Петрович возвращался с женой поздно вечером из гостей. На улицах было безлюдно. Послышался крик женщины, она с отчаянием просила о спасении. Антиповы быстро направились к месту происшествия. Какой-то по виду невзрачный парень подмял под себя женщину. Иван Петрович схватил его за шиворот и отшвырнул в сторону. Парень вскочил на ноги, выхватил нож и ринулся на Антипова. Между ними встала Авдотья Александровна, — хотела защитить мужа. Нож пронзил ей сердце. Потом, после непродолжительной борьбы, той же участи подвергся и Антипов. Девушка была спасена от изнасилования слишком дорогой ценой. Этим, однако, беды в семье Антиповых не кончились: Василий стал глушить горе водкой. Теперь он не в силах был остановиться без основательной помощи со стороны, может быть даже медицинской, но все попытки в этом направлении кончались крахом, — Василий сердился и просил оставить его в покое. Однако болезнь не затрагивала его рабочей дисциплины — прогулов он не допускал, хотя качество его работы было уже не то, не по возможностям этого отличного мастера, которого в прошлом заслуженно назвали человеком с золотыми руками. Если как-то еще можно было мириться с Василием на работе, то в быту он стал совершенно несносным человеком. Пьяный, он придирался к жене, ругался и даже дрался. То, что он рассказал об экспериментах с «Чернышом», — это дела уже минувших дней, когда жена еще надеялась спасти близкого ей человека, но у нее из этого благого намерения ничего не вышло. Не помог ей и Иван. Он тоже тяжко воспринял трагическую гибель родителей. Пришел в отдел кадров управления милиции города и попросил взять его на работу рядовым милиционером. Он, квалифицированный рабочий, решил покинуть завод и посвятить свою дальнейшую жизнь борьбе против язв, которые еще мешают нашим людям жить и работать нормально. Нет, не мстить он будет за отца. Тому, кому хотел бы отомстить, мстить поздно — преступник получил свое. Иван в своей новой работе будет добиваться другого: чутко и заботливо охранять жизнь и здоровье, труд и отдых советского человека. Антипов-младший отлично нес сложную и напряженную службу постового. Он получил уже несколько благодарностей и звание сержанта милиции, среди товарищей слыл чутким и находчивым человеком, с ним часто советовались и по работе и даже по личным делам, всегда находя поддержку. Не поэтому ли ему было вдвойне обидно за домашние нелады? Василий почти не считался с младшим братом и к его новой работе относился по меньшей мере иронически Иван долго бился с пороком брата; Василий давал слово, но оставался верен себе. Тогда Иван с болью в сердце махнул на брата рукой… Вернемся к Василию. С трудом передвигая ноги, он подошел к двери, открыл ее своим ключом и, важно войдя в квартиру, напыщенно сказал: — Уважаемые граждане: супруга Ира, брат Иван и кот «Черныш»! Сегодня я — не я, сегодня перед вами… Вы понятия не имеете, кто сейчас перед вами, нет, не имеете… В квартире спали, кот притаился в ванной комнате… — «Василь Ванч — золотые руки» и «Антон Ванч — золотое сердце» — здорово получается, лучше не сказать… Капитан первого ранга и рабочий — друзья, пьют, едят вместе, а скоро, словно настоящие братья, спать будут вместе, под одной крышей, да, будут… Ира! Иван! «Черныш»! Айда ко мне! Сегодня, я объявляю вам амнистию, хотя своему другу и обещал истребить тебя, «Черныш»… Он не любит черных котов… Ну и пусть его! Ирина, накинув халат, вышла в коридор, где куролесил супруг, мягко попросила его лечь спать — уже поздно. Василий с гордостью рассказал ей о новом своем знакомстве. На этот раз ему повезло, весь вечер пил почти целиком на чужой счет. И не просто нагло примазался — большой человек влюбился в него, так прямо и сказал об этом: пей, ешь, сколько душа примет, а деньги… Фи, ерунда! А как рассуждает!.. Давай, говорит, дорогой, философствовать… И пошли, пошли! Капитан первого ранга — пять слов; он, Василий Иванович, — десять; капитан — двадцать, он — сорок… Дело дошло до «американки», пари есть такое. Правда, тут он, Василий, сплоховал, малость перехватил, язык подвел. Ничего, ничего, беда не велика, в следующий раз всё будет как надо… Ирина еще раз попросила мужа лечь спать, притворно похвалив ею за удачное знакомство. Василий пообещал уважить жену при условии, если она сейчас же, не сходя с места, даст слово принять по всем правилам русского гостеприимства нового его друга. Это будет великая честь для всех их, в том числе и для «Ваньки-сухаря», который и не подозревает, какое счастье привалило в их дом… Ирина пообещала исполнить просьбу мужа. Очень хорошо, что на этот раз не буйствует. Может быть, он в самом деле напал на приличного человека и тот благотворно повлиял на него. Что ж, такого человека она не прочь принять в своем доме… До чего же она исстрадалась, и что бы она ни отдала, лишь бы спасти мужа, вернуть его к прежней жизни!4
Что, собственно, произошло с Василием? Заурядная встреча в пивной с каким-то отставным военным, какой-то пьяный разговор, которого он как следует и не запомнил, но Василия не узнать, словно его подменили. Не понимают его теперешнего поведения ни жена, ни брат, ни товарищи по работе, ни собутыльники по пивной, куда он продолжает заходить через день-два неизвестно зачем: он совершенно перестал пить водку. В пивной он занимал всё тот же угловой, с серой мраморной крышкой столик, брал пол-литровую кружку пива и, как сыч, мрачно сидел над нею весь вечер. Если к нему кто и подсаживался, он был нелюбезен и неразговорчив. В цехе тоже вел себя замкнуто, заметно, однако, улучшив качество работы. Дома же был теперь образцовым семьянином, словно хотел восполнить то, что упустил в дни пьяного угара. Ирина проявляла к мужу подчеркнутую заботу, не зная, как угодить ему, чтобы закрепить его выздоровление от страшного, всё опустошающего недуга. Иван и Ирина как бы по молчаливому сговору не напоминали Василию о его недавнем прошлом, боялись они говорить об этом даже между собой: пусть проклятое зло тихо канет в вечность. Что же произошло с Василием? Как после выяснилось, он и сам толком не мог ответить на этот вопрос, если, конечно, верить в искренность его слов следователю и суду (ему в этом поверили — он был правдив во всем с начала и до конца)… Когда Василий проснулся в первое утро после встречи с Антоном Ивановичем, у него на душе появилась какая-то невыносимо мучительная тоска. В чем дело? Постарался припомнить свое поведение накануне. Не избил ли жену? Не натворил ли какой-нибудь иной пакости? Как будто нет… Да и жена мирно ведет себя… Слава богу!.. Наконец вспомнил капитана, пари, но не мог хорошенько вспомнить, чем вызван был спор, о чем они говорили. Во всяком случае, этот флотский, кажется, очень заслуженный человек, и он оставил о себе хорошее впечатление; запомнил его лицо — добродушное, улыбчивое, запомнил глаза — небольшие, серые, но красивые, какие-то особенно умные, насквозь пронизывающие… Вспомнил — капитан говорил ему что-то приятное, как-то особо подошел к нему, понял его душу, кажется, предложил дружбу. Не так часто предложит тебе дружбу хороший человек. Новый знакомый не выходил у него из головы. Хотелось его встретить, говорить с ним… О чем угодно, но говорить, еще раз послушать его негромкий, приятный голос. Первые три дня Василий избегал пивной по той простой причине, что в кармане было пусто, ждал получку, а когда появились деньги, зашел и весь вечер провел за кружкой пива, в полном одиночестве, в надежде встретить Антона Ивановича. Водки не пил, — хотел встретить друга в наилучшем виде: ведь уговорились — пить только вместе! Но друг не пришел. Василий огорчился и решил идти домой. На следующий вечер снова сидел он в одиночестве над кружкой пива и ожидал друга. Тот словно сквозь землю провалился… Жаль, жаль… такой хороший сердечный человек… Не может быть, чтоб он пошутил… Наверное, придет завтра… И назавтра Василий снова шел в пивную. Наконец в одну из суббот к его столику подошел человек и вежливо спросил: — Разрешите присесть, товарищ? Антипов поднял голову, в глаза знакомым, разноцветом бросились четыре ряда орденских планок. Он вскочил, и друзья обнялись, похлопывая друг друга по спине. Потом они сцепились, как юноши-подростки, за руки и сели за столик, не разнимая рук и пристально смотря в лицо один другому. — Тосковал по тебе, словно влюбленная красная девица, — признался Антипов, — и даже бросил пить змеиное молоко; думаю, подожду, что встречать тебя пьяным! — Другими словами, друг, ты можешь не пить? Поздравляю, рад твоему выздоровлению! — взволнованно сказал Антон Иванович. — Рассказывай, дорогой, подробно, как живешь, как в семье… — Сначала пропустим по стаканчику. — И Василий, подозвав официанта, попросил: — Пол-литра «столичной»… Бутылку лимонада и шесть бутербродов: два с семгой, два с полтавской, два с сыром… Возражений, изменений или дополнений не будет? — обратился он затем к долгожданному другу. Антон Иванович укоризненно покачал головой, но ничего не сказал. В ожидании заказанного они повели разговор о житье-бытье. Василий не без гордости отметил, что за последнее время у него резко повысился заработок. В самом деле… не бросить ли пить совершенно? — Зачем же ты заказал? — подмигнул Антон Иванович. — Чтобы рассчитаться… Ты же меня угощал! — Терпеть не могу крохоборов. Я и сегодня возьму всё на себя. Понял, дорогой? Впредь будешь умней в обращении с друзьями. Василий хотел возразить, но Антон Иванович стал рассказывать о новом в своей жизни: он взял небольшую работенку… Тяжко сидеть без дела, наслаждаться только охотой да сбором грибов. Кстати, он когда-нибудь возьмет с собой по грибы и Василия Ивановича. Чудесное это занятие… Официант подал заказ. Наполнены стаканы. Антон Иванович предложил тост за дружбу и вечное взаимопонимание. Чокнулись. Выпили, закусили… Заказать еще? Хватит, хватит! — решительно хватит. Друзья вышли на улицу, Антипов предложил было пойти посидеть в скверик, но у Антона Ивановича не было свободного времени: он приглашен на деловую беседу в 22 ноль-ноль к одному контр-адмиралу, другу и бывшему сослуживцу. Расставаясь, Антон Иванович высказал пожелание, чтобы Василий впредь не показывался в пивной: не надо играть с огнем! Что ж, предложение хорошее, доброе. А как же с дальнейшими встречами? Он, Василий, не хотел бы порывать связи, тем более, провозглашен был очень приятный и обнадеживающий тост. Антон Иванович извинился, что из-за некоторых семейных обстоятельств не может пока пригласить к себе, и добавил, что будет рад, если Василий познакомит его со своей семьей. Василий искренне обрадовался, поспешно записал и передал адрес, назвал дни и часы, когда его можно застать дома. И они завершили свою вторую встречу, по инициативе несколько охмелевшего Антона Ивановича, крепким мужским поцелуем.5
Василий рассказал жене о новой встрече с флотским товарищем, особо выделив то, что он ратует за трезвость. Антон Иванович посулил зайти к ним в гости, его надо будет принять самым наилучшим образом, стол накрыть по всем правилам, как можно лучше… А что делать с выпивкой? Одну-две бутылки столового вина… Вот и всё — водку побоку… Антон Иванович зашел к Антиповым через неделю, в восемь без 20 минут вечера. Вся семья Антиповых была дома. Иван собрался уходить на дежурство. Очень жаль, что он не может лично познакомиться с гостем. Не беда, познакомится в другой раз; видимо, у них с братом завязывается настоящая дружба. Иван приоткрыл дверь и украдкой посмотрел на гостя. Солидный дядька, сухопарый, но это к нему идет, молодит… Носит палку… Очень красивая, особенно набалдашник: массивный, с какими-то фокусами… В прошлом, наверное, был красавцем и большим сердцеедом: очень уж расшаркивается перед Ириной. Из коридора гостя провели в комнату. Ирина, извинившись, тотчас снова вышла в коридор. Иван подозвал ее к себе и, погрозив пальцем, прошептал: — Смотри не влюбись: мужчина он как будто стоящий. Я пошел. Вернусь не раньше двух ночи…* * *
Из автобуса вышел человек; опираясь на палку и сильно хромая, он с трудом дошел до стоянки такси и обратился к шофёру: — Как, дорогой, насчет дальнего пути? — А вам куда? Пассажир назвал место назначения. Шофёр с удивлением посмотрел на него: туда же через полчаса идет поезд! Да, идет… И тем не менее, он хочет ехать на такси — это значительно быстрее. Он очень спешит. Кроме того, если поехать поездом, от станции придется тащиться километра четыре, что ему с больной ногой не под силу. Потом, что за разговоры! Обязанность водителя такси принять заказ и добросовестно его выполнить… Завязался спор. Шофёру не хотелось ехать. Порой выезды в дальние рейсы кончались для шофёров печально. Кто его знает, что это за гражданин? Одет хорошо, много наград, а поди, угадай! Человек с палкой настаивал, убеждал. Это же глумление! У него тяжко заболел близкий человек, ему надо отвезти лекарство. Если этого во-время не сделать, не миновать беды. Тогда кто будет нести за это ответственность?!. Шумом заинтересовался постовой. Это был сержант милиции Антипов. — Рассудите нас, товарищ сержант, — обратился к нему возбужденный пассажир. Сержант застыл в удивлении: он узнал Антона Ивановича. Как он попал сюда и что это за отъезд в такой поздний час почти в пограничную зону? Антон Иванович сует ему документ. Антипов машинально берет его, читает. Антон Иванович не умолкает: — Возможно, меня за бандита принимают, думают, что по пути угроблю водителя, угоню машину и заберу его гроши… Да я на свои сбережения могу купить пять ваших «Побед» и платить их шофёрам зарплату целых две пятилетки… Помогите, товарищ сержант! Антипов с минуту крутил в руках удостоверение Антона Ивановича Голубцова, капитана первого ранга в отставке. Ничего подозрительного… А что если спросить его, когда он расстался с Василием? Вместо этого спросил о другом: — Вы что — приезжий? — Почему вы меня об этом спрашиваете? — с неудовольствием на вопрос вопросом ответил Голубцов. — Милиция, сами понимаете, — сконфуженно улыбнулся Антипов. — Аа-а, — покровительственно протянул Голубцов, — понятно, дорогой… Я всего час назад как прилетел из Москвы… Еду по неотложному вызову — умирает мать… Еще раз прошу — не оставьте в беде, дорожу каждой минутой! В конце концов, я готов на любые затраты, сами понимаете, в опасности жизнь родного человека… И всё же водитель сопротивлялся, ссылаясь на недостаток горючего, которым в этом направлении не пополнишься, и на то, что подобного рода выезды обязательно подлежат согласованию со старшим диспетчером. Наконец сержант взял инициативу в свои руки. — Прошу следовать за мной! — повелительно сказал он водителю. — В самом деле, безобразие — у человека несчастье, а вы канитель развели… Я всё сам согласую… Пошли! — Антипов украдкой дернул за руку водителя, и тот, помявшись, направился за сержантом к телефонной будке… Через несколько минут сержант и водитель вернулись. Всё в порядке: поездка состоится. Голубцов, хромая, подошел к сержанту: — Большое-пребольшое спасибо, дорогой товарищ! — Только прошу, гражданин, не обижаться и не нервничать, — заявил шофёр, — малость задержимся: я должен предупредить домашних, чтобы зря не беспокоились, потом заскачу в гараж — возьму канистру горючего. — Делай, дорогой, как лучше… Надеюсь, что ты в пути дремать не будешь. А я в долгу не останусь…6
По асфальтированному шоссе на север шла «Победа» под номером ОЕ-4554. Кроме водителя, там находилось два человека — мужчины в одинаковых светлосерых костюмах; в петлицах полевые цветы. По виду они напоминали «стиляг». Для Ивана Ивановича, кроме штатского костюма, пришлось пустить в ход парик и грим. Оперативный работник Герасимов, повернувшись вполоборота, зорко наблюдал через заднее стекло за шоссе, ожидая «Победу»-такси. Антипов сосредоточенно молчал. Его терзала неизвестность, что дома. Не было времени узнать, что с братом, невесткой, детьми… Не прикончил ли их этот тип?! Может быть, им необходима помощь?.. Хотя бы попросил кого-нибудь из сотрудников сходить на квартиру… Что ж, ошибки теперь не исправишь… Главное — не упустить врага… А почему он, собственно, враг? Сколько в жизни бывает самых причудливых и невероятных сочетаний! Почему он, этот Голубцов, не мог соврать о прибытии только что из Москвы, о больной, умирающей матери? Человека не хотят везти, а ему позарез нужно ехать… Но что значит притворство с больной ногой? В коридоре он не хромал, держался браво… Впрочем, и тут могла быть та же цель. Он не был уверен, что его повезут на такое дальнее расстояние, да еще ночью. Разыграл комедию, захромал… Как ни настраивал себя Антипов в пользу Голубцова, всё же не мог погасить тревоги. Слишком уж много странностей у этого отставного! И сержант последовательно воспроизвел в своей памяти всё то, что узнал в свое время от брата… — Кажется, они, — проговорил Герасимов. Он дал команду шофёру остановить машину, а когда тот это сделал, вышел и отошел назад. Шофёр и Антипов остались в машине. (Все эти и последующие действия определены были заранее разработанным планом операции.) Судя по движению освещенных фар, машина неслась с предельной скоростью. Пора подать сигнал ее шофёру. И Герасимов поднял руку. Не доезжая до него нескольких шагов, такси остановилось. Из нее вышел Голубцов и, опираясь на палку, зло спросил: — В чем дело?! — Не можете ли дать несколько спичек?.. Буду очень обязан. — Как вам не стыдно из-за таких пустяков останавливать машину… — Понимаете — умираем, курить хочется! — Лови! — Голубцов бросил коробок со спичками. — Судя по номеру, на собственной катишь, а своих спичек не имеешь, — добродушно пошутил Голубцов и неуклюже полез в такси, которое тотчас тронулось. Из машины вышел Иван Иванович. — Спешит, дьявол! — не то удовлетворенно, не то с досадой заметил он. — Уверен, что он тоже действует строго по плану… — У меня было огромное желание выйти и скомандовать: «Руки вверх!». Сразу бы всё выяснилось, произвели бы обыск и, уверен, добыли бы доказательства… — А возможно, он только едет за доказательствами. В этом случае весь наш замысел сразу же разлетелся бы в пух и в прах… Они закурили. Такси скрылось из виду. Очень хорошо. Спешить особенно нечего. Отставной капитан первого ранга пока что никуда не уйдет; не позже, чем через час, они снова с ним встретятся. И они встретились. Что-то случилось с такси. Шофёр с бранью ковырялся в моторе. Его спутник ковылял вокруг машины. А когда к ним подошла уже знакомая машина, он слезно стал просить взять его с собой и доставить на место, к постели умирающей матери… — Странное сочетание, — выйдя из машины, заметил Герасимов, — смерть и свадьба… — Не надо шутить, товарищ, — страдальчески морщась, возразил Голубцов, — я вас серьезно прошу — проявите чуткость… — А я не шучу: мы едем на свадьбу друга… Отмахать лишних сорок километров туда и сорок обратно — сколько потратишь времени? Прикатишь, гляди, к шапочному разбору… — Я хорошо заплачу, всё компенсирую… — Подработаем, что ль, друзья? — бросил Герасимов в сторону своей машины. — Это дело хозяйское, — сонно ответил из машины Антипов. Голубцов щедро расплатился с водителем такси и сел в «попутную машину», рядом с шофёром. — Ради бога, скорей! — с тревогой попросил он. Машина летела с сумасшедшей скоростью. Мелькали телеграфно-телефонные столбы, деревья, населенные пункты. — Хорошо, очень хорошо! — ворковал Голубцов. Остальные напряженно молчали…7
До прибытия машины за номером ОЕ-4554 к месту назначения сделаем то, чего не сделал сержант Антипов, — поспешим к его брату. Оказывается, опасения Ивана были напрасны: близкие ему люди физически не пострадали. Когда хозяйка дома отлучилась по хозяйству, Антон Иванович высыпал из карманов китайские орехи и подозвал ребят. — Это вам, хлопцы, — забавляйтесь… — Берите и айда в дядину комнату! — скомандовал отец. Ребята поблагодарили гостя и молниеносно исчезли. — А где же ваш братец? — поинтересовался Голубцов. — Эту неделю он работает в ночь… Беспокойная служба. И что ему взбрело в голову оставить завод… — Его дело, — равнодушно сказал Антон Иванович. — По правде сказать, в последнее время я встревожен… Эти проклятые атомные и водородные бомбы! Одна водородная бомба способна разрушить самый большой город и уничтожить десять миллионов человек… Ты представляешь, что будет с нашими «корытами», если этакое чудовище слетит на море… Василий слушал Голубцова явно скептически, а когда тот закончил, вскинул кверху свои огромные руки и, смеясь, сказал: — Видно, ты изрядно поотстал от жизни… на своей пенсии… Бомбу-то создал человек, он же создаст и достойную от нее защиту. На всякий яд всегда найдется противоядие… Посмотри сюда! — и Антипов, вырвав из ученической тетради несколько листков, стал чертить современную схему вооружения боевых кораблей. Голубцов слушал пояснения друга и время от времени восклицал: — Любопытно, чертовски любопытно! — Ну, что ты теперь скажешь? — кончил пояснение Антипов. — Скажу одно: сдаюсь! Ты меня успокоил. — А как, между прочим, насчет «американки» — многозначительно улыбаясь, спросил Антипов. — Ну и хитрец! Как поймал… Назначай штраф! Я готов на любую расплату… — В свое время я мечтал накрыть тебя на поллитровку «столичной». Ну, а теперь… — Дорогой, будь любезен, дай стакан воды! — неожиданно прервал Голубцов Василия. — А мы сейчас чайку соорудим… — Это попозже, а сейчас дай водички из-под крана… Дурная привычка, но сделать ничего не могу… Вернувшись с водой, Антипов застал гостя за странной работой: он жег над большой пластмассовой пепельницей бумагу. — Предосторожность никогда не помешает, — приминая пепел, пояснил Голубцов. Взял стакан, проглотил несколько глотков воды. — Першит что-то в горле… А где же твоя хозяйка? — Пошла кое-чем пополниться. — Не ради ли меня? — А почему бы и нет? Она это сделает с величайшим удовольствием. — В таком случае, позволь и мне отлучиться на несколько минут! — Не понимаю? — Хочу, в свою очередь, кое-что подбросить хозяйке, да и с тобой надо рассчитаться… ничего не поделаешь, проиграл… Позволь преподнести тебе сюрприз, что доставит мне огромное удовольствие… Василий размяк: до чего же хороший гость! Сколько у него доброты, задушевности… Пошлет же судьба такого замечательного друга! — Только очень прошу, поскромней, без особых затей, иначе жена обидится… — С женщинами я справляюсь куда легче, — не по возрасту игриво заметил Голубцов и твердой походкой направился к выходу… Минут через десять пришла раскрасневшаяся Ирина. Ей тоже было приятно поухаживать за таким заслуженным и обходительным мужчиной. Узнав, что гость пошел за какими-то покупками, Ирина не рассердилась и деловито стала накрывать на стол. Прошло больше часа, гость не возвращался. — Не случилось ли с ним чего? — с тревогой сказала Ирина. — Я сам тоже беспокоюсь… Долго ли при теперешней суматохе на улице наскочить на беду. — Суматохи-то особенной сейчас нет — уже одиннадцатый час… Всё же сходи, посмотри, не в «гастрономе» ли затерло… Если так, тащи его скорей сюда… Антипов поспешно вышел из дому, приглядывался к встречным, заглянул в «гастроном» — безрезультатно; спросил продавщицу, не заходил ли к ним такой симпатичный дядька, флотский, без погон, у него еще много наград, и этакая приметная палка… — Нет, к сожалению, не заметила… Зашел еще в один магазин, но и там не нашел друга. Не разошлись ли? Решил вернуться домой… У парадной лестницы Василия Ивановича встретил дежурный дворник. — Это велено передать вам, — он подал записку Антипову. — Малость задержал ее, отвлекли меня… Антипов нетерпеливо развернул записку:«Дорогой Василий Иванович! Прошу принять тысячу извинений за вынужденное вероломство: только что случайно встретил контр-адмирала, который чуть ли не силой увез меня к себе; ему нужна помощь по одному вопросу, в котором он считает меня самым сильным специалистом. Сам понимаешь, отказать нельзя. Постараюсь вырваться поскорей. Вернусь, конечно, «во всеоружии»… Если же застряну, то с твоего разрешения загляну в 20–00 послезавтра. Сердечно жму руку твой Антон Ванч».
8
Машина номер ОЕ-4554 из-за плохой дороги с трудом вошла в полуразрушенный войной небольшой городок — райцентр. Это и был конечный пункт для нашего беспокойного пассажира. Остановились у церкви; из машины вышли Герасимов и шофёр. Сержант Антипов, притворившись спящим, слегка похрапывал. Солнце уже пригревало, денек обещал порадовать на славу… — Большое спасибо, товарищ, — подавая несколько сотенных купюр Герасимову (он считал его хозяином машины), сердечно сказал Голубцов. — А это тебе, дорогой, — он протянул пятьдесят рублей шофёру, — за прекрасное управление… вроде премии. Шофёр, взяв деньги, пробасил: — Премного благодарен… — А что же не выходит ваш приятель? — поинтересовался Голубцов. — Хай поспит, — ответил Герасимов, — укачало младенца… — Кланяйтесь ему… Поползу отыскивать мамашу. Сам здесь впервые, придется спрашивать граждан, — и Голубцов, крепко пожав руку Герасимову и кивнув шофёру, заковылял в сторону каменного здания с вывеской: «Универсальный магазин». Герасимов и шофёр опустились на траву. В это же время из машины вышел сержант и шмыгнул за угол церкви. Через минуту он шел по одной улице с Голубцовым, но по противоположной стороне, следя за каждым его шагом. Голубцов не переставал хромать, не оборачивался по сторонам; вот он остановил прохожего и, судя по жестам, спрашивал, как пройти к своей цели. Шли дальше, порядочно петляя. Антипов вел себя искусно, и Голубцов его не замечал. В ста шагах от небольшой площади Голубцов остановил средних лет женщину, с зонтиком, одетую вчерную узкую юбку и пушистый джемпер; в руках вместе с зонтиком она держала свернутую в трубочку газету, на другой руке висела сумка. Остановив женщину, Голубцов снова стал расспрашивать ее о дороге. Она объяснила. Голубцов не понимал. Пожимая плечами, он вынул из кармана газету и карандаш… Нарисуйте, мол, план… Женщина взяла карандаш, но рисовать стала на своей газете… Нарисовала, объяснила, протянула ему газету… — Благодарю. Чтобы вас не обездолить… — Голубцов подал ей свою… Они разошлись. Женщина пошла через площадь, Голубцов, волоча ногу, к универмагу. Антипов дал пронзительный свисток. Голубцов вздрогнул, но не обернулся, хотя несколько ускорил шаг; женщина в пуховом джемпере, кажется, не обратила никакого внимания на сигнал. Свисток сделал свое дело: показались Герасимов и шофёр. Они последовали за Голубцовым, Антипов — за женщиной… Герасимов и шофёр нагнали Голубцова, остановили. Тот с неподдельным изумлением смотрел на них. — Вы слишком много заплатили, товарищ, возьмите, — возвращая половину денег, сказал Герасимов. — Ах, вот что! — облегченно вздохнул Голубцов. — А я подумал, не случилось ли чего-нибудь с вами. Уберите деньги! Чертовски устал: не могу отыскать матери… — Сядем в машину, — предложил Герасимов, — в машине легче искать. — Не стоит… вам надо спешить на свадьбу. — Уж если помогать, так помогать… Давайте сообща разыщем вашу матушку, вы передадите ей лекарство, и махнем на бал. Голубцов начинал понимать серьезность своего положения. Герасимов и шофёр так подошли к Голубцову, что ему и рук не поднять. Но к оружию прибегать, безусловно, рано. Голубцов собирался с мыслями. — Послушайте, вам дьявольски везет: мой друг пригласил для вас даму — взгляните! — Герасимов кивнул в сторону приближающихся к ним сержанта с женщиной в пуховом джемпере. Голубцов сделал попытку рвануться в сторону. Его молча сжали с двух сторон Герасимов и шофёр. — Ведите себя спокойно, — тихо посоветовал Герасимов, показывая удостоверение личности. Взял из рук Голубцова палку и сказал: — Сдайте оружие… — Заодно посмотрите и мое удостоверение на право ношения пистолета… — Я вам и без того верю, — достав из правого кармана небольшой пистолет типа «браунинг», сказал Герасимов. — Еще есть что-нибудь? — Кроме горсти леденцов и денег — ничего… Сержант подвел женщину: — Познакомьтесь! Женщина молчала, потупив глаза. Голубцов продолжал вызывающе смотреть на окружающих. Их повели к машине. Там произвели дополнительный обыск. Исследовали палку и зонт. И в палке и в зонте микроскопические радиостанции. В газете, переданной Голубцовым женщине, находилось несколько листков с карандашными набросками Василия, которые шулерски подменил лазутчик, спалив, вместо них, чистые листы бумаги; обстоятельный, зашифрованный бисерным почерком на пяти страницах тончайшей бумаги, по всей вероятности, отчет. Больше у женщины ничего не нашли; не оказалось у нее и документов, удостоверяющих личность. Голубцову же были переданы женщиной странички синей тонкой бумаги, очевидно, с текстом, который надо проявить… Голубцов молчал, по-волчьи следя за действиями своих разоблачителей. Не надеялся ли он уйти? Может быть. Женщина тоже молчала. Внешне эту группу людей можно было принять за туристов. Кстати, к ним направляется еще машина, кажется, такси, номер знакомый. Что за чудо! И шофёр знакомый. Оказывается, он, починив машину, решил разыскать своего пассажира. Жаль на холостом ходу гнать ее обратно. — Опоздал малость, товарищ, — прервал его объяснения Герасимов, — но ничего, управились сами… Сержант обратился к Голубцову: — Может быть, вы скажете нам что-нибудь о Василии Ивановиче? Как вы с ним расплатились за его гостеприимство? Голубцов с минуту молчал. «Вот оно откуда идет… Какой страшный просчет!» Вытянулся в струнку и взял под козырек: — Честь и слава сильнейшим! Нет, нет, я, как мастер своего дела, искренне преклоняюсь перед вами… Достал из кармана конфеты: — Угощайтесь! Буду объективен… вы настоящие мастера. Герасимов и Антипов отказались от угощения. — Брезгаете?.. — усмехнулся Голубцов. — Дело, конечно, ваше… Была бы честь оказана… Прошу. — Голубцов протянул конфеты женщине в пуховом джемпере. Руки ее дрожали, когда она брала конфету. — Сладкое подкрепляет, — добродушным тоном сказал Голубцов. — Ваше здоровье, господа! Желаю вам дальнейших успехов на вашем благородном поприще. — Он бросил конфету в рот и, хрустнув несколько раз зубами, проглотил ее. То же самое сделала и женщина, почему-то закрыв глаза и держась левой рукой за лоб…* * *
Некоторые обстоятельства вынуждают меня закончить рассказ справкой. Лазутчика и его помощницу судить не удалось из-за их смерти: они отравились конфетами. Сержант Антипов за проявленную бдительность получил награду и направлен в школу для получения специального образования. Герасимова тоже отметили за хорошо разработанный план операции, но сильно пожурили за существенный недосмотр. Хватило же смекалки самим не проглотить яд; почему же он позволил это сделать врагам? Ведь они наверняка унесли с собой весьма ценные данные. Всё говорит за то, что среди наших людей орудовал чрезвычайно опасный зверь.Следователь
1

До восемнадцати лет Сергеев жил в деревне, учился в средней школе, в дни каникул и в свободное от учебы время работал в колхозе. По окончании десятилетки ему очень хотелось поступить в театральный институт; разубедил учитель географии: доказал, что актера из него не получится, голос слабоват. Под влиянием того же учителя он решил стать «бродягой»-географом. Однако через месяц после начала занятий в университете с географического факультета перешел на юридический. И тут не обошлось без стороннего влияния. На этот раз в его судьбу вмешались товарищи по общежитию, студенты-юристы, тоже первокурсники, но уже возомнившие себя будущими знаменитостями. Друзья нашли, что Петр Сергеев обязан стать юристом, после того как он помог одному из них разоблачить нечестную игру девушки, претендентки на его руку и сердце, проживавшей в Саратове. Они хотели пожениться, но молодой человек раздумал, решив, что рановато: брак затормозит или сорвет его учебу. Тогда девушка перешла к решительным действиям: судя по письму ее подруги, она приняла яд, попала в больницу и находится чуть ли не при смерти. Молодого человека это сообщение ошеломило, и он собирался лететь в Саратов. Товарищи приступили даже к сбору средств на покупку билета. Сергеев взял конверт, повертел его в руках и спросил страдающего товарища — не сохранилось ли у него писем возлюбленной. Конечно, письма сохранились. Сергеев сличил их почерк с почерком, которым был написан адрес отправительницы печального уведомления, и уверенно сказал: — Полет отменяется… трагедия дутая! Его попросили расшифровать это многозначительное заявление. Что ж, можно расшифровать. Он сделает это с большим удовольствием. Почерк прежних писем девушки и почерк обратного адреса отправительницы последнего письма тождественны. Объясняется это просто: симулянтка попросила подружку написать письмо, по всей вероятности, продиктовала его. Письмо было законвертовано, и отравившаяся сама понесла его на почту. Письмо отправлялось заказным. Когда оно было подано к отправке, его вернули и… попросили написать адрес отправителя. Девушка, не подумав о последствиях, приложила к конверту свою «умирающую» руку и… выдала себя с головой. Доводы Сергеева показались настолько убедительными, что его стали поздравлять. В тот же день телеграфно запросили саратовских друзей. Ответ принес следователю-любителю полное торжество. И надо сказать, что опыт пробудил в Сергееве вкус к работе следователя, он почувствовал, что именно здесь его настоящее призвание. То, что он не ошибся, подтвердила его первая производственная практика в органах дознания. Новая работа захватила Сергеева с головой, в ней много было по-настоящему интересного, порой романтического. Но его удивило, что иные товарищи, подчас высказав по поводу преступления ошибочную точку зрения, стремятся во что бы то ни стало отстоять ее, причем пользуются не совсем дозволенными или даже прямо запрещенными методами. Последнее не только удивило, но и возмутило его. Он разговорился со старшими товарищами. Студента-практиканта внимательно выслушали. В принципе он, конечно, прав. Но если взять случай, когда подозреваемый был почти разоблачен, когда уже создалось убеждение в его виновности, однако он не сознался. Что делать? Выпустить на свободу или применить некоторое принуждение? Спор обострился. Сергеев обратился с письмом к прокурору республики, прося его высказать свое мнение. Прокуратура безоговорочно поддержала студента. Прокурор благодарил молодого человека за честное отношение к своему долгу… Работники дознания отнеслись к успеху Сергеева несколько иронически. Они решили сбить спесь с выскочки. И вот подвернулся подходящий случай. Задержали некоего гражданина, обиравшего на рынке колхозников; мошенник вместо пятидесятирублевых купюр подсовывал десятки. Плутовство сходило благополучно до тех пор, пока плут не обманул одного колхозника на солидную сумму. Тот задался целью отыскать обидчика. Нашел его в чайной и приволок в милицию… Задержанный протестовал, клялся, что впервые видит колхозника, только что прибыл в город по личным делам… Работники дознания были убеждены, что колхозник прав, но чем обосновать его правоту? Где свидетели? Вот бы где поднажать. Что ж, пусть займется этим делом студент, пусть раскроет преступление своими методами. Сергеев понял замысел товарищей и не без внутреннего волнения принял поручение. Познакомился с протоколом задержания, с протоколами опроса, побеседовал с колхозником. Да, сложно, всё очень сложно: если задержанный не признает своей вины, дело придется прекратить и явного преступника отпустить на свободу. Надо получить признание любой… О нет, только не любой ценой! Закон, закон и еще раз закон!.. Сергеев вызвал к себе подозреваемого, предложил стул, спросил, давно ли он в этих краях. Задержанный ответил, что приехал в день задержания, намеревался поступить в городе на работу; у него здесь хорошие приятели, обещали помочь. В конце беседы Сергеев сказал решительно: — Попрошу вас, гражданин, написать собственноручно свои показания… — Какие показания? Может быть, вы зададите мне вопросы, — беря бумагу и вставочку, сказал подозреваемый. — У меня к вам вопросов пока нет. Есть просьба: после того, как вы напишете, когда и зачем сюда приехали, перечислите своих приятелей и укажите их адреса… Задержанный быстро встал и пытливо поглядел на студента. — Кто вы и откуда? — напряженно спросил он. Для вора необычная экспансия, но этот вор не считал себя вором: он комбинировал, играл, обманывал людей; в лице же Сергеева встретил человека в своем роде артиста. Разъезжая по отдаленным городам, авантюрист привык к противникам другого толка, считал себя выше их по уму, по изворотливости. Нет, серьезно, откуда здесь эта залетная птичка? Впрочем, выходит, это не птичка, а ястреб. — Чем вы так расстроены? — спокойно спросил Сергеев. — Я не расстроен, а восхищен, восхищен вашей изобретательностью: как ловко вы расставили сети… Конечно, назвать вам своих знакомых я не могу… — Потому что их у вас здесь нет. — Один-ноль в вашу пользу, — улыбнулся мошенник, — вынужден сдаться; расскажу всё чистосердечно о своих проделках… Эта победа окрылила Сергеева. Возвратясь в университет, он с еще большим рвением взялся за учебу. Университет окончил с отличием и был назначен следователем в прокуратуру. Петр Николаевич любил не только свою работу. В свободное время он увлекался охотой и рыбной ловлей. Однажды в разгар весенней охоты Петр Николаевич задержался в деревне на трое суток и вернулся с пустыми руками. Вид усталый, но состояние духа великолепное. Жена вопросительно посмотрела на него: что случилось? — А всё-таки я вернулся с добычей, — сказал Петр Николаевич, — и даже как будто бы с крупной. — И он осторожно, намеками рассказал о нижеследующем. Третьего дня после работы Сергеев выехал на охоту в колхоз «Ясные дали». Поблизости от него лежало большое озеро с камышовыми заливами и затонами — чудесные места для вечерней тяги. Нашлась лодка, а вот проводник… Председатель колхоза согласился помочь и назвал Касьяна Титовича Коноплева, заядлого местного рыбака, лучше его никто не знает здешних водных бассейнов. Позвали Коноплева. Касьян Титович отказался: — Не поеду, здоровьишко мое подгуляло. Сергеев улыбнулся: перед ними стоял рослый, широкоплечий детина; светлорусые волосы, красное, густо веснушчатое, энергичное лицо. Это же богатырь! Председатель колхоза тоже был в недоумении, — никогда до этого Коноплев не ссылался на плохое здоровье. — Да что ты, Касьян Титыч, — проговорил председатель. — Когда это с тобой стряслось? — Еще завчера стряслось… Но говорил Коноплев таким звонким голосом, что Сергееву ясно было, что ничего с ним в смысле здоровья не стряслось. Просто не хочет пособить… А ведь вознаграждение он получил бы приличное… Сергеев привык ко всему относиться внимательно. В колхозе люди гостеприимные. Что же заставило Коноплева придумать первую попавшуюся причину, чтобы не сопутствовать охотнику? — Вот коли на рыбалку бы, — сказал Касьян Титович, — тогда, пожалуй, я бы не прочь… Сергеев усмехнулся: — Для рыбалки здоров, а для охоты болен? Может, ты выстрелов не любишь? — пошутил он. — А кто их любит, — помрачнел Коноплев, — хватит, понастрелялись, пора и отдохнуть… Пришлось пригласить лодочником другого колхозника, В тот же вечер Сергеев узнал, что Коноплев — баптист; стал баптистом, как будто, в плену у немцев. Иногда к нему приезжает из города некто Голубев, кажется, их поп, поживет день-другой и уезжает. Колхозники пытались расспросить Коноплева о дружке, — отмалчивается. Лишь один раз процедил сквозь зубы, что это его дружок по фронту. Дружок, так дружок, в этом ничего нет удивительного… Когда наступила пора возвращаться домой, Сергеев неожиданно объявил, что решил остаться здесь еще денька на два, хочет порыбачить. У него имеются в запасе четыре выходных дня. Он уже позвонил по телефону прокурору, и тот согласился предоставить ему эти четыре дня.
Последние комментарии
8 часов 45 минут назад
12 часов 53 минут назад
13 часов 10 минут назад
13 часов 31 минут назад
16 часов 13 минут назад
23 часов 36 минут назад