Упругие волны Земли

Наша сейсмическая экспедиция не первый год работает на Камчатке, и потому мы уже привыкли перед выходом в океан днями, а то и неделями ждать «у моря погоды». В такие дни обычно люди не уходят далеко от базы и, зная, что разрешение можно получить от синоптиков в любую минуту, готовы вмиг собраться. Рано или поздно долгожданное «добро» на выход все-таки получаем. Тогда в спешке грузим свои ящики с приборами на «газик», мчимся через весь город к причалу, хотя может быть и так, что пока мы находимся в пути, обстановка изменится и там, у причала, нас ожидает сообщение: «Выход отменяется». На этот раз экспедиционное судно выходило из бухты рано утром, в бледный, пасмурный рассвет... Приборы еще с вечера установлены в штурманской рубке, проверены, готовы к работе. По рации связываемся с сейсмическими береговыми станциями— они тоже ждут сигнала начала работы. В океане неуютно. Из низких облаков временами идет снег. Заметно покачивает. Через час подходим к первой «точке» нашего профиля, штурман сообщает — до нее пять минут. И тотчас на береговых станциях объявляется пятиминутная готовность. А у нас напряжение нарастает: на корме в ожидании команды замерли ребята с секундомерами в руках, матросы стоят там же у приготовленного заряда. Крутятся стрелки координатора, отсчитывая широту и долготу. Проскочить «точку» нельзя.

Взрыв должен произойти точно в нужном месте. Все следим за секундной стрелкой. Осталось тридцать секунд, включаются осциллограф в рубке и самописцы на станциях. Десять секунд, пять, ноль... Заряд ушел в океан, а еще через пять секунд словно огромной кувалдой грохнули по корпусу корабля. Взрыв! Сквозь толщу воды в океанское дно ударила взрывная волна и пошла, изменяясь в земной коре в зависимости от состава и плотности горных пород, распространяясь на многие десятки и сотни километров. Вот она уже достигла берега, качнула маятники чутких приборов и зафиксировалась на лентах самописцев. По рации нам сообщают: «Взрыв записан». Теперь это уже научный материал.
До следующего пункта взрыва почти полчаса хода, можно и передохнуть.
...Вдоль берегов Камчатки, Курильских островов и дальше к югу, мимо Японии, протянулась зона разломов земной коры, место соединения и взаимодействия тектонических блоков Азиатского материка и океанического дна Тихого океана. Это зона трещин, вдоль которой и происходят процессы, вызывающие такие явления, как землетрясения и извержения вулканов. В сейсмических исследованиях центральное место занимает проблема предсказания сильных землетрясений. Над разрешением ее работает и наша лаборатория Института физики Земли АН СССР. Существуют разные методы, с помощью которых, по мнению ученых, можно обнаружить предвестники сильных землетрясений. Один из них — сейсмическое просвечивание очаговых зон. Заключается он в изучении характеристик упругих волн, распространяющихся в той зоне земной поверхности, где возможны сильные землетрясения. Источником образования волн служат стандартные подводные взрывы, многократно повторяемые в одних и тех же «точках». Взрывы регистрируют на береговых сейсмических станциях, которые располагаются на расстоянии в десятки и сотни километров от источника.
Эксперимент решили ставить в сейсмически активной зоне, находящейся под океаническим дном Авачинского залива. Поскольку подобные исследования в море проводились впервые, трудностей было много. Нужно было разработать методику проведения работ, наметить профиль с пунктами взрывов так, чтобы сейсмические волны от них распространялись через нужную зону земной коры, опытным путем определить расположение сейсмических станций, выявить возможные ошибки, чтобы в дальнейшем исключить их из научных расчетов. Да и климатические условия здесь, на Камчатке, весьма затрудняют работу и в океане, и на береговых станциях.

В течение восьми лет работал у берегов Камчатки коллектив лаборатории, руководимый доктором физико-математических наук Виктором Иосифовичем Мячкиным. За это время было произведено около тысячи взрывов. Происшедшее в 1971 году сильное землетрясение, эпицентр которого находился в зоне проведения эксперимента, подтвердило основательность научных расчетов и практических результатов исследований.
...Наш корабль идет по знакомому курсу вдоль стокилометрового профиля. Осталось отработать последние две «точки», и тогда можно будет возвращаться в Петропавловск. Работать на корме с зарядами становится все тяжелее, палуба уходит из-под ног. Поднявшийся с полудня ветер раскачал океан, смел куда-то облака и свистит в снастях...
Кончается обычный рабочий день, а вместе с ним и очередной полевой сезон нашей экспедиции.
В. Кудряшов
(обратно)
Час Эрдэнэта
 Дарханский день
Дарханский день
Звенели пронизанная стужей земля, отбеленные, цвета суровых нитей, травы, звенели оранжевые, до проволочной жесткости промороженные, скрученные в клубок вики, чины, горошки и вьюнки. И еще звенела степь от далекого-далекого зуда моторов.
Было начало апреля, и в этом степном ледяном звоне прорывалась весна: синевой пронзительного неба и пронизывающего ветра, запахом подтаявшей земли.
И все это — и свет, и холод, и звон — слагалось в неправдоподобную, первородную тишину и простор горной монгольской степи.
Тишина не иссякла, когда мы обогнали мерно колышущийся стог «столярки»: оконные рамы, двери, косяки ехали из Дархана, с домостроительного комбината, в Эрдэнэт. На несколько минут тишина отграничилась гулом каравана грузовиков с прицепами и воцарилась снова.
Начало апреля, а ни проблеска зелени. Только лишайники пятнами неживых малахитовых оттенков расцветили бурые утесы. Да, приглядевшись, находил глаз крошечные, с пятачок, розетки, вцепившиеся в небогатую дернину или осыпь под скалами.
...Там, в Дархане, теплее. Вихри уже поднимают на припеке пыль, порскают песчаными струями по ногам.
Вчера мы до знобкого морозного вечера ходили и ездили по просторным дарханским улицам. И в послезакатной тьме взобрались на сопку. За ней серым парусом колыхался на глазастом звездном небе дым цементного завода — его поставили за сопкой, чтобы защитила город от дыма и цементной пыли. И сопка надежно и вечно держала вахту. За дальними — совсем уж чернильного цвета — грядами мерцало зарево: палили сорняки вдоль межей.
— А зверью, птицам не во вред?
Товарищ Лхундевжамц, первый секретарь Дарханского горкома ревсомола, не стал дожидаться перевода вопроса:
— Еще не прилетали птицы, и зверье не плодится. Земля так промерзает за зиму, что не пустит огонь к корням. А старики считают, что травы от золы будут богаче — земля удобрится. На небольших участках проверяем сейчас народные методы.
Хоть и «взрослый» Дархан — ему 15 лет, — для города он просто младенец. И проблемы его взаимодействия с окружающей средой, местом на земле — проблемы новые, завтрашние. Но уже ясно сейчас — заложен и развивается он в основном нормально. При тогдашнем — далеком теперь уже проектировании — учтены были и господствующие ветры (а этот фактор в Монголии — важнейший), и соседство полноводной реки Хара-Гол, и близость шахт Шарын-Гола, и автотрасса, и интенсивно действующая железная дорога.
Среди предприятий Дархана — корпуса кожевенно-мехового комбината. На БАМе знают дарханскую продукцию — дубленки, шапки. Даже «чешское» пиво производит город. На малоплодородных пустошах — их не жалко отдавать для растущего города — проектировщики предусмотрели будущее развитие на редкость удачно. И потому находится сейчас место и для расширения жилищного строительства, и для необходимой культурной «роскоши». Основательные «старые дома» начала шестидесятых годов оттеняются кубиками двух-трехэтажных новостроек. Переезжают из квартирных секций в специальные здания учреждения, магазины.
...В Улан-Баторе, в мастерской народного художника МНР Даваацэрэна, молодой московский скульптор Александр Григорьевич Садиков готовил к показу эскизы фигур муз. Подвальчик-мастерская беспощадно озарен голой мощной лампой. Застывшие эскизы, сохнущие барельефы, комья глины, мешки гипса. Саша Садиков, человек порывистый, жесткий, внезапно переменился. Летящим, неуловимо скромным движением свернул влажную холстину. На доске — удлиненные белые фигурки. Прямые складки одежд стекали в подножия. Сдержанно огладил одну, повернул под светом другую. Резкий свет лампы гас в гипсовых складках одежд. Тени шевелили складки, напоминая — это эскизы, но уже завтра они потребуют воздуха, неба, простора.

— А они и будут под небом! Видели в Дархане Дворец культуры?
Терракотовое это здание замыкает необъятно просторную площадь. Еще в лесах, оно удивляет каким-то «завтрашним» обликом. Эти музы-аллегории встанут на верхней палубе Дворца, в облаках, в сини и звоне горной степи, украшая город и завершая его...
Сегодня на пути к Эрдэнэгу припекало солнце, парили, заглушая морозное дыхание степи, снега на склонах, курились расчерченные тракторами бархатно-коричневые поля госхозов по долинам Орхона и Толы. Жаворонки желтогрудые, хохлатые птички, трепеща взмывали с асфальта, и голоса их вливались в тишину и звонкий, слепящий свет.
— Небось вокруг Дархана только жаворонка и увидишь? В Гоби да в горах осталась охота?
— Ну уж нет! — отозвались попутчики-дарханцы. И расхохотались — так дружно это получилось. Они все оказались патриотами Дархана — и москвич, и иркутянин, и монголы — с Селенги, и с Хангая, и из далекого Хубсугула.
— Здесь козлов диких и лис знаете сколько? А рыба? Таймень и в двадцать килограммов не редкость.
И москвич уточнил:
— Я не рыбак, я правду говорю.
«Парус» над цементным заводом ровно стоял в сонном воздухе. Сейчас, днем, он был белоснежен и ярко светился.
...Текла, вилась дорога... Реки лежали еще во льдах — бирюзовых, опаловых, вздувшихся, ползущих на берег.
Округлые, налившиеся соками кустарники сбились вдоль русла, как разномастные табуны — к водопою. Буланые — желтоватые ивы, и красно-гнедые вербы, вороные и чалые заросли замерли, насторожились. Ветер, держащий в себе и свежесть льдов, и живой, с привкусом болота дух подтопленных лугов, слегка пошевеливал кустарники, заставляя ждать, что вот, как вспугнутые табуны, подхватятся они и понесутся к холмам и скалам. Но не тронулись, не понеслись — ждут, когда открыто засинеют и побегут воды — проводить их в дорогу.
Под мостами тело воды сломало оковы, синеет глубоко, свинцово, неприютно. Шоферы, подогнав к промоинам машины, поили их чистейшей влагой — готовились к перевалам.
Перевалы лежали впереди, среди голубых и синих хребтов. Горы подкрадывались незаметно. Но вот заныли приуставшие моторы, слышнее упираются в дорогу колеса, гуще летит из-под них щебенка.
Все дальше оставался за нами Дархан. Второй город страны. Мы ехали в Третий город.
Дорога к бирюзовой горе
Невинный вроде придорожный снежник подтаял, подточил полотно. Объезд. Расхристанные, неудержимо расползающиеся обочины трудно пропустили ко взгорку. За ним, на следующей гряде, чернели руины. Суше дорога, полотно ее прорезало горку, розовые и салатные граниты вскрыли свое нутро. И вдруг перед нами появились остатки башен и стен; руины дворцов и храмов замаячили на километры вокруг... Город?
Нет, люди тут никогда и не жили. До недавних пор и кочевники не показывались здесь. Непонятные и мрачные вулканические останцы отпугивали аратов от этого района высокогорной степи. Пастушьи тропы обходили его — зачем на немеряных степных пастбищах запускать скот в лабиринт скудных и мрачных «чертовых» угодий?
На острой вершине пористой глыбы, опутанной ржавыми кустами-деревцами, громоздилось что-то определенно железное. Ноздреватый и черный, как метеорит, останец венчала... кровать с сеткой. Надписи — монгольской вязью и по-русски — извещали: «Отель «Эрдэнэт».
Где-то тут дорожники обосновались долгим лагерем, а когда собрались двинуться дальше, вскинули на останец износившуюся кровать — «Мы здесь были, чай-кумыс пили»...
От «гостиницы» до города Эрдэнэта еще десятки километров. И перевалы...
Для Константина Климовича (он тогда возглавлял отряд молодых советских строителей) часы дороги — часы неуходящих забот. Он по-хозяйски оглядывал сошедший в кювет прицеп с кирпичом:
— Не успеют дотемна в город, придется разгружать, так не вытянуть.
И не уставал показывать:
— Здесь зимой на лыжах катаемся. Снегу в долинах хватает. Пурги здесь страшные. И особенно к концу зимы. В тот год — я только приехал — уже в мае—июне страшные бураны с дождем, с гололедом накинулись на пастбища в горах. А овцы как раз окотились — много молодняка, скот поднялся на пастбища. Дали тревогу, все пошли на помощь аратам. Самолетами, вертолетами, а где машинами доставляли корма. Несколько суток возили. Тысячи людей были этим заняты. Подсчитали, говорят, погибло три тысячи овец. Много? Смотрите — сколько в этой отаре?
Действительно, сколько овец в той отаре, что покрыла сероватой пеной просторное днище ложбины? Тысяча, две? Или в этой, что перекатилась через увал километровым облаком?
— Здесь ясно видишь силу природы. Она не только злая — щедрая, богатая. И трудная. Землю за зиму на открытых местах — а где тут не открытые? — до двух-трех метров прохватывает. Три дня назад ехал, снегу было... Но он не хранится долго — видите, парит как? Солнышко, как у нас на юге, широты ведь ростовские. Снег не успевает таять, «высыхает». День-другой полежит — и дрожит дымка, марево течет над землей. И так даже зимой. Снежного одеяла не получается, зябнет земля. Совсем оттаивает лишь к июню. Дороги плывут. И без перехода почти — пыль, при степных ветрах — пыльные бури.
Телеграфная линия резала расстояния напрямую. Шоссе же крутилось, хитрило, обводя сопки. И вот наконец вскинулось на горб перевала. Теперь уж Эрдэнэт не за горами, а за долами. Серебристые великаны ЛЭП отшагивали последние километры своего пути из Забайкалья, от Гусиноозерской ГРЭС. За рекой сверкнули рельсы железной дороги. Кубами громоздились на товарной базе контейнеры, тянулись гряды кирпича и панелей. Под горой с корявым леском на вершине сияло стеклами управление Медьмолибденстроя.
Город открылся сразу. Костя даже привстал:
— Три дня не был — и глядите...
Зелеными игрушками виднелись десятки огромных машин на товарном дворе.
— Прибыли БелАЗы. Это пока «малышки», по 25 тонн. Начнем вскрышу, понадобятся настоящие гиганты — на 40 и 75 тонн.
Вот и появилось это главное слово — «вскрыша». Тогда ее подготовкой — началом эксплуатации Эрдэнэтского месторождения — наполнены были дни и часы. А уже в Москве, в телевизионных новостях, мелькнуло знакомое — всего-то за несколько часов на стройке — лицо человека, поднявшего первый ковш породы и открывшего сокровищницу.
Гора над зданиями Медьмолибденстроя вблизи грозна на вид. На вершине, во впадине, щетинится смешанный — березы, осины, тополя — лесок. Колеи просторных степных дорог обегают гору плавными петлями, кое-где колеса пропороли дерн; бурая почва сочится на полуденном припеке журчащим, брызгающим из-под колес месивом. Накатанный, просохший грейдер уводит за сопки.
Под нами оно — рудное тело горы Эрдэнэтийн-Обо, что вызвало к жизни эту стройку, дало имя городу и комбинату.
Руда залегает совсем недалеко от поверхности. Тем ценно это месторождение — не требуется строить глубокие шахты, отводить подземные воды. Первая очередь горно-обогатительного комбината будет питаться богатейшим по концентрации сырьем почти с поверхности. Снять корку пустой породы — и черпай руду. Легко? Нет. Любая добыча руды очень громоздка. Несколько перефразируя поэта: «изводишь грамма металла ради тысячи тонн руды...»
Чем скорее даст такое громоздкое предприятие готовый продукт, тем оно рентабельнее. Тем быстрее будет наращивать производственные мощности, усложняя и разветвляя производство. Но сначала надо начать добычу, выдать на-гора тысячи тонн руды. Руды, сложной по составу, содержащей в разных концентрациях связанные в химические соединения цветные металлы — целый букет. Собрав этот «букет», предстоит разложить его на отдельные составные части. Упрощенно говоря, этим и займется
Эрдэнэтский горно-обогатительный комбинат — одно из первых предприятий в сложнейшей цепи современного комплекса.
От разработок по транспортеру поток руды потечет на шаровые мельницы крупного и среднего дробления — каждая такая махина разом принимает полтораста тонн руды. От них — на обогатительный агрегат, где измельченная руда, смешанная с водой, отдаст со взбитой пеной обогащенный концентрат. В нем — почти половина — молибден и чуть меньше — медь. К концу 1978 года начнется промышленная выдача продукта.
...В боку сопки рваная рана — глыбы серой, зеленоватой породы. Глыбы эти — песчинки рудного тела, сокровища горы Эрдэнэт.
Анатолий Васильевич Чекашов — начальник Управления строительства Медьмолибденстроя. Он приехал сюда в августе 1974 года.
Города не было. Строилась школа, заложен ,был. фундамент первого жилого дома. Все деловые помещения, конторы размещались в поселке геологов. Через месяц создано было Управление строительства. Сразу «запустили» на орбиту и Город и ГОК.
На стенах кабинета — схемы ГОКа, фотографии этапов стройки: все первое — дома, котельная, школа. Сцепленные в подковки кварталы жилых микрорайонов. Каркасы домов, прорастая из земли, цепко оплетают фундаменты, возносятся над стройплощадкой, прежде чем потянется вверх кирпичная кладка или установят панели; каркасы — как прочный, металлом выполненный чертеж. На готовых обжитых домах каркасы расчерчивают стены косыми сетками. Но декоративность тут дело десятое. Главная задача каркасов — противостоять возможным сейсмическим толчкам; в районе стройки с этим приходится весьма считаться. В 1957 году случилось землетрясение с эпицентром в 200 километрах отсюда. Сила толчков достигала семи баллов. Каркасы этих зданий выстоят и при двенадцати баллах.
...Лет двести назад долбили здесь бирюзу. Голубая, с прозеленью, как степное, небо на летнем рассвете, «оюу» — бирюза, издревле почитаема была за красоту, легендарные целебные свойства и приворотную силу. Монголы любят синий цвет, потому и бирюзу ценят. Нет такой маски или фигурки божка, что не украшены были бы розовыми — коралловыми, и небесными — бирюзовыми капельками. Но бирюза ведь — производное, спутник меди. Комочки ее возникают в меденосных породах в результате выветривания и сложных температурных и химических процессов. На место, где есть бирюза, обратили внимание геологи — монгольские и советские — еще в сороковые годы.
В начале шестидесятых начались серьезные поисковые работы — тогда и определили это месторождение как весьма перспективное. А в 1972 году закончила совместная монголо-советская экспедиция детальную разработку планов эксплуатации Эрдэнэтского клада. Медная гора, по предварительным подсчетам, хранит миллионы тонн чистой меди.
Пока шла подробная разведка Эрдэнэтийн-Обо, разведаны были поблизости еще три горы. Однако, только одно эрдэнэтское месторождение уже сейчас весьма перспективное. И по самым современным показателям производительности эрдэнэтское предприятие будет в ряду первых в мире.
...В гулком, с высоченным потолком зале столовой журчала из сияющего крана вода. В окошке раздаточной — умиротворенное лицо в крахмальной, слюдяного блеска короне. Ужин и впрямь королевский; свежайшая баранина на ребрышках (на четырех ребрышках), крутой, как брынза, но нежнейший творог, бруски масла с росинкой свежести и запахом луга, «флотская», без обмана, кружища компота, грузинский чай.
— Ну, как наш хлеб?
— Хлеб?
Хлеб-то и впрямь отменный, Как тот самый, что запомнился в «послекарточные» несытые годы: ноздреватый и упругий, мягчайший, но с вкуснейшей хрустящей корочкой. Словно ешь его в первый раз в жизни (хоть и знаешь, что не в первый) и заново ощущаешь и тело зерна,, и легкость муки, и солнцем пронизанное облако пыльцы над колосом, и силу прущего из квашни, чистейшими руками вымешанного теста.
— Наш, местный, лучший в Монголии, — подтверждает парень за соседним столом.
Водитель, строитель? Куртка его расстегнута, сброшена нa спинку алюминиевого стульчика, руки тяжелы и уверенны.
— Кончается моя холостяцкая жизнь. Едет из Иркутска жена с первоклассницей и полугодовалым. Будем вместе.
Объявление у кассы: «Учителя обслуживаются вне очереди». Константин сокрушенно качает головой.
— Занимаем пока под столовую школьный зал. Скоро освободим — столовая для строителей на подходе.
Третий город
За гостиницей простор степи замкнут круто бегущей к небу сопкой. Оглаженные веками утесы на вершине тепло светятся от неяркого заката. «Прозрачно небо, звезды блещут». Хотя небо полно апрельской весной света, льдисто светятся звезды, не мешая закатному сиянию. Людские фигурки яркими каплями усеяли скалы. Последами час они тянулись по склону туда, наверх, — и монголы, и русские — полюбоваться простором, вдохнуть свежеющий воздух, проводить наполненный работой ясный уходящий день.
Темнело не быстро. Ветер вел нескончаемую песню. На автобазу возвращались грузовики, тихо замирали, источая теплые струйки в стынущий прозрачный воздух.
В поселке геологов, в длинных домах гасли окна контор, заискрились на морозе фонари между рядами белых юрт монгольских строителей. Цветные кони и верблюды на площадках отдыхали от детской суеты.
Утро. Черный, оскаленный завалившимися опорами и сосульками ход уводил в глубь горы. Так и хотелось, чтобы это была шахта древних рудознатцев. Но Доржсурен вежливо качает головой.
— Нет, здесь работали геологи, наши и советские. Еще в сороковых годах начали картировать этот район. Говорят, стояли здесь лагерем, били шурфы. И вдруг пропала девочка, дочка арата. Бросились искать, обшарили все складки и щели в склонах горы. Звали, кричали... А она сама вышла на другом склоне. И в руках — сине-зеленые глыбки с окисью меди. Эрдэнэтийн-Обо и значит «место, где есть сокровища».
Доржсурен прекрасно говорит по-русски. Он удивляет основательностью и молодостью, главный архитектор строящегося города Эрдэнэта. Окончив строительно-архитектурный факультет МГУ — Монгольского государственного университета, — стажировался в Московском инженерно-строительном. И с закладки Эрдэнэта стал его главным архитектором.
С чего начинался город, сейчас, в наши дни, начинался? Ведь и старые, сложившиеся, города на составляющие расщепить непросто: один родился как форт, другой — как торговый центр, третий возник вокруг замка, крепости, монастыря, рынка, на речном или сухопутном перекрестке. А будущий? Как представить его, запланировать, осмыслить заранее, во всем комплексе?
Вроде пропускаешь фразу о том, что этой весной высадят тридцать с лишним тысяч деревьев. Пропускаешь, а она уверенно всплывает в памяти как факт, который свершится обязательно. А за простенькой фразой — несколько лет назад заложенные питомники под Дарханом и Улан-Батором, четкое знание, что найдется и транспорт и руки — в необходимое время посадить, взрастить, выкопать, перевезти на эрдэнэтские улицы, проследить, чтобы окрепли, укоренились на нещедрой, непривычной к паркам, горно-степной земле новостройки.
Тревога за израненные лихими колеями склоны сопок, оказывается, запала в душу не только заезжему свидетелю. Архитектор Доржсурен предвидит вопрос; он знает, что эти колеи случайны, они должны уйти (и уходят) вместе с поверхностным слоем рудного тела. Что дерн будут снимать (и уже снимают) и переносить на газоны.
Человеческий и человечный подход к будущему — главная тема эрдэнэтской симфонии. Сделать так, чтобы новый город не стал иждивенцем природы, только потребителем ее даров, чтобы спустя годы не пришлось хвататься за голову, тщетно пытаясь удержать поднятую в воздух буйными ветрами почву — не скрепленную дерном, асфальтом или посевами, чтобы не сел он на голодный водный паек, не оскудел рабочими квалифицированными руками...
Легко ли строить на пустом месте?
В сложнейшем клубке стройки город — комбинат нельзя тронуть ни одной ниточки, что не потянула бы за собой, не зашевелила бы весь комплекс проблем.
Город вызвал к жизни железную дорогу Салхит — Эрдэнэт, шоссе от Дархана, ЛЭП в четыреста километров от Гусиноозерокой ГРЭС в Забайкалье, стимулировал рост государственных хозяйств и сельхозобъединений по Селенге, Орхону.
Вода — одно из ценнейших полезных ископаемых в наше время. Селенга поит не одни поля и пастбища. Ее вода заполнит и плети толстенных труб, что серебристо сияют на холмах у въезда в Эрданэт.
Город и комбинат запросят много воды — шестьдесят миллионов кубометров в год. Суровый климат наложил свой отпечаток и на строительство водовода: кое-где трубы укладывали на трехметровую глубину, чтобы уберечь их от зимних холодов. На самых высоких точках водораздела установлены резервуары, откуда вода пойдет самотеком к городу и ГОКу. Сброшенная после обогатительного процесса влага ринется в водосборник. Только десятая часть новой, свежей селенгинской воды будет добавляться со временем к той, что потребуется комбинату, а 90 процентов, пройдя очистку, должны вернуться в круговорот.
Опыт геологов, строителей, металлургов, работников школы и общественного питания — все идет «в строку». Не голословно, а на деле. «Создание рабочего класса, который есть основная сила современности» — эти слова обрастали здесь «мясом». Эрдэнэт — третий город МНР после столицы и Дархана. Отсюда — серьезность терминологии, без скидок на «экзотику» пустынь и гор.
Отсюда и осознанная необходимость учебы. Оторвавшись от традиционных занятий, новый человек Монголии окунается в сложнейший мир современной техники и науки. Процесс освоения, постижения начал идет одновременно с углублением в специфику современнейшего и сложнейшего производства. Щедрость, с какой делятся обладающие опытом, равноценна лишь щедрости, с какой этот опыт воспринимается, осваивается и укореняется.
В Дархане, в просторном, но уже тесно «обжитом» теперь клубе — Музей трудовой славы. С далеких дней 1962 года хранятся здесь увеличенные любительские фотографии первых колышков и первых строителей, первых палаток и первых проектов. Он очень «немузеен», этот музей, потому что переполнен проектами и перспективами. Видно, как трудно врастали в степную долину дарханские предприятия и улицы. И кому-то едва верилось, что будут казаться всегдашними предприятия и школы, и ребятишки — урожденные дарханцы — и поселки при станциях железной дороги ,— каждый своего, но обязательно ясного цвета.
И жизнь Эрдэнэта, Третьего города, намечена была здесь. Тогда вся страна работала «на Дархан». Теперь вся Монголия, и Дархан прежде всего, работает «на Эрдэнэт».
Пришел его час.
...По эрдэнэтской улице парнишка тащит две распластанные бараньи тушки. Несут из магазинчика молоко и кумыс во внушительных бидонах: семьи здесь по десять-двенадцать человек.
Взбодрив улицу, нежащуюся на неярком солнцепеке, дробным топотом, замер одержанный всадником конек.
Человек ловко, петлей, накинул на столбик ременную уздечку, вошел, поправляя лисью шапку, в двери магазинчика.
Синькой подкрашенные стены, по ним полки. Пудреницы и транзисторы, ткани и посуда, книги и статуэтки. Обычный магазин обычного рабочего поселка, где товар не залеживается, где кримплен так же популярен, как магнитофонная пленка. И необычный тем, что кажется всегдашним, как и этот первый из четырех микрорайонов города Эрдэнэта.
Человек в лисьей шапке, завернув в кусок шелка электробритву и носки, упаковал их в переметную суму. Крепкие валенки его воткнулись в стремена, и, нетронутый камчой, конек наметом ушел в степное марево...
М. Кондратьева, наш спец. корр.
(обратно)
Зеленые кочевники

В желто-коричневых изгибах волн плывут странные мохнатые травинки, щеточки веток, узкие лезвия папоротников и тычинки неведомых цветов. Среди них в вечном полете вытянулось такое знакомое комариное тельце. Янтарные волны, мягко катящиеся в увеличительном стекле, выносят через миллионы лет очевидцев недоступного нам прошлого.
А рядом — их живые современники, процветающие в полярных широтах и тропиках. Сквозь толщу лет проросли они зелеными ростками в наши дни.
...Пути каких только трав и деревьев не перекрещиваются на Аптекарском острове, где в 1730 году было положено начало Ботаническому саду. Сейчас здесь тысячи тропических растений подпирают стеклянное небо оранжереи, придавленное дождливыми ленинградскими облаками. Из всех уголков земного шара везут экспедиции Ботанического института семена и растения: желтый кустик неуропогона антарктического — с острова Кинг-Джордж, хвойная араукария — предшественница этого антарктического лишайника, отступившая под натиском льдов в Бразилию, — ее везли через океан годовалым сеянцем в нимбе-зонтике веточек. С Малых Зондских островов — плод Баррингтонии, из Ливийской пустыни привезен черный кулачок Иерихонской розы. Вырванная из земли, заброшенная ветром за десятки километров, она всегда упорно ждет своего часа, чтобы брызнуть семенами под живительным дождем...
 Иерихонская роза
Иерихонская роза
Скалы обрывались серой стеной прямо в синеву моря. Бочанцев стоял на высоте, подставив разгоряченное лицо дыханию водного простора. Сильно саднили исцарапанные камнем руки. Правы оказались египтяне: триста метров он карабкался по безжизненному известняку — ни одной травинки. Только кое-где у берега встречались стелющиеся по скалам кусты. Но и они, казалось, ощупью искали живительную влагу, раздвигая камень мощными корнями.
Припекало изрядно, на зубах скрипела пыль, стало еще острее желание погрузиться в прохладную морскую голубизну, Бочанцев начал быстро спускаться к берегу. Удобнее всего было купаться в крошечной бухточке. Рифы, окружавшие ее, успокаивали волну и, кажется, были защитой от акул. Виктор Петрович отплыл от берега и неглубоко нырнул. В чистой синеве вначале смутно, а затем четко и ярко проступили коралловые цветы. Под руками беззаботно мельтешили полосатые рыбешки.
Море лежало чистое, спокойное, оно, словно живое, переливалось голубым и зеленым, смыкаясь вдали с синевой неба. На берегу было безлюдно. Кончились скалы, потянулась песчаная полоса. Вдруг Бочанцев изумленно остановился, не веря своим глазам. Мангры! Здесь! Он только читал о них. Когда-то мангровые заросли заходили далеко на север. При строительстве подземки в Лондоне вырыли ископаемые остатки мангровых. А тут — у Красного моря — самые края ареала. Скинув ботинки, Бочанцев прямо в брюках нетерпеливо пошел по воде. Кустарник поднимался на голых корнях метра на два, он был чахловат, но все же это были живые заросли.
Бочанцев вышел на берег, обжигая ноги в желто-красном песке... Как-то из Александрии он ездил на мыс Эль-Канаис, к дворцу бывшего короля Фарука. Недалеко оттуда на морском берегу был мельчайший, белейший песок. Казалось даже, что финиковые пальмы росли из снега. Стройные, красивые, они вытянулись вдоль всего побережья. Слегка наклонив стволы, пальмы цепко держались сильными корнями в сыром песке, роняя иногда в воду плоды.
Теперь на холме, в королевской загородной вилле помещается опытная станция Института пустынь. Институт подчиняется Департаменту пустынь, который и пригласил уже бывавшего в Египте доктора биологических наук Виктора Петровича Бочанцева помочь в работе. Это для египтян было смелым шагом, потому что они в основном ориентировались в исследовательской работе на ученых США, Австралии.
До виллы Фарука было удобно добираться: к ней когда-то проложили шоссе. Провели в свое время и водопровод, но он не мог напоить всех жаждущих в пустыне. Желая напиться, каждый бедуин, странствующий в этих местах, считал своим долгом прострелить трубу и таким способом добыть немного воды...
Выехав ранним утром с королевской виллы, «газик» с Бочанцевым и его египетскими коллегами повернул в сторону Ливийской пустыни. Начала тускнеть пышная зелень, замирала жизнь. На одной из остановок встретилось последнее живое существо: под камень нырнула ящерица. Этого маленького дракона с роговым гребнем на спине пытались вытащить из укрытия петлей. Подошел, приглашая продолжить путь, шофер-араб Мохаммед. Он взял ящерку в руки, улыбнулся и положил за пазуху. Для него это было, вероятно, весьма симпатичное существо.
Началась Ливийская пустыня — плоская, каменистая, песчаная поверхность, более желтая, чем красноватые пустыни Средней Азии. Дороги пустыни отмечались канистрами из-под бензина.
И вдруг они исчезли — Мохаммед сбился с пути. Солнце до этого било в глаза, а теперь припекало затылки. На щебнистой почве протекторы не оставляют следов. Пришлось намечать ориентиры — камушки, пригорочки — и выправлять путь.
Кочевые арабы в. пустыне чувствуют себя как дома. Однажды один из бедуинов вызвался проводником к Бочанцеву. Арабские шоферы лихо ездят по горным серпентинам, иногда чуть не переворачиваясь, мчатся по барханам. Поэтому никто вначале не удивился, когда передняя машина круто развернулась. Оказалось, проводник увидел впереди газелей, маленьких, грациозных козочек. Он вмиг схватил с сиденья винтовку, что-то выкрикнул и умчался. Караван сбился в кучу, люди посовещались, и вновь машины вытянулись в цепочку, но теперь уже в поисках проводника. А он тем временем крутился по такыру за газелями, которые, кстати говоря, могут нестись со скоростью до 60 километров. Наконец машина проводника снова пустилась в путь. Бедуин по невидимым для окружающих приметам моментально сориентировался. Караван двинулся за ним.
...«Газик», натужно ревя, шел через барханы, колеса увязали в песке. В глубине пустыни нет воды, исчезли насекомые и растения, тянулась желтоватая безводная территория. Жизнь только в зеленых островках. А как же добирались до оазисов в прежние времена? От дельты Нила до ближайшего оазиса — 300 километров. А ведь связь с оазисами была регулярной. Здесь даже возводили храмы. До сих пор в подземных помещениях краски сохранились чистыми и свежими... Как могли люди добираться на верблюдах, которым ходу до ближайшего оазиса дней десять? На такой срок воды не запасешься. А когда верблюдов в Египте еще не было? Некоторые ученые высказывают предположение, что оазисы, расположенные обычно во впадинах, вытягиваются в цепочку и обозначают древнее русло Нила...
Вдруг неожиданно под колесами «газика» замелькали оранжевые плоды, словно какой-то шутник рассыпал по пустыне апельсины. Это были горькие на вкус, как хина, дикие арбузы. Близилась впадина Каттара. На краю оазиса пропыленных, с обожженными лицами путников встретила, словно невиданная птица-феникс, финиковая пальма. Символ неугасающей жизни. Дающая жизнь. Ногами-распорками стоит в воде, а крона растрепанных листьев обращена к огню, к солнцу.
Бочанцев тяжело вылезает из «газика» и медленно идет в тень. И вдруг видит знакомый кулачок Иерихонской розы, торчащий из раскаленного песка. Она будет ждать дни и месяцы, и, лишь упадут первые тяжелые капли, кулачок разожмется—и во все стороны полетят несущие жизнь семена.
Бочанцев внимательно смотрит на это неказистое терпеливое растение, до которого пришлось так долго добираться, и оно ему кажется прекраснее самых ярких цветов. «Настоящая роза пустыни», — думает он.
 За араукарией в Антарктику
За араукарией в Антарктику
На какой-то миг ветер угнал туман к проливу Дрейка. Солнечный луч, пробив морось, тепло коснулся лица. Исчезло скрипенье гальки и чавканье грязи под сапогами, над головой проступил ровный, могучий шум лесных гигантов, будто море накатывало волны на песок. Араукарии и буки тонули в солнечном свете, зеленой стеной высились папоротники. Словно Николаев был не на антарктическом острове Кинг-Джордж, а попал куда-нибудь в Парану, на юг Бразилии.
Но остатки араукарии, находившейся сейчас перед ним, были несравнимы с любой красавицей Пиньо-де-Парана (1 Местное название араукарии в бразильском штате Парана.). Там местные жители, «пиньейро», привычные к виду араукариевых лесов, ценят реликтовое дерево за прочную древесину, эфирное масло, благовонную смолу.
А на острове Кинг-Джордж араукария была извлечена из-под вулканических туфов, найдена в нижнемиоценовых отложениях.
Миллионы, десятки миллионов лет назад высилось это дерево в лесу, похожем на нынешние южноамериканские горные лесные массивы, где и теперь качаются под ветром вершины араукарий. О том, как неистребимая сила жизни пронесла семена сквозь время, и они вновь проросли на земле Параны, рассказывала бесценная ветка.
Недаром Жак-Ив Кусто, появившийся на своем «Калипсо» в районе Южных Шетландских островов, — он находился в этих водах по поручению ЮНЕСКО, исследовал загрязнение прибрежной зоны, — первым делом заехал на станцию Беллинсгаузен (1 Советская антарктическая станция Беллинсгаузен расположена на полуострове Файлдс острова Кинг-Джордж. Детальное описание и картирование этого острова осуществлены в 1821 году русскими исследователями Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым.) и сразу же нашел Николаева: «Покажите на карте место, где обнаружили ископаемую флору». Тут же он отдал по радио распоряжение, и с океанографического судна вылетел вертолет к раскопкам древних растений.
В первый заход Кусто не смог набрать достаточно материала по ископаемой флоре. Затем «Калипсо» затерло льдами, потерялся винт, и судно отбуксировали в один из портов Южной Америки.
А Николаев продолжал неутомимо исследовать полуостров Файлдс, этот «субантарктический оазис» в 30 квадратных километров, свободный ото льда и снега в летнее время, обильно покрытый лишайниками и мхами. Найдя антарктический злак — щучку — на северном пологом склоне, он бережно взял на ладонь слабенькие желто-зеленые узкие листики. Маленькие колосочки давали семена не каждый год.
Один день на острове отличался от другого туманом или метелью, гололедом г или дождем, а Владимир Александрович упрямо каждое утро уходил в свои маршруты. После дня работы он еле таскал ноги. Стоило на минуту остановиться, как вязкий, влажный грунт моментально засасывал сапоги.
В такой вот рабочий день Николаев решил понаблюдать за лишайниками на полуострове Ардли, он их приметил с самого начала своего пребывания на Кинг-Джордже.
В понижении между древними береговыми террасами стелились ковры листостебельных мхов. Их темная бархатистая поверхность жадно поглощала скудное солнечное тепло. Снег таял, образуя над моховым покровом ледяной купол. Хотя здесь снег все еще держался, но уже шла вегетация мха; удлинялось короткое антарктическое лето. В глубине полуострова Ардли, на более высоких террасах, появились мелкие кустики неуропогона антарктического, окрашивающего полуостров в серо-зеленый цвет. Этот неприметный кустистый лишайник не погиб в оледенение, выжил. Посмотреть на плантации выносливого упрямца и собрался Николаев.
Накинув на голову капюшон куртки, он с трудом откинул дверь под резкими порывами ветра. Лицо сек мелкий дождь вперемешку со снегом. От станции до Ардли было недалеко, вот уже в полосах густого тумана показался перешеек. Николаев с опаской глянул на бухту Гидрографов: вскипали барашки, было время штормов. Он с трудом прошел по узкому перешейку, ноги разъезжались по гальке. «Пожалуй, может и залить», — мелькнула мысль.
На Ардли заплывали тюлени, морские слоны, котики, но главное — здесь жила колония пингвинов Адели. Уже недалеко от колонии растительность менялась: почву зеленой коркой покрывали водоросли, а сами места гнездовий из-за толстого слоя помета были совершенно голыми. Николаев наткнулся на гусеничный след и пошел по нему дальше. Стоит проехать какому-нибудь транспорту, как разрушается грунт и его быстро смывает стоками воды. Никаких растений, даже лишайников, здесь больше не появляется.
Сильный ветер нес мглу над островом, гнал воду из бухты. Волна перекатывалась через невысокий, узкий, метра в три, перешеек, била в резиновые сапоги, вымывала гальку из-под подошв. Ноги не находили опоры, скользили. Рисковать не стоило. Он повернул назад и выбрался к станции Бельве. И как раз вовремя. Поднялась самая настоящая метель. Аргентинская станция была давно законсервирована, но в убежище сохранялся на всякий случай минимум продуктов и топлива.
Николаев зашел в помещение, развел огонь, а на крыше вывесил белую тряпку. Обосновавшись в домике, стал сушить около костра одежду и ждать помощи. Он был уверен, что на поиски уже вышел вездеход, так как контрольный срок возвращения прошел.
Действительно, на станции его уже хватились. Порыскав по острову, машина подкатила к перешейку. Издали заметили выброшенный сигнал бедствия. Но вездеход не мог пройти по галечной косе, которую подмывала волна. Пришлось снарядить моторную лодку. Через пять с лишним часов лодка пристала недалеко от убежища.
А Николаев, прислонившись к стенке, дремал у огня. Рядом с ним лежал гербарий с кустиками лишайника, занявшего место араукарии. Николаеву казалось, что он слышит спокойный гул хвойного леса.
 По горной тропе в гилее
По горной тропе в гилее
Прошел час, как Родин с доктором Жилом, бразильским лесоводом, поднимались верхом на лошадях по склонам гор Серра-дос-Органос. Дорога, проходившая по заповедным местам, была извилистой, крутой. Подчас, особенно ближе к вершинам, приходилось вести коней в поводу. С боков подступал густейший тропический лес-гилея. Лианы цеплялись за одежду, переплетали деревья прочнейшей паутиной, такой густой, что, когда один из сопровождавших рабочих подрубил ствол и попытался свалить его, дерево не упало, а повисло на десятках стеблей. Попытались столкнуть его сообща, но все старания оказались напрасными. Даже после того, как снизу отрубили кусок ствола для музея, дерево хотя и осело, обронив несколько сухих сучьев, но продолжало качаться на лианах. Оно было
усыпано эпифитами разнообразнейшей окраски и видов. Эти растения-«квартиранты», не будучи паразитами, так и ищут, куда бы пристать, покрывая стволы крупных деревьев иногда сплошным слоем, гнездясь у основания ветвей, повисая на листьях. Бромелии и орхидеи пробивали листву разноцветными огоньками. Тридцать видов эпифитов находилось только на одном поваленном дереве! (1 Богатство флоры Бразилии исключительно. До 50 тысяч видов растений насчитывается в лесах, прериях, высокогорных районах страны. И это по неполным данным, так как около половины бразильских лесов еще совсем не обследовано. Даже неизвестно, что там растет.)
Лошади карабкались все выше, дышалось свободно, наверху не изматывало преследование москитных туч. Обычно они неистово набрасывались на кисти рук, шею; место укуса краснело, быстро вспухало, и появлялся сильный зуд.
Сопровождавших рабочих было двое: мулат с черными курчавыми волосами и метис со светлой кожей и тонкими чертами лица. Оба хорошо знали лес, разбирались в редких растениях и плодах. Когда они вдруг сталкивались с неизвестным деревом, то совещались, делали на стволе засечку топором, нюхали древесину, разглядывали листья, даже пробовали их на вкус.
Как-то они остановились у дерева, чья зонтиковидная крона, крупные лапчатые листья серебристого цвета еще издали делали его приметным. Это была цекропея. В пустотах ее ствола жили муравьи, питающиеся соком особых желез, находящихся у основания листьев. Муравьи сваливались сверху на голову, за шиворот, заползали в рукава и штанины, больно кусали. Поневоле тут вспомнишь слова русского ботаника Ю. Н. Воронова: «Под тропиками муравей в гораздо большей степени, чем хищник, грозит на каждом шагу человеку...»
Еще в самом начале путешествия муравьи буквально съели первый же гербарий тропических растений, оставив только черешки (1 Собирать гербарий в тропиках привычным способом нельзя. Обычно несколько листов прочной бумаги с заложенными в них растениями связывают шпагатом в пачки и плотно укладывают в цинковые ящики (если сделать ящик из жести, то в парилке тропиков он скоро будет изъеден ржавчиной). Затем в ящик вливают бутылку спирта, который, пропитывая бумагу и растения, консервирует их: окраска цветков исчезает, но цвет стеблей и листьев изменяется мало. После этого ящик запаивается или заклеивается прорезиненной лентой.).
...На высоте 1600 метров путешественники свернули к дому, который был срублен из деревьев, растущих вокруг. Стены домика были сложены из неошкуренных стволов, а крыша покрыта «соломой» из тонкостебельного бамбука-лианы. Вечером доктор Жил угостил обедом из местных блюд. Подавали пальмито, похожий на спаржу (молодые, еще не развернувшиеся, листочки пальмы); суп из шушу (родича кабачка, хотя напоминает по вкусу и огурец) с картофелем, чураско (говядина, поджаренная прямо на огне) с соусом из фейжона.
Этот же фейжон ели из алюминиевых мисок двое сопровождавших рабочих. Присев на ступеньках кухни (за столом обедали белые слуги), они посыпали еду неизменной фариньей (1 Фейжон — это блюдо из фасоли с маслом и маниоковой муки (приготовляется из клубней маниоки, богатых крахмалом), которую бразильцы называют «фариньей де маниока», или просто «фариньей». Фейжон нарекли «национальным бразильским блюдом».).
...Утренний лес встретил ученых зеленым сумраком, который стремительно прорезали, словно разноцветные метеориты, колибри. На Амазонке водится сумеречная бабочка макроглосса. Она поменьше колибри, но так же часто машет крылышками, так же останавливается в воздухе перед цветком орхидеи или лиан, чтобы высосать оттуда душистый нектар. Только присмотревшись к порхающему сонму, можно различить колибри по любопытному клювику и изящному обтекаемому тельцу. Сходство их поражает, даже если держишь ту и другую в руке. Неудивительно, что местные жители вполне убеждены, что бабочка превращается в колибри, ну словом, как гусеница становится бабочкой.
Когда попадаешь в тропический лес впервые, просто не знаешь, как собирать гербарий. Как тут достать листья и цветки со взрослого дерева, крона которого уносится от земли на 25, а то и на 40 метров. Вновь выручали незаменимые помощники — рабочие. Они почти всегда находили молодого «сородича», с которого можно было взять листья.
Группа все выше поднималась в горы. На глазах менялся, светлел лес. Неожиданно встретился болотистый кочкарник, где виднелась трава, похожая на российскую осоку, сфагновые мхи, близкие к кукушкину льну, и в довершение всего на кочечке покачивалась росянка.
Переночевать в этот день пришлось близ вершины у земледельцев, в домах из тонких жердей, обмазанных глиной. Хотя домики находились в лощинке и были прикрыты от сильных ветров, ночь на высоте 2550 метров была пронзительно холодной. Пламя под струйками ветра, проникающими из всех щелей, бросало странные тени на людей, сгрудившихся у очага из неотесанных камней. Согревали обжигающий кофе, предложенный хозяевами, да одежда, которой они поделились.
Утром снизу, с океана, шли тяжелые, сырые облака, но они не достигали горной высоты. Леса зеленой пеной вскипали внизу, у основания узкого, остроконечного пика Деде де-Деус («Палец божий»), тянулись по склону, опадали...
Гербариев, образцов древесины набралось так много, что пришлось рабочим везти их на лошадях в притороченных к седлам ящиках. Здесь же, тщательно запакованный, ехал годовалый сеянец араукарии.
Путешественников внизу ожидал восьмиместный «пикап». Леонид Ефимович Родин пригласил в машину и двоих помощников. Светлокожий взялся было за ручку, но мулат, который был постарше, поопытнее, сказал ему негромко несколько слов, и оба неторопливо побрели по дороге. Им не полагалось ехать вместе с «белыми».
 К вершине Ара
К вершине Ара
Оказывается, можно не только найти ископаемые растения, но и узнать, что ели мамонты, по какой траве гуляли, по каким ходили лесам. В тундре геологи откопали в вечной мерзлоте мамонта, а его желудок был доставлен в отдел геоботаники Ботанического института. Желудок вскрыли и по растительным остаткам принялись восстанавливать картину флоры того периода...
Но не менее интересно познакомиться с повадками, рационом «живых ископаемых», волею обстоятельств сохранившихся до наших дней.
Семен Григорьевич Сааков отправился в далекое путешествие с тем, чтобы установить, какие растения и плоды предпочитает эндемичный вид варана, живущий на Малых Зондских островах, а также, конечно, в поисках «зеленых кочевников».
...Хотя был вечер, встречать ученых высыпали поголовно все жители Комодо. Это производило впечатление, особенно если учесть, что на соседних мелких островах никто не живет. А здесь всего одна улица, и та вытянулась вдоль берега моря. Мужчины, женщины с детьми стояли около своих хижин, поднятых на сваях, чтобы прилив не затопил жилища, построенные из ветвей и пальмовых листьев.
В деревне ни у кого из мужчин не было видно огнестрельного оружия. Как они охотятся, стало ясно в одну из ночей, когда, казалось, весь остров охватил огонь. Недалеко от селения мужчины окружили участок плотной цепью и подожгли сухой травостой. Животные сбежались к центру, к возвышению. Здесь их травили собаками и пускали в ход палки.
С помощью палок местные жители оббивают и плоды с деревьев, например с тамаринда. Этот великан здешних лесов растет на открытых местах, вздымая свою широкую негустую крону метров на двадцать. Сбивать с него плоды довольно удобно, только при таком не очень рациональном способе сбора ломается масса ветвей. Стручкообразные с темно-коричневой кисло-сладкой мякотью плоды тамаринда жители вывозят на лодках на большой остров Сумбаву...
В лесу индонезийцы показывали, где можно встретить варанов, опасливо обходили высокие травы, чащи, в которых ящеры прячутся от жары. А молодые вараны забираются в самые густые кустарники или залезают на деревья.
Аборигены испытывают суеверный страх, встретив ящера с черной чешуйчатой головой, устрашающим гребнем на спине, странно переваливающегося на кривых мощных лапах. Хоть кого продерет мороз по спине, когда такое чудовище уставится большими выпуклыми глазами, медленно поворачивая шею с опадающими от дыхания складками кожи. Этот выходец из тьмы веков сумел переправиться из Австралии на остров Флорес, а затем и на другие близлежащие мелкие острова. Уцелеть ящерам помогло также и то, что жители старательно избегали их.
Хотя вараны питаются растениями и плодами, но мясо любят больше. Вот почему еще жители испытывают перед ними страх. Вараны таскают из деревни кур, собак, иногда нападают на человека. В травяных зарослях они подкрадываются к оленям, внезапно кидаются на них и, хватая за ноги, ловко валят на землю.

Варан прямо пьянеет от запаха крови. И потому участники экспедиции охотились на варанов так: мясо кабана или оленя развешивали на дереве; в траве устанавливали ящики. Их сбивали из досок длиной три-четыре метра, оставляя входное отверстие, к которому подвешивали дверцу; в ящики также помещали приманку. Мясо в жару начинало быстро разлагаться, и привлеченные заманчивым запахом, вараны, ничего и никого вокруг себя не замечая, заползали в ящик, и тут дверца захлопывалась.
Вараны водились и в горах. Однажды Сааков, собирая растения вместе с индонезийскими учеными, прошел уже долинку, заросшую ярко-желтыми злаками метровой высоты, и выбрался на опушку бамбуковой рощи. Срезав с невысокого тамаринда несколько орхидей-эпифитов, они стали подниматься выше. И тут, в кустарниковой чащобе, приблизительно в ста метрах, индонезиец разглядел ящера! Местный коллега тут же благоразумно пустился наутек.
...Поднявшись по склону холма, Сааков остановился на маленькой полянке и вдруг почувствовал знакомый бодрящий аромат. Он внимательно огляделся, раздвинул траву. Так и есть — лимоны. Сааков поднял один крупный, желтый, тяжелый плод. Само дерево уходило в вышину метров на семь четырьмя стволами. А рядом, красуясь мощной кроной, стояло хлебное дерево. Но эти деревья никогда не росли на Комодо! И тут Сааков вспомнил, что в конце прошлого века администрация главного здесь острова Сумбаву пыталась поселить на Комодо выходцев с острова Амбон. Они-то и вывезли с собой семена хлебного и лимонного деревьев. Конечно, переселенцам трудновато пришлось бы без них, особенно без хлебного. Считается, что три хлебных дерева свободно могут прокормить человека. Его плоды, достигающие размеров тыквы, сидят на короткой плодоножке прямо на стволе или у основания ветвей. Снятые плоды протыкают палкой и оставляют на улице. А когда они забродят, очищают от кожуры и убирают в земляные ямы. Так они хранятся, пока не потребуется испечь хлеб. Тогда берут плод и, добавив воды и кокосового масла, месят тесто, а затем бросают его на раскаленные камни: каравай готов. Если еще учесть, что из этого дерева добывают волокно, то понятно, почему переселенцы захватили его семена с собой.
По имени одного из переселенцев холм, где Сааков обнаружил лимонное и хлебное деревья, назван «Ара». Лианы уже скрыли под собой остатки жилищ на склоне холма, а деревья по-прежнему роняют на землю плоды...
С холма Ара, вдоль русла высохшего ручья, Сааков спустился вниз через рощу, напоминавшую яблоневый сад, к морю. Перед небольшой бухточкой зеленела трава.
Было время отлива. В бухточке возвышалась на несколько метров мангровая заросль. В таких защищенных от сильного прибоя местах и любят селиться мангры. Разросшиеся кроны смыкались, поднимаясь над водой на голых корнях-ходулях, покрытых морской слизью. Благодаря этому кусты, похожие на диковинные неземные растения, удерживались в зыбком илистом грунте во время приливов и отливов.
У берега, куда вышел Сааков, покачивался продолговатый плод Баррингтонии, бросая на дно тень. Он мог приплыть с острова Флорес. На Комодо не попадались эти ветвистые деревья. Теперь они поселятся и на этом острове.
В. Лебедев
(обратно)
Синг-Синг новых времен

Чтобы попасть в долину Кагуа, людям племени эраве пришлось километров сорок подниматься в гору.
Утром второго дня пути на поляну, где остановились эраве, вышли проводники, посланные из долины. Для эраве, жителей побережья, места в горах были незнакомы.
Люди племени менде за то же время проделали пятьдесят километров: им, наоборот, надо было спуститься из своей деревни, спрятанной высоко в горах. Их тоже встретили проводники-кагуа.
В Кагуа оба племени вышли почти одновременно. Поперек узкой долины был сооружен из травы длинный дом — словно переброшенный от склона до склона мост. У разных его концов и остановились лагерями эраве и менде.
Длинный дом назывался «хаус-тамбаран» — этим словом на Новой Гвинее обозначают хижину, где происходят племенные церемонии. Построили его жители долины — люди племени кагуа— для синг-синга, праздника, на который они пригласили гостей с гор и с побережья.
Воины-эраве стояли с одной стороны — в красных передниках, ожерельях из раковин, ветер шевелил длинные перья какаду в их головных уборах.
Тела менде покрывала зола, носы были выкрашены ярко-красной краской, на плечи ниспадали белые ленты.
Два племени, пришедшие на синг-синг, разделяла не только долина Кагуа, но и века вражды и подозрительности, вражды прибрежных жителей — «людей соленой воды», и горцев — «людей зарослей». При этом менде и эраве видели друг друга впервые, так же как и хозяев праздника — кагуа.
...Из хаус-тамбарана выбежали люди с ярко раскрашенными лицами, в пышных париках из травы и древесных волокон и устремились к гостям. В хаус-тамбаране забил барабан, и почти одновременно ему ответили барабаны гостей. И под гулкий этот бой эраве и менде потянулись в долину. Так начался синг-синг в долине Кагуа, ставший заметным событием в жизни Южного нагорья, да и всего нового государства Папуа — Новая Гвинея.
Южное нагорье — район Новогвинейских Кордильер — издавна служило символом пестроты культур и разнородности языков. Ненависть и недоверие разделяли племена — а то и кланы одного и того же племени — куда больше, чем самые непроходимые горы, болотистые заросли и кишащие крокодилами реки. Каждая деревня жила в вечном страхе перед своими соседями, и зачастую выжженное в окрестных джунглях поле оставалось границей известного им обитаемого мира. Во всяком случае, для всех почти женщин в деревне. Мужчины отправлялись иногда в военные экспедиции на территорию враждебного племени. В последние десятилетия многие мужчины вербовались на работу в отдаленные места, но и тогда их под охраной полицейских проводили через земли соседей к ближайшему аэродрому; прямо из первобытной своей деревни попадали они в самолет. Пассажиры слабо понимали, что с ними происходит, но в общем-то не очень удивлялись: ведь герои известных им сказок и мифов — могущественные колдуны — также летали на огромных птицах. Потом завербованные оказывались где-то на побережье, в местах, немногим более знакомых им, чем Сидней, Париж или планета Марс. От плантации или стройки они боялись отдаляться: опасались, что их убьют прибрежные жители — высокие, крепкие, владеющие языком белых. «Люди соленой воды», кстати, вовсе не собирались убивать горцев, но зато при каждом удобном случае обманывали их, выманивали деньги, всячески подчеркивали свое превосходство. Горцев они считали дикарями и называли «фелла-плес-билон-девил» — «людьми из дьявольских мест».
Это отнюдь не относится ко всем жителям побережья, а только к той накипи, что образуется вокруг портового города или крупного центра. В условиях Новой Гвинеи любой поселок из одной улицы, вдоль которой выстроились лачуги из рифленого железа и несколько лавчонок, становился таким центром. На окраинах его обычно во множестве обитали ушедшие из деревень люди, перебивавшиеся случайными заработками, попрошайничеством, мелким воровством. Для этих люмпен-папуасов невежественные низкорослые горцы становились лакомой добычей.
Но на берегу были и другие папуасы — учителя, фельдшера, квалифицированные рабочие. У этих взгляд на горцев был иной: они видели, к чему приводит вражда между племенами, знали, что черт сходства гораздо больше, чем различий. Страна ожидала независимости, и установить мирные отношения между людьми было более чем необходимо. Ибо понимание, что «ю-ми вампела пипал» («мы — один народ» на пиджин-инглиш) могло прийти лишь после того, как сосед перестанет видеть в соседе врага.

Странной смесью обычаев и эпох встретило два года назад свою независимость государство Папуа — Новая Гвинея.
...Самолет взмывает в воздух в столице страны Порт-Морсби и через несколько часов приземляется на аэродроме в горах. Сходят по трапу одетые по-европейски пассажиры, которых ждут пришедшие из деревни родственники в юбках из травы. И зачастую тут же на аэродроме прибывший снимает рубашку, брюки и ботинки, прячет их в чемодан, чтобы не изорвать во время пути через джунгли, надевает травяную набедренную повязку. Его чемодан кладет в свой «билум» — длинный сетчатый мешок — обнаженная женщина, вымазанная свиным жиром и охрой...
...Министры, люди с университетским образованием, время от времени покидают Порт-Морсби, чтобы пожить со своими семьями в деревенской хижине, принять; участие в клановых ритуалах.
...На самолетах, на катерах по рекам идут в глубь страны с побережья товары, а с ними незнакомые люди, неведомые обычаи. В самые последние дни прорезала Южное нагорье дорога, пройдя через земли разных племен.
И через земли племен эраве, кагуа и менде.
Так случилось, что Питер Ропуха, молодой человек из долины Кагуа, принимал участие в строительстве дороги с самого начала. Большая часть рабочих подряжалась только на работы на территории своего племени. На следующий этап приходилось искать новых. Питер остался. До этого он работал на прибрежной плантации и, поднакопив денег, собирался вернуться в родную деревню. Но, узнав о наборе людей на строительство дороги — прямо домой! — сообразил, что можно будет без хлопот и с выгодой добраться до долины Кагуа.
Чем больше он видел людей, деревени и племен, тем более укреплялся в мысли, что людям надо получше знать друг друга. Так возникла идея устроить в долине! Кагуа синг-синг. Сложнее было уговорить одноплеменников позвать на него чужих и незнакомых людей. Выбор пал на эраве и менде не случайно: с папуасами из этих племен Питер вместе работал.
...Вообще в самом синг-синге ничего нового нет: это обычная форма совместного праздника людей разных кланов одного племени. Несколько лет собирается у горы Хаген синг-синг разных племен (превратившийся, кстати, в самый яркий в Южных морях аттракцион для туристов). Но порядок на нем приходится поддерживать сотням полицейских. А такого синг-синга, когда люди одного племени приглашают людей других племен (да к тому же это горцы и прибрежные обитатели), где представителям властей не нужно следить, чтобы праздник не превратился в побоище, еще не было...
Самая опасная задача выпала на долю посланников: нужно было пробраться до деревень эраве и менде и передать приглашения. Неизвестно было, как к ним отнесутся, да и по пути могли убить.
Два месяца; ушло на переговоры. Месяц — на подготовку.
...У входа в хаус-тамбаран закололи трех свиней — от каждого племени по одной. Их кровью смазали балки дома и, умилостив таким образом духов, развели огромный костер. Когда дрова прогорели и остался ковер раскаленных углей, на них бросили свиные туши, набитые ароматными травами, и клубни таро.
Тем временем начались танцы. Под удары барабанов скакали воины-менде, падали на колени, стремительно взлетали. В движениях эраве, цепочкой промчавшихся по долине, виделась — когда одновременно вздымали они то левую, то правую руку — слаженность гребцов, устремивших пирогу в открытое море. Кружились в билумах женщины-кагуа.
Танцы продолжались до вечера, и во время пиршества, и ночью после него. И — после короткого сна — на следующий день. Три дня длился синг-синг, и за все это время не было ни одной ссоры, ни одного столкновения. К тому же холостяки кагуа, эраве и менде договорились, что пошлют сватов в дружественные отныне деревни. А это значит, что союз племен, начавшийся на синг-синге, будет скреплен родством.
...Когда угли последнего пиршественного костра подернулись золой, гости покинули деревню. Пути их лежали в разные стороны; проводников с ними не было: эраве и менде хорошо запомнили дорогу в долину Кагуа, где только что отгремел синг-синг...
Л. Мартынов
(обратно)
В Арктике сорок второго
 40 лет назад — 21 мая 1937 года — впервые в истории многовековой борьбы человека за освоение Северного полюса на его льды сел самолет Героя Советского Союза М. В. Водопьянова. В последующие десять дней к нему присоединилось еще три наших самолета. Этот смелый воздушный десант был выполнен на тяжелых четырехмоторных самолетах АНТ-6.
Полюс, дрейфующие льды которого считались недоступными для авиации, — это утверждали на опыте своих полетов известные западные полярные исследователи Р. Амундсен, У. Нобиле, Р. Бэрд и другие — сдался большевикам. Так писали газеты тех лет.
Весь мир был ошеломлен мужеством и мастерством советских людей, которые не только опровергли невозможность посадок самолетов на дрейфующие льды Ледовитого океана, но и создали на полюсе дрейфующую научную станцию. Четыре человека, И. Д. Папанин, Е. К. Федоров, П. П. Ширшов и Э. Т. Кренкель, обеспеченные всем необходимым для жизни и работы во льдах полюса, начали свой легендарный дрейф.
В программу их исследований входило изучение законов движения льдов Центрального арктического бассейна и общего гидрологического режима океана, что было чрезвычайно важным для плаваний караванов по Северному морскому пути. Эта кратчайшая водная магистраль, связывающая запад и восток страны, имела и имеет огромное экономическое значение для развития хозяйства наших северных окраин, освоения природных богатств арктического побережья.
Северный морской путь уже перед войной превратился в действующую магистраль. А когда фашистская Германия напала на нашу страну и вражеские самолеты, подводные лодки и корабли появились в водах Арктики, пытаясь блокировать жизненно важный для нас морской путь, полярники встали на защиту арктических дорог и берегов.
40 лет назад — 21 мая 1937 года — впервые в истории многовековой борьбы человека за освоение Северного полюса на его льды сел самолет Героя Советского Союза М. В. Водопьянова. В последующие десять дней к нему присоединилось еще три наших самолета. Этот смелый воздушный десант был выполнен на тяжелых четырехмоторных самолетах АНТ-6.
Полюс, дрейфующие льды которого считались недоступными для авиации, — это утверждали на опыте своих полетов известные западные полярные исследователи Р. Амундсен, У. Нобиле, Р. Бэрд и другие — сдался большевикам. Так писали газеты тех лет.
Весь мир был ошеломлен мужеством и мастерством советских людей, которые не только опровергли невозможность посадок самолетов на дрейфующие льды Ледовитого океана, но и создали на полюсе дрейфующую научную станцию. Четыре человека, И. Д. Папанин, Е. К. Федоров, П. П. Ширшов и Э. Т. Кренкель, обеспеченные всем необходимым для жизни и работы во льдах полюса, начали свой легендарный дрейф.
В программу их исследований входило изучение законов движения льдов Центрального арктического бассейна и общего гидрологического режима океана, что было чрезвычайно важным для плаваний караванов по Северному морскому пути. Эта кратчайшая водная магистраль, связывающая запад и восток страны, имела и имеет огромное экономическое значение для развития хозяйства наших северных окраин, освоения природных богатств арктического побережья.
Северный морской путь уже перед войной превратился в действующую магистраль. А когда фашистская Германия напала на нашу страну и вражеские самолеты, подводные лодки и корабли появились в водах Арктики, пытаясь блокировать жизненно важный для нас морской путь, полярники встали на защиту арктических дорог и берегов.

В штабе Ивана Дмитриевича Папанина, в просторной приемной было людно и шумно. Пряный запах цветущей черемухи, струясь в распахнутые окна, смешивался с крепким ароматом трубочного табака, напоминая мирную обстановку того предвоенного Архангельска, откуда начинались все наши полярные экспедиции.
Увидев нас, из-за стола, стоящего в углу, поднялся человек в форме капитан-лейтенанта.
— По вызову контр-адмирала Папанина пилот Орлов и штурман Аккуратов!
— Сейчас доложу, — улыбаясь лишь глазами, отчеканил адъютант Папанина Евгений Матвеевич Сузюмов, давний наш приятель, и скрылся в дверях кабинета.
Через минуту мы стояли перед Иваном Дмитриевичем.
— Браточки, пришли вовремя. Важное задание командования Северного флота. К нам шел большой караван англо-американских судов с грузом по ленд-лизу. У острова Медвежьего после атак фашистских самолетов и подводных лодок двадцать четыре корабля потоплены, а оставшиеся разбежались по всей Арктике. Необходимо корабли разыскать и собрать вместе. Чего доброго, уйдут во льды и застрянут там навсегда.
Адмирал подвел нас к карте.
— До Медвежьего более тысячи километров. Куда они ушли? Где их искать? С ними нет даже радиосвязи. Молчат третьи сутки. Караван под шифром «Конвой PQ-17» 27 июня вышел из исландского порта Хваль-фиорд в составе 35 английских и американских транспортных судов в порт Мурманск, два танкера были наши — «Донбасс» и «Азербайджан». Караван сопровождало двадцать боевых кораблей. Конвоем прикрытия командовали английские адмиралы Тови и Гамильтон... Гамильтон имел четыре крейсера и три эскадренных миноносца, а Тови — один авианосец, два линкора, два крейсера и восемь эсминцев! Флот! Казалось бы, весь груз в целости будет доставлен. А случилось что-то непонятное! Боевой флот неизвестно почему бросил транспортные суда на самом опасном участке в районе острова Медвежьего и ушел на запад, предоставив каравану идти в Советский Союз самостоятельно. — Иван Дмитриевич тяжело сел и, расстегнув китель, внимательно посмотрел на нас. — Вы бросали когда-нибудь корабли во льдах? Вот что, разбежавшиеся корабли, думаю, надо искать у берегов Новой Земли. Начните с нее. Задание ясно?
— Ясно! Разрешите действовать?
— Вы, браточки, осторожнее там. Вам одинаково будут опасны и немецкие самолеты, и обнаруженные корабли союзников. Последние могут принять вас за противника и подбить из зениток...
В приемной мы немного задержались, чтобы у Сузюмова уточнить детали задания и выяснить подробности разгрома конвоя PQ-17. Оказалось, что в связи с появлением в этих водах фашистского флота в составе линкоров и тяжелых крейсеров «Тирпиц», «Лютцев», «Шеер» и «Хиппер» Британское адмиралтейство дало указание боевым кораблям на полной скорости отойти на запад, а торговому флоту следовать самостоятельно в советские порты.
— По данным нашей разведки, боевые корабли противника на трассу следования конвоя PQ-17 так и не выходили, — говорил Сузюмов. — Выйдя в открытое море, немецкий линейный флот, опасаясь наших подводных лодок, вернулся обратно на свою базу в Нарвик. Кстати, наша подводная лодка К-24, которой командует Лунин, пробралась сквозь ограждение немецкого флота и выпустила торпеду по линкору «Тирпиц», который с большими повреждениями тоже ушел в Нарвик...
Сузюмов замолчал. В приемной долго стояла тишина, лишь настенные корабельные часы продолжали четко и неумолимо отстукивать невозвратимые секунды.
— Ну, мы пошли, — тихо сказал Орлов.
Уже в дверях мы снова услышали голос Сузюмова:
— Три фута под килем!
В этой традиционной фразе моряков всего мира прозвучало доброе пожелание счастливого полета, удачных дел, а «три фута» мы мысленно перевели в те двадцать пять метров над препятствием, которые не раз спасали нас при разведке льдов в тумане.
Спустя час мы уже шли бреющим полетом над тайгой, стараясь не быть обнаруженными вражескими истребителями и разведчиками, которые в поисках наших аэродромов могли пристроиться у нас за хвостом и следовать до места посадки.
В воздухе было жарко. Пахло хвоей и парами бензина. Самолет летел так низко, что верхушки деревьев изумрудной волной разбегались за ним, а стекла пилотской кабины быстро покрывались жирным слоем разбивавшихся о них насекомых. Вскоре тайга начала редеть. Огромные заболоченные пятна тундры и россыпь озер все больше и больше вытесняли зеленое однообразие лесов...
Вот мы и над холодным Баренцевым морем. Далеко позади осталась земля. Самолет идет низко, почти над гребнями разгулявшихся волн. В кабине чувствуется солоноватая прохлада. Сергей Наместников, радист, не выходит из своей башни, а наши глаза до боли впиваются в серо-зеленую зыбкую поверхность моря и голубую бездну неба.
— Корабль впереди слева под тридцать градусов! — раздается голос Сергея в наушниках.
На раскачивающихся волнах в бинокль я вижу небольшую парусно-моторную шхуну.
— Похожа на гидрографический бот типа «Темп», — говорю Орлову и, беря управление на себя, передаю ему бинокль.
Юра внимательно осматривает корабль и с облегчением отвечает:
— Точно! Один из наших гидрографических ботов — «Темп» или «Нерпа».
— Отчаянный кораблик! — с восхищением говорит Николай Кекушев, первый бортмеханик. — Куда же его черт несет? Ведь в этом районе барражируют фрицы.
— Подвернем? Посмотрим и порадуем ребят.
— Нет. Во-первых, напугаем, во-вторых, дешифруем себя.
Вскоре мы потеряли корабль из виду. Шел четвертый час полета. Мысленно прикидываю, где искать разбежавшиеся корабли. Наверное, они, как предполагает Папанин, прежде всего бросились на север, чтобы уйти подальше от фашистских авиабаз, расположенных в Норвегии, а потом вдоль южной кромки льдов двинулись к Новой Земле, с ее многочисленными укромными бухтами и заливами, очень удобными для стоянки кораблей и контролируемыми нашим морским флотом.
— Начнем поиск с зимовки Малые Кармакулы, а оттуда вдоль западных берегов Новой Земли на север, — предлагаю Орлову.
— Согласен. Кстати, надо особо внимательно осмотреть бухту у Малых Кармакул. Это ведь там в первую мировую войну была организована немцами секретная база подводных лодок.
— Ты думаешь, они посмеют и в наше время, когда на арктических островах столько зимовок и радиостанций?
— Они любят повторяться.
Вскоре мы подошли к Новой Земле. Этот огромный остров, длиной в тысячу километров, состоит из двух частей, разделенных проливом Маточкин Шар. Далеко вдаются в сушу глубокие заливы со скалистыми берегами и отвесными стенами ледников. Не доходя береговой черты, мы прижались почти к самой воде. Малая высота маскировала нас, но в то же время мешала поискам, ограничивая обзор. Погода над землей испортилась. Тяжелые рваные облака, свисая, создавали серьезную угрозу, но горизонтальная видимость была терпимой. Напряженно всматриваемся в стремительно проносящуюся местность, обходя высокие препятствия западного берега.
Вдруг на светлой, изумрудной воде бухты замелькали большие радужные пятна.
— Масло! Это следы подводной лодки, — крикнул Сергей через микрофон.
— Странно, может быть, наша?
— Нам ничего не сообщили о пребывании наших лодок в этом районе.
Осторожно делаем круг. Пятна исчезают, но через минуту снова появляются, расплываются широкими кругами и сплошной цепочкой уходят из залива в море.
— Ушла! Но если бы была чужая, наверняка обстреляла бы и сожгла зимовку и радиостанцию.
— Кто знает? Может быть, лежала на грунте бухты и выслеживала наши корабли? — отвечаю Орлову.
В короткой шифровке передаем координаты на базу, которая неотрывно следит за нами, и идем на север к следующему заливу. В полете мы уже более семи часов. Все многочисленные заливы и проливы, обследованные нами, мертвы и пустынны.
В районе Маточкина Шара облачность неожиданно оборвалась. Глубокое голубое небо, яркое солнце и сверкающее море были так безмятежно спокойны, что на какие-то секунды война показалась далекой и нереальной...
Пересекая скалистую гряду, отделяющую Маточкин Шар от губы Матюшиха, мы вдруг вышли на группу кораблей. Под крутым берегом, вытянувшись в беспорядочный полукруг, стояли голубовато-серые суда.
— Три... пять... девять...
— Да их здесь целая армада! Чьи?!
— Скорей зеленую ракету, а то откроют огонь, приняв за фрицев.
— Поздно! Смотрите, там боевая тревога. А их сигнал «Я свой» нам неизвестен.
С малой высоты было отчетливо видно, как на огромных боевых кораблях и на пароходах типа «Либерти» засуетились команды. Медленно поползли, направляясь в нашу сторону, длинные стволы орудий. Синеватый дымок пулеметных очередей заставил нас уйти в сторону. Дав полный газ моторам, мы перескакиваем следующий каменистый перешеек и, прячась за высокий берег, быстро уходим от опасного места.
— Сергей, смотри внимательно! На одном из бортов катапультный истребитель.
— Видел, штурман. А как перепуганы... Этак и собьют!
— В такую погоду истребитель не сунется. А локаторы на малой высоте не возьмут, — ответил я.
Через пятнадцать минут мы вынырнули из низкой облачности к поверхности моря и стали осторожно подбираться к стоянке кораблей.
Подойдя к губе, прижались к ее северному берегу и, маскируясь крутыми скалами, прошли в 400—500 метрах от эскадры. Все было тихо. Очевидно, на этот раз нас не обнаружили. Два сторожевика медленно выходили в море. Через бинокль на борту одного из них удалось прочитать название «Ла Малоне».
Пересчитав корабли и стараясь не потревожить их своим появлением, взяли курс на юг. Из башни Сергею удалось прочесть название еще одного корабля — «Эмпайр Тайд». Именно на нем и была катапульта для морского истребителя, но самолета уже не было, вероятно, ушел в воздух, как только услышали шум наших моторов.
— Ну, теперь все ясно. Пошли домой. Координаты дадим устно, после посадки. Сейчас рисковать не стоит, могут перехватить и расшифровать.
В штабе после нашего доклада в тот же день связались с эскадрой. В сопровождении двух наших эскадренных миноносцев и трех английских транспорт прибыл в Архангельск.
Закончив эту операцию, мы продолжали выполнять полеты в Баренцевом море по ледовой разведке. Однажды, вернувшись на базу, мы встретились в маленьком уютном домике зимовки с экипажем летающей лодки «Каталина» Героя Советского Союза полковника Ильи Павловича Мазурука. Как всегда в ожидании нового задания, время незаметно проходило в оживленных разговорах. Но о чем бы мы ни говорили, всегда неизменно возвращались к войне, и это было естественно.
Выслушав наш рассказ о том, как мы разыскивали англо-американские корабли, Мазурук, улыбаясь, начал:
— За два-три дня до ваших полетов мы встретились с одним из кораблей конвоя PQ-17. Это произошло там же, у берегов Новой Земли. Возвращаясь с ледовой разведки, шли очень низко, над самыми верхушками волн. Выскочив из-за крутого мыса, неожиданно увидели транспортный корабль, который стоял недалеко от берега. Сильный крен на борт, спущенный до полумачты флаг говорили, что транспорт потерпел бедствие и, очевидно, оставлен командой. Но тут же на берегу недалеко от корабля мы заметили несколько палаток, а рядом людей и горы каких-то ящиков, мешков, бочек. Осторожно подойдя ближе, заметили вывешенный на мачте сигнал бедствия и слабый дымок, вьющийся из трубы судна.
Но какую реальную помощь могли оказать мы такому гиганту? Тем не менее нельзя было оставить людей в бедственном положении, а потому мы приняли решение сесть в море и выяснить, чем можем быть им полезными. С океана шла пологая, но крупная зыбь. Вы понимаете, конечно, как сложно садиться на такую волну. Еще больше нас волновало: а вдруг это ловушка? Подошли ближе. На корме надпись — «Уинстон Сэйлем». У зенитных орудий и счетверенных пулеметов — никого. Выбрали место поспокойнее, между берегом и кораблем, и пошли на посадку. Через две минуты машина уже плавно ныряла в зеленых провалах. Подрулили поближе. Внимательно следим за берегом и судном. Ребята за пулеметами. Подходить к борту или к берегу было, конечно, безумием, самолет мгновенно превратился бы в щепки от прибоя. Видим, на берегу у самого уреза воды столпились люди и, подняв руки, что-то кричат. Совсем непонятно: столько людей с автоматами и ручными пулеметами, а вроде сдаются в плен экипажу самолета. На клипер-боте (резиновая надувная лодка) штурман Николай Жуков и бортмеханик Глеб Косухин пошли к берегу, а мы, не выключая моторов и держа берег под прицелом турельных пулеметов, крейсируем под дулами зениток корабля, которые могли бы в одно мгновение смести нас, конечно, если бы там были люди. Наблюдаем за берегом, видим, как наши товарищи вышли на скользкие камни берега, как их с криками окружили: обнимают, бросают в воздух головные уборы.
Поставив гидросамолет под защиту камней на якорь, высаживаемся на берег. Первое, что мне бросилось в глаза, — это растерянность и нервозность, которые царили в лагере. Всюду хаотично разбросаны всевозможные припасы. Мешки с мукой, ящики с консервами, оружие, канаты, опрокинутые шлюпки... Небритые, в помятой одежде, офицеры и матросы радостно и крепко жали нам руки.
Когда шум встречи утих, капитан, грузный мужчина лет сорока пяти, мистер Ловгрэн, рассказал о том, что с ними произошло.
Около десяти дней назад, когда они шли с военным грузом для Советского Союза в числе конвоя PQ-17, охраняемого боевыми кораблями, их атаковали подводные лодки противника. С флагманского корабля охранения была дана команда торговым судам рассредоточиться и следовать самостоятельно в русские порты. Пользуясь плохой видимостью, корабли охранения ушли на запад. Через сутки, когда туман рассеялся, транспорты обнаружили, что в море, кроме них, нет никого. Положение стало сложным. Радиопередатчиком пользоваться было запрещено, так как могли их засечь пеленгаторы противника, а подслушивание принесло тяжелые вести. Немецкие самолеты-торпедоносцы «Хейнкель-115» и «Кондор-200» уже потопили часть кораблей, в том числе «Кристофор Ньюпорт». Чтобы обойти опасную зону, решили идти не к месту назначения, где их по пути могли перехватить враги, а на северо-восток, в глубь Арктики.
В общем, бежали с одной мыслью — как можно дальше уйти от этих дьяволов немцев. На четвертые сутки увидели незнакомые берега. Небо все время было закрыто сплошной облачностью — пожалуй, это и спасло их от нападения авиации. Когда подошли к берегу, радисты поймали сигналы бедствия.
Их подавал английский корабль «Олопана», тоже из конвоя PQ-17, где командиром был друг мистера Ловгрэна. Корабль сообщал, что он торпедирован и тонет. И в это время рядом с кораблем «Уинстон Сэйлем» возник перископ подводной лодки...
— Это было так неожиданно, — говорил капитан, — что я ради спасения команды принял решение выброситься на мель: это лучше, чем взлететь на воздух с шестью тысячами тонн боеприпасов, находящихся в трюмах корабля. К тому же, — не скрывая возмущения, добавил мистер Ловгрэн, — флот охранения бросил нас на растерзание врагу.
— Но у вас на борту такое мощное вооружение. Как одна подводная лодка заставила вас выброситься на береговую отмель?
Капитан с нескрываемым удивлением поднял на меня глаза.
— Да! Но меня бросили, и я спасаю жизнь вверенных мне людей! — устало выкрикнул он.
— А не находите ли вы, что подвергли их еще большим опасностям? Если вас обнаружат в таком положении подводная лодка или самолеты, уничтожат на месте...
— Но я выбросил международный сигнал «Терплю бедствие». Нас не тронут, а орудия, чтобы они не достались врагу, нами выведены из строя. Все замки утоплены.
Больше говорить было не о чем. Я холодно спросил, чем могу быть полезным.
— Доставьте нас на материк. В Архангельске наши представители.
— А судно и груз бросите? Нет, уважаемый капитан, предлагаю другое: корабль надо снять с мели, поднять пары и следовать в порт назначения.
— Снять с грунта? Своими силами? Это невозможно! Да нас расстреляют и сожгут, пока мы будем возиться с этим.
Капитан глядел на меня, точно на сумасшедшего.
— Берите судно и делайте с ним что хотите! А я предпочитаю наблюдать с берега, — закончил он и отошел к группе офицеров, прислушивавшихся к нашему разговору.
Ответ капитана не успокоил нас. Мы не могли примириться с тем, что корабль, совершенно новый и целый, полностью загруженный танками, самолетами, боеприпасами и продуктами питания, может быть брошен.
Мы решили собрать команду и поговорить с ней. Через переводчика я рассказал экипажу «Уинстона Сэйлема» о чрезвычайной важности доставки груза, о том, как наши моряки смело сражаются с более крупными силами противника. А также разъяснил, что каждая минута пребывания судна на мели грозит непоправимой катастрофой для всей команды.
Наше обращение разделило экипаж на две части. Меньшая половина во главе с капитаном и тремя офицерами заявила, что в Англии и Америке достаточно судов и потому нужно позаботиться только о спасении людей.
— Я отказываюсь вернуться на корабль, — заявил капитан, — судно хорошо застраховано, компания ничего не потеряет, если оно погибнет.
Другая часть — матросы, кочегары и многие офицеры — приняла наше предложение. Высокий худощавый офицер с обожженным арктическим солнцем и ветрами лицом, подойдя к нам, сказал:
— Команда не хочет бросать судно. Говорите, что надо делать.

Осмотрели корабль. Больше всего мы опасались, не сдвинуты ли машины с фундаментов при посадке судна на мель. Но все оказалось исправным. Транспорт лежал на мягком песчаном грунте. Был отлив, поэтому судно во всю длину своего миля глубоко увязло в песке. Пока ожидали прилива, команда поднимала пары, наводила порядок на палубе, усеянной пустыми консервными банками, корками бананов, апельсинов и разными объедками, которые, как нам объяснили, люди не выбрасывали за борт по приказу капитана, чтобы по этим остаткам их не могла обнаружить подводная лодка.
— Все продумали... Но как они могли сами разоружить себя? Им что жить надоело?! — возмущались мои товарищи, рассматривая сложные механизмы бесполезных теперь орудий.
Посоветовавшись, решили снимать корабль с мели при помощи якоря, занесенного в море с кормы. Но для того чтобы перенести один из носовых якорей на корму и «выбросить» в море, нужно было сначала отклепать его от мощных цепей. И только тогда попытаться, подбирая кормовым шпилем трос с якорем, сдвинуть корабль с мели. Однако необходимых транспортных средств рядом не было. Тогда мы вспомнили, что во время полета видели в двадцати милях отсюда парусно-моторный бот под вымпелом Главсевморпути, который занимался, очевидно, промером глубин бухт. Быстро слетав к нему, сбросили на палубу вымпел с запиской, объяснявшей положение, и вернулись к кораблю.
Когда бот причалил к борту «Уинстона Сэйлема», мы увидели, как мал он — мостик не доходил и до первой палубы. Но английские моряки уже знали, что это суденышко месяц назад выдержало нападение шести «юнкерсов». В огневом аду бомбежки, когда льды моря кипели от хаоса разрывов, команда отражала атаки из единственного спаренного пулемета; срывая с себя бушлаты, матросы затыкали ими пробоины...
Я подвел наших моряков, поднявшихся с бота, к якорной цепи. Она действительно была очень мощной. Каждое звено с клеймом «Бирмингем» весило более тридцати килограммов, и сталь была такой прочной, что не поддавалась обычным ножовкам. Двое моряков, осмотрев цепь, закурили, затем потребовали кусок мыла и напильники. Получив и то и другое, они стали спокойно распиливать звено цепи. Около них собралась вся команда судна. Слышались отдельные реплики, ехидные шутки. Наши моряки, сбросив бушлаты, спокойно работали. По мере того как дело продвигалось, насмешливые лица становились серьезными, и в глазах загорались искры уважения. Через два часа звено было распилено.
Трехтонный якорь стрелой был погружен на палубу бота и завезен на корму. Дождавшись полной воды, при помощи паровых лебедок начали раскачку корабля, размывая грунт работающими винтами. Промеры с катера показали, что отмель обширнее, нежели мы предполагали. Неожиданно, как это бывает в Арктике, поднялся сильный северо-западный ветер. Запенились волны. Самолет не мог больше оставаться на воде.
Высокий офицер, как мы узнали, первый штурман, подойдя к нам, сказал:
— Вам надо уходить. Шторм сломает гидросамолет, тогда никто не сможет помочь нам. Сообщите вашему командованию о нас и ускорьте высылку буксира для снятия с мели.
Он с благодарностью пожал нам руки.
Договорившись обо всем с командиром бота и предложив американцам выкачать воду из балластных цистерн для облегчения корабля, мы забрали девять больных матросов с «Уинстона Сэйлема» на борт гидросамолета и стали прощаться с экипажем. В последнюю минуту я взял половину распиленного звена и поднес его капитану. Он молча принял подарок, холодно пожав мне руку...
Мазурук окончил свой рассказ. Все молчали. Каждый из нас отлично понимал, чего стоил взлет в открытом море. Было слышно, как за двойным переплетом оконных рам яростно выл ветер и глухо рокотало Карское море...
— Ну а с «Уинстоном Сэйле-мом» что стало?
— Пришли два наших корабля, сняли с мели и благополучно доставили со всем грузом в порт.
Вошел вахтенный радист. Виду него был возбужденный.
— Что-нибудь случилось?
— В Баренцевом море потоплен американский транспорт. Экипаж перешел на шлюпки. Вот радиограмма!
Мы смотрим друг на друга и молча облачаемся в кожаные доспехи. По пути к самолетам Мазурук говорит:
— Наш экипаж идет в море, а вы осмотрите все западное побережье Новой Земли. Встретимся в Амдерме.
Монотонно гудят моторы, молотя стальными винтами промозглое марево циклона. Стучат пулеметными очередями по фюзеляжу куски льда, отрывающиеся с бешено крутящихся лопастей, и каждый раз испуганной птицей вздрагивает сердце, ибо нельзя привыкнуть человеку к угрозе смерти, даже если она повторяется изо дня в день. Машина тяжелеет. Конвульсивно, рывками подрагивает хвост. От безобразного ледяного нароста, охватившего весь самолет, падает скорость, высота.
— Пошли вниз.
— Но там океан, — отвечает Орлов.
— Вверх не тянет, а внизу над водой температура выше нуля, оттаем.
Мы ныряем в серую рвань облачности и вываливаемся из нее почти над белым кружевом кипящего моря.
— Плюс один! — кричит Кеку-шев, радостно указывая на термометр наружного воздуха.
Грохот по фюзеляжу усиливается, на нем появляются вмятины. Это слетают последние куски льда, а гребни волн почти лижут низ самолета. Юра резко меняет шаг винтов, чтобы сбросить остатки льда. Низкий, режущий вой — и самолет снова начинает набирать высоту.
Я показываю Орлову большой палец руки, поднимаюсь с сиденья и принимаюсь за расчеты.
— До мыса Входного пролива Маточкин Шар десять-двенадцать минут. При такой видимости можем врезаться в скалы. Отверни влево на тридцать градусов. Пойдем параллельно берегу.
Юра Орлов кивает, и в этот же миг физически ощутимым ударом в самолет врывается яркий свет голубого неба. Фронт циклона оборвался, выбросив нас из своих объятий в ослепительную чистоту неба. Впереди в прозрачном воздухе отчетливо видны заснеженные горы Новой Земли, коричневые скалы и языки синих ледников, обрывающихся в море.
Неожиданно коротко взвизгивает бортовая сирена, и в шлемофоне раздается сдержанный голос Сергея Наместникова:
— Слева по курсу самолет!
У самого берега, над широким полем ледника, как в кинокадре, проецируется силуэт самолета. Он идет курсом на юго-запад. В бинокль отчетливо видны белые кресты на фюзеляже и свастика на киле хвоста.
— Похоже, что Ю-88.
Юра передает мне управление и следит за чужим самолетом.
— Точно, восемьдесят восьмой. Очевидно, в разведке. Судя по четкому курсу, нас не видит.
— Один в разведке атаковать не будет, даже если заметил, — отвечаю я, забирая бинокль у Орлова, и продолжаю следить за самолетом.
Вскоре он исчезает из поля зрения. Сергей связывается с Амдермой, передает короткую шифрограмму.
Покачав крыльями над зимовкой мыс Входной и сбросив им почту, мы начинаем осматривать заливы бухты, держа генеральный курс на Амдерму. Не обнаружив ничего интересного, уже в сумерках благополучно сели на галечном аэродроме Амдермы.
В этот день экипаж Мазурука не прибыл, а на рассвете следующего дня мы ушли по новому заданию в Мурманск и оттуда в Москву.
Неделю спустя военные пути снова привели нас в Архангельск. В штабе Папанина, получая новое задание, мы спросили, удалось ли экипажу Мазурука обнаружить в море шлюпки с американскими моряками.
Вскинув на нас удивленные глаза, Сузюмов проговорил:
— Как? Разве вы не в курсе? — и, смешавшись, добавил: — Илья Павлович и часть экипажа живы. В гостинице «Теремок» ночует экипаж Николая Сырокваши. Они вам расскажут.
Он пожал нам руки и быстро исчез в кабинете Папанина.
Почуяв недоброе и чертыхнувшись в адрес штабной конспирации, мы поспешили в летную гостиницу. Николай Сырокваша, один из опытнейших полярных летчиков, летал на гидросамолете «Каталина» командиром корабля со штурманом Николаем Жуковым, отличным навигатором и хорошим специалистом по ледовой разведке.
Мы не виделись более полугода. Эвакуированные в Красноярск, они работали в восточном секторе Арктики, обеспечивая проводку советских и американских караванов с грузами по ленд-лизу через льды Северного морского пути.
— Чертова броня загнала нас в самый тихий угол нынешней земли, — рассказывал Сырокваша.— Конечно, мы не забываем о Японии, иногда встречаем в Беринговом море ее сторожевые корабли. Неделю назад получаем шифровку о немедленном вылете в Архангельск, где узнаем, что гидросамолет Мазурука не вернулся с задания. Мысль о гибели никак не укладывалась в сознании, хотя мы знали, что уже сбиты и погибли экипажи Антюшева, Михельсона и других полярных летчиков. И все у берегов Новой Земли! Только экипаж Черепкова был сбит восточнее острова Диксон, вероятно, зенитками линкора «Шеер»... В первом же нашем полете, осматривая заливы Новой Земли, мы попытались связаться с полярной станцией Малые Кармакулы. Но она не ответила, хотя до нее оставалось не более пятидесяти километров. Каково же было наше волнение, когда, подойдя к бухте, станции не обнаружили. Там, где были жилые постройки и стояли мачты радиостанции, зловеще чернели пятна головешек — и ни одного живого существа! Делая широкий круг, мы заметили в тундре группу людей, которые усиленно махали нам и ложились в виде посадочного знака — буквы Т. Пошли на посадку. Вскоре к берегу бухты из тундры подбежали люди. Заросшие, полураздетые, с почерневшими лицами, падая от усталости, они что-то кричали, но шум работающих на малом газу моторов заглушал слова. Выключив двигатели, мы на клипер-боте пошли к ним и тут ясно услышали:
«Братцы! Это мы, мы! Экипаж и зимовщики. Лодка подводная...»
И тут я узнал среди них Илью Павловича, Матвея Козлова, Глеба Косухина.
«Надо немедленно уходить. Нас сожгла немецкая подводная лодка, кажется, со знаком У-255. Может всплыть и сейчас. Все расскажу в полете», — коротко и спокойно объяснил Мазурук.
Быстро забрав людей, мы тут же ушли в воздух, взяв курс на Архангельск. Во время полета накормили их в кают-компании и за штурманским столом, так как все в одном отсеке самолета не помещались. Оленья нога и горячий кофе быстро привели людей в чувство. Илья Павлович сел на правое сиденье пилотской и начал рассказ.
«Мы разыскивали американские шлюпки с торпедированного корабля. Но в районе их предполагаемого местонахождения был густой туман. После нескольких часов полетеча бреющем решили вернуться в Малые Кармакулы, где можно было заодно подзаправиться горючим, переночевать и с утра продолжать поиски. В бухте вместе с нами заночевала вторая «Каталина» из Мурманска. Поставив машины на якоря и оставив на них дежурных — по второму пилоту и второму бортмеханику, оба экипажа отправились спать на зимовку. Уставшие от долгого полета, мы заснули мгновенно.
Проснулся я от страшного грохота и, когда открыл глаза, вместо потолка увидел голубое небо и пламя, бушевавшее в доме. Не отдавая себе отчета в том, что произошло, схватил одеяло, чтобы защититься от огня, и в чем был выскочил на улицу, где уже суетились полураздетые зимовщики станции и члены экипажей. То, что я увидел, сразу привело в чувство. Дом и пристройка пылали как факел, а кругом рвались снаряды и свистели пулеметные очереди. В бухте ярко горели оба гидросамолета. Между ними и берегом плыли Матвей Козлов и еще два человека, а у входа в бухту стояла фашистская подводная лодка и била по зимовке из тяжелых пулеметов. Вытащив ребят из воды, прячась за камни, мы ушли в тундру, где и скрывались несколько дней, без продуктов, без оружия и без верхней одежды. Федор Петров был убит первым залпом по самолету, тело его ушло на дно бухты вместе с обломками «Каталины». Наверное, это была лодка из «Волчьей стаи» адмирала Редера. Это они топят конвои транспортных судов, идущих к нам с грузами. Обидно, ведь мы знали, что в этих же местах в первую мировую войну у немцев была организована подзарядная база подводных лодок. Где-то рядом с Малыми Кармакулами...»
Доставили людей в Архангельск, — сказал Сырокваша, — а через трое суток Мазурук уже барражировал в Баренцевом море. Не знаю, удастся ли ему отыскать ту подлодку. Думаю, да. А мы завтра , уходим в свою «тихую обитель» на восток...
На рассвете, тепло попрощавшись, мы разлетелись по своим военным путям-дорогам.
Валентин Аккуратов, заслуженный штурман СССР
(обратно)
Вечная тортилья

Бабушка и внучка ловко хозяйничали вокруг самодельной печки. Жарилось что-то непонятное, но вкусно пахло мясом, соблазняла стопка небольших блинчиков.
Старушка разогрела блин, бросила в него щепотку фарша, добавила луку и соусу, свернула все это в трубочку и подала мне. Я разом, откусил чуть ли не половину... и сразу рот обожгло так, будто я взял сигарету не тем концом. Проглотил кусок, почти не разжевывая, и он покатился по пищеводу, как шаровая молния.
— Чиле, — сочувственно сказала пожилая кулинарка.
Речь шла о мексиканском перце. Ну и злой же! Я был в Мексике недавно и не знал, что этого перца следует остерегаться.
Трубочки с огненной начинкой называются такосами. Мексиканцы их едят сами и предлагают гостям. Это основное блюдо и бедноты, и среднего класса, и самых богатых. Такосы могут быть с мясом, тушеной картошкой, омлетом, жареной колбасой — словом, со всем, что есть в доме или попадается под руку. Могут быть с чиле и без чиле. Но один компонент обязателен: этот самый блин, лепешка из маиса, реже — пшеничная. По-местному — тортилья. Без тортилий мексиканец не садится за стол. Нечего положить в тортилью — он просто накрошит ее в похлебку. Засохнет лепешка — получится отличная галета.
Путь кукурузной лепешки к столу в историческом смысле пролегает через века. Это исконно индейский хлеб. Кукуруза была и остается главным продуктом питания мексиканских индейцев. Издревле умеют мексиканцы готовить из кукурузы десятки разных блюд. Но большую часть урожая они будут аккуратно хранить, чтобы по мере надобности превращать в те самые тортильи. Секрет приготовления тортилий прост. Зерно кладут в чаны с водой и варят. Добавляют соли по вкусу. И немного извести. Обыкновенной извести. Она придает лепешке своеобразный привкус, но главное — оказавшись в организме человека, укрепляет его кости и зубы. Более того, вполне вероятно, что этим крохам извести мексиканцы обязаны своими густыми волосами. Обычно люди одной национальности чем-то схожи друг с другом. Мексиканцы, например, — смуглой кожей, белизной зубов и блестящей смоляной гладью волос. Лысых среди мексиканцев встретишь редко, среди чистокровных индейцев — никогда. Все это — лучшая реклама тортилье.
Итак, кукуруза варится. Теперь важно не упустить момент когда чан надо снять с огня. Зерна должны быть наполовину сырыми, чтобы затем, когда их будут перемалывать в домашних жерновах, на сельской мельнице или в городской пекарне, кукуруза была не слишком вязкой. Масса должна получиться крутой как замазка (наверное, лучшего сравнения не найдешь).
Превратить массу в лепешку казалось бы, нехитрое дело. В специализированных лавках установлены автоматы, которые «выдают» теплые тортильи. В небольших кафе используются бесхитростные приспособления в виде двух металлических ладошек- всего лишь один хлопок — и комок теста расплющен в лепешку. Теперь ее остается поджарить — и тортилья готова.
Уличные же кулинары растягивают массу вручную. Не очень гигиенично? Зато, как утверждают индейцы, тортилья, приготовленная таким образом, обладает особым вкусом. К тому же тортилья получается пористой, как бы дышащей. Вообще разве смогут когда-нибудь машины полностью заменить человеческие руки и душу кулинара? Нет, индейцы не понесут свой маис на помол, они сами протирают зерно в каменном корыте — метате — точно так, как делали это их далекие предки.
Тортильям на столе отводится особо почетное место и особое внимание. Чтобы сохранить лепешки теплыми, в бедной семье их подадут укутанными в полотенце, в семье побогаче всегда есть расшитая национальным орнаментом варежка, на званом приеме тортильи уложены в плетеные лукошки и закрыты крышкой в форме сомбреро. Хоть и жжет чиле, а все же трудно удержаться, чтобы не съесть пять-шесть такое. Берешь тортилью, кладешь в нее нарубленное мясо (особенно хороша жареная свинина — знаменитое мексиканское блюдо «карнитас») и поливаешь соусом из лука, перца, томата.
«Пища богов» — так, кажется, принято говорить о вкусных вещах...
Лев Костанян
(обратно)
Трасса ведет в Синегорье

Мелкая щебенка укатана автомобильными шинами, как асфальт. Машины идут на больших скоростях, резина становится горячей, снег выплавляется с поверхности дороги.
Темная линия трассы прорезает заиндевевший мир. То она идет к горизонту, в небо, то, словно переломившись, ныряет вниз, то летит с шелестом ветра, с гудом мотора, летит в лоб горе... У горы дорога делает вираж в сторону — и пошла десятками поворотов по распадку, бросая машину с одного изгиба на другой, как на океанских волнах. Вторя поворотам, то нарастает, то стихает шум двигателя. На подъемах и спусках медленное движение, укатанный снег цел, нагретые шины сделали его скользким. Смотри в оба!
Хуже всего, когда при пятидесятиградусном морозе дует знаменитый колымский ветер и несет снежную поземку. Он жжет резкой болью лицо, пронизывает швы на одежде колючими иголками. Не дай бог на морозе, при таком ветре менять баллон! Работать можно только в темпе, как на пожаре, иначе замерзнешь. А когда работа закончена, видишь, что кожа на запястьях между рукавом полушубка и варежками покрыта темными багровыми полосами, прихвачена морозом.
Иногда дорогу затапливает белое молоко, которое не пробивают ни противотуманные желтые фары, ни прожектор на крыше кабины, лишь видны полосатые вехи, торчащие по обочинам. За вехой может быть откос, может вылезти наледью промерзшая до дна река. Тогда останавливайся на обочине, не гаси фары и подфарники, чтобы на тебя не наткнулись другие, и жди. Жди под шум работающего двигателя...
Эта дорога ведет на север, в Синегорье, на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку — Колымскую ГЭС. Знаменитая Колымская автомобильная трасса.
С Иваном Даниловичем мы едем в Синегорье на его ЗИЛе. Навстречу с ревом и свистом проносятся оранжевые «магирусы», бежевые «татры», серые «шкоды», голубые МАЗы. По сторонам в белых сумерках мелькают огни приисков, иногда на обочине увидишь остатки костра, кто-то менял колесо и «кострил», чтобы отогреть закоченевшие руки. Вдоль дороги то с одной стороны, то с другой стоят мачты-опоры будущей линии электропередачи. Они шагают по распадкам, по склонам, крутым и пологим. Мы видим, как тракторы поднимают очередную мачту...
— Нелегкая работа, — понимающе замечает шофер.
Уже много лет Иван Данилович наматывает на колеса своей машины бесчисленные северные километры: до строительства Колымской ГЭС работал в Оймяконском районе Якутии, возил грузы из Магадана через всю Колыму.
Стекло в кабине двойное — чтобы не замерзало. За спинкой сиденья проходят трубы с горячей водой из «рубашки» двигателя. Мы сидим раздетые, наши шубы висят на крючках сбоку. Нам просторно и удобно. Можно подумать, что сидишь не в кабине грузовой машины, а в удобном кресле перед широким киноэкраном.
Я спрашиваю своего спутника:
— Как там, на полюсе холода, в Оймяконе?
— Легче, — отвечает он, — ветра нет. Тишь. Дым над домами до самого неба столбом стоит. А здесь тяжело. Особенно в Синегорье. Ветры между горами дуют, как в трубе. В Магадане тоже легче. К городу подъезжаешь, сразу тепло становится, хоть и ветер. Море рядом. Если на трассе пятьдесят, то в Магадане — тридцать.
— Ну а трасса? — не отстаю я. — Как она, тяжелая, опасная?
— Насчет того, что тяжелая, не скажу, — неспешно отвечает он. — А вот опасная — это точно. Тем и опасна, что хорошая,— есть где разогнаться. Расстояния-то! Вот и жмет шофер на всю железку, нервы нужны, чтобы такие расстояния выдержать...
По трассе через определенные промежутки расположены диспетчерские пункты, в каждом из которых водитель обязан отметиться. Рядом с диспетчерской — гостиница для шоферов. Диспетчер не выпустит машину, если водитель долго едет без остановки, заставит отдохнуть, только тогда отдаст путевку.
Наш ЗИЛ везет в своей серебристой цистерне несколько тонн солярки — дизельного топлива. На пятидесятиградусном морозе она застывает, делается тягучей, как мед.
— Здесь солярка что хлеб, — говорит Иван Данилович, — а для стройки особенно. Где сгорает она, родимая, там жизнь, там работа идет. Вот потечет электричество по всей Колыме от Синегорья, тогда и солярки меньше возить придется... В карьерах на приисках будут работать электрические экскаваторы...
Ha полпути от Магадана до Синегорья мы ночуем. Вокруг одноэтажной деревянной гостиницы, как на ярмарке, стоят разноцветные машины — с цистернами, трубами, цементом, пиломатериалами, фургоны с продуктами. И у всех работают двигатели...
В гостинице мы прежде всего сняли обувь и поставили ее сушиться — так уж здесь заведено, а взамен нам выдали войлочные тапочки, длинная шеренга которых выстроилась в коридоре. В полутемном холле несколько человек смотрели телевизор, разговаривали — видно, хорошо знали друг друга, частенько встречались в диспетчерских и на дороге. Но большинство, водителей, намаявшись за день, крепко спало в комнатах. За окном постоянно слышался приглушенный рокот моторов и свист ветра. Дом напоминал плывущий по волнам корабль. В передней вместе с клубами морозного воздуха появлялись и исчезали люди. Так на корабле уходят на вахту и приходят с нее. Когда дверь открывалась, шум моторов и ветра становился сильнее. По трассе шли машины. Они светили фарами по окнам, пристраивались на ночлег к другим машинам...
Утром в передней хлопает дверь, кто-то отчаянно, хоть и вполголоса, ругается, бросает на пол рукавицы.
— Баллон не дотянул! Пришлось менять в дороге, чтоб ему неладно было.
Гостиница быстро пустела, снопы света от фар плясали на снегу. Иван (Данилович слегка тронул ЗИЛ. Раздался скрип, похожий на стон.
— Резина поет. Застыла за ночь.
Мы тихонько, с тем же жалобным скрипом, поехали вокруг гостиницы. Сделав два круга, поднялись на насыпь трассы. Звук прекратился. Чуть прибавили... И покатили! Только вехи замелькали по сторонам.
Синегорье встретило нас сизым туманом. В тот день ветра не было, но мороз в 55 градусов — обычный, между прочим, для здешних мест — ничего хорошего не обещал. Все вокруг выглядело враждебным: и белые сопки, и закуржавевшие чахлые лиственницы, и седое промороженное небо. Сам воздух, казалось, покрылся белой пеленой. Холод, кругом один холод, все усилия направлены на сопротивление ему. Кровь медленно течет в жилах, суставы плохо гнутся, шелестит, замерзает дыхание, даже смотреть вроде бы трудно.
Я попрощался с Иваном Даниловичем, пожелал ему, чтоб никогда не остывали колеса в пути, и пошел ,в поселок.
Здесь уже стоял целый квартал многоэтажных домов из сборного железобетона. Здания покоились на сваях, чтобы не оттаивала вечная мерзлота. В специальных тоннелях под землей были проложены коммуникации — водяные трубы, электрические и телефонные провода. Над крышами домов поднимались телевизионные антенны. Назло стихиям человек устроился здесь с удобствами.
До створа на реке, до места строительства будущей плотины, я ехал в теплом, обогреваемом автобусе. За рулем сидел шофер в кожаной куртке, без шапки и проклинал местные морозы и то ли в шутку, то ли всерьез... инженеров, которые придумали строить здесь плотину. Мой спутник, одетый в полушубок, огромную лисью шапку и унты, только усмехался в бороду. Как выяснилось, он работал экскаваторщиком, прежде строил Вилюйскую ГЭС и пришел сюда из Якутии с караваном техники.
— Несколько месяцев шли... А жили в балках-вагончиках. Ремонтировались под открытым небом. Иногда приходилось строить объезды на дорогах, иногда и сами дороги...
Шофер, который только что шумел и ворчал, вдруг преисполнился достоинства.
— Дорогу видите? — показал он на проезжую колею. — Раньше мы эти тридцать километров за несколько часов одолевали. И по болоту чапали, и по осыпям, иной раз даже тракторы застревали. А теперь что? Городские автобусы к нам ходят...
На берегу реки мы остановились. До середины русла была сооружена высокая насыпь — строился мост.
— Решили монтировать пролеты на насыпи, — пояснил мой бородатый спутник. — Потом, когда их соберут, насыпь нужно будет срочно убрать. И обязательно до паводка, не то разрушит река пролеты. (Весной мост будем открывать, а там и перекрытие не за горами...
Самыми первыми, как и полагается, на берег Колымы пришли изыскатели. У створа будущей плотины стоит маленький поселок из щитовых домиков, дымятся трубы, бегают лохматые собаки. На Севере без собак жилье не жилье, хотя сторожить им здесь вроде бы нечего, двери в поселке не запираются, внутри одного из домиков были комнаты с чертежными досками, кабинеты с зелеными абажурами, в коридоре жарко топилась печка, стоял ящик с углем, а поодаль — ведро с крупной картошкой. На плите варился обед. У изыскателей всегда так — дома, как на работе, и на работе, как дома.
Заместитель начальника экспедиции Ленгидропроекта Борис Леонтьевич Ранд сказал мне, что сейчас идет бурение с отбором образцов — там, где запроектировано строительство основных сооружений ГЭС. Буровики прощупывают скальный грунт на глубине 50—70 метров. Геологическая ситуация не из легких: трещины в каменистых пластах заполнены льдом. Как поведут себя пласты? Не поползут ли? На изыскателях лежит большая ответственность.
Зеленый абажур лампы бросал отсветы на затвердевшие, обветренные морщины на лице моего собеседника. На красноватом стекле письменного стола лежали грубые жилистые руки, привыкшие долбить камень, копать землю. Он был похож на земледельца, на пахаря, который из года в год терпеливо возделывает свою ниву.
— Я ведь начинал рабочим, бурильщиком, потом стал мастером, — рассказывал Борис Леонтьевич. — А родом я с острова Сарема, из эстонской деревни. Изыскателем начал работать в Карелии. Потом была речка Алматинка... Саяно-Шушенская, Карлов створ... Камчатка. Так и вспоминаешь годы по названиям строек. И всегда бывает одна и та же картина. Мы приходим на берег дикой реки, забиваем первый колышек, а когда уходим — стоит город...
Изыскатели заканчивали работу, начатую несколько лет назад. Было выбрано место створа для плотины Колымской ГЭС, определены размеры будущего водохранилища. Сейчас здесь ведется усиленная разработка ценных металлов, с тем чтобы их россыпи не оказались под водой. Гидрогеологи, в свою очередь, занимаются основанием, на которое должна стать будущая плотина. Она проектируется каменно-набросной. Сердцевина ее должна состоять из грунта, через который вода не сможет просочиться; не будет фильтрации, как говорят специалисты.
Рано утром в закрытой «дежурке» мы подъехали к тому месту, где начинался подъем в гору. И пошли. Впереди две женщины — геологи Надя и Рая. Через плечо у них перекинуты полевые сумки; несмотря на тяжелые полушубки и валенки, они очень легко перебирались с камня на камень. Следом поднимались двое геодезистов с треногой и приборами. Они шли медленнее, их бороды и воротники от тяжелого дыхания были покрыты инеем.
— Не останавливайтесь! — кричали женщины. — Лицо растирайте варежкой.
Разгоряченное от мороза и ветра лицо, казалось, тут же прихватывало ледяной пленкой. Мороз по-прежнему держался за пятьдесят градусов, и к тому же между горами, которые образовывали долину реки, дул пронизывающий ветер. Однако с подъемом ветер становился тише. Происходило это в точном соответствии с законами аэродинамики: внизу проход между каменистыми берегами был гораздо уже.
На крутизне, подобно ласточкиному гнезду, примостилась буровая установка. Тяжелые станки затаскивали на склоны при помощи тросов, тракторов, лебедок. Это была трудная работа.
Рядом с буровой стояла палатка из толстого брезента. На кусок асбестовой трубы, укрепленной на железных подставках, была намотана электрическая спираль. В тесном, отгороженном от мороза и ветра пространстве она напревала воздух до плюсовой температуры: под ногами зеленел мох. Столбики пород — керны, вырезанные бурильным инструментом, лежали в ящиках. Геологи клали пробы на железный лист над спиралью. Плавился лед, керн рассыпался на куски, его прочность была обманчива.
Сделав записи в журнале и отобрав образцы, геологи стали собираться вниз. Геодезисты тем временем «привязывали» точку, на которой шло бурение, уточняли ее местоположение на склоне. Внизу работали экскаваторы и бульдозеры, зачищали склоны под основание плотины. Людей не было видно. Казалось, что машины сами совершают свою работу. Временами взрывы сотрясали воздух: это прокладывали штольню — начало будущего водовода, по которому вода пойдет к лопастям турбин. Отсюда, сверху, Колыма казалась маленькой речкой; бывали случаи, когда в этом месте она промерзала до самого дна. Но плотина поднимет воду на нужную отметку... В среднем и нижнем течении, в Якутии, на подступах к Ледовитому океану, река становится могучей, полноводной, и в дальнейшем на ней предполагается соорудить целый каскад гидроэлектростанций. Строительство в Синегорье — первый этап этого каскада.
Над Колымой, на том месте, где несколько лет назад забил первый колышек изыскатель, куда пригнал первый груз шофер, в каменной, ледяной пустыне, споря со жгучим ветром, морозом и вечной мерзлотой, не умолкая, гудят моторы...
Андрей Фролов, наш спец. корр.
Магадан — Синегорье
(обратно)
Ю. Долетов. Разящие молнии

Тропический лес, как резонатор, усиливал голос.
— Амоке! Амоке!
Кричала старуха.
— ...оке! ...оке! — басовито вторили деревья.
Старуха звала внучку. Девочка, наверное, заигралась где-то с подружками и не слышала зова. Старуха терпеливо ждала. Ее увядшее лицо было неподвижно, лишь густые черные брови, сдвигавшиеся на переносице, выдавали беспокойство. Одеяние старухи состояло из куска серой материи, обмотанной с плеч до щиколоток вокруг тела. Из-под ткани проглядывали ступни босых ног. Старуха была высока ростом, стройна. Если бы не морщины на лице, вряд ли можно было сказать, что эта женщина находится на склоне лет.
— Где эта паршивая девчонка? — проворчала старуха.
— Я тут, айя эругбо (1 Бабушка (йоруба).), — пискнула где-то справа от моей машины девочка. Она раздвинула тыквенные плети, свисающие с изгороди, и через зеленый лаз выбралась на поляну.
— Зову, зову, а ты... — в голосе старухи, однако, не чувствовалось раздражения. — Живо свежий эгбон (1 Кокосовый орех (йоруба).) принеси. Ога (2 Господин (йоруба).) напиться хочет. С дороги...
— Сейчас! — пискнула Амоке.
Слева, неподалеку от того места, где стояла машина, выгнулась стволом кокосовая пальма. У макушки под широкими листьями, словно под зонтом, упрятались гроздья крупных, со средний арбуз, орехов.
Такие пальмы растут вдоль всего южного побережья Нигерии. Я не раз видел, как лазают за орехами проворные, мальчишки.
Ухватятся руками за шершавый ствол, упрутся в него ногами, а затем, часто-часто перебирая руками и ногами, в считанные секунды «доходят» до макушки. Мне подумалось, что и Амоке взберется на пальму по-мальчишечьи. Но не тут-то было.
Амоке сходила в хижину и вышла оттуда с охотничьим винчестером. Огляделась и направилась к изгороди, из-за которой только что вылезла. Юркнула в зеленый лаз, приладила на жердочке винчестер. Прицелилась. Напрямую до пальмы было метров сорок.
А-ах-хах! — по лесу раскатисто прокатился звук выстрела, в траву около ствола шлепнулись два ореха. Тонкий, как карандаш, зеленый стебелек, на котором плоды держались под листьями, был срезан пулей. Девочка подала орехи старухе.
— Хороший выстрел! Молодец! — похвалила она внучку.
— Я больше не нужна, айя эругбо?
— Нет. Теперь играй сколько вздумается. Да, апельсинов в корзине возьми. Подкрепись! Забегалась совсем, — ласково сказала старуха. Девочка, видимо, вполне оправдывала свое имя. На языке местной народности йоруба «Амоке» означает «знать ее — лелеять ее».
Амоке отнесла винчестер в хижину и убежала вприпрыжку с двумя желтыми апельсинами.
Старуха сходила за длинным широким тесаком — мачете, выбрала орех покрупнее. Придерживая плод на левой ладони, несколькими ударами мачете надколола его у того места, откуда отходил зеленый стебелек.
— Попейте! — старуха протянула орех. — А я пока ужин приготовлю. Раз к нам в деревню заехали, значит, наш гость.
Деревня была расположена на пологом склоне и хорошо просматривалась. Круглые хижины стояли вразброс и, как и огороды, отделялись друг от друга изгородями. Людей не было видно. Наверное, ушли в лес за фруктами или работали на дальних огородах.
...Началось все с того, что я где-то сбился с пути: то ли подвела дорожная карта, то ли проскочил указатель. Проселок неожиданно раздвоился, я поехал наугад по левому отростку. Миль через пять снова было разветвление, и я снова почему-то упрямо взял влево. Так повторялось несколько раз. На пути никто не попадался. Убедившись, что безнадежно заплутал, выбрал проселок со следами автомобильных покрышек, который и привел меня в эту деревню. У крайней хижины я посигналил, вышла старуха. К счастью, она вполне сносно могла изъясняться на английском, изредка вставляя в свою речь известные мне местные слова. Как удалось выяснить, я попал в деревушку на юго-западе Нигерии. Отсюда до города Иларо, где мне хотелось побывать по корреспондентским делам, было миль сорок.
До захода солнца оставалось с полчаса. В тропиках темнеет довольно быстро. Если ехать, не собьюсь ли я опять с дороги? Остаться одному посреди тропического леса в кромешной тьме... Тут все же люди. Потом я попросил напиться. От жажды лучше всего спасает молоко свежего кокоса. Старуха сказала, что позовет внучку Амоке...
С орехом было покончено. Но кто научил Амоке так метко стрелять? Я спросил это у старухи.
— От меня переняла. Знаю, что хотите сказать. Ребенок, мол, и сызмала к ружью приучили. А что делать? Сторона наша лесная. Змеи или какая другая тварь часто в хижину наведываются. Взрослые не всегда дома бывают, а с ружьем как-никак защита есть. Сама-то я пометче стреляла, да в последнее время хуже вижу — глаза затуманивает. Но до матери и мне далеко... Мою мать, как и ее подруг, народ называл «сомиа» — «разящие молнии», а белые пришельцы — амазонками.
— Амазонками?
Старуха не ответила.
Амазонки! Легендарные воительницы античного мира, самому Гераклу доставившие изрядные хлопоты. Подтверждения легендам о них находят археологи и этнографы. Но амазонки здесь, в джунглях Нигерии?
Старуха смотрела на меня с прищуром, краешки губ растянулись в загадочной улыбке. День угас, стемнело.
Старуха подбросила в костер сухих ветвей, уселась на вязанку. Костер разгорался.
— Если хотите, расскажу. Давно это было...
* * *
По огромному залу в глубокой задумчивости расхаживал горделивого вида дагомеец. Он был строен, хорошо сложен. Темные волосы курчавились над высоким лбом. Умные, проницательные глаза, выступающий вперед подбородок говорили о решительном характере. Дагомеец был в своей излюбленной одежде, свидетельствующей о богатстве и изящном вкусе, — синей шелковой тунике, ниспадающей ниже колен. На тунике поблескивали вышитые серебряными нитями звезды и полумесяц. Правое темно-шоколадное плечо было обнажено, так что рука оставалась свободной. На ней у запястья отливал желтизной массивный золотой браслет. Обут дагомеец был в кожаные сандалии, от которых отходили белые ремешки, крест-накрест обвивающие голени.
Это был хауссу — король государства, границы которого на западе подступали к реке Вема, отделяющей Дагомею от королевства Ашанти, на востоке — к землям султаната Борну и племен йоруба, на севере — к широкой Джолибе (1 Африканское название реки Нигер.), за которой начинались пески великой африканской пустыни. Это он, хауссу, так расширил пределы своего королевства, сплотив народ и одолев бесчисленных врагов. Но эти победы унесли жизни стольких дагомейцев, что теперь только страх удерживает соседей.
Хауссу хмурился. Несколькими неделями ранее на побережье с корабля высадились белолицые люди. Они пришли по морю и не походили на своих собратьев, совершавших набеги за рабами. Однако намерения у новых пришельцев, судя по всему, были не менее коварными. Они не известили короля о своем прибытии, не направили послов с дарами. В первый же день пришельцы, высадившись на берег, стали валить пальмы. Вскоре над песчаными дюнами поднялся бревенчатый форт. Прибрежные туземцы пробовали наведаться туда, но были встречены ружейными выстрелами.
Хауссу повелел изгнать пришельцев. Под покровом темноты дагомейские воины напали на форт, забросали его стрелами, подожгли. Лишь несколько белолицых людей сумели вплавь добраться до своего корабля. С судна ударили пушки. Утром корабль снялся с якоря и вскоре растаял в просторах лазурного океана.
Король имел обычай ни с кем не советоваться, сам принимал решения и редко ошибался. Но тогда, первый раз в своей жизни, он не знал, что делать, что предпринять. После недолгих раздумий он решил обратиться к жрецу.
Жрец предупредил, уставившись в небо, что первые белолицые — только лишь разведчики. Следом за ними придут другие белые люди, чтобы завоевать страну. Это саранча, и трудно будет с ней бороться... По возвращении от жреца хауссу повелел созвать вождей на чрезвычайный военный совет.
В дорогих одеждах, с золотыми и слоновой кости амулетами на запястьях в зал один за другим входили вожди. Наперебой начали воздавать хвалу своему повелителю. Король мог часами слушать сладкие речи, но теперь был не в духе и велел садиться. Вожди дождались, пока майгэн (1 Премьер-министр (дагом.).) расположится справа от трона, и лишь после этого опустились на шкуры полукругом перед монархом.
— Новые тяжелые испытания ждут мой народ, — медленно заговорил хауссу. — Следом за первыми белолицыми, изгнанными дагомейскими воинами, навалятся, как саранча, другие. Они придут с моря, чтобы завоевать нашу страну, — почти слово в слово повторил король предсказание жреца.— Мои воины храбры и готовы отдать жизнь за своего короля. Но одной храбростью в бою не победишь. У нас мало воинов, и с ними не одолеть заморского врага. Хочу слушать ваши речи, как отразить нападение белой саранчи. Повелеваю говорить!
— Надо построить укрепления вдоль побережья! — предложил один из вождей.
— Долго и бесполезно. Они полопаются, как кокосовые орехи, под ударами пушек с кораблей,— возразил король.
— Давайте приготовим ловушки-ямы, какие делают наши охотники за слонами.
— Ловушки можно обойти!
— Мы дружим с соседями. Пусть хауссу-лейе-би-хауссу (1 Король королей (дагом.).) пошлет к ним гонцов за помощью,— сказал майгэн.
— Белая саранча расползается по всему побережью. Соседи с трудом отбивают натиск пришельцев и сами просили у нас воинов, — пояснил монарх.
Советовались долго, но так ничего и не решили.
Вожди разошлись, хауссу остался один. Снова впал в раздумья.
Вдруг король почувствовал легкое прикосновение женской руки. Около трона стояла его жена, большеглазая Санг (1 Луна (дагом.).). Дорогая заморская парча переливалась на ее стройной фигуре. Жен у короля было немало, но любил он, пожалуй, только Санг. Она была его неразлучной спутницей во всех походах, охотничьих развлечениях. Никогда не жаловалась на длительные, изнурительные скитания по лесам, и король не переставал удивляться ее терпению и выносливости. Санг умело владела ружьем. Случалось, во время охоты метким выстрелом сбивала на лету птицу или прерывала бег стремительной антилопы.
— Чем опечален, мой повелитель?
Секретов от любимой жены у короля не было. Он поведал ей о своих тревогах.
— Не горюй! Санг поможет тебе!
— Ты? Мои вожди оказались бессильны дать правильный совет.
— Как знает мой повелитель, с помощью огня и молота кузнец изменяет форму куска железа. От этого железо становится другим— тверже, прочнее.
— Не пойму, о чем говоришь.
— Хауссу забыл, что в его государстве есть немало молодых женщин и девушек. Если их научить владеть оружием, они станут воинами. Сила дагомейской армии несметно возрастет. Король встал с трона.
— Согласятся ли женщины и девушки бросить домашний очаг? Кто будет командовать, обучать стрельбе? — посыпались вопросы.
— Опасность на пороге страны. Вот-вот нагрянут иноземные захватчики. Неволя хуже смерти. Санг и другие твои жены, мой повелитель, станут командовать отрядами. Мы отберем самых рослых, самых выносливых женщин и девушек. Они согласятся. Мы научим их стрелять. Когда придет враг, мы применим хитрость, и ему не устоять под огнем наших мушкетов. Дай нам «длинных голландцев» (1 Длинноствольные кремневые мушкеты голландского производства.), и ты увидишь, на что способны дагомейские женщины!
Дожди, низвергавшиеся кряду несколько месяцев, спали неожиданно. С утра до вечера с безоблачного неба жарило раскаленное солнце. Оно выжигало траву, у людей трескалась кожа. Казалось, страшная жара проникала в кости. Народ тревожился. Из джунглей выползали колдуны. Потрясая костяными амулетами, наговаривали, что надо ждать беды.
В один из таких жарких дней король назначил смотр своему новому войску. С утра неистово бухали тамтамы, созывая людей на аджеэ — центральную площадь (обычно она была рынком) Абомея, столицы Дагомейского государства. В центре, на южной стороне площади, расположился с многочисленной свитой хауссу. Он был в своей излюбленной одежде и восседал на легком походном троне, прикрытом от палящего солнца большими зонтом. Вожди и сановники рангом пониже сидели на скамейках, тоже под зонтами, но меньшими, чем королевский. Справа от монарха находился майгэн, слева — Санг в леопардовой шкуре (форма военачальника), перехваченной широким Лясом в золотых бляшках. За пояс был заткнут панга — короткий меч. Санг командовала всей женской армией и стала подле короля, чтобы давать пояснения.
Площадь по краям запрудили абомейцы, прячась от солнца под пальмовыми листьями. На западной ее окраине и прилегающих улицах недвижно застыли отряды дагомеек.
Величественным жестом хауссу повелел начать парад. Забили огромные королевские тамтамы. К центру площади приближался первый отряд. Рослые девушки были в одинаковых белых платьях с серыми продольными полосками. На голове красовались круглые шапочки. С плеч на грудь на тонких ремешках свисали ромбовидные амулеты из слоновой кости. Талии опоясывали широкие кожаные ремни. На правом плече девушки придерживали начищенные до блеска мушкеты. Впереди отряда вышагивала одна из жен короля в голубом шелковом платье. Она не имела мушкета, ее оружием был лишь панга, торчащий из-за пояса.
Отряд поравнялся с хауссу. По команде девушки остановились, повернулись лицом к монарху. Его жена, шедшая во главе отряда, шагнула к трону.
— О хауссу-лейе-би-хауссу! Пока ты жив, нам нечего бояться. Сила исходит от твоего лика, наполняет наши сердца храбростью, — сказала она и выхватила меч. Отряд вскинул мушкеты, площадь сотряс оружейный залп.
Вслед за первым отрядом перед королем предстал другой. Такие же рослые дагомейки, в такой же форме. Лишь амулеты были из коралла.
— Сила леопарда в его клыках. Мы твои клыки, наш повелитель. Твои враги — наши враги. Мы умрем, но не отступим! — отсалютовала вторая жена.
— Со-джеэ-ми! (1 Пусть молния убьет нас, если мы нарушим свою клятву (дагом.).) — дружно прокричал отряд.
Третий отряд сверкал серебряными амулетами.
— Наши мушкеты неодинаковы. Одни короче, другие длиннее, одни тоньше, другие толще. Но пусть все одинаково разят наших врагов! — вскинула пангу третья жена...
Отряд за отрядом проходили по аджеэ. Выправка женщин и девушек, блеск мушкетов подействовали на короля. Монарх ликовал. Дагомейки маршировали, стреляли так, будто родились с ружьями в руках. Вот она, армия! С ней не страшен любой враг.
— Ты же обещала еще хитрость? — спросил король у Санг.
— Хитрость испытает в бою враг...
Вечером, когда красный диск скатился за дальний лес и повеяло прохладой, на площади разложили большой костер. Начались ритуальные боевые танцы.
В самый разгар веселья к хауссу подскочил тяжело дышавший воин-дозорный. Пав на колени, сообщил, что тамтамы донесли весть о появлении вблизи морского берега больших кораблей. Хауссу подозвал Санг.
Утром Абомей походил на цветок, с которого оборвали лепестки...
Авангард человек в двести из французского экспедиционного легиона медленно пробирался в лесной чаще. Деревья стояли плотной зеленой стеной, не тронутые ни топором, ни лесным пожаром, видимо, с сотворения мира. Кустарник и лианы цеплялись за одежду, замедляли движение. На них свисали кроны других деревьев, а еще выше гладкими стволами
поднялись деревья-великаны. Было сумрачно: солнечные лучи не могли пробить зеленый заслон.
Десять солдат прорубали в джунглях палашами коридор. За ними с ружьями наизготовку продвигался авангард. Легионеры вспоминали Париж, про себя поругивали честолюбивого императора Луи-Наполеона III, пославшего их на завоевание чужой страны. Легион уже сражался в Мексике, Алжире, и солдаты думали, что экспедиция в Дагомею будет развлекательной прогулкой. Они покинули солнечную Францию с месяц назад. Накануне, ударив по берегу для острастки из пушек, высадились на песчаный пляж. Легионеры хорошо помнили напутственную речь своего императора — можно грабить туземцев, отбирать у них золото, слоновую кость, ему нужна только порабощенная страна.
Радужные мысли исчезли после первых минут похода. Каждый шаг по этой африканской земле давался с трудом, а до Абомея, как удалось выведать ранее у купцов, было миль сто. Солдат-рубщиков приходилось менять через каждые полчаса. Банная духота, мириады москитов обрушились на легионеров. Вскоре пятерых солдат хватил тепловой удар, и их отправили к берегу, где лагерем стали основные силы.
Но легионеров, пожалуй, более беспокоили не столько москиты, сколько тамтамы. Едва авангард углубился в лес, забухали эти африканские сигнальные барабаны. Казалось, стучат не они, а бьются, пульсируют в унисон сердца всех дагомейцев, и эти пульсирующие удары перебегают от веточки к веточке, от дерева к дереву. Солдаты, озлившись, пробовали стрелять, но от этого грохотанье тамтамов становилось только сильней и чаще.
К исходу дня лес неожиданно посветлел, авангард вышел на большую поляну, заросшую жесткой пластинчатой травой. Легионеры повеселели, подтянули амуницию. В каре они стали пересекать поляну. До опушки оставалось с полусотни шагов, и тут навстречу легионерам шагнула черная стена обнаженных женских тел.
Легионеры в растерянности опустили ружья. И тут вперед вышла туземка в леопардовом одеянии, что-то гортанно прокричала. Шеренга нагих дагомеек расступилась. Вторая шеренга подняла мушкеты. Огонь из «длинных голландцев» хлестнул по французскому каре. Поляна потемнела от порохового дыма...
В лагере между тем ждали вестей от авангарда. Было оговорено, что донесения о ходе продвижения должны направляться каждый день. К концу недели усатый полковник, командир экспедиционного легиона, потеряв всякую надежду, решительно двинул один из батальонов на розыски затерявшегося авангарда.
Снова девственный лес задрожал от пульсирующих звуков тамтамов, предупреждавших об опасности.
Батальон держался настороже, с опаской пробирался по зеленому тоннелю, прорубленному исчезнувшим авангардом. На месте сожженных им деревень под тысячью ног взбивался, как пыль на дороге, серый пепел. Наконец батальон ступил на поляну. Ничто не говорило о том, что недавно тут прошел авангард. Была примята трава, на земле виднелись следы от копыт. Дагомейцы, чтобы ввести в заблуждение врага, убрав трупы легионеров, прогнали по поляне скот.
За поляной стоял сплошной лес.
Французы с ожесточением врубились в джунгли. Сколько ни искали, никаких признаков пребывания авангарда не было. Он исчез, растворился в зеленом море...
На привал батальон расположился у неширокой речки. На песчаном берегу, от которого до леса было метров сто пятьдесят, запылали костры. Перед вечером охранение подняло тревогу. Легионеры похватали ружья. Из леса на лагерь молча надвигалась плотная стена безоружных нагих женщин. Солдаты заулыбались...
Снова первая шеренга рослых дагомеек расступилась по команде женщины в леопардовой одежде... От дружного залпа по гладкой поверхности реки пробежала рябь.
...В лагерь от побережья океана командир батальона вернулся с горсткой таких же оборванных, как и он, легионеров.
Сигнальные горны сыграли тревогу, привели в движение лагерь.
В полном снаряжении, с большим запасом патронов, с легкими походными пушками, навьюченными на лошадей, весь легион выступил в поход.
На пятый день колонны достигли деревни, стали на привал. Солдаты кинулись потрошить глиняные хижины. Залп из «длинных голландцев» ударил как гром. За ним — другой. Офицеры с трудом собрали солдат. Легион занял оборону на деревенской площади. По дыму определили, что стреляли из подступающего к хижинам буша. От деревенской площади нестройно полетели пули, по бушу хлестнула картечь. После неожиданной атаки дагомеек в каждой роте недосчитали по десять-пятнадцать человек.
Дагомейская армия изменила тактику: не нападала в открытую, устраивала завалы из деревьев, заманивала легион в болота. Случалось, колонны неделями топтались на месте или откатывались назад и искали обход. Но и там на их пути вставали смелые воительницы. Скоротечный бой, и они исчезали как призраки.
Силы легиона таяли. Со времени начала похода было уже потеряно две трети состава.
После очередного, как всегда неожиданного, нападения дагомеек усатый полковник стоял у входа своей палатки. По выгоревшему брезенту щелкали крупные капли: пришла пора дождей. При ударе о брезент капли разлетались. Мелкие брызги попадали на лицо, оседали на обвислых усах полковника.
В нескольких метрах от палатки стояло ироко — высокое тропическое дерево. По гладкому, мокрому от дождя стволу карабкался жук. Он взбирался футов на шесть-семь, останавливался. Бессильно царапал лапками по скользкой коре, сердито водил длинными усами. Силы жука иссякали окончательно, и он падал к подножию ироко. Потом снова пробовал взбираться, снова падал...
Дагомея казалась полковнику таким же ироко. Легион раз за разом карабкался по гладкому стволу и сползал обратно. Вершина — дагомейская столица Абомей — оставалась недосягаемой. Жуку не давал подняться дождь, легион стряхивали со ствола загадочные, отчаянные до безумия чернокожие женщины.
...Жук, упав в какой уж раз, куда-то исчез. Полковник, пребывая по-прежнему в мрачном настроении, подождал минут пять. Жук так и не появился. Полковник позвал горниста, приказал играть сигнал к отступлению...
* * *

Костер догорал. Со всех сторон на поляну наползала кромешная тьма. Где-то поблизости в лесу кричала сова, и от этого пугающего крика темнота казалась еще призрачней.
— Выходит, выстояли? — спросил я.
— Если бы оно так. — Старуха подбросила в костер последнюю ветку, уселась на землю. — Дагомейцы ждали поработителей на другой год — жрец предсказал, — но их не было. Силы собирали или еще что задерживало. Королю вздумалось тогда двинуть свою женскую армию на соседей — йоруба: вспомнил старую обиду. Те сидели в городе, наши сомиа пошли на штурм. Куда там! Иоруба были хорошие воины. Много сомиа пало в бою, немало йоруба пленили. Раненой попала в плен и моя мать. Победители были милостивы, поступили благородно: пленным даровали свободу, отпустили домой. Моя мать вернуться на родину не могла — долго не заживала рана. Пока она болела, дошли вести, что на Дагомею вновь навалились белые. Имели много пушек, новые винтовки, которые быстро стреляли. У наших такого оружия не было. Где ж было устоять женщинам со своими «длинными голландцами»? Последней погибла Санг. Говорили потом, что в ее теле насчитали тридцать пулевых ран. Видать, легионеры разъярились, ударили залпом... А без Санг, без армии королю стало не по силам выстоять против поработителей. Они захватили страну, устроили охоту за амазонками — их уже так и наши называть стали. Возвращаться моей матери в родные места было нельзя. К тому ж ей, в то время молодой девушке, приглянулся один йоруба. Поженились. Я в семье восьмой дочерью была. Так и прижились здесь...
Костер угас совсем. Лишь по углям бегали светящиеся змейки.
— Разговорилась я, — старуха встала. — Пора спать. К нам в хижину пойдете или как?
— В машине сподручней. Не так москиты будут докучать.
Ночь прошла незаметно.
Старуха накормила меня и, пока я ел, долго втолковывала, как выбраться на нужную дорогу.
— А где Амоке? — спросил я перед отъездом.
— С отцом и матерью в соседнюю деревню на рынок ушла. Я сейчас. — Старуха шагнула в хижину. Вернулась с гроздью кокосовых орехов, протянула мне: — Вам на дорогу. Пить, может, захочется. Амоке просила передать.
Я взял увесистую гроздь с желтеющими плодами. Стебелек, похожий на зеленую веревочку, был на конце овальным с темным налетом — хранил след пули...
До Иларо я добрался благополучно, без каких-либо приключений, затем вернулся в Лагос. Первое время довольно часто вспоминалась безымянная деревушка, рассказ старухи. Но йотом я решил предать его забвению — слишком необычными в пересказе старухи казались храбрые дагомейки. К тому же по старости она могла что-то напутать, присочинить. Но недавно я увидел книги историков и этнографов, где говорилось о женской армии, описывались военные сражения дагомеек.
Снова вспомнился лесной костер, и я решил передать рассказ старухи так, как он мне запомнился.
(обратно)
Терпеливая тайна Нан-Мадола

В начале остров Понапе в Каролинском архипелаге вообще долго и упорно «сопротивлялся» всем попыткам открыть его. Первым из европейцев его увидел испанский капитан Педро Фернандес де Куирос, чей корабль оказался в водах Каролинского архипелага в 1595 году. Однако капитан не сошел на берег — то ли что-то помешало ему, то ли не ожидал найти ничего интересного на затерянном в океанских просторах клочке земли. Так и оставался Понапе более двух столетий «белым пятном» на карте. Лишь в январе 1828 года капитан шлюпа «Сенявин» Федор Петрович Литке во время кругосветного плавания нанес на карту очертания Понапе и дал науке первые точные сведения о природе острова и о его жителях.
А еще спустя восемь лет разразилась сенсация. В 1836 году в Бостоне некий Джеймс О"Коннэлл выпустил книгу «Одиннадцать лет в Новой Голландии и на Каролинских островах», в которой описывал удивительные свои приключения.
В конце 1820 года ирландец О"Коннэлл нанялся матросом на китобойный барк «Джон Буль». Близ Каролинских островов «Джон Буль» потерпел крушение, и О"Коннэлл с пятью своими товарищами-матросами оказался в шлюпке, отданной на волю волн и ветра. Наутро четвертого дня обессилевшие и отчаявшиеся люди увидели на горизонте гористую землю. Когда шлюпка подошла к берегу, ее окружило множество каноэ, переполненных вооруженными туземцами. Однако, убедившись в полной беззащитности белых людей, островитяне свели их на берег.
Трепеща, ждали они решения своей судьбы. Им казалось, что самые худшие опасения начали оправдываться: в прибрежную деревню стали прибывать депутации из соседних поселений. Новоприбывшие тщательно рассматривали потерпевших кораблекрушение; особый восторг вызывала их белая кожа. После захода солнца на берегу загорелись огромные костры и начались пляски. По всем канонам матросского фольклора Южных морей это были верные признаки грядущего каннибальского пира. О"Коннэлл и его товарищи забились в угол хижины, не смея носа высунуть наружу. Вскоре к постройке, озаряемой светом костров, подошли вожди. О"Коннэлл решил, что наступил решающий момент.
И тогда он принял дерзкое решение.
О"Коннэлл выскочил из хижины, на мгновенье остановился перед застывшими от изумления понапейцами и... сделал первые па зажигательной ирландской джиги! Впрочем, как позднее выяснил О"Коннэлл, все их страхи были совершенно напрасны: на острове Понапе не было каннибалов, а на кострах, которые произвели столь сильное впечатление на матросов, было приготовлено традиционное праздничное блюдо туземцев: жареные собаки. Благодаря джиге авторитет О"Коннэлла сильно возрос, и вождь Ахундел, который принял в свою деревню находчивого ирландца, был необычайно горд доставшимся ему трофеем.
За этот поступок О"Коннэлл был признан настолько «своим», что Ахундел отдал ему в жены дочь и приказал татуировать своего зятя, как это было принято у понапейских воинов.
И все же в один прекрасный день, воспользовавшись чужим каноэ и записав на банановом листе названия соседних деревень, О"Коннэлл вместе с другим матросом, Кинаном, отправился в дальнейший путь.
«И самым удивительным приключением, — рассказывает О"Коннэлл, — происшедшим с нами во время этого путешествия, приключением столь невероятным, что поверить в него труднее, чем во все остальное, мною рассказанное, стало открытие... гигантских развалин, архитектура коих резко отличалась от нынешних построек островитян, а размеры были ошеломляющими. На восточной оконечности группы островов лежит большой плоский остров, который во время сильного прилива кажется разделенным водой на тридцать или сорок маленьких островков. Он отличается своей почти ровной поверхностью. Ни один камень не был занесен на этот остров игрой природы. В отдельных уголках его растут, зреют и разлагаются несобранными фрукты, ибо туземцы ни за что не соглашаются ни собирать эти плоды, ни даже прикасаться к ним...
С небольшого расстояния руины представлялись неким фантастическим творением природы, однако, приблизившись к ним, Джордж и я с удивлением поняли, что они воздвигнуты рукой человека. Прилив был высок, и нам удалось ввести наше каноэ в узкий канал — такой тесный, что в некоторых местах мы не могли бы разминуться с другим каноэ... На протяжении многих ярдов мы плыли между двух стен, столь близко расположенных друг к другу, что до любой можно было дотянуться веслом. Высота их достигала десяти футов; местами стены были сильно разрушены, но кое-где хорошо сохранились. На вершинах их простирали свои ветви кокосовые пальмы и реже хлебные деревья, создававшие густую и освежающую тень. Это было царство глубочайшего покоя — ничего живого, кроме нескольких птиц, мы не заметили. Как только была найдена удобная пристань, где стены немного отступали от берега канала, мы высадились на сушу, но бедняга туземец, сопровождавший нас, казалось, совсем потерял голову от ужаса, и никакими силами нельзя было заставить его покинуть каноэ. Стены замыкались кругами, но когда мы перебрались через них, то внутри не нашли ничего, кроме деревьев и кустарников; ни одного следа ноги человека, ни единого признака того, что человек когда-либо посещал это место. Мы обследовали кладку стен и обнаружили, что они состоят из камней различных размеров, от двух до десяти футов длиной и от одного до восьми футов толщиной. Вернувшись к каноэ, мы засыпали нашего туземца вопросами, но единственным ответом, который получили, было: «Аниман» (1 Аниман — духи в понапейской мифологии.).
По представлениям понапейцев, эти руины, которые они называют Нан-Мадол, были обиталищем духов, и, когда на следующий день О"Коннэлл собрался вновь посетить и тщательно обследовать эти циклопические развалины, островитяне ни за что не хотели отпускать полюбившихся им гостей в это «смертельное» путешествие. Они утверждали, пишет О"Коннэлл, что злые духи «не позволят мне уйти живым, если я вторгнусь в их святилище... Мы с Джорджем просто силой пробились к нашему каноэ под причитания: «Вы умрете! Вы хотите слишком много увидеть! Вы погибнете!»
О"Коннэлл и Кинан как раз и хотели как можно больше увидеть и понять. Нан-Мадол загадывал множество загадок, на которые мореходы не могли найти ответа, и О Коннэллу оставалось надеяться лишь на то, что «люди, знакомые с восточными древностями, посетят его и, быть может, сумеют по сходству этих руин с руинами какого-нибудь древнего народа определить происхождение здешнего племени».
Книга О"Коннэлла наделала много шума, а сам он стал знаменитостью. (Правда, весьма своеобразной — газеты прозвали его «Татуированным человеком», и публика валом валила в цирки, где он демонстрировал свою татуировку.) Но прошло еще более семидесяти лет, прежде чем ученые, как надеялся «Татуированный человек», всерьез заинтересовались Нан-Мадолом. В 1910 году Понапе посетил немецкий археолог Пауль Гамбурх, который выяснил фольклорную версию сооружения «тихоокеанской Венеции». В незапамятные времена, гласила местная легенда, два брата — Олсифа и Олсофа — каким-то образом захватили власть над всеми пятью племенами острова. С целью упрочить единство островитян они задумали воздвигнуть гигантский культовый центр, посвященный духам — добрым и злым. А поскольку понапейцы были народом мореплавателей, решили построить это святилище как можно ближе к морю. Поэтому-то и поныне. в часы прилива на «улицах» Нан-Мадола бурлят океанские волны.
Пауль Гамбурх выявил и другую версию, согласно которой приблизительно, в 1400 году нашей эры вождь одного из понапейских племен стал королем всего острова и приступил к сооружению Нан-Мадола. С тех пор и стал Нан-Мадол религиозным центром острова. Ученым, удалось также установить, что еще в 1800 году в Нан-Мадоле устраивались ритуальные обряды в честь священной черепахи.
Именно поэтому приступивший к «новому» открытию Нан-Мадола американский этнограф Сол Ризенберг, несколько лет назад обративший внимание на записки О"Коннэлла, считает, что построили Нан-Мадол предки современных островитян. Одним из доводов, подкрепляющих его убежденность, служит тот, что понапейцы использовали Нан-Мадол как святилище, как место для «ежегодных религиозных празднеств».
Но здесь многое непонятно. Постройка Нан-Мадола, судя по всему, была делом невероятной трудности. Карьер, из которого брали базальтовые плиты, находится в тридцати милях от святилища, на противоположной стороне острова. Только лишь для транспортировки этих плит при отсутствии, всякой техники потребовалось бы огромное количество рабочих рук. Да еще надо понять, как осуществлялся подъем базальтовых «бревнышек», вес которых нередко доходит до 25 тонн, на высоту трех-пятиэтажного дома. Ведь высота стен, в среднем равная девяти метрам, местами достигает восемнадцати метров, а толщина доходит до трех с половиной метров. Это тем более загадочно, что в Тихом океане, кроме Нан-Мадола, только на острове Пасхи воздвигались циклопические сооружения.
Поэтому-то и появилось предположение, что Нан-Мадол построили не прямые предки современных понапейцев, а пришельцы. Согласно этой версии около 750 года нашей, эры происходила великая миграция индонезийцев на восток. Индонезийцы могли принести технические знания на острова Тихого океана, в том числе и на Понапе. Пришельцы вполне могли поработить островитян и использовать их как рабочую силу для строительства гигантского святилища.
Появилась также и «катакликтическая» гипотеза, согласно которой когда-то Нан-Мадол стоял на суше и его «венецианские» каналы были обычными улицами. Ученые, придерживающиеся такой теории, предполагают, что Нан-Мадол — остаток некогда огромного и населенного высокоразвитым народом континента, в незапамятные времена опустившегося в океанские глубины. В доказательство своей теории они приводят тот факт, что на весьма удаленных друг от друга островах Тихого океана зачастую совершенно одинаковая флора и фауна. Наверное, будут и новые догадки о происхождении таинственных развалин, покуда ученым не удастся докопаться до истины. Именно докопаться, так как планомерных археологических раскопок на острове не проводилось.
...Каждый вечер лучи заходящего солнца окрашивают в пурпур густую зелень на вершине горы Монте-Санто, а на южной оконечности острова могучий океанский прилив врывается в каналы загадочного города-святилища.
Волны разбиваются об источенные временем, водой и ветром огромные базальтовые плиты и теряют свою голубизну, а шипящая пена вздымается все выше и выше в обиталище «терпеливой тайны», как в одной из публикаций был назван Нан-Мадол.
М. Цыпкин
(обратно)
Ранголи — песком изображенное

Каждое утро по пути в университет, проходя мимо коттеджей преподавателей и бедняцких лачуг, жмущихся вдоль дороги, я обращал внимание на то, что вокруг даже самого невзрачного жилища очень тщательно подметено, а перед входом изображен узор, иногда простой, а подчас замысловатый. Над каждой дверью — гирлянды цветов. Цветы висели несколько дней, засыхали, их меняли, а узор обновлялся каждое утро. Этот орнамент, высыпанный порошком, чаще всего белым, — один из видов традиционного индийского декоративного искусства.

Именуется он «ранголи» — «высыпание». Ранголи — ежедневный радостный ритуал в жизни индийской семьи. Особенно старательно украшают вход в дни праздников или если ждут гостей. Как-то — уже дома — в одной из телевизионных передач я услышал, что узором у двери жена выражает свою любовь, уважение, покорность мужу, хозяину дома. И такое толкование вероятно: ведь узор этот высыпают женщины. Но мне кажется, что это слишком узкое объяснение искусства ранголи.
В Индии мне приходилось видеть, как в праздники брахманы раскрашивают полы в храмах, служащие — в учреждениях, дети — в школах. В домах отводят специальную комнату для совершения обряда «пуджи» — благодарственной молитвы. У каждой пуджи свой узор ранголи на полу.
Для этих узоров продают даже специальные трафареты: остается только засыпать их порошком. Пакетики порошка — растертого разноцветного камня — продаются целыми наборами. В обычные дни орнамент ранголи высыпают для того, чтобы открыть двери дома для счастья, удачи, радости. Кроме того, это дань уважения каждому, кто приходит в дом. И соседи в гороДах и селениях даже соревнуются, кто лучше украсит свой вход.
Иногда в Индии устраивают выставки-конкурсы на лучший оригинальный орнамент. Я был на одном таком конкурсе ранголи в Калькутте, куда съехались участницы со всех концов страны. Узоры высыпали на цементном полу огромной открытой террасы вокруг стадиона, прямо на глазах у зрителей.
Искусство ранголи не ограничивается только орнаментом. При помощи цветных порошков «рисуют» такие портреты, пейзажи или натюрморты, что их можно сравнивать с картинами, написанными маслом, акварелью.
Однажды в Секундерабаде, в самом центре площади у базара, я увидел небольшую толпу. Люди окружили слепого в рваном дхоти. Слепой сидел, прислонившись к холодному камню фонтана, запрокинув голову навстречу жгучим лучам солнца. Рядом были разложены небольшие пакетики. Он на ощупь отыскивал пакетик с порошком нужного цвета, брал из него щепотку и уверенным движением сыпал порошок в определенном месте. Через некоторое время собравшиеся увидели розового бога Кришну. Он сидел под деревом на зеленой лужайке и играл на флейте...

Как-то коллега по университету пригласил меня на выставку ранголи. Официально она была уже закрыта, но нас впустили в огромную мрачноватую комнату. На цементном полу разложены портреты в рамах. Так, по крайней мере, мне с первого взгляда показалось. Все картины, а их было около двадцати, были «нарисованы» четырнадцатилетним художником. Сам мальчик, Бхагулкар, уехал с матерью. Его отец — он же организатор выставки — охотно рассказал, что сын давно занимается ранголи, что у него было несколько выставок, что юный художник уже получил признание, победив в нескольких конкурсах. Затем он достал большой альбом, начал показывать фотографии работ сына. Фотографии были черно-белые и, конечно, значительно уступали цветным оригиналам. На одной из фотографий я увидел автора — худенького черноглазого мальчугана, каких в Индии можно встретить на каждом шагу.
Мы повернулись, чтобы еще раз посмотреть на картины Бхагулкара, но их уже не было. В центре комнаты лежала большая куча грязного порошка неопределенного цвета. Возле нее суетился с веником и ведром уборщик.
...Недолговечна жизнь «насыпанных» картин. И может быть, потому так тщательно их «рисуют», чтобы они навсегда запомнились тем, кому посчастливилось их увидеть?
Г. Будай
(обратно)
Негоциация Ксенафонта Анфилатова

В 1805 году известный архангельский купец Ксенафонт Анфилатов пишет «министру коммерции» графу Н. Румянцеву следующее прошение:
«Сиятельнейший Граф Милостивый Государь Николай Петрович!
Поощряем будучи неусыпным Вашего Сиятельства о распространении Российской внешней торговли и кораблеплавания попечением, построил я в Архангельске собственно мне принадлежащих пять кораблей, которые ныне продолжают плавание только в Европейские порты.
Мое желание стремиться начать торговлю непосредственно в Северо-Американския области и доставить туда наши продукты и товары, а на против того приводить оттоле наличныя произведения на собственных Российских кораблях, куды и намерен отправить от Санкт-Петербургского и Архангельского портов из оных три корабля. Но как первый опыт сопряжен со многими излишними расходами, сверх того статься может по новости, что наши товары там, а тамошние здесь продать по необходимости должно будет в убыток, в вознаграждение чего осмеливаюсь Ваше Сиятельство покорнейше просить исходатайствовать у Его Императорского Величества Высокомонаршию милость, какую Высочайшей Воле даровать будет благоугодно.
С глубочайшим высокопочитанием и преданностью имею счастье быть Вашего Сиятельства Милостивого Государя всепокорнейший слуга Ксенафонт Анфилатова».
Это прошение имеет весьма сложную внешнеполитическую предысторию.
В 1776 году в результате борьбы американских колонистов против английского господства на политической карте мира появилось новое государство. Эта победа в значительной степени была обусловлена международным соглашением о так называемом «вооруженном нейтралитете». Заключено оно было рядом европейских стран по инициативе России. К этому договору, кроме России, примкнули Дания, Швеция, Пруссия, Португалия и германские государства.
А сущность его сводилась к провозглашению свободы торговли нейтральных стран со странами воюющими. То есть европейские державы потребовали от Англии, чтобы она отказалась от диктата на морях (в данном случае прекратила блокаду Соединенных Штатов). И правительство короля Георга III не осмелилось игнорировать этот ультиматум.
Но к концу XVIII века обстановка изменилась. Франко-американский союз канул в прошлое; в соседней Канаде стояли английские войска; господство Англии на море также было очевидным. Все это не могло не тревожить американцев. Независимость молодого государства, как говорится, «дышала на ладан», и неудивительно, что правительство Соединенных Штатов обращало свои взоры к Европе в поисках союзников или хотя бы дружественных нейтралов.
О том, какую большую роль сыграл в их судьбе пакт о «вооруженном нейтралитете», американцы не забыли. Не забыли они и того, кто был его инициатором. Вот и решили государственные мужи заокеанской республики отправить миссию в Петербург с целью установления дипломатических отношений. Послом, в Россию континентальный конгресс назначил Френсиса Дейне. Причем секретарем и переводчиком у него был Джон Адамс — будущий президент Соединенных Штатов.
Но конгрессмены не учли многого. Они назначили посла без агремана, то есть без согласия русского правительства, до установления дипломатических отношений. А главное, они не учли политические взгляды и симпатии Екатерины II. Американцы исходили из принципа: «Враг моего врага — мой друг», а конфликтные отношения между Петербургом и Лондоном были общеизвестны.
Конечно, «самодержица всероссийская» подножки зловредному премьеру Британской империи Вильяму Питту ставила с великим удовольствием. Но якшаться с мятежными подданными «государя брата своего» Георга III — это уж слишком!
Одним словом, приема у императрицы Дейне не получил и дипломатических отношений с Россией установить не смог. Однако в петербургских салонах он, судя по всему, получил достаточно теплый прием. Надо сказать, что лучшие умы России приветствовали борьбу американского народа за свою независимость, и то, что в Петербурге у Соединенных Штатов есть друзья, а следовательно, не все еще потеряно, Дейне, очевидно, уяснил. Во всяком случае, американская сторона не отказалась от попыток установить с Россией если не дипломатические, то хотя бы экономические отношения. Так, например, в качестве частного лица, но с ведома президента Джефферсона, в Россию отправился некий Джон Ледьярд. Официально миссия его имела следующую цель: достичь Камчатки, оттуда добраться до Аляски, а затем до американских владений, с тем чтобы проложить дорогу русско-американской торговле. Как следовало ожидать, экспедиция Ледьярда успеха не имела — Екатерина II повелела выдворить его из России.
Начало XIX столетия также мало способствовало налаживанию новых морских торговых путей. В жестокую схватку наполеоновской Франции с Англией было вовлечено большинство государств континента. И, как всегда бывает в подобных ситуациях, налаженные экономические связи оказались нарушенными. Каперы на морях, боевые действия на суше и, разумеется, многочисленные таможенные барьеры — все это било по карману европейских купцов, и, в частности, купцов русских. Именно поэтому Ксенафонт Анфилатов, прежде чем рискнуть отправить корабли в Америку, решил заручиться поддержкой министра коммерции.
Почему же именно с американскими купцами решил Анфилатов наладить торговлю? Да потому, что знал купец, откуда англичане получают колониальные товары. Знал он и то, что в Лондоне наживаются за счет их перепродажи русским потребителям.
Министр усмотрел в данном начинании полезное для государства предприятие и выхлопотал Анфилатову освобождение от налогов и пошлин (на один рейс), а также пособие в размере 200 тысяч рублей.
Ободренные, Анфилатов и его компаньон Иосиф Смолин принялись за дело. Было решено отправить сначала два корабля: из Петербурга в Бостон «Архистратиг Михаил» и из Архангельска в Нью-Йорк «Иоанн Креститель». На последнем в качестве каргадора (уполномоченного лица отправителя груза, для его сопровождения и продажи в пункте прибытия) отправился Иосиф Смолин.
Что отправляли за океан русские купцы, к сожалению, не установлено. В документах архангельской таможни сказано: «различные российские товары». Можно предположить, что это были железо, лен, пенька, кожа, а также готовые изделия (оружие, инструменты, канаты, ремни, фарфор и т. д.).
В конце августа или в начале сентября 1806 года (точная дата не установлена) корабли вышли в море, а уже 8 октября в Петербург с грузом американских товаров благополучно прибыл «Иоанн Креститель».
Что же касается «Архистратига Михаила», то его плаванье было не столь удачно. На обратном пути корабль дважды садился на мель в балтийских проливах, товары с него выгружались на берег, затем он ремонтировался в Копенгагене и прибыл в Ревель в конце 1806 года, имея на борту лишь часть принятого в Бостоне груза.
Вот тут-то пришлось Анфилатову побегать и покланяться. Во-первых, на «Архистратиге Михаиле» оказались запрещенные к ввозу товары. Во-вторых, часть груза была оставлена в Швеции, и в связи с начавшейся русско-шведской войной о его получении нечего было и думать. Только после заключения мирного договора в 1809 году такая возможность появилась. Но неприятности Анфилатова на этом не кончились: когда корабль прибыл наконец из Швеции, он был задержан в Архангельске таможенными крючкотворами.
Анфилатов метался из Петербурга в Архангельск и обратно, писал прошения в Коммерц-коллегию. Лишь к июню 1809 года все товары были доставлены в пакгаузы.
Какой же был коммерческий итог первой русской торговой экспедиции в Соединенные Штаты?
Надо сказать, что точный ответ на этот вопрос получить трудно. По исчислению таможни прибыль превышала миллион рублей. Сам же Анфилатов утверждал, что чистая прибыль составляла 150 тысяч рублей, ибо продажная цена некоторых товаров была завышена таможенными чиновниками, а главное, непредвиденные расходы поглотили значительную часть суммы, вырученной от продажи американских товаров. Перечень их сохранился в таможенных документах: гвоздика, гвоздичная головка, мускатный орех, перец, имбирь, какао, каролинское пшено (видимо, кукуруза), сахарный песок, сандал, брусковая краска, индиго, лавр, корица, красное дерево, кофе, ром и шоколад.
Кроме того, были доставлены запрещенные к ввозу товары: пиво, ликеры, ананасы и отофиты (?), которые благодаря хлопотам Анфилатова в виде исключения были разрешены к продаже.
О том, каким образом они оказались на борту анфилатовских кораблей, можно только догадываться. То ли американцы были застигнуты врасплох русской экспедицией и не знали, чем расплачиваться, то ли языковой барьер породил конфузные ошибки при переговорах.
Ясно лишь то, что американские бизнесмены имели слабое представление о русском рынке, а каргадор Анфилатова оказался не на высоте положения. Подумать только, он тащил через два океана пиво и ликеры, запрещенные к ввозу, и не удосужился закупить хлопок, ставший к тому времени традиционным предметом русского импорта. Впрочем, даже с учетом всех этих ошибок и затрат можно констатировать, что предприятие оказалось удачным. Примечательно, что американские купцы быстро среагировали на русскую инициативу. К 1811 году они уже имели в Архангельске две торговые конторы, и их успешная деятельность (наряду с анфилатовской экспедицией) проложила дорогу дипломатам: в 1809 году между Соединенными Штатами и Россией были установлены дипломатические отношения, а в 1832 году был подписан торговый договор.
«Благодаря либеральным условиям этого договора, — отмечал через год президент США Э. Джексон, — между Россией и США развивается, процветает и увеличивается торговля, что, в свою очередь, придает новые мотивы той взаимной дружбе, которую обе стороны до сих пор питали в отношении друг друга».
...Успех первой экспедиции побудил Ксенафонта Анфилатова повторить вояж через Атлантику. 10 сентября 1809 года из Архангельска в Америку отправился третий анфилатовский корабль «Ксенафонт». Увы, из плаванья он не вернулся. Ураган или пушки капера отправили его на дно океана — неизвестно.
М. Чекуров
(обратно)
Жатва в океане
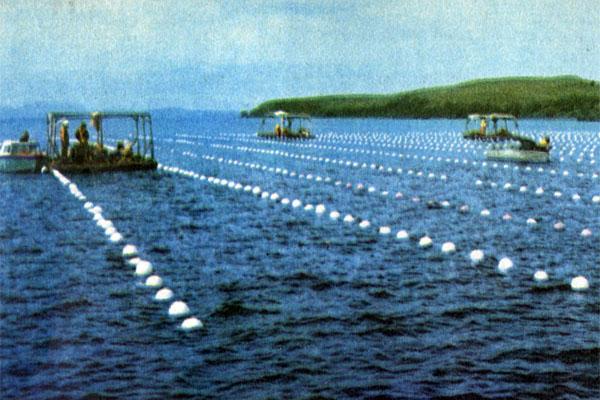 «Иваси — рыба неверная...»
«Иваси — рыба неверная...»
Лет 40—50 назад моря Дальнего Востока охватил грандиозный ивасевый бум. Каждое лето несчетные косяки тихоокеанской сардины-иваси поднимались на север, в места нагула, заполняя воды залива Петра Великого и Татарского пролива. Миллионы тонн этой вкуснейшей рыбы — львиная доля мирового улова — оставались в сетях японских, советских и корейских рыбаков.
И вдруг промысел постигла катастрофа. В 1942 году он уменьшился в десятки раз. Затем иваси исчезла практически совсем. Остановились консервные заводы.
«Иваси — рыба неверная, — говорил старый-старый кореец. — Мой дед ел эту рыбу... Мой отец, который прожил больше меня, ловил иваси, когда ему было тридцать и сорок лет, а потом ее не было. Я прожил чуть не век. Когда мне было восемнадцать, я ее тоже ловил. Потом она исчезла... Камбала, минтай — верные рыбы, иваси — неверная».
Этот рассказ приводит дальневосточный океанограф Г. Бирюлин. И действительно, корейские хроники свидетельствуют: на смену уловным, «жирным» ивасевым временам не раз приходили «тощие», а то и совсем пустые. Но отчего, почему?
— В конце 30-х годов в Японском море наступило похолодание, — объясняли ученые. — А иваси рыба субтропическая, ей нужна теплая вода. Теперь же, — продолжали они в начале 50-х годов, — ожидается потепление. Ждите повторения ивасевого бума.
Но рыба не пришла ни через десять, ни через тридцать лет после внезапного исчезновения. Правда, ей на смену явилась холодолюбивая скумбрия. «В чем причина?» — вопрошали рыбаки. Ученые только поднимали очи горе: говорили о действии космических факторов — лунных циклов, пятен на солнце. Но эти объяснения, граничившие с астрологическими предсказаниями, мало трогали сердца.
Был, однако, и такой прогноз. В конце 30-х годов японский ихтиолог М. Уда заявил: иваси скоро исчезнет. Свой вывод он сделал, изучая места ее Нерестилищ. Но голос ученого остался гласом вопиющего в пустыне: никто не пожелал услышать его в пору бума. Коллеги просто не разделяли мнения Уды, а рыбопромышленники недвусмысленно намекнули, чтобы он не мешал их бизнесу.
О прогнозе вспомнили, когда беда разразилась. Тогда рыбаки сами обратились к ученому с вопросом: «Когда возвратятся иваси?» Уда ответил: «В середине 80-х годов». Но коллеги ученого снова остались при своем мнении — слишком много неясного было в механизме его прогноза. Но с японским ученым согласилась... рыба. Вот уже несколько лет уловы иваси на Дальнем Востоке растут. «Дальрыба» готовит флот, завозит сети в ожидании нового ивасевого бума.
И все-таки исчезновение иваси остается загадкой. Впрочем, так же как и ее возвращение. Наука пока еще очень мало знает о жизни, которая вершится за береговой чертой. «Я кажусь себе мальчиком, играющим на берегу, в то время как неизмеримый океан истины расстилается перед моим взором». Эти слова приписывают И. Ньютону и относят их к науке. Однако то же самое даже сегодня можно сказать и о самом океане, о его жизнедеятельности.
Вот в дополнение к случаю с иваси еще одна загадка. На рубеже XX века кальмары буквально наводнили Ла-Манш. Их было так много, что когда они, так же неожиданно, как и появились, вымерли, то на вывоз их выброшенных на берег останков было мобилизовано окрестное население. А ведь кальмары в этих краях обычно встречаются редко.
Другой пример. В 1932 году несметные косяки сельди заполонили море у мурманского побережья. Жители просто запирали ее сетями в заливах и уже оттуда черпали. Впрочем, нечто подобное не раз сличалось и на Дальнем Востоке. Но отчего и почему это происходило, на это нет пока исчерпывающего ответа: люди наблюдают финал драмы, действие которой происходит вдали и на глубине.
Ихтиолог, правда, скажет, что все это местные, локальные вспышки, вернее, всполохи жизни, по которым нельзя судить о биомассе океана. Но чем вызваны эти вспышки? О чем они говорят? Что управляет поведением тех же иваси?
«Рыба ищет, где глубже...
...а человек — где рыба». Эту нехитрую присказку нельзя понимать буквально. Те несколько десятков видов рыб, которые являются предметом промысла, приходят нагуливаться на мелководье, где их уже поджидают рыболовные флотилии. Скопление судов на таких банках огромное. Моряки шутят: стоит обронить там утром часы, как к вечеру их непременно кто-нибудь выловит.
Мировое рыболовство все еще в основном толчется на шельфах. Здесь, на мелководьях, составляющих не более одной десятой площади океана, добывается девять десятых мирового улова рыбы.
Всего лет десять назад поисковые корабли открыли богатые рыбой места не на шельфе — в открытом море, на склоне Курило-Камчатской впадины. Затем советские океанологи обнаружили и исследовали сообщества ставрид, снетка, морских карасей в южной части Тихого океана. И даже за тысячи километров от берегов, на возвышенностях подводных хребтов, открыты крупные скопления рыб.
Советский Союз — великая морская держава. Наши рыбаки освоили промысловые районы в различных уголках планеты. Вообще сейчас не сыскать такого богатого участка Мирового океана, где не ловили бы флотилии самых различных стран. Расширилась география промысла, увеличились объемы, но и на этом фоне наши дальневосточные моря остаются важнейшим рыбным районом — здесь вылавливается около трети всей добываемой нами продукции моря. Вернее сказать, «производится», так как в некоторых районах рыболовство напоминает заводской конвейер.
...Лето. Остров Шикотан. В море, насколько хватает глаз, рыболовные суда. Путина. ТИНРО (1 Тихоокеанский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.) сообщил: подходит сайра. Ночь. Над водой опускаются яркие люстры — их свет привлекает рыбу. Здесь ее берут сетями, качают насосами. Один из способов лова так и называется «черпающим».
Пожалуй, самое главное в этом «производстве», чтобы вовремя и в большом количестве подходила живая «продукция» — рыба. И рыбаки задолго должны знать, когда и сколько придет сайры — ведь к ее приему нужно приготовить и корабли, и консервные заводы. А уловы ее могут колебаться в огромных пределах — то уменьшаться, то увеличиваться в десятки и даже сотни раз. Сайра, так же как сардина и скумбрия, из-за своей плодовитости способна вынести большой «промышленный пресс», поскольку мало реагирует на перелов. Но даже и здесь можно сказать то же, что было сказано об иваси: «Сайра и скумбрия — рыбы неверные».
В 1972 году наш Дальний Восток переживал «скумбриевый бум»: полки в магазинах ломились от этой рыбы, мировые уловы ее достигали почти миллиона тонн. И вдруг сотрудник ТИНРО А. С. Соколовский выдает прогноз: «Скумбрия пошла на убыль, вылов ее на следующий год нужно резко уменьшить». Трест «Дальрыба» игнорировал предупреждение ученого: план 1973 года был принят таким же, как в урожайном 1972-м. Но его опротестовала... скумбрия. На Дальний Восток выехала комиссия министерства: прогноз ТИНРО был признан верным.
Говорят, на ошибках учатся. К сожалению, это не всегда так. Похоже, тридцать лет спустя — пусть и не в таких масштабах — повторилась «ивасевая история». И все-таки вся эта история не прошла бесследно. Промышленность убедилась в важности прогнозов, ученые же поняли: чтобы предсказать ситуацию путины, мало наблюдать рыбу лишь в местах ее нагула.
...Район Тихого океана к югу от острова Хонсю. Здесь, между берегом и теплыми струями течения Куро-Сиво, нерестится та самая популяция скумбрии, которую ловят у Курильских островов. Изучая в этом месте рыбу, А. С. Соколовский как раз и сделал прогноз на 1973 год, о котором рассказано выше.
Ученый показал, что ситуация на нерестилище зависит от меандрирования, то есть изгибания струй теплого течения Куро-Сиво. Меандр Куро-Сиво дает начало цепной реакции событий. Обычно вскоре у берега появляется завихрение, перемешивает воду, поднимая из глубин богатые пищей холодные воды — а ведь скумбрия холодолюбивая рыба. К тому же на нерестилище образуется круговорот, который удерживает икру и мальков от выноса их в море. Рыба становится «оседлой». Созревает многочисленное крепкое поколение скумбрии. Через несколько лет (при прочих благоприятных условиях) можно ждать хорошей путины.
Как мы видим, очень многое зависит от режима Куро-Сиво. Профессор А. М. Баталии писал, что меандры течения — зарница грозы, разразившейся на просторах Тихого океана. Но причины этого грандиозного явления науке пока неизвестны. А без их раскрытия трудно создать долговременный прогноз для многих тихоокеанских рыб. Правда, биологи и здесь находят выход. Они пользуются своими, биологическими индикаторами, считая, что тепло- и холодолюбивые рыбы должны «находиться в противофазе»: годы, неурожайные по сардине и сайре, должны быть благоприятны для анчоуса и скумбрии. Должны, но бывают, увы, не всегда. И хотя ученые добились немалых успехов в прогнозировании численности рыб, все-таки промышленность оказывается нередко в зависимости от неуправляемых и пока непредвиденных стихийных явлений в морях и океанах.
От прогноза — к управлению
Ученый, берущийся за нелегкое дело прогнозирования «рыбной ситуации», сразу попадает в океан проблем — биологических, океанографических, даже космических. А предсказать судьбу того или иного стада нужно точно. Промысловиков мало волнует, что наука чего-то не знает, — должна знать... Но в последние годы и одного прогнозирования уже недостаточно.
На просторах одного из самых рыбных водоемов — Охотского моря — живет стадо охотоморской сельди. В то время как атлантическая селедка дает уже не столь большие, как некогда, уловы, а на лов некоторых стад тихоокеанской сельди наложен временный запрет, их охотоморская родня до последнего времени процветала (1 Сейчас лов этой рыбы также временно прекращен.). К тому же эта рыба наше национальное богатство, в самую лютую зиму она не уходит за шельфы. Ее можно было бы сравнить со стадом домашних животных, если бы руку к ее приручению приложил человек.
Рыба эта нерестится у берегов Охотского моря, от Аяна до Магадана. Есть у нее облюбованные места, где она откладывает липкую свою икру на прибрежные водоросли и камни. Но вот беда, в мае и июне, когда она идет на нерест, в Охотском море не совсем сходят льды. Нередко они оттесняют рыбу от берега, не дают отнереститься.
Знаток этой сельди сотрудник ТИНРО Б. В. Тюрнин прогнозирует численность сельди с учетом ледовой обстановки. Но сейчас, считает он, этого мало. А почему бы не отсыпать у берега искусственный риф, преградить путь льдам и защитить тем самым нерестилище?.. Создать сельдевое хозяйство? Нет, в малонаселенном Охотском море это задача не нашего века. Другое дело — защитить продуктивное стадо.
Раньше из морей только черпали. Думали: рыба — дар природы. Оказалось, не дар, а заем. И наступает срок платежа. Четверть века назад Япония вела в Тихом океане безудержный лов лососей. Рыба эта нерестится в основном в наших дальневосточных реках, но японцы перекрыли пути ее миграции. И уловы лососей стали катастрофически падать.
Двадцать лет назад разум возобладал, и была заключена советско-японская рыболовная конвенция, которая устанавливает ежегодно, сколько лососей может изымать Япония и сколько СССР. Численность красной рыбы предполагается поддерживать на оптимальном уровне.
Здесь требуется не только строительство рыбоводных заводов (а они уже действуют на Курильских островах, на Сахалине и в Японии), необходимо найти нужную пропорцию между естественным и искусственным разведением лососей. Все взвалить на плечи природы нельзя; много икры и молоди гибнет в реках Дальнего Востока от морозов, при возросших выловах уровень морских стад они не поддержат. Заводы дают численность, из их «инкубаторов» скатываются в моря прямо-таки миллиарды мальков. И хотя обратно, на нерест, приходят всего лишь несколько процентов красной рыбы, экономически рыборазведение весьма выгодно: один рубль, вложенный на разведение горбуши, оборачивается одиннадцатью рублями прибыли!
А минусы? Главный из них, пожалуй, один: ухудшается качество лососевых стад. Ведь икру берут у тех рыб, которые успели дозреть на подходе к реке. Потомство же дают только быстросозревающие лососи. На первый взгляд хорошо, от них скорее, можно получить икру. Но такая рыба идет на нерест, как говорят, «в брачном наряде», мясо ее невкусное — такова уж природа лососей, здесь качественны либо мясо, либо икра.
Но и это не все: как показал в своих исследованиях директор ТИНРО лауреат премии Ленинского комсомола С. М. Коновалов, стадо, идущее на нерест, не является в генетическом отношении однотипным: есть в нем холодолюбивые рыбы и теплолюбивые. А на заводе отсекают одну часть стада, и только она дает потомство. Разумеется, генофонд обедняется, и, к примеру, теплолюбивые лососи уже не столь успешно могут отстоять свою экологическую нишу от врагов.
Коновалов предлагает брать на заводах икру равномерно из головы, середины и хвоста лососевого стада. А это требует дополнительных усилий: генетически разные рыбы внешне почти не отличаются друг от друга.
Разведение лососей на рыбозаводах можно сравнить с отгонным скотоводством: и здесь и там животных выращивают, а затем отправляют на откорм. Только превратности океана много опасней, чем условия высокогорных пастбищ или степи. Но ведь и среди рыб можно отобрать более «урожайные» виды. Так, заместитель директора Сахалинского отделения ТИНРО Ф. Н. Рухлов предлагает наряду с кетой и горбушей разводить также и другую красную рыбу — сима и кижуча. В последнем случае возврат оказывается примерно в десять раз больше, чем в первом (правда, при этом растут и расходы). И вообще нужна мощная, индустриальная биотехника, позволяющая выпускать в океан не беззащитных мальков, а умеющую постоять за себя крупную рыбу.
 Марекультура: первые шаги
Марекультура: первые шаги
Осваивая «голубую ниву», современный человек как бы повторяет путь, пройденный его предками при освоении суши. Вначале собирательство (на земле — коренья, ягоды, в море — моллюски), потом дикая охота (ей примерно соответствует нынешнее рыболовство, бой китов), скотоводство (в чем-то его напоминает рыборазведение) и, наконец, земледелие. К этому этапу освоения богатств моря мы подошли только в последние годы.
С 1957 года некоторые места на Дальнем Востоке стали регулярно засевать водорослью анфельцией. Затем создали подводное опытное хозяйство вблизи Одессы: здесь дно лимана расчистили от камня, возделали, засеяли, удобрили, и вот результат — за одно лето сняли 15 урожаев этой водоросли!
В 1969 году была основана первая в стране морская рыботовар-ная ферма на Азовском море, которая недолго оставалась в тех краях единственной. Это и понятно, ведь с одного гектара удавалось получить от 700 до 1250 центнеров рыбы!
Однако особого размаха эта отрасль (ее называют марекуль-турой или, по аналогии с земледелием, моределием) набирает на Дальнем Востоке. Так, в Японии, в городе Такамацу, с одного гектара «морского огорода» было выловлено более ста тонн такого деликатеса, как гигантский омар.
У «ас в Приморье, в заливе Посьет, работает первое опытно-промышленное хозяйство по разведению морского гребешка. А на острове Попова, в единственном месте, где ведется лов трепанга — этого «морского женьшеня», — уже приступают к его искусственному разведению.
Моределие — отрасль исключительно перспективная. Так, подсчитано, что урожая подводных ферм с территории, равной небольшой провинции Италии, вполне достаточно, чтобы накормить население этой страны. Мелководий же и шельфов на Земле настолько много, что, если собрать их вместе, получился бы подводный континент, равный по площади Европе. Собрать нельзя, а использовать можно. Нужны средства, и они есть: если вложить в моределие столько долларов, во сколько обошелся США ее военный флот, то океан мог бы прокормить двадцать миллиардов людей — втрое больше, чем их будет на планете к концу этого века.
Александр Харьковский, наш спец. корр.
(обратно)
Крокодилы любят алмазы

В очерке «Крокодилы любят алмазы» речь идет об одном из древних религиозных культов африканцев — тайных союзах «людей-крокодилов», «леопардов», «львов», «гепардов», до недавнего времени существовавших в некоторых странах Тропической Африки. Для одних стран эти хорошо известные ученым-этнографам древние верования джунглей — вчерашний день, для других — в силу неравномерности исторического развития и недавнего господства колонизаторов — это живая и злободневная реальность, не потерявшая своего значения и поныне.
Совсем еще недавно, на жизни нашего поколения, «просвещенные» европейцы не гнушались — когда это было выгодно — использовать для поддержания своего политического господства, для наживы самые дремучие суеверия африканцев. А когда древние верования и суеверия начали отходить в прошлое, их пытались сознательно сохранить, а то и оживить. Так, в 60-х годах в Южно-Африканской Республике агенты Особой полицейской службы расправились с политическим лидером Пондоленда (область в ЮАР, населенная пастухами и земледельцами племени пондо) Кумани Ганииле Андерсоном и его тремя товарищами. Вину же за убийство свалили на африканцсв, их религиозные верования, межплеменную вражду и рознь. «Произошло обыкновенное негритянское ритуальное убийство, полиция не имеет права вмешиваться в дела самоуправляющегося бантустана», — заявило при этом в печати правительство ЮАР.
Совсем недавно президент Народной Республики Мозамбик Самора Машел говорил об огромном вреде, наносимом революционной борьбе африканских народов пережитками и суевериями, которые сознательно поддерживали белые колонизаторы, а кое-где и сейчас сохраняет местная племенная верхушка. Различные обряды, например посвящения в члены племени, имеют своей целью якобы «приобщение молодежи к племенным традициям». На самом же деле все это разрушает творческую инициативу молодежи, ставит на первое место трайбалистские — узкоплеменные интересы. Бороться с племенным сепаратизмом, «этим гниющим продуктом векового иностранного господства в Африке», — призывал С. Машел, — искоренять предрассудки и невежество — значит нанести самый сильный удар по остаткам колониализма на Черном континенте.
Г. Е. Марков, профессор, доктор исторических наук
В один из ноябрьских дней 1958 года тяжело раненный конголезец с трудом дотащился до полицейского поста Понтьевиль, расположенного в двадцати четырех километрах к югу от знаменитых водопадов Стэнли.
Раненый оказался полицейским капралом Жаном-Мари Катуба. Он рассказал доктору Летуру, осмотревшему его, необычную историю. В то время когда Катуба вместе с другим полицейским-пограничником патрулировал в небольшой лодке вдоль берега Луалабы близ селения племени панамолей, на них набросились разъяренные крокодилы. Хищники опрокинули посудину и утащили его товарища на дно. Сам Катуба с трудом добрался до берега, но при этом был изранен крокодилами...
Рассказ пострадавшего мог показаться вполне правдоподобным — такие случаи нередко происходят на африканских тропических реках, но... доктор Летур после осмотра капрала заявил, что такие раны — глубокие и с ровными краями — не мог оставить ни один из известных видов крокодилов. А перед смертью капрал Катуба заявил капитану Питеру Санну, начальнику полиции района, нечто совершенно фантастическое: «Крокодилы были вооружены ножами...»
Комиссар района Бриссар немедленно телеграфировал в Леопольдвиль, в министерство внутренних дел. В сообщении говорилось, что по всем признакам произошло очередное ритуальное убийство, совершенное, судя по всему, членами хорошо известного в крае и во всей Западной Африке тайного общества «людей-крокодилов». Бриссар просил также, чтобы к нему направили опытных детективов, желательно — хороших охотников-следопытов, знающих джунгли. Из министерства вскоре ответили, что такой человек — сержант Люсьен Гваккве — направляется в его распоряжение.
...Люсьен Гванкве, крепкого сложения мужчина лет тридцати пяти, с очень черной кожей, прибыл в провинциальный городок Понтьевиль на следующий же день. Его доставил специально выделенный гидросамолет, что одно уже говорило о важности миссии Гванкве и не могло остаться незамеченным...
Сразу же было проведено оперативное совещание. Первым Делом комиссар спросил у Гванкве, бывал ли он раньше в этих краях и знает ли он Питера Верлоя и его жену Жанну, вот уже несколько лет живущих здесь. Гванкве ответил отрицательно,
— Превосходно, вы тот самый человек, который нам необходим, — заявил Бриссар, обменявшись понимающим взглядом с капитаном Санном. Затем пояснил: — Верлой — бельгиец, он разрабатывает небольшое месторождение алмазов. Как раз в этом районе было совершено нападение на полицейский патруль. Дело в том, — Бриссар вопросительно посмотрел в сторону Санна, — что из компетентных источников стало известно, будто бы Верлой скупает у шахтеров-африканцев краденые алмазы, которые добываются на соседних разработках горнодобывающего синдиката...
Сержант недоумевающе посмотрел на Бриссара:
— При чем здесь я? Министерство просило меня заняться изуверами из общества «людей-крокодилов», поскольку у меня есть опыт работы с подобным союзом «людей-гепардов»... Какая связь между контрабандой алмазов и фанатиками, которые верят в то, что могут обращаться в крокодилов и гепардов, или, по крайней мере, заставляют верить в это темных и запуганных крестьян? И потом... следить за тем, куда уходят ворованные камни, — дело «алмазной полиции», я же не состою на службе у синдиката...
Бриссар вновь бросил взгляд в сторону капитана, как бы испрашивая согласия (Санн кивнул), и со вздохом облегчения произнес:
— Видите ли, у нас есть сильные подозрения, что эти два дела — крокодилы и алмазы — связаны между собой. Нам кажется, что за всеми событиями стоят Верлой и его супруга. К сожалению, капитан Санн и его люди, как и служащие «алмазной полиции», слишком хорошо известны в районе, чтобы незаметно вести расследование. Поэтому мы и просили прислать сюда вас. Кстати, алмазный синдикат назначил особое и довольно высокое вознаграждение за расследование утечки алмазов... Ведь преступники охотятся не за промышленными камнями, а за алмазами высшего сорта, будущими бриллиантами. Они не только украдены у синдиката, но и подрывают твердые цены на алмазы нашего и других синдикатов...
— Учтите, сержант, — добавил капитан Санн, — дело это необычайно опасное, и основная тяжесть его раскрытия ложится на ваши плечи... Таким образом, об операции знает совсем небольшой круг людей, и это гарантирует вам безопасность... на первое время. Мы же будем начеку и мгновенно придем на помощь, как и «алмазная полиция», с которой у меня самые тесные связи...
...«Люди-крокодилы», «гепарды», «львы», «леопарды», «гиены»... Люсьен многое узнал о тайных союзах Африки, когда занимался «людьми-гепардами». Когда-то и его предки свято верили в то, что члены этих тайных обществ способны принимать облик животного, которому поклонялись и в котором видели священный символ своего союза. От матери и ее родственников Гванкве часто приходилось слышать, как в ночи происходит загадочное перевоплощение человека в зверя. Ученые-этнологи и врачи-психиатры, исследовавшие столь странный феномен, назвали подобное психическое состояние человека ликантропией — коротким помешательством, основанным на самовнушении. Участник обряда воображал себя животным и абсолютно точно копировал его повадки. Даже внешне в этот момент он становился чем-то похожим на леопарда, льва или крокодила. Верили люди, что и сам священный покровитель — крокодил, лев и гепард — мог принять человеческий облик. Делал он это, чтобы карать тех, кто нарушает племенные обычаи и верования или недоволен властью старейшин.
Район на побережье Атлантического океана, откуда была родом мать Люсьена Гванкве, некогда приобрел мрачную известность на всем Африканском континенте и как центр работорговли, и как «страна леопардов». И не потому, что здесь в изобилии встречались эти грозные хищники — их хватало и в других районах Африки, — а потому, что именно здесь процветали тайные союзы и самый известный из них — «мамбела» — союз «людей-леопардов», террористическая секта зверопоклонников. Они смещали и уничтожали вождей племен, возводили на престолы правителей со «знаками агассу» (насечками когтей леопардов) на лице, руководили жизнью всей страны, наверное, как нигде в Африке. И очень редко бывало, чтобы какой-либо вождь осмеливался не выполнить тайные, не подлежащие критике приказы «леопардов». При этом никто не знал участников ночных набегов, прятавшихся под скальпом и шкурой леопарда, вооруженных железными отточенными когтями. Эти приспособления Гванкве не раз приходилось видеть в криминалистическом музее; ржавые, острые и изогнутые, они действительно внушали ужас.
Вступившие в тайный союз давали «клятву крови»: не разглашать секреты союза даже под пыткой — иначе они сами и члены их семей будут растерзаны зверем-покровителем. Трудно сказать, в какие незапамятные времена и при каких обстоятельствах возникли эти организации. Их истоки теряются в охотничьей древности континента, в тотемистических культах хищных животных.
...Знатоки африканских племенных религий спорили: можно ли считать тайные союзы (а они, по их мнению, делились на «нормальные», или легальные, и запрещенные, или террористические) видом первобытной религии или же это одна из форм общественной организации, орудие господства в руках верхушки общества накануне раскола его на классы? Возникшие некогда для борьбы с матриархатом, они способствовали укреплению власти отцовского рода, наиболее сильных элементов общины — совета старейшин, вождей и колдунов. По сути своей тайные союзы — одна из форм примитивной государственной власти в первобытном обществе, когда разлагается общиннородовой строй.
Капитан Санн прикрепил к Люсьену Гванкве на время операции капрала Таши из племени мангбетту. Таши в отличие от горожанина Гванкве родился и вырос в деревне, затерянной в лесу, в тех местах, где царили «люди-леопарды». Он знал такие детали, о которых не имели понятия авторы ученых трудов, полагавшиеся на рассказы третьих лиц.
В некоторых тайных союзах при нападении на жертвы, рассказывал он, используют специально выкованные когти из пористого металла, которые на несколько суток помещают в яд. «Зарядившийся» металл мгновенно парализует человека. Таши кое-что знал и о «союзе крови» между членами тайного общества. По его словам выходило (и Таши, видимо, в глубине души сам верил в это), что, если кто нарушит «клятву крови», его непременно постигнет безумие.
И о колдунах знал Таши.
Превращаясь в хищника (для этого-то колдун и набрасывает на себя шкуру зверя, в которого хочет обратиться), оборотень темными безлунными ночами якобы крадет жизненную силу у своих жертв. Затем, когда приговоренный человек умирает, колдун выкапывает труп из земли, оживляет его, делая «зомби» — ожившим мертвецом. И уже тут во второй раз убивает и поедает его тело. Иногда же колдун превращает «зомби» в своего покорного слугу и приказывает ему идти туда, куда пожелает хозяин, и совершить какое-нибудь особо страшное преступление.
Оборотней и колдунов можно распознать по красным глазам, серой или даже белой коже, пронзительному огненному взгляду, которым они поражают внутренности обреченных людей. Оборотнями считают уродов, паралитиков, психопатов, альбиносов, прокаженных, страшных старух и стариков. В общем, всех тех, кто как-то отходит от общепринятых стандартов и представлений о нормальном здоровом человеке...
...Спустя несколько дней, облаченные в спецовки, которые здесь носят рабочие алмазного синдиката, в пыльной и грязной рудничной вагонетке, которую тащил шахтный локомотив, Гванкве и Таши были доставлены на берег реки, протекающей вблизи алмазного рудничка Верлоя. Они разбили свой лагерь на берегу реки и стали довольно натурально исполнять роль топографа и его помощника. События не заставили себя ждать...
Рано утром Гванкве и Таши отправились в соседнее селение племени базуа. Спустившись к реке, они увидели множество детей и подростков. Ребятишки, вытянувшись бесконечной цепочкой, подходили к каменным кучам, насыпали доверху корзины и на головах тащили груз к берегу. Стоя по пояс в воде, взрослые рабочие просеивали сквозь частые решета и сита содержимое корзин. Так разрабатываются на реках открытые россыпи. Там, где алмазоносные породы уходили в глубь земли, возвышались копры и шахтные строения, окруженные колючей проволокой с вышками для часовых.
Гванкве и Таши переглянулись: алмазы всегда будут пропадать у синдиката, и никакая «алмазная полиция» не уследит за исчезновением. Ведь, продав краденый камень какому-нибудь Верлою, — пусть он обсчитает в десятки раз! — шахтер сразу зарабатывал куда больше, чем за год работы.
Гванкве и Таши вошли в заросли рододендронов, что начинались в миле от селения базуа, все жители которого от мала до велика работали на синдикат. Неожиданно Таити вздрогнул: метрах в ста от них кружились стервятники. Вестники смерти! Гванкве первым ринулся в заросли и через минуту-другую действительно наткнулся на труп: судя по племенным насечкам на лице, человек был из племени базуа...
Сорокалетнего мужчину убили совсем недавно, возможно, этой ночью. Тело было вспорото от горла до середины живота острым, как бритва, ножом, а сердце и печень вырезаны.
Капрал Таши первым отвел взгляд от убитого:
— Я пойду за старостой деревни, нужно опознать труп...
Сержант остановил его.
— С опознанием можно подождать. Полезнее будет, если мы пойдем по следам сейчас же, пока они свежие. К тому же труп может исчезнуть каждую минуту...
Таши был из племени мангбетту, а, как известно, мангбетту — отличные следопыты. Да и Гванкве не зря имел репутацию «детектива джунглей». Вскоре они обнаружили в сухой, едва примятой траве следы босых ног. Внимательно осмотрев окрестности, оба поняли, что жертву ожидало в зарослях человек пять-шесть. Следопыты пошли по следам убитого: они вели прямо к владениям Питера Верлоя.
— Убитый был основательно пьян, — заметил Таши, рассматривая неровные следы. — А здесь он упал и едва поднялся, обломав ветки.
— Действительно, — согласился Гванкве и поднял из травы пустую бутылку из-под джина. Стараясь не стереть отпечатков пальцев, сержант поднес горлышко бутылки к носу:
— Несчастный был не только пьян, его смертельно отравили. Метиловый спирт... Интересно, где он раздобыл эту гадость?
— Базуа мог получить спирт только у белого, — не колеблясь, сказал Таши.
Оба, не сговариваясь, посмотрели в сторону рудничка Верлоя. Там царила тишина. Лишь на мгновение сержанту почудилось скрытое движение да ярко сверкнул лучик света.
Гванкве размышлял недолго. Бутылка, которая могла оказаться важным вещественным доказательством, сейчас пока еще ничего не давала. Убийцы могли случайно встретиться с пьяным базуа, невесть где доставшим отраву, и, воспользовавшись его состоянием, свести с ним личные счеты.
...Начальник охраны синдиката поворошил бумаги на столе.
— Вчера пропал наш горняк из племени базуа, — произнес он. — Его звали Н"ама... Где его тело?
— Мы закопали его в миле отсюда. Судя по жестокости, с которой он был убит, можно предположить, что преступление совершено «крокодилами»... Как вы думаете, мог он выносить алмазы из рудника? Ведь он нуждался, как и все ваши шахтеры?
Начальник охраны пожал плечами.
— Не могу утверждать. Знаю, что, несмотря на все наши старания, у нас крадут алмазы, и мы не можем быть уверенными ни в одном человеке. Прежде чем выйти отсюда, каждый из них подвергается тщательному осмотру: проверяем даже свежие раны, в которые можно запрятать алмаз. Держим еще осведомителей, специальную аппаратуру, слабительное, если алмаз проглочен! И все же некоторые, порой весьма крупные камни уплывают из наших рук. К кому? Об этом можно только догадываться... Во всяком случае, вот уже несколько лет наши алмазы регулярно появляются на черных рынках Европы и Африки. Однако самое странное обстоятельство во всех последних преступлениях — я имею в виду «крокодилов» — то, что все их жертвы — горняки нашего синдиката.
— А что вы думаете относительно Верлоя? — перебил его Гванкве. — К чему ему-то убивать шахтеров? Или он ликвидирует несговорчивых, посвященных в его дела больше, чем хотел бы?.. Мне совершенно «неясно, зачем он убивает тех, кто работает на него! И при чем здесь изуверы из общества «крокодилов»?
Лицо начальника омрачилось.
— Я мог бы поклясться, что так оно и есть. Но ничем не мог^ этого доказать, так же как и вы. Одно несомненно: горняков умерщвляют эти... «крокодилы», а не сам Верлой. Если мы явимся к нему с обыском и наложим арест на найденные алмазы, он просто-напросто заявит, что они добыты на его руднике, где действительно изредка встречаются вкрапления алмазоносной глины. Вероятно, его рудник давно уже стал нерентабельным, и он ведет работы, чтобы только прикрыть свою истинную деятельность. Он наотрез отказывается продать рудничок компании. Как бы там ни было, но на его шахтенке добыто несколько крупных алмазов... поразительно похожих на наши.
...Вечером того же дня, часов в десять, Люсьен Гванкве поднялся с постели, засунул за пояс под рубашку револьвер, но затем, поколебавшись, вынул его и вышел к костру перед хижиной.
— Таши, я постараюсь подобраться к дому Верлоя и посмотреть, что там происходит, — сказал он капралу. — Думаю, будет лучше, если отправлюсь туда один и без оружия... Будь начеку. Запомни: «крокодилы» не какие-то там загадочные существа или духи предков. Это обычные люди, но только более хитрые, изворотливые и злые... Поэтому, если потребуется, стреляй не мешкая!
Бунгало Верлоя находилось приблизительно в трех милях от лагеря «топографов». Призрачного света луны было вполне достаточно, чтобы Гванкве без труда нашел дорогу в зарослях без электрического фонарика. Он спрятался среди деревьев у дома и подождал, пока не погасли последние огни в бунгало. Тогда он осторожно приблизился к небольшому сарайчику, крытому волнистым шифером, — конторе или складу. Проникнуть в сарайчик не составило особого труда, замок оказался самой простой конструкции.
В течение нескольких минут Гванкве обследовал сарай. Это действительно был склад товаров. И здесь сержанту удалось найти то, что он искал: бидон емкостью в двадцать литров, воронку и десятки бутылок из-под джина. Люсьен осторожно открыл бидон, понюхал — метиловый спирт.
На бутылках, стоявших в углу сарая, те же самые этикетки, что и на посудине, найденной у тела убитого базуа. Суть преступления стала понемногу вырисовываться...
...За краденные у синдиката алмазы Верлой расплачивался своими товарами и метиловым спиртом, который выдавал за джин. И «крокодилам» — по всей вероятности, его сообщникам — оставалось лишь подождать жертву в засаде, обессиленную, слепую, поскольку метиловый спирт в первую очередь поражает зрение.
Уродуя труп, преступники создавали видимость ритуального убийства, совершенного при исполнении магических обрядов тайного союза «людей-крокодилов». А на ритуальное убийство колониальные власти, как это знал сержант Гванкве, мало обращали внимание, предпочитая не вмешиваться во «внутренние дела туземцев». Таким образом, горняки, поставлявшие краденые алмазы, были поистине обречены на «гробовое молчание». И никто бы не узнал о делишках Верлоя, если бы «крокодилы» случайно не напали на представителей власти.
...Сержант положил фонарик на один из ящиков, вставил воронку в горлышко бутылки и осторожно, стараясь не пролить ни капли, наполнил ее из бидона ядовитой пахучей жидкостью. Прекрасное вещественное доказательство истинной деятельности преступной фирмы «Крокодилы и Верлой»! Завтра полиция явится с обыском, и бельгийца с женой арестуют...
— Будьте добры повернуться, мой сержант! И не двигайся, ты, черномазый!
В свете фонаря сержант увидел направленный на него револьвер одиннадцатого калибра, зажатый в руке полного мужчины с жестким и холодным выражением лица, чуть тронутого оспинами. Голубые глаза с красными веками внимательно следили за руками полицейского. Да, сам Верлой, точно такой, как его описывали капитан Санн и Бриссар, собственной персоной стоял в дверном проеме сарайчика. Рядом с Верлоем в темноте проступали очертания женской фигуры; видимо, это была его супруга Жанна. Лицо жены, когда она вступила в полосу света, показалось Гванкве еще более жестоким и неумолимым, чем лицо ее мужа.
— Можешь отправляться спать, — кивнул ей Верлой, не сводя с Люсьена красных глаз. — А я займусь нашим гостем...
— Ты думаешь, он не доставит нам хлопот? — спросила та, постояв минуту в нерешительности.
Верлой усмехнулся:
— Можешь не сомневаться. Возвращайся в дом и готовься к отъезду.
— Уже давно ожидаю вашего визита, господин сержант, — продолжал Верлой. — Я следил за каждым вашим шагом... у меня есть хороший бинокль. Я ведь узнал о вашем приезде сразу же, «детектив джунглей». Впрочем, на вашем незавидном месте мог бы оказаться и кто-то другой.
Лишь теперь Люсьен Гванкве понял, что недооценил противника, положившись на свою интуицию «детектива джунглей». О своем титуле он подумал теперь с усмешкой и в прошедшем времени. Хороший урок для следопыта, если он теперь ему пригодится впредь. Верлой определенно не намерен шутить...
— В путь, сержант! Мы прогуляемся вместе, тем более что здешние места вам, кажется, хорошо знакомы...
Повинуясь указанию направленного на него револьвера, Люсьен вышел на тропинку, вьющуюся среди зарослей рододендронов. Да, все будет до обидного просто: где-то впереди его уже ждут «крокодилы». Его прикончат согласно древнему ритуалу: ведь Люсьен Гванкве — африканец... Да, он проиграл...
Тишину ночи разорвал выстрел. Гванкве прыгнул в сторону: опытный охотник, он сразу же узнал бой винтовки марки «лиэнфильд», своего собственного оружия. Сзади послышался глухой вскрик, шум падения тела в сухую траву. Верлой был убит наповал. Капрал Таши с винтовкой в руках выглядывал из-за ствола дерева.
— Отойди от зарослей! — закричал он сержанту, увидев его целым и невредимым. — Здесь семеро с ножами и копьями. Я слежу за этими дьяволами уже целый час.
Едва Гванкве нагнулся и поднял револьвер Верлоя, как заросли взорвались дикими завываниями и темные фигуры ринулись на тропинку. Заостренные длинные головы, волочащийся клиновидный хвост, короткие кривые конечности, свисающие с плеч... Да это «крокодилы»! В ту же минуту копье, пущенное чьей-то сильной рукой, просвистело в сантиметре от его головы.
Сержант и капрал выстрелили одновременно. Двое тут же свалились. Остальные остановились, их дикие завывания замерли на полутоне. Таши выстрелил еще раз, еще один из нападавших рухнул. Четверо резво рванулись к джунглям. Детективы приблизились к лежащим на земле.
— Необходимо заполучить хотя бы одного из «крокодилов» живьем, пока они не добрались до деревни и не сбросили свои личины, — крикнул Гванкве капралу.
Это была та самая деревня, около которой подверглись нападению капрал Катуба с товарищем. До нее было километров пять. Следопыты со всех ног припустились по тропе, которой ушли «крокодилы». Но со стороны владений Верлоя вдруг донеслись душераздирающие женские вопли. Резко свернув, Гванкве и Таши выскочили к бунгало Верлоя. В окнах мелькали темные силуэты. Кричала женщина. Потом в дверном проеме показалась ее фигура. На фоне света, бьющего из комнаты, рядом с ней появился кто-то с крокодильей головой и рванул женщину внутрь дома.
Гванкве выстрелил по ногам «крокодила». Но в тот момент человек резко присел, и пуля вошла в грудь. Еще один из «крокодилов», выскочивший на выстрел, стремительно бросился на Таши, размахивая длинным ножом. Таши ловко увернулся, а Гванкве успел ударить человека рукояткой револьвера по голове. Пока капрал связывал упавшего «крокодила», сержант обследовал бунгало.
В распахнутом чемодане, стоявшем в спальне, среди женских вещей он нашел небольшой кожаный мешочек, доверху набитый первосортными алмазами. «На миллион, а то и больше!» — отметил Гванкве.
...Утром отряд полицейских под командой капитана Санна, усиленный охранниками из «алмазной полиции», при участии сержанта Гванкве и Таши арестовал еще девять «крокодилов». Пойманные сознались в зверском убийстве тридцати четырех африканцев, работавших на шахтах алмазного синдиката, а также в том, что при этом они свершали традиционные ритуалы тайного общества «людей-крокодилов». Выяснились и некоторые подробности странных отношений арестованных с Питером Верлоем. До знакомства с ним деятельность тайного союза протекала вяло — давно уже в крае не было ритуальных убийств, и обществе почти распалось. Верлой, знавший обычаи и традиции африканцев, вдохнул в «крокодилов» свежие силы; он стал для них ближайшим другом, поскольку был могущественным волшебником. Почему? «У него были красные глаза», — отвечали «крокодилы». Ведь настоящего колдуна люди всегда могут узнать по красным глазам и светлой коже. А кроме того, чем дальше место, откуда родом колдун, тем больше его сила, а Верлой был из Европы... Наконец, он обладал еще и дьявольским колдовским напитком, лишавшим воли и сил опьяненных и ослепленных людей. «Крокодилы» без особых помех совершали над ними свой кровавый ритуал.
Верлой, вероятно, долго бы оставался безнаказанным и непойманным, если бы его компаньоны не зарвались и не совершили роковой ошибки, напав в отсутствие Верлоя на представителей власти. Все убийства местных жителей власти во внимание не принимали. Ведь это всего-навсего обычное «ритуальное убийство»...
По крайней мере, так потом писала о процессе «Ордена Крокодилов» местная пресса...
Геннадий Босов
(обратно)
Пути караванов
 Шатры у дороги
Шатры у дороги
Автомобиль мчится вдогонку миражам. Они похожи на сверкающие пятна воды, которые то появляются далеко впереди, то, неожиданно исчезая, маячат там, где мягкий асфальт обрезан горизонтом. Нещадно палит солнце, дурманящая дымка воздушного марева застилает далекие предгорья.
Только через эту пустыню на юге Афганистана можно добраться в Кандагар — второй по величине город страны. Когда-то здесь проходила одна из веток тысячелетнего «шелкового пути», связывавшего Европу с Индией и Китаем. Потом здесь проложили современную автомагистраль, тысячу с лишним километров асфальта.
Постепенно Гиндукуш отходит все дальше и огромными уступами переходит в обширные плоскогорья, спускающиеся в область вечных пустынь. Регистан — страна песков, Даште-марго — пустыня смерти, Даште-наумид — пустыня отчаяния — названия говорят за себя сами. Именно здесь были когда-то самые трудные участки караванной дороги: нестерпимая жара, отсутствие воды, продовольствия и фуража.
Афганские пустыни не уступят Сахаре скупостью растительности: здесь лишь полынь, солянка да верблюжья колючка. Правда, ранней весной пески оживают рубинами и золотистыми топазами тюльпанов, ирисов, нарциссов. Но сейчас осень, и лишь изредка серо-желтое однообразие нарушают пятна густо сбившихся в пучки сиреневых цветов колючки.
...Верблюды появились неожиданно, как возникает смерч. Они безразлично жевали сухую колючку невдалеке от пропыленных черных шатров.
Кочевники... Кажется, они специально выбрали место для бивака на самом солнцепеке. Босоногие взъерошенные дети, раскрыв рты, немигающими глазами провожают машину. В смоляных глазах неподдельное удивление: зачем торопиться куда-то в такую жару. В этот час надо отдыхать, ожидая вечера.
Между шатрами движется что-то разноцветное: овцы. Шерсть их выкрашена в различные цвета. Больше всего в красный и черный. (Кочевники считают, что эти цвета обладают магической силой и оберегают скот от падежа.
Кочевников-кучи можно встретить в Афганистане повсюду: в пустынной степи и на каменистых горных дорогах, в городах и кишлаках. Каждую весну они разбивают свои биваки и в Кабуле, недалеко от самого центра города, вдоль дороги, что ведет к международному аэропорту. Их длинные караваны, двигаясь весной от окраинных районов в глубь страны, устремляются к предгорьям Гиндукуша на богатые травами пастбища. Осенью они возвращаются назад, переходя на территорию соседних Пакистана и Ирана.
Но все-таки больше всего кучи здесь, на юге, где кочуют самые многочисленные из них — племена дуррани и гильзаи.
«...На границах Персидских и Индейских был народ военный, кочующий в кибитках наподобие татар, в делах бранных всегда упражнявшийся, к терпению голода и жажды и к понесению жара приобвыкший... почти в непрестанных набегах жизнь свою препровождавший и вообще наблюдавший у себя весьма великую строгость», — писалось о них в изданном в России в 1790 году трактате «Персидский Александр, или Страшный Надир, Потрясший Самое Богатейшее в Свете Индейское Царство и Нанесший Трепет на Весь Восток».
Вольнолюбивые и независимые кочевники, особенно гильзаи, вписали в историю страны немало героических страниц. В начале XVIII века под предводительством национального героя Мир Вайса они объявили себя независимыми от персидского владычества, а его сын Махмуд в 1722 году захватил даже персидский трон. И хотя персидскому шаху Надиру Афшару удалось впоследствии сокрушить гильзаев, однако у себя на родине, от Кандагара до Газни, они продолжали оставаться самостоятельными...
«А ты что умеешь?»
В Мукуре — небольшом уездном городке — пришлось сделать остановку, чтобы заправить машину и дать отдохнуть двигателю. Жара. Сушь. Пустуют миниатюрные поля табака; у дороги глубокие колодцы с лебедкой и резиновыми — из куска камеры — ведрами; глинобитные дувалы и куполообразные крыши жилищ. В ожидании попутного транспорта на обочине дороги расположились крестьяне с домашним скарбом и двое полицейских. Пустует простецкая чайхана: два-три грубо сколоченных деревянных стола под залатанным навесом, большой прокопченный самовар, длинные табуретки с рядами фарфоровых, видавших виды чайников.
На автостоянке выяснилось, что с нашим двигателем какие-то нелады, и водитель отправился на поиски механика.
...Сначала мы увидели только двоих, поджарых и статных. Свободные длинные их рубашки опоясаны портупеями с полными патронташами. На ногах чапли — открытые сандалии из грубой кожи. Лиц почти не разглядеть: от переносицы до подбородка они закрыты свободным краем пропыленного тюрбана-дастара. Видны только острые, сверкающие влажной смолой из-под густых бровей глаза.
Дастар кочевники предпочитают любому другому головному убору. Идет на него до десятка метров ткани, зато дастар всегда защитит голову от удара, а его свободный край — лицо от песка.
За плечами у них были ружья, и, глядя на небрежно болтающиеся из-за дастаров стволы, я вспоминаю утверждения моих кабульских знакомых, что кучи не расстаются со своим оружием даже во сне. Кочевники всегда считали, что сила племени зависит не столь от его численности, сколь от оружия. Поэтому оно давно стало неотделимо от повседневной жизни любого мужчины-кучи.
Но если ты оружия не любишь,
Ты не мужчина вовсе — так и знай!
Окрась тогда сурьмою брови
И жизнь рабыни слабой начинай!—
поют кучи.
Из дула «винчестера» кочевника, что помоложе, и из складок дастара торчали пучочки цветущей колючки. Нежный сиреневый цвет ее не вязался с его мрачной и грозной фигурой. Но любовь к цветам — слабость кочевников. Она тоже, наверное, вырабатывалась столетиями — унылое однообразие природы должно было вылиться в свою противоположность!..
Подойдя к навесу лавочника, кочевники стали торговаться. Потом один снял дастар, под которым оказалась стрижка «под горшок», и положил в него несколько яиц и горсти три чая.
Молча взглянув в нашу сторону, кочевники не спеша подошли к машине, оглядели возящегося у радиатора шофера.
— Хараб! — отрывисто буркнул старший. Отойдя немного в сторону, оба присели на корточки и принялись наблюдать за движениями шофера и механика. Казалось, что к самой машине они потеряли всякий интерес.
Представился счастливый случай поговорить с кочевниками, но смущало одно обстоятельство: я не знаю пушту — родного их языка. Даже владея им, договориться с кучи трудно. И не только потому, что они молчаливы. Дело в том, что, кроме двух основных диалектов пушту — восточного и западного, — многочисленные кочевые племена и кланы употребляют полусотню различных говоров. Добавьте к этому то, что у каждого племени есть еще и свой собственный запас слов, заимствований, сокращений и символов; да еще учтите и своеобразие манеры разговора, и вы без труда поймете мое положение.
Правда, многие кучи знают фарси-дари — второй государственный язык Афганистана, но, говоря на нем, искажают его настолько, что иностранцу понять пуштуна становится почти невозможно. Кое-кто из пуштунов вообще не любит говорить на дари.
Собрав в памяти нехитрый свой запас слов на пушту, стараюсь завести разговор с традиционных «Как здоровье?», «Как дела?», «Куда держите путь?», а также с сигарет. Кочевники спрятали пачки за пазухи, и тот, что помоложе, стал было отвечать, что, дескать, идем на восток, но тут подбежал босоногий паренек: им нужно было поторопиться к биваку.
— Пойдем! — кивнули кочевники и мне.
— В школу ходишь? — подобрав слова, спрашиваю у мальчика. И тут же жалею об этом: зачем парня смущать? Ведь охватить кочевников системой просвещения чрезвычайно трудно. Афганское правительство, конечно, предпринимает энергичные меры для создания сезонных школ в районах их кочевий, но пока все же для большинства детей учителями остаются племенные старейшины, передающие из поколения в поколение кодекс кочевого права — «пуштунвалай». Так что, если мальчику не довелось ходить в школу, вопрос мой может показаться ему обидным, а кочевники народ вспыльчивый...
— Нет, не учусь! — нимало не смутившись, ответил паренек и добавил: — Но наших овец я считать умею, запрягать верблюдов и разводить огонь тоже. Разве этого мало?
А потом, словно желая доказать, что это действительно очень много, показал в сторону нашей машины и ехидно добавил:
— Ты вой небось учился, а починить свою машину не можешь!
Мы приближались к небольшому биваку, центром которого были два-три пропыленных шатра. Сейчас, впрочем, они и не были похожи на шатры — только несколько простых деревянных конструкций, сверху накрытых черной шерстяной и
войлочной тканью: края палаток подняты вверх, и на земле виднелось все нехитрое убранство. Циновки, паласы, грубые ковры и полураспакованные тюки с домашним скарбом. Собрать, разобрать и погрузить их на верблюдов и лошадей можно быстро и легко.
Поодаль от шатров сбились в кучу понурые овцы и козы. Ища укрытия от солнца, каждое животное норовит спрятать голову под брюхо соседа. Рядом с овцами огромные псы величиной с добрых телят, с обрезанными хвостами и ушами. («Чтобы предотвратить болезни и чтобы стали злее!» — объясняют кочевники.) Зной разморил и их, но, заприметив чужих, они тут же легко срываются с места и бегут за нами с сухим хриплым лаем, свирепо скаля желтые клыки.
Кроме детей, собирающих верблюжьи колючки — главное топливо, — никого не видно. Только у большого валуна в стороне от палаток, присев на корточки, разжигают костер несколько мужчин. Их фигур и лиц почти пе видно, лишь темные пятна на серо-желтом фоне каменной пустыни.
Старшего среди них без труда можно было узнать по почтению, с которым с ним обращались остальные. Мы разговорились. Видя мою беспомощность в пушту, старик стал говорить на невероятной смеси пушту и дари. Понять все же было можно.
Хозяин пригласил выпить чаю. Об отказе не могло быть и речи, иначе была бы нанесена тяжелая обида: пуштунвалай требует, чтобы даже заклятого врага, если тот вошел в шатер, встречали как гостя.
Пиалы и серый, приготовленный из муки грубого помола хлеб принесли женщины, но откуда они появились, так и осталось для меня загадкой. К костру подошла только одна из них, чтобы подать необходимое к чаю. Лицо кочевницы было открыто, длинные собранные в пучок волосы приобрели от солнца рыжеватый отлив. Тонкую фигуру свободно облегала широкая длинная блуза красного цвета с вышивкой на груди и рукавах.
Подав чай и лепешки, женщина тут же ушла к товаркам. Они стояли шагах в десяти от костра, их присутствие выдавал только тихий шепот и тонкий звон ожерелий. Одеты женщины в длинные черные панталоны и разноцветные блузы-камизы. Незамужних можно было сразу определить по прическе — длинные гладкие волосы собраны в две косы. Но все они были увешаны украшениями: множество медных и серебряных монеток различного достоинства и бляшки с изображениями феникса и крылатых рыб. Монеты были нанизаны в несколько рядов как бусы; на пальцах латунные кольца, на запястьях — браслеты немыслимой ширины. У некоторых браслеты и кольца соединены были цепочкой, и создавалось впечатление, что тонкие женские руки заперты в панцирь.
Украшения превращают женщину в своеобразный семейный банк; и после свадьбы уважающий себя мужчина приобретает столько украшений, сколько позволяет ему достаток. А иногда, залезая в долги, и больше.
Афганские кочевницы не носят чадры и никогда не носили ее. Вообще они настолько независимо и свободно себя держат, что никакого сравнения с горожанками и крестьянками быть не может. В этом, видимо, сказался отголосок тех времен, когда кочевницы помогали своим мужьям в ратных делах. Совсем в общем-то еще недавно — во время англо-афганских войн.
Старик сам заварил чай. За пиалой крепкого черного чая (кочевники почти не пьют зеленый) мы узнали, что его семейство поотстало от главного каравана, а перед наступлением сумерек снова снимается и до ночи догонит своих. Все эти люди — мужчины, женщины, дети — члены его семьи.
Афганские кочевники сохранили традицию объединенной семьи, где обычай предписывает младшим беспрекословно подчиняться воле стариков. Невесту тоже берут обычно внутри своего племени. Вопрос о браке решают родители. Но — и в этом сила пуштунвалай — на все случаи жизни в нем предусмотрен и «запасной выход». Если родители не смогли договориться, влюбленный может прибегнуть к «жак кавылю» — окрику. Юноша может подойти к шатру отца избранницы и несколько раз выстрелить в воздух. Тем самым, считается, он демонстрирует свою преданность возлюбленной. И тут уж к неуступчивому отцу, невесты приходят старейшины племени. Теперь его отказ может привести к вражде между семьями, кровной мести, расколу в племени. Потому-то после «жак кавыля» отказов почти не бывает.
Во время чаепития нас окружили дети, среди которых я заметил и своего давешнего знакомца. Он был повыше других, косматых и чумазых нареньков, и что-то объяснял им, показывая то на меня, то на мою кинокамеру. За мальчишками встали поодаль, звеня металлическими браслетами, девочки с огромными настороженными глазами. Руки их были выкрашены сурьмой для профилактики от хвори.
Я решил снять детей на пленку. Но стоило камере затарахтеть, как девочек словно ветром сдуло. Зато мальчики с интересом косились на кинокамеру, явно придумывая способ заполучить готовые фотографии. Все мои объяснения, что это невозможно, что надо сначала проявить и обработать пленку, были напрасны.
— Тогда давай камеру! — ультимативно заявил мой знакомец, тот самый, который умел считать овец и разводить костер.
Положение становилось крайне деликатным, но ребята были, в конце концов, правы: должен же был я отблагодарить за угощение! Раздумывая, что же предпринять, я решил протянуть время и сменить кассету. Когда же киноаппарат был открыт и ребята, наседая друг на друга и толкаясь, принялись его разглядывать (что же внутри!), вдруг снова раздалось авторитетное замечание моего приятеля:
— Сломалась!
Ребята закатились смехом. Камера перестала их интересовать.
Пора было расставаться, да и хозяева стали уже понемногу собираться в дорогу: женщины выносили из шатров паласы, скатывали в рулоны и вместе с чайниками, горшками, керосиновыми светильниками складывали у шатров. Потом принялись за жилище: несколько человек вместе с детьми занялись навесом, а другие — шестами. Мужчины сгоняли в стадо овец и верблюдов.
Приближались сумерки, а с ними прохлада, лучшее время для кочевки.
 Джиргамары собираются в Калате
Джиргамары собираются в Калате
Центр племен юго-восточных и южных районов — город Калат. Он мало чем отличается от Мукура: те же дувалы, из-за которых видны купола крыш. Потемневшая в сумерках зелень садов. И над всем городом высится на каменном холме массивный форт. Это Калате-гильзай — Крепость гильзаев.
Крепость эта была в свое время очень важной: она контролировала движение между Кандагаром и Кабулом. Не раз крепость, а с ней и город Калат подвергались разрушениям, переходили из рук в руки и перестраивались. Сейчас, конечно, Калат утратил свое стратегическое значение, но для южных кочевников он по-прежнему центр, столица. И многие вопросы, волнующие племена, все еще решаются здесь. Кочевники всегда играли видную роль во внутренней жизни Афганистана, особенно в новейшее время, когда в середине XVIII века их родоплеменная организация стала политическим ядром самостоятельного афганского государства. Ни одно значительное событие в жизни страны не обходилось без участия пуштунских племен.
Но чем более развивалось и становилось современным государство, тем более обострялись его отношения с племенами. Родоплеменная организация стала тормозом на пути экономического и социального развития Афганистана. Намерение вовлечь кочевников в активную хозяйственную жизнь, постепенно переводя их на оседлость, кочевая верхушка встретила враждебно.
А влияние ее в племени с его древней структурой — семья — клан — племя — очень значительно.
В решении проблем внутренней жизни племенная знать опирается на «джиргу». В переводе с пушту «джирга» означает круг, собрание. Это древнейший орган племенного самоуправления. У джирги три функции — законодательная, судебная и полицейская. Но издревле главнейшая задача джирги — мобилизация сил для отпора врагу.
Краткость выступления на джирге не ценится. Оратор-джир-гамар начинает с выдержек из корана, цитирует старинные поэмы и только потом переходит к сути дела, подкрепляя свои слова старинными пословицами и поговорками. Длится джирга до тех пор, пока не выскажутся все желающие, как бы долго, ни говорил каждый из них. Решение объявляется от имени джир-гамаров и в присутствии всех заинтересованных сторон, после чего никто не имеет права его нарушить.
Если между племенами возник серьезный конфликт, джирга назначает миротворческий орган — «марака». В решения мараки обычно не вмешивается даже правительство.
Джиргамары наизусть знают пуштунвалай — неписаный кодекс чести афганских племен. Пуштунвалай предписывает племенам при возникновении общей опасности объединяться. У огромных валунов все мужчины-воины давали клятву до победы забыть о собственной вражде. Патриотизм и национальная гордость, пожалуй, самые характерные черты каждого афганца. Спросите даже самого бедного, оборванного пуштуна, кто он, и тот с гордостью ответит: «Я — афганец». Говоря о себе, он нередко обобщает, подчеркивая: «Мы, афганцы...» Но, говоря между собой, пуштуны первым делом называют свое племя.

Пуштунвалай предписывает обязательный «нынавати» — оказание помощи всякому, кто в ней нуждается. Потребовать нынава-ти может каждый, кто подойдет к шатру кочевника и громко изложит свою просьбу. И пока она не будет удовлетворена, просящий не сядет на ковер хозяина. Честь и достоинство человека, на ковер которого не сел просивший нынавати, останутся запятнанными навсегда.
Если враждуют между собой две семьи и одна из них решила прекратить ссору, то, подходя к шатру противника, нужно накинуть на шею своего верблюда веревку, а в рот взять пучок соломы. Противник без всяких условий пойдет на мировую.
За любую обиду пуштунвалай предписывает «бадаль хистыль» — компенсацию: от штрафа до кровной мести. В судебной рубрике кабульской газеты «Анис» нет-нет да и промелькнет сообщение о приговоре за убийство, связанное с кровной местью. Но тот же бадаль хистыль обязывает отвечать добром на добро, и, познакомившись раз, афганец никогда не забывает друзей.
Кочевники новых времен
«...Много и эмоционально написано в художественной литературе о романтической жизни кочевников, о свежем воздухе, которым они дышат, и о независимой жизни, которую они ведут. Действительность же другая, — писала как-то газета «Кабул Таймс». — Кучи ведут трудную, полную лишений жизнь, и в ней нет ничего романтического. Это неграмотные, скитающиеся люди, перед которыми стоят большие, большие проблемы. Их главное достояние — скот — подстерегает множество опасностей. Опасности подстерегают их самих — от жителей окрестных деревень, от других племен, от чиновников и от их собственного неуправляемого темперамента».
Действительно, гордые и независимые кочевники, отстоявшие некогда независимость страны, все больше превращаются в общественный архаизм, тормозящий социально-экономическое развитие Афганистана. Кочевники и сами во многом понимают это и пытаются как-то приспособиться к новым условиям, но оставаясь при этом кочевниками. Некоторые племена давно уже перестали разводить скот и занялись исключительно торговлей. До начала XX века они держали в руках львиную долю торговых операций не только внутри страны, но и за границей, вывозя афганские товары в Индию он Среднюю Азию. При этом они, естественно, не знали даже слова «контрабанда» и не собирались выполнять какие бы то ни было таможенные правила. Но появились крупные торговые компании, и кочевники утратили свои позиции; во внутренней же торговле они еще держатся крепко. Однако расширилась сеть современных автомобильных дорог, и кочевникам опять приходится уступать. Или переделаться. В Кандагаре мне довелось познакомиться с кочевником — владельцем целого парка мощных грузовиков. Он глава племени, его сородичи — шоферы, жизнь на колесах не сильно отличается от обычной кочевки, а семьи шоферов живут в кузовах...
Кочевники скупают у оседлого населения скот, шерсть, зерно, фрукты, горшки, лопаты и тому подобное, а потом продают их в Кабуле и других городах. В отдельных районах кочевники — почти единственные поставщики промышленных товаров. Нередко они продают в долг зерно, захватывают крестьян в долговую кабалу, потом скупают их клочки земли, становятся землевладельцами — и вот уже крестьянин превращается в арендатора. Так возникает вражда кочевых и оседлых людей. Пуштунвалай учит, что все члены племени — братья. Но одни кочевники — это феодалы, владеющие большим количеством скота (они же в основном ведут спекулятивную торговлю), а другие — пастухи, практически не имеющие собственного имущества. Может быть, им легче, чем другим — терять-то все равно нечего, — перейти на оседлость? Таких случаев в нынешнем Афганистане все больше и больше.
По закону о земельной реформе, принятому летом 1976 года, безземельные кочевники (как и некоторые другие беднейшие группы населения) могут в первую очередь приобрести в рассрочку государственные земли и получить ссуду для занятия земледелием.
...Справа у дороги дорожный указатель: граница двух провинций — Заболь и Кандагар. Скоро и пункт дорожной пошлины, к которому вплотную подходят покрытые сухой верблюжьей колючкой холмы. Тянется среди них длинной цепью кочевой караван.
Откуда он вышел? Куда придет?..
М. Конаровский
(обратно)
Сам себе государство

Сколько на земном шаре стран?
На этот, казалось бы, простой вопрос дать точный ответ невозможно: число независимых государств растет не только из года в год, но порой из месяца в (месяц. Именно этот бурный рост семьи суверенных народов вызывает у отдельных лиц жгучую охоту провозгласить... собственную независимость. Причины бывают разные. Впрочем, судите сами.
Англичанина Юджина Флиппа толкнула на «отделение» от Великобритании слишком высокая плата за жилье в метрополии. Когда домовладелец с помощью судебного исполнителя выселил Флиппа из квартиры, тот отправился в тоске на берег моря. И вдруг в туманной дали его глазам явилось какое-то странное сооружение. Одолжив у приятеля лодку, Флипп подплыл к нему. Сооружение оказалось заброшенной бетонной площадкой на сваях, поставленной в Ла-Манше в годы войны: здесь держали зенитки, отражавшие налеты гитлеровской авиации. Флипп отремонтировал собственными силами крохотный форт и перевез туда жену с детьми. Все! Теперь он мог не бояться квартирных хозяев. В дальнейшем «фортовладелец» отказался платить налоги, заявив, что, по британской традиции, считает свой дом своей крепостью, причем крепостью-государством.
Австралиец Леонард Кэсли «отделился» от Австралии в 1971 году. Свою ферму-государство он назвал «провинцией реки Хатт», обзавелся флагом, сшитым старшей дочерью, а герб и гимн придумал сам. Чем был вызван столь решительный шаг? Кэсли объяснил журналистам, что он всю жизнь мечтал о карьере государственного деятеля, но уход за овцами не позволял ему выкроить время для этого. Теперь, когда ему перевалило за пятьдесят, он понял, что пора наверстывать упущенное: присвоил себе титул «президента» и просит называть себя без всяких церемоний «Ваше превосходительство».
Правительство Австралии поначалу не обратило внимания на заявление Кэсли. Но тот послал письмо в ООН с просьбой допустить его представителя (младшего сына) на очередную сессию Генеральной Ассамблеи в качестве наблюдателя. Пришлось официальному чиновнику в Канберре давать разъяснение, что Австралия не признает независимости «Провинции». В ответ упрямый Леонард пригрозил, что позовет на помощь «союзников». Каких именно? Этого он пока не сообщает.
Следующая «страна», о которой пойдет речь, уместилась на нашем снимке целиком. Называется она «Мондсивитанская республика», или в переводе с эсперанто «Республика граждан мира». Помещается «республика» на углу улицы Кемден-таун в Лондоне.
Основал ее в 1966 году торговец готовым платьем Питер Дид. Он же занимает пост «постоянного президента». Сколько, кроме него, насчитывается мондсивитян? Точную цифру основатель государства держит в тайне, однако заявляет, что двери «республики» (она же магазин) открыты Для каждого. Став гражданином Мондсивитании, человек получает право «выступать посредником в урегулировании мировых конфликтов» (так значится в конституции), а также покупать со скидкой национальную мондсивитанскую одежду — джинсы и свитер. В планах президента выпуск собственной валюты: денежная единица будет называться «мондо». Причем до поры до времени ее можно будет покупать на конвертируемую валюту. Так оно, пожалуй, надежнее, считает глава и казначей «Мондсивитанской республики» Питер Дид.
 Лови мышей!
Лови мышей!
В палате общин английского парламента вполне серьезно обсуждался запрос одного из депутатов по поводу плачевного положения «...кошачьего сословия, состоящего на королевской службе». Официально коты и кошки были приняты на нее в 1868 году при королеве Виктории. Свидетельство тому — любопытный документ. «Ловушки и другие средства, с помощью которых мы пытались бороться с наглыми хищниками, не дали нужного результата, — доносил доведенный до отчаяния чиновник королевской почты. — Поэтому я осмелился обратиться с просьбой к привратнику Таю приобрести трех котов для истребления проклятых грызунов...» Предложенный им выход оказался поистине спасительным: девять месяцев спустя этот чиновник с радостью сообщал по начальству: «Коты исполняют свои обязанности весьма эффективно».
От набегав крыс и мышей страдали не только почтовые отделения. Во времена королевы Виктории они до такой степени наводнили Букингемский дворец, что была даже введена специальная должность придворного крысолова. Первым из них стал некий Джек Блэк, носивший пышную форму и широкий пояс, на пряжке которого сияли буквы VR — «Крысолов королевы Виктории» — и две оловянные крысы. Правда, подлинным «главным крысоловом» был кот Кларенс. Он родился на ферме неподалеку от Лондона, а позднее в силу неизвестных причин решил отправиться в английскую столицу, где и обнаружил широчайшие возможности для применения своих кошачьих сил. Кларенс начал службу на одной из почт. Но деловые качества его были столь блестящи, что некоторое время спустя он был переведен — с повышением — на службу при дворе королевы Виктории.
Что же касается запроса депутата палаты общин, о котором шла речь вначале, то помощник министра почт заверил его, что «коты, состоящие на государственной службе», отнюдь не бедствуют. Если в 1868 году размер их денежного содержания равнялся полутора пенсам в неделю (сейчас на эту сумму не купить и ложки кошачьей пищи), то после неоднократных повышений ныне составляет 35 пенсов. Именно столько получает, например, кот Сэм, «работающий» в морнигтонском почтовом отделении в Лондоне, которого вы видите на фотографии.
Б. Тишинский
(обратно)
Хэммонд Иннес. Белый юг
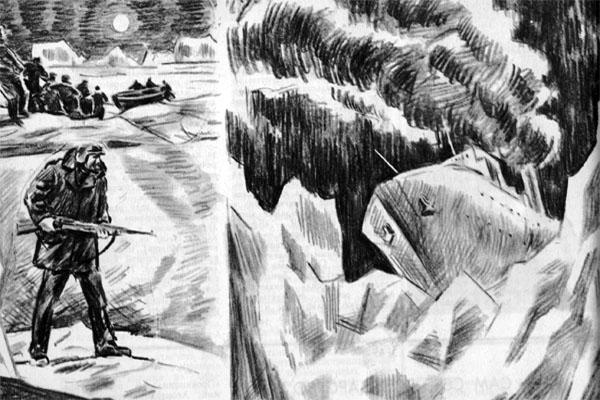 Бедствие в Антарктике
Бедствие в Антарктике
Еще только начало светать, когда первые известия о бедствии достигли Лондона. Телеграфист агентства Рейтер принял сводку новостей, и пальцы его механически забегали по клавишам аппарата, передавая сообщение абонентам:
КЕЙПТАУН ТЧК 10 ФЕВРАЛЯ РЕЙТЕР ТЧК ПЛАВБАЗЫ
ЮЖНЫЙ КРЕСТ ПРИНЯТ СИГНАЛ SOS ТЧК СУДНО ЗАТЕРТО ЛЬДАМИ МОРЕ УЭДДЕЛЛА ТЧК УГРОЖАЕТ ОПАСНОСТЬ БЫТЬ РАЗДАВЛЕННЫМ ТЧК НОРВЕЖСКАЯ ПЛАВБАЗА ХААКОН ИДЕТ ПОМОЩЬ 400 МИЛЯХ ПОЗИЦИИ ЮЖНОГО КРЕСТА ТЧК
В восемь часов утра по эфиру летели уже целые потоки радиограмм: Адмиралтейство — Главному управляющему американских компаний в Вест-Индии; Адмиралтейство — Порт-Стэнли на Фолклендах; Британская радиовещательная корпорация — Австралийскому комитету по радиовещанию. Волна официальных предписаний нарастала, заработали агентства новостей: ЮПИ — в Нью-Йорк, ТАСС — в Москву. К полудню миллионы людей знали, что судно британской китобойной Южно-Антарктической компании плавбаза «Южный Крест» водоизмещением 22 тысячи тонн погибает в сжимающихся тисках антарктического льда. Адмиралтейство приказало сторожевому судну «Морж» срочно взять курс на остров Южная Георгия, пополнить там запас горючего и попытаться подойти к «Южному Кресту». Министерство торговли изменило курс танкера, идущего на разгрузку в Дурбан, и направило его на Южную Георгию для заправки поисковых судов. Норвежская китобойно-промысловая компания «Норске Вальсельскаб» из Саннефьорда объявила, что ее китобойная плавучая база «Хаакон», взявшая курс на «Южный Крест» через полчаса после получения первого сигнала в 03 часа 18 минут, теперь находится в 200 милях от последнего местонахождения судна. Тем временем в Антарктике события развивались быстро. За первым сообщением, что подрывники с «Южного Креста» взорвали динамитом лед и корабль разворачивается, последовало другое: выход прегражден цепью айсбергов. Находящиеся поблизости танкер «Жозефина» и рефрижератор «Юг» были бессильны что-либо сделать, как, впрочем, и другие суда Южно-Антарктической компании. К полудню правый борт «Южного Креста» уже прогибался под давлением льда, а в 14 часов 17 минут командир судна капитан Эйде отдал приказ покинуть его. В заключительном сообщении капитан предостерег «Хаакон», чтобы тот не заходил за линию айсбергов. Это была последняя радиограмма, принятая с борта «Южного Креста».
Наиболее подробное описание событий, предшествовавших катастрофе, появилось 11 февраля утром в крупнейшей лондонской газете. Уже один заголовок статьи «Бедствие в Антарктике» был тревожным. Вот ее текст:
«16 октября плавучая база «Южный Крест» вышла из. Клайда, имея на борту 411 человек экипажа. Руководил промысловой экспедицией управляющий плавбазой Бернт Нордаль, помощником управляющего был Эрик Бланд — сын президента Южно-Антарктической китобойной компании. Командовал кораблем капитан Ханс Эйде. Около семидесяти пяти процентов экипажа составляли норвежцы, главным образом из Саннефьорда и Тёнсберга. Остальные — англичане. Сопровождали «Южный Крест» корвет морского министерства Англии, превращенный в буксир для китов, и рефрижераторное судно «Юг».
14 ноября «Южный Крест» прибыл в Кейптаун, где его дожидались китобойные суда и танкер. Экспедиция началась 23 ноября. Флотилия состояла из плавучей базы — судна водоизмещением 22 тысячи тонн, десяти китобойцев около 300 тонн каждый, двух китобойцев-буксиров, трех бывших корветов военно-морского флота — для буксировки китов, судна-рефрижератора, танкера и старого вельбота для перевозки разделанных туш на рефрижератор. Позже один из корветов был отправлен назад в Кейптаун за электрогарпунным оборудованием. Компания намеревалась провести 4эксперименты с применением этого нового оборудования для добычи китов.
Промысловый сезон в Антарктике длится четыре месяца: декабрь, январь, февраль, март. По международному соглашению промысловые экспедиции ограничиваются этими сроками для сохранения китов как вида.
Нынешний промысловый сезон добычи финвала открылся 9 декабря. Промысел кашалотов был разрешен раньше. Помимо Южно-Антарктической, в этих водах находились и другие промысловые экспедиции: десять норвежских, четыре английские, одна голландская, одна русская и две японские.
29 ноября с плавбазы «Южный Крест» стал виден остров Южная Георгия. Судно состояло в радиотелефонной связи с его береговыми метеорологическими станциями, откуда систематически сообщали об исключительно трудных погодных условиях и ледовой обстановке. Температура воздуха была намного ниже обычной, а у западного и южного берегов острова все еще громоздился паковый лед. Китобойные суда, действующие в радиусе 200 миль, сообщали о тяжелых плавучих льдах, среди которых встречались айсберги гораздо чаще и крупнее обычных. 2 декабря «Южный Крест» приступил к промысловым операциям; за одну неделю, несмотря на низкую температуру и сильные ветры, его китобойцы забили тридцать шесть кашалотов. 9 декабря плавбаза приступила к промыслу в полную силу. В это время она находилась миль на двести западнее острова Саут-Туле, самого южного из группы Южных Сандвичевых островов, и шла на юго-запад. Во всех радиограммах, посылаемых в Лондон управляющим плавбазы Нордалем и капитаном Эйде, сообщалось о непрекращающихся сильных штормовых ветрах, низких температурах и необычайно большом количестве гигантских айсбергов.
По сравнению с предыдущим небывало обильным сезоном на этот раз китов, видимо, было очень мало. В первый день рождества Нордаль сообщил о беспорядках среди экипажа. На китобойных флотилиях; где каждый кровно заинтересован в обильном улове, это почти неслыханная вещь. Однако подробностей инцидента выяснить не удалось.
Очевидно, положение было достаточно серьезным, поскольку 2 января в Кейптаун с лондонского аэродрома вылетел, несмотря на запрет врачей, президент компании полковник Бланд. На специально зафрахтованном самолете вместе с ним вылетела его сноха Джуди Бланд — дочь начальника экспедиции Бернта Нордаля, известный фотограф Альдо Бономи и специалист по электрогарпунам Франц Вайнер. 3 января Лондон принял радиограмму, где сообщалось, что Бернт Нордаль прошлой ночью исчез, по-видимому, упал за борт. Полковник Бланд прилетел в Кейптаун 4 января рано утром, а поздно вечером того же дня вместе с Джуди Бланд отбыл на корвете на «Южный Крест».
Прибыв на плавбазу 17-го, полковник Бланд принял на себя руководство экспедицией. К этому времени добыча составляла всего лишь сто двадцать семь китов. За неделю сильных штормовых ветров десяти китобойцам удалось добыть только шесть китов. Бланд послал эти суда для ведения широкого поиска. С юга и юго-востока путь преградили тяжелые плавучие льды, и один из китобойцев с трудом выбрался из них. Со всех судов сообщили, что китов обнаружено очень мало. Тем временем была установлена радиосвязь с плавбазой «Хаакон», находящейся в 600 милях к юго-западу, откуда сообщали об изобилии китов. 18-го полковник Бланд решил взять курс на юг. На пути попадалось много битого льда, но 23-го на 66° 01" южной широты и 35° 62" западной долготы суда вышли на чистую воду, где было обнаружено множество китов. С 23 января по 5 февраля было добыто сто шестьдесят семь китов. 6 и 7 февраля был сильный шторм, а ночью 7-го один из китобойцев, пытаясь укрыться от шторма во льдах, повредил руль. Когда ветер стих, к нему на выручку были посланы еще один китобоец и корвет. Но утром 8-го эти два судна столкнулись, причем одно из них затонуло, а на другом возник пожар. Несчастье случилось примерно в 120 милях к юго-востоку от плавбазы и в пределах видимости того китобойца, к которому они шли на выручку. Сообщалось, что в результате катастрофы погибло два человека, остальные члены обеих команд спаслись.
На помощь трем судам был послан еще один корвет. Тем временем «Южный Крест», заправившись горючим из танкера, закончил прием перетопленного китового жира. 8-го вечером с корвета сообщили, что тяжелый паковый лед мешает ему подойти к потерпевшим ближе чем на 20 миль. Больше с этих судов никаких сообщений не поступало. Несмотря на штормовой ветер, «Южный Крест» сам пошел на выручку своих китобойцев. 9-го в 6 часов 30 минут вечера с него увидели корвет, который углублялся в плавучий пак. На этот раз, за исключением двух китобойцев и корвета, вся флотилия была в сборе, так как из-за штормовой погоды ни одно судно не было послано на охоту за китами. На «Южном Кресте» после короткого совещания решили идти в пак, на запад в направлении потерпевших судов.
Не было ли это безумием — идти в паковые льды, рискуя всем и всеми, ради горстки людей? Стоимость плавбазы составляла примерно три миллиона фунтов, и на борту находилось свыше четырехсот человеческих жизней. Что же побуждало полковника Бланда плыть дальше? Что заставляло его рисковать? Неужели его никто не предостерегал? Судно с таким водоизмещением, со специально усиленной носовой частью, может пробиться сквозь четырехметровую толщу льда. Но стоит зазубренным острым краям этого льда плотно обхватить тонкую стальную обшивку корабля — и они раздавят его в мгновение ока. Неужели полковник не сознавал этой опасности? Или, быть может, разводье оказалось таким узким, что невозможно было повернуть назад?
Нам это неизвестно. Все, что мы теперь знаем, сводится к тому, что 10 февраля в 03.18 «Южный Крест» был плотно затерт льдами и был вынужден посылать сигналы SOS. Очевидно, ночью вокруг судна сомкнулся гонимый к западу пак. Гибель «Южного Креста» была делом считанных часов.
Чтобы подробно узнать о всем происшедшем, мы должны дождаться сообщений от тех, кто уцелел. А пока нужно надеяться, что правительство и промысловые компании сделают все от них зависящее, чтобы ускорить спасение людей. Возможно, у потерпевших имеются большие запасы китового мяса и жира, но вряд ли их снаряжение так уж надежно, чтобы выдержать зимовку в Антарктике».
Статья произвела сенсацию, но так как спасательные поиски затянулись, интерес к событиям постепенно иссяк.
В середине марта сильно похолодало и начал образовываться новый лед. К 22-му все поисковые суда повернули обратно и разошлись по своим базам. 15 апреля директор плавучего завода «Норд Вальстасьон» Ян Эриксен сообщил своей компании, что в районе трагедии не осталось ни одного судна. «Надвигается зима. Если кто-нибудь из потерпевших еще жив, то да поможет им бог, ибо люди помочь не смогут до тех пор, пока не наступит лето».
Это сообщение означало конец всем попыткам спасти кого-либо из уцелевших с «Южного Креста».
Но 21 апреля по радио было передано сообщение, которое снова заставило печатные машины всего мира раскатывать название «Южный Крест» в больших кричащих заголовках.
Рассказ Дункана Крейга о гибели «Южного креста», о стоянке на айсберге и о последовавших за этим событиях
Первое января Нового года я проводил в лондонском аэропорту, околачиваясь в служебном помещении частной фрахтовой авиакомпании в надежде попасть на попутный самолет в Кейптаун. Решение уехать из Англии было принято мной сгоряча. И знай я тогда, к чему это приведет, то подавил бы свою гордыню и зажил бы снова размеренной жизнью мелкого служащего в конторе компании по импорту табака «Брайдуэлл энд Фейбер».
Вылет был назначен на 01.00. Самолет зафрахтовала Южно-Антарктическая китобойная компания на имя полковника Бланда. На самолете были свободные места, и переговорить об этом с Бландом мне посоветовал пилот Тим Бартлет, когда мы гуляли с ним на новогодней вечеринке. Смогу ли я получить одно из свободных мест, это уж зависело от бойкости моего языка.
Бланд и его спутники — двое мужчин и девушка — прибыли заранее.
— Самолет готов? — спросил полковник служащего авиакомпании.
— Пилот ждет, — отвечал тот. — Только подпишите, пожалуйста, эти формуляры... А вот телеграмма — получена полчаса назад.
Я смотрел, как толстые пальцы полковника надрывают конверт. Сдвинув на лоб роговые очки, Бланд поднес телеграмму поближе к свету. Его глаза под кустистыми бровями смотрели холодно, и пока он читал, синеватые щеки и двойной подбородок чуть подрагивали.
— Вот, читай, — он резко повернулся к девушке и протянул телеграмму. Она шагнула вперед и взяла листок. Я украдкой рассматривал девушку. На ней были надеты узкие спортивные брюки и зеленый шерстяной свитер. На плечи наброшена норковая шубка. Вид у нее был усталый и лицо бледное. Она прочла телеграмму и посмотрела на Бланда: губы ее были плотно сжаты.
— Ну?! — рявкнул полковник. — Сначала ты, а теперь твой отец! Да что вы все прицепились к мальчику?
Внезапно он грохнул кулаком по столу.
— Я его не отзову, слышишь?! Лучше бы твоему отцу научиться, как с ним ладить. Еще один такой ультиматум — и я приму отставку твоего отца. Наверное, тебе кажется, что во всем мире не найти лучшего руководителя китобойных промыслов?
— Нет, мне ничего не кажется, но я твердо уверена, что никто, кроме него, не сможет добиться такой... как вы это говорите?.. эффективности промысла... А вы к этому слишком уж привыкли!..— выпалила она с вызовом: ее щеки покраснели от гнева.
Полковник собрался ответить, но тут увидел меня...
— Вы что, дожидаетесь самолета, сэр, или хотите со мной поговорить? — спросил он враждебно.
— Дожидаюсь самолета, — ответил я.
Он издал короткое мычанье, но не отвел от меня взгляда маленьких синих глазок.
— Полечу ли я на нем, зависит от вас, — продолжал я. — Меня зовут Крейг. Дункан Крейг. Пилот вашего самолета — мой приятель. Он мне сказал, что есть свободные места, и я подумал, не смогли бы вы...
— Клянчите, чтобы я вас подбросил?
Меня передернуло от того, как он это сказал. Но я сдержался и продолжал:
— Мне бы очень хотелось полететь с вами в Кейптаун.
— Нет, из вашего «хотелось» ничего не выйдет!
И вдруг мне стало безразлично, полечу я или нет. Возможно, дело было в его хамском тоне... возможно, в том, как он разговаривал с девушкой.
— Оскорблять-то необязательно, полковник Бланд, — с вызовом сказал я. — Я всего лишь просил взять меня в Кейптаун и...
— Да тут тысячи желающих попасть в доминион, — перебил он. Казалось, его ярость утихла. — Почему я должен брать вас, а не другого?
— Так получилось, что попросил вас именно я — не они. Забудьте об этом. — Я поднял свои вещи и направился к двери.
— Ну ладно, Крейг, — промолвил он. — И впрямь одно свободное место есть. Если пилот за вас ручается и вы успеете покончить вовремя с формальностями, то оно ваше.
Кажется, он говорил серьезно.
— Благодарю, — ответил я.
— Оформляйте багаж и подпишите бумаги, — в его голосе снова зазвучал приказ.
— Уже сделано, — так, на всякий случай, — ответил я.
Его густые брови поползли вниз, и толстые щеки дрогнули. Он вдруг захохотал.
— Где это вы научились такой оперативности: в коммерции или на службе?
— На службе, — ответил я.
— На какой — в армии?
— Нет, на флоте.
На этом, кажется, интерес его ко мне был исчерпан. Он отвернулся и стал смотреть, как взвешивали багаж. Из летного бюро пришел Тим Бартлет, а с ним второй пилот по имени Фентон. Тим вопросительно взглянул на меня. Я кивнул, и он ухмыльнулся. Бартлет с Фентоном представились Бланду, и Тим попросил служащего дать ему сведения о пассажирах. Просматривая бумаги, он обратился к Бланду:
— Я вижу, вы увеличили свою группу с трех человек до четырех?
— Да. Со мной захотела лететь миссис Бланд.
Тим Бартлет понимающе кивнул.
— Кто из вас Франц Вайнер? — спросил он у двух мужчин, стоявших у двери.
— Я Вайнер, — прошептал изможденный лысый человек. — Желаете взглянуть на мои бумаги?
— Нет, все в порядке, — ответил Тим.
— А я Бономи. Альдо Бономи, — представился второй, в пальто из верблюжьей шерсти. — Я еду делать съемки для «Эль Колонельо». — Он с беспокойством заглянул Тиму в лицо. — Надеюсь, мы в надежных руках. В прошлый раз, когда я летел, пилот играл самолетом,. и я себя очень плохо чувствовал.
— Вам не о чем волноваться, мистер Бономи, — успокоил его Тим. — Все будет хорошо. — С этими словами он вышел, на летное поле. Вскоре за ним последовали и мы.
С ревом ожили двигатели, и самолет вырулил на бетонированную площадку. Огни - аэродрома провожали нас холодным светом. Мы подрулили к краю взлетной полосы и ждали разрешения диспетчера. Снова взревели двигатели. Самолет покачнулся и задрожал.
И вот мы уже плыли в воздухе, рев двигателей сменился мерным гулом. Башня контрольно-диспетчерского пункта стала быстро удаляться, становясь светящейся точкой. На узкой ленте шоссе рядом с аэродромом мелькали огоньки автомобильных фар. Самолет накренился — и далеко к темному горизонту протянулись лондонские огни. Перед глазами четко, как в кинокадре, всплыла записка, приклеенная мною к служебному столу: «Отбыл в Южную Африку».
Я расстегнул предохранительный пояс. Теперь, когда я был в пути, мне захотелось петь, кричать, чтобы как-нибудь выразить свои чувства. Вдруг позади меня раздался голос Бланда.
— Джуди, поменяйся местами с Францем. Мне нужно поговорить с ним о делах.
Я повернулся в кресле.
— Вам не следует утомляться,— ответила женщина.
— Я не устал! — оборвал ее Бланд.
— Доктор Уилбер сказал...
— К черту доктора Уилбера!
— Если не будете беречься, вы себя погубите.
— Меня так легко не доконаешь, — на секунду взгляд полковника задержался на Джуди. — Где эта телеграмма? Я отдал ее тебе.
Она пошарила в кармане шубки и извлекла оттуда скомканную бумажку. Я слышал, как полковник разглаживает листок на портфеле. Вдруг он фыркнул.
— Бернт не имеет никакого права посылать мне подобные телеграммы, — им снова овладевал гнев. — Он не дает мальчику никакого житья. — Я услышал, как телеграмма захрустела в его кулаке. — Дело в том, что, когда меня не будет, только Эрик сможет помешать ему стать полновластным хозяином компании.
— Это несправедливо, — возмутилась женщина.
— Несправедливо? Вот как?! Не прошло и недели после Кейптауна, как они успели повздорить!
— А как вы думаете, чья в этом вина? — сердито спросила она.
— Бернт играет на том, что у мальчика не хватает опыта.
— Это вам говорил Эрик?..
— Так что из этого? Ты хочешь, чтобы я не верил собственному сыну?
—- Да, но ведь вы не так уж хорошо его знаете. Всю войну вы пробыли в Лондоне, и с тех пор...
— Я знаю, что Эрика притесняют! — перебил Бланд. — Каково! У Бернта даже хватило наглости послать телеграмму, что Эрик подстрекает к беспорядкам норвежцев из Саннефьорда. Среди китобоев никогда не бывает беспорядков — они слишком заинтересованы в удаче экспедиции.
— Если Бернт сообщил, что Эрик провоцирует волнения, значит, так оно и есть. — Ее голос стал спокойнее. — Вы же знаете, отец всегда думал только об интересах компании.
— Тогда почему он посылает мне этот ультиматум? Почему он требует, чтобы я отозвал Эрика?
— А потому, что он его раскусил.
— Раскусил?
— Да, раскусил. Теперь наконец вы тоже будете знать правду о нем...
— Замолчи! — голос Бланда задрожал.
— Не замолчу, — быстро продолжала женщина. — Пора вам узнать всю правду... Вы все еще представляете его веселым, бесшабашным парнем, каким он был лет десять назад, когда плавал на яхте да завоевывал призы по прыжкам с трамплина. Вы думаете, это все, к чему он стремится. Так нет же. Ему нравится властвовать, будь то люди, машины, организация. Ему нужна власть. Власть, говорю я. Он хочет один стать во главе компании. Он заставил свою мать...
— Как ты смеешь!..
— Боже! Неужели вы думаете, что я не знаю Эрика?! — Она сидела в неловкой позе, наклонясь вперед. Лицо ее было как белая маска. — Я уже давно собиралась вам это сказать — еще после первой телеграммы. Но вы были слишком больны...
— Я отказываюсь слушать. — Бланд старался подавить свой гнев.
— Нет, вы должны меня выслушать. Я говорю вам то, что давно была обязана сказать...
— Говорю тебе, я не хочу слушать. Черт возьми, ведь мальчик твой муж!
— Неужели вы думаете, я этого не знаю? — Ее голос зазвучал с пугающей горечью.
Бланд всматривался в нее сквозь толстые стекла очков.
— Ты его не любишь?
— Люблю его?! — вскричала она. — Да я его ненавижу! Слышите, ненавижу! — Она уже кричала, не сдерживаясь. — О, зачем вы только согласились отправить его туда помощником?!
— Кажется, ты забываешь, что он мой сын. — Бланд был зловеще спокоен.
— Я этого не забыла. Но вам пора знать правду...
— Тогда подожди, пока мы не останемся наедине.
Она взглянула на меня и увидела, что я за ней наблюдаю.
— Хорошо, — сказала она тихо.
— Франц! — Человек, сидящий рядом со мной, дернулся в кресле. — Подойдите и сядьте сюда. Поменяйся с Францем местами, — снова приказал он женщине. — И постарайся успокоиться.
Она с неохотой поднялась. Я наблюдал за ней, когда она усаживалась в кресле. Лицо ее было мрачным, маленькие руки она сжала так сильно, что побелели костяшки пальцев.
Я откинулся назад и стал смотреть в окно на красное зарево навигационных огней порта — из-под нас уплывало побережье Кента. За гулом моторов я улавливал обрывки разговора Бланда с немцем.
— Оборудование пришло... два дня назад телеграмму из Кейп... приказал Садману дожидаться нас... все готово для испытаний...
Я был слишком возбужден, чтобы уснуть, поэтому встал и прошел в пилотскую кабину. За штурвалом был Фентон. Тим наливал кофе из термоса.
— Ну как, ладишь с ними? — спросил он.
— Да я даже и не говорил ни с кем... Бланд только что поскандалил с этой женщиной. Она что — тоже собралась во льды?
— Не знаю. Она присоединилась к ним уже в последний момент, — Тим пожал плечами. — Знаю только по ее бумагам, что по происхождению она норвежка, а по браку — южноафриканка.
— Странная какая-то. Прямо дикая кошка.
— А тебя это беспокоит? Ты ведь получил место на самолете. Не так ли?.. Хочешь кофе?
— Нет, спасибо, — ответил я. — Без него лучше усну.
— Ты мне напомнил. Надо раздать одеяла. Помоги-ка мне, Дункан.
В пассажирском отсеке все было точно так же, как и до моего ухода. Бланд с Вайнером покрывали бумагу потоками цифр. Женщина сидела,. неподвижно глядя в окно.
На нас она не взглянула и, казалось, ни разу не пошевелилась с тех пор, как я прошел в пилотскую кабину. Мы раздали одеяла.
— Завтрак в Тревизо, — объявил Тим, проходя вперед. Я уселся в кресле, и мои мысли потянулись в Южную Африку... Вскоре под гул моторов я незаметно заснул...
В морозном рассвете Альпы предстали перед нами в виде стены из покрытых снегом вершин с глубокими расселинами. Затем мы пронеслись над плоской поверхностью равнин Ломбардии и пошли на посадку в Тревизо, чтобы там позавтракать.
Когда мы входили в кафе, я оказался за спиной Бономи. Меня интересовал Бланд, и я полагал, что из всех пассажиров итальянец скорее всего поможет удовлетворить мое любопытство. Он выбрал столик в стороне от других, а я уселся напротив него.
— Вы, кажется, фотограф, мистер Бономи? — сказал я.
— Вы слышали об Альдо Бономи?!
— Э-э-э, да, конечно, — пробормотал я. — Вы собираетесь фотографировать в Антарктике промысел китов?
— Si! Si! — Подошел официант, и Бономи стал изучать меню. — Можно вам заказать, мистер Крейг? Надеюсь, не пожалеете.
— Благодарю, — ответил я. И когда официант исчез, спросил: — Неужто вы рады этой поездке в Антарктику?!
Фотограф слегка пожал плечами.
— Работа есть работа, вы же понимаете.
— Скажите, что вы думаете о полковнике? Вы слышали его ссору с миссис Бланд? На плавучей базе что-нибудь неладно?
— Мистер Крейг, мое правило — ни слова о клиентах. Для работы это не годится, вы понимаете. —
Белые зубы сверкнули на его смуглом лице полузаискивающе, полупримирительно. С минуту мы помолчали, потом он спросил:
— Вы эмигрируете в Южную Африку, да?
Я кивнул.
— Это восхитительно. Вы бросаете все. Вы едете в другую страну, и вы начинаете все сначала. Это большой риск. У вас нет там никакой работы, но вы все-таки едете.
— Почему вы решили, что у меня нет работы?
— Если есть работа, тогда нет нужды просить, чтобы вас подбросили. Все это устраивается компанией. Я знаю, потому что всегда работаю для какой-нибудь компании. Но скажите, что вас заставляет покинуть Англию? Я пожал плечами.
— Не знаю. Просто сыт по горло.
— Но ведь что-то заставляет вас действовать поспешно, ведь это так? О, поймите, я не имею в виду ничего серьезного. В жизни все парадоксально. Мелочи — вот они всегда решают за нас.
Я рассмеялся.
— Здесь вы правы.
Как-то незаметно я рассказал ему свою историю.
Дело в том, что с тех пор как окончилась война, меня преследует чувство обманутых надежд. Я пошел на флот прямо из Оксфорда. Когда демобилизовался, мной долго владела странная мысль, что родина обязана мне своим спасением. Потом я обнаружил, что из талантливого командира корвета (во всяком случае, меня таким считали) не всегда может получиться талантливый бизнесмен. Кончилось все тем, что я стал служащим фирмы по импорту табака.
— Не так-то жирно после командования кораблем, а? — Бономи сочувственно закивал. Подошел официант с коньяком. — Салют! — сказал фотограф и поднял рюмку. — Желаю вам всего наилучшего, мистер Крейг. А что это за «мелочь», которая обострила ваше чувство обманутых надежд, а?
— Пятифунтовик, — ответил я. — Мистер Брайдуэлл, управляющий фирмы, дал нам каждому на Новый год по пять фунтов. Казалось, прекрасно! Потом он стал всем делать наставления. Вот это-то и вывело меня из равновесия, и тогда...
— Вам не нравился этот мистер Брайдуэлл? — перебил Бономи.
— Нет, дело не в этом. Человек-то он славный. И этот жест его был добрым. Но вот его наставления, как разумно потратить деньги, мне были ни к чему. Я подумал, ну и тяжко же дался мне его пятифунтовик. Пошел и пропил его. А потом вечером я встретился с Бартлетом, пилотом нашего самолета. Он мне сказал, что летит в Южную Африку, есть свободные места, и я решил рискнуть.
— Но вам хотя бы известно, какое сейчас положение в Южной Африке?
— Конечно, я понимаю, что послевоенный бум кончился так же, как и в Англии. Но один мой приятель, с которым я познакомился во время войны, сказал, что, если я приеду, он всегда сможет найти мне работу.
— Ах, приятель, с которым вы познакомились на войне! — Бономи пожал плечами. — Ну что ж, желаю удачи. Надеюсь, у него для вас есть очень хорошая работа...
Вошел Тим Бартлет и объявил, что пора отправляться. Мы допили коньяк и пошли к самолету. Но когда самолет взмыл в голубые небеса Италии, Южная Африка вдруг показалась мне уже не столь заманчивой.
Над Средиземным морем мы попали в болтанку. Вскоре вдали показалась Африка. Пустыня выглядела холодной и унылой. Обозначенный строгими квадратами пирамид Гиза, на нас надвигался Каир. Тим объявил нам, что здесь мы сделаем шестичасовую остановку. В десять полетим дальше.
Аэропорт продувало ледяным ветром с пылью. Я стоял в раздумье, не зная, как распорядиться своим временем. Наконец решил пойти поискать какое-нибудь местечко, где можно было бы выпить.
— Мистер Крейг, — раздался голос за моей спиной.
Я обернулся. Это была Джуди, бледная и озябшая.
— Вы бы не могли... вы бы не отказались съездить со мной в Каир — ну, выпить что-нибудь или так, вообще? — Ее серые глаза были широко открыты и губы слегка дрожали.
— Не отказался бы... — Я взял ее под руку. Мы подозвали такси, и я велел отвезти нас в город.
Мы молчали, пока автомобиль с грохотом выезжал из ворот аэропорта. Вдруг она прошептала:
— Извините.
— За что? — спросил я.
— Да вот, навязываюсь вам. Я... я не думаю, что вам со мной будет весело.
— Не беспокойтесь. Отдыхайте, и все.
— Постараюсь. — Она закрыла глаза.
В ресторане мы сели за угловой столик.
— Что будете пить? — спросил я.
— Виски.
Я заказал две порции двойного. Мы попытались говорить о пустяках. Не получилось. Когда принесли виски, она молча выпила.
— Может быть, станет легче, если вы мне обо всем расскажете? — предложил я.
— Возможно.
— Это всегда помогает, — добавил я. — И к тому же вряд ли мы встретимся снова.
Она не отвечала. Будто и не слышала. Она неподвижно смотрела на шумную компанию за соседним столиком.
Мне хотелось что-нибудь сделать, чтобы успокоить ее. Но ничего не приходило в голову. Я закурил сигарету и ждал.

Наконец она решилась.
— Всю прошлую ночь я думала о своем отце и об Эрике — что у них там, в Антарктике?..
— Эрик ваш муж?
— Да, муж... Эрик Бланд.
— А ваш отец...
— Он управляющий базой и начальник экспедиции. — Ее пальцы с силой сжимали стакан. — Если бы там не было этого Эрика! — прошептала она. И продолжала с неожиданной яростью: — Если бы его убили на войне! — Она печально посмотрела на меня. — Но ведь убивают всегда не тех, кого следует, ведь правда?
«Уж не любит ли она кого-нибудь другого?» — подумал я.
Джуди снова опустила глаза в стакан.
— Мне страшно, — продолжала она. — Эрик с помощью своей матери — она норвежка — набрал по своему выбору много людей из Саннефьорда и убедил полковника Бланда, чтобы тот разрешил ему поехать на промысел помощником управляющего базой. Не прошло и двух недель после их отплытия из Кейптауна, как он прислал телеграмму, будто мой отец настраивает против него людей из Тёнсберга. Были и еще телеграммы, и вот наконец пришла такая: «Нордаль открыто заявляет, что скоро завладеет всей компанией». Отец никогда бы такого не сказал, особенно перед людьми. Все это рассчитано на то, чтобы поссорить их с полковником Бландом.
— Нордаль ваш отец? — спросил я.
— Да. Он замечательный! — Глаза ее впервые оживились с тех пор, как я ее увидел. — Девятнадцать раз он был в Антарктике. Он так же крепок и... — Она сдержалась и сказала более спокойно: — Понимаете, у Бланда только что был приступ. Сердце. Он знает, что долго не протянет. Вот почему он согласился на то, чтобы Эрик поехал туда. Бланд прекрасно осознает, что у его сына нет достаточного опыта. Но Бланду хочется, чтобы Эрик заменил его в делах компании. Это понятно. Любой отец хотел бы того же. Но он не знает своего сына. Не знает, что тот собой представляет.
— А ваш отец знает? — предположил я.
— Да.
Я взглянул на нее.
— Почему же вы вышли замуж за Эрика Бланда?
— Почему девушка выходит замуж за того или иного человека? — медленно отвечала она. — Это было в 1938 году. Эрик был очень привлекательный: высокий, белокурый и очень живой. Он отличный лыжник, прекрасно танцует и держит красивую маленькую яхту. Все считали, что мне очень повезло.
— А он оказался фальшивкой?
— Да.
— Когда же вы это обнаружили?
— Во время войны. Ведь взрослыми мы стали во время войны. Прежде я только и думала как бы получше провести время... Я училась в Лондоне и в Париже... Но жила ради вечеринок, лыж и прогулок на яхте. Потом к нам в Норвегию пришли немцы. — Ее заблестевшие было глаза снова угасли. — Из Осло тогда исчезли все ребята, которых я знала. Они ушли на север, чтобы принять участие в борьбе: одни — через Северное море на воссоединение с норвежскими силами, другие — в горы, в ряды Сопротивления. — Тут она остановилась. Ее губы были плотно сжаты.
— Но Эрик не ушел... — докончил я за нее.
— Да. — В ее голосе неожиданно вспыхнула ярость. — Ему, видите ли, нравились немцы. Ему нравился нацистский образ жизни. В нем он находил удовлетворение какой-то — трудно сказать словами — жажде самовыражения, что ли. Вы понимаете?
Я подумал о матери, так энергично помогавшей Эрику в подборе экипажа, об отце, который определял его жизнь, не оставляя ему ничего, за что приходилось бы самому бороться. Мне все было понятно.
— Но почему его не интернировали? — спросил я. — Он ведь англичанин?
— Нет. Южноафриканец. Он считает себя буром по отцу, а его мать — норвежка. Немецкая полиция часто проверяла его.
— А был ли полковник Бланд в Норвегии во время войны?
— Нет. В Лондоне. Но мать Эрика оставалась в Саннефьорде. Она очень богата, так что отсутствие отца не было для него столь уж важным... — После некоторого колебания она продолжала: — Мы стали ссориться. Я отказывалась с ним выходить. В большинстве компаний, куда он ходил, были немцы. Потом стало действовать Сопротивление. Я пыталась заставить его присоединиться к ребятам, продолжавшим борьбу. Я от него не отставала, пока наконец он не согласился. Мы считали, что он мог бы быть полезным, учитывая его связи с немцами. Мы забывали, что и немцы могли бы считать его полезным, учитывая его связи с норвежцами. Он отправился в горы для приема очередного груза, который сбрасывали с самолетов. Неделю спустя группа Сопротивления, принимавшая груз на этом же месте, была полностью уничтожена. Но ни у кого не возникло никаких подозрений...
— Кроме вас, — произнес я, когда она остановилась, кусая губы.
— Да. Я это вытянула из него однажды ночью, когда он был пьян. Ведь он... он даже хвастался этим. Это было ужасно. У меня не хватило мужества сообщить об этом руководству Сопротивления. Он это знал, и... — Она быстро взглянула на меня. — То, что я сейчас вам рассказала, не известно никому. Поэтому, пожалуйста... Хотя это не имеет никакого значения. — В ее тоне послышалась горечь. — Да никто бы этому и не поверил. Он так обаятелен... Его отец... — Она беспомощно вздохнула.
— Вы, конечно, никогда не рассказывали ему об этом?
— Нет, — ответила она. — Ни одному отцу не хотела бы я рассказать такое о его сыне... не будь в этом крайней необходимости.
После этого последовало долгое молчание.
— Давайте потанцуем, — вдруг сказала она.
Когда я поднялся, она взяла мою руку:
— Спасибо вам за то, что вы... такой милый.
Танцуя, она прижималась ко мне, а в такси на обратном пути в аэропорт позволила себя поцеловать.
Но когда машина въехала в ворота аэропорта, я снова заметил в ее глазах беспокойство. Она поймала мой взгляд и скривила губы.
— Вот Золушка и снова дома, — сказала она ровным тоном. Затем во внезапном порыве она схватила мою руку. — Это был чудесный вечер, — тихо произнесла она. — Может быть, если бы я встретила такого человека, как вы... — Тут она задумалась...
Нас ожидали. Через десять минут огни Каира уже исчезали под нами, а впереди простиралась черная ночь пустыни.
Было, наверное, около четырех утра, когда меня разбудил звук задвигаемой двери. Из пилотской кабины вышел Тим. Пройдя мимо меня, он остановился возле Бланда и потрогал его за плечо.

— Полковник Бланд, вам срочная радиограмма, — сказал он тихо.
Я повернулся в кресле. Лицо Бланда было бледным и отекшим. Он растерянно глядел вниз, на дрожащую в его руке полоску бумаги.
— Вы будете посылать ответ? — спросил Тим.
— Нет, нет, ответа не будет. — Голос полковника был еле слышен.
— Извините, что в такое раннее время приношу плохие вести.
Тим пошел назад в кабину. Я попытался снова заснуть. Но не мог. Я все думал: что же там такое в этой радиограмме? Почему-то я был уверен, что она имеет отношение к Джуди.
Наступил рассвет, вскоре над горизонтом выросла покрытая снегом вершина Килиманджаро, и мы пошли на посадку в Найроби.
Мы завтракали все вместе, но Бланд ни к чему не притронулся.
Когда все встали из-за стола, я заметил, как полковник сделал Джуди знак, чтобы она с ним вышла. Он отсутствовал недолго и вернулся один.
— А где миссис Бланд? — спросил я его. — Что-нибудь случилось?
— Нет, — ответил он. — Ничего.
Своим тоном он дал мне понять, что это не мое дело.
Я закурил сигарету и вышел. Повернув за угол здания, я увидел, что Джуди одиноко идет по аэродрому. Она брела без цели, как слепая. Я окликнул ее. Но она не ответила.
Я побежал за ней.
— Джуди! — крикнул я. — Джуди!
Она остановилась.
— Что случилось? — спросил я. Ее глаза были безжизненны.
Я схватил ее за руку. Рука была холодна как лед.
— Ну говорите же, — просил я. — Это сообщение, которое ваш свекор получил ночью?..
Она мрачно кивнула.
— Что в нем?
Вместо ответа она разжала другую руку. Я расправил скомканный бумажный шарик.
Это была радиограмма Южно-Антарктической компании — послана в 21 час 30 минут. В ней говорилось:
«ЭЙДЕ СООБЩАЕТ ТЧК УПРАВЛЯЮЩИЙ НОРДАЛЬ ПРОПАЛ ЗА БОРТОМ ПЛАВУЧЕЙ БАЗЫ ТЧК ПОДРОБНОСТИ ПОЗДНЕЕ ТЧК»
Ее отец мертв! Я снова прочел сообщение, думая, что бы ей сказать в утешение. Ведь она так любила отца. Я понял это по тому, как она говорила о нем тогда, в Каире: «Он замечательный!» В радиограмме не сообщалось, как это произошло, не сообщалось даже, был ли на море шторм. Было сказано только одно: «Пропал за бортом».
— А кто этот Эйде? — спросил я.
— Капитан «Южного Креста».
Я взял Джуди под руку, и какое-то время мы медленно шли, не говоря ни слова. Потом внезапно ее чувства вырвались наружу.
— Как это случилось? — вскричала она исступленно. — Не мог же он просто упасть за борт! Всю свою жизнь он провел на кораблях... Там что-то неладно. Да, да, я знаю.
Она заплакала навзрыд, сотрясаясь всем телом и уткнувшись головой мне в грудь...
Продолжение следует
Сокращенный перевод с английского В. Калинкина
(обратно)
О затонувших кораблях, кружении лабиринта и утерянных звонах
 В прошлом, году на Соловецких островах под наблюдением сотрудников Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника работала комплексная экспедиция морского клуба «Волна» Московского авиационного института.
Рассказывают участники экспедиции.
В прошлом, году на Соловецких островах под наблюдением сотрудников Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника работала комплексная экспедиция морского клуба «Волна» Московского авиационного института.
Рассказывают участники экспедиции.

С. Красносельский: Обосновался наш отряд в старинной избе Троицкой спасательной станции. Просторная, на самом берегу губы, она сохранилась хорошо, хотя и прошло почти сто лет со дня ее постройки.
Берега Белого моря были освоены русскими уже к концу XI века. Позднее, в XII—XVII веках, Белое море приобретает общенациональное значение, являясь морскими воротами в Европу и на Восток.
Первыми судами поморов были однодеревные лодки-ушкуи. Подобные лодки-«осиновки» они начали применять и для наледного промысла, придавая корпусу характерные обводы, необходимые для выжимания его льдом, и снабжая полозьями по обеим сторонам киля. Эти суда были непригодны для дальних плаваний. Поэтому появляются более крупные ледовые суда: раньшина, шняка, коч, или кочмара, лодья. Самым крупным из них была заморская лодья. В XII—XVI веках строились лодьи длиной около 25, шириной 7,5 и осадкой около 3 метров. Грузоподъемность таких судов превышала 200 тонн. Хороший суточный ход лодьи считался в среднем не менее 300 верст. Для сравнения можно сказать, что крупнейший корабль Колумба имел водоизмещение около 100 тонн, а корабли английского мореплавателя XVI века Стефена Барроу отставали на ходу от русских лодей. Эти качества лодей вместе с «ледоходностью» делали их уникальными для своего времени.
Нигде в мире не было чего-либо подобного русскому полярному мореходству. Даже легендарные норманнские викинги плавали по северным морям только в летнее время: «Борзы на живой воде, ледовита же пути не любят». Причем русским мореходам плавать приходилось по Белому морю с его сильными течениями, высокими приливами, подвижными льдами и суровым климатом, во тьме полярных ночей.
Это требовало высокой культуры мореплавания, которая была создана обобщенным опытом народа на протяжении веков. У поморов были свои лоции, карты, они обладали обширными знаниями по метеорологии, океанографии и ледовому режиму. Пользовались компасом оригинальней конструкции — «ветромером», или «маточкой». По берегам морей и губ, вплоть до дальних областей Сибири, они расставили навигационные знаки. Первые сведения о развитой лоцманской службе в северной Руси — «вожевом промысле» — относятся к XII веку.
Условия плавания в Белом море, особенно зимой, были очень тяжелыми. По данным «Летописца Соловецкого», в 1561 году в Белом море погибло 15 соловецких лодей. По сравнению с общим количеством кораблей на Беломорье это немного. Достаточно сказать, что их число на 1580 год, по приблизительным подсчетам Бадигина, известного советского исследователя полярных плаваний, приближалось к 25 тысячам, а количество промысловых людей достигало, по-видимому, 125 тысяч человек.
Троицкая спасательная станция «устроена на одном из Соловецких островов в Троицкой губе Анзерского острова, по северную сторону которого на расстоянии 2 миль находится каменистый Троицкий стамик, ничем не огражденный и потому опасный для морских судов». С 1875 года Троицкая спасательная станция стала постоянной, а вольноопределяющихся гребцов на ней с согласия Соловецкого монастыря заменили монастырскими послушниками.
Поиски в архивах дали нам названия и приблизительные координаты 16 судов, которые в конце прошлого и начале этого веков согласно донесениям атамана Троицкой спасательной станции настоятелю монастыря погибли в районе станции.

Вообще отчеты о крушениях немногословны: дата, состояние моря, причина и белее или менее печальный результат.
В отчетах «Общества взаимного страхования поморских судов» координаты крушения указываются просто — «каменистый риф у Троицкой избы», а то и еще неопределенней — «около Анзерского острова».
Пытаемся представить, где же может лежать «розбойное (разбитое) судно», потерпевшее крушение на Троицком стамике (стамиком здесь называют каменистую мель). Если судно село на камни в прилив, его могло ветром стащить в любую сторону. Если набежало на стамик в отлив, что тоже возможно в ночное время или при потере управления, его скорее всего сняло прибылой водой. Тогда надо искать с западной стороны стамика.
Антон Макаренко — капитан парусно-моторной шхуны «Грумант», пришедший из Архангельска, чтобы принять участие в наших поисках, настроен скептически:
— Здесь зимой такие торосы ходят, что все дно выглажено.
— Ну они, скажем, до глубины пяти-шести метров дно выгладили. Значит, надо на большей глубине искать.
Выявляется первоначальный район поисков — площадью полтора квадратных километра. Даже если проходить его разрезами через 25 метров, это 80 полуторакилометровых проходов. Вообще, когда начинаешь что-то искать в море, особенно такую «мелочь», как затонувшее судно, понимаешь, какое оно большое, это море. Размечаем акваторию, ставим вехи на крестовине из бревнышек.
Акваланга хватает на один проход. Казалось бы, небольшой труд — болтаться на буксире. Но усилия, затрачиваемые на сохранение равновесия, постоянные изменения глубины и холод вызывают повышенный расход воздуха. Пока протаскивали второго водолаза, погода ухудшилась, небо заволокло, усилился ветер.
По морю ходят короткие злые волны. Их образуют совместными усилиями ветер и приливное течение. Сейчас самый «жар воды», то есть наиболее сильное течение. На такой волне даже влезть в карбас по нашему веревочному трапу для увешанного металлом водолаза задача непростая.
Под водой Костя Елизаров — один из самых опытных аквалангистов.
— Веду круговой поиск... Какое-то колесо. Тащите!..—У борта лодки появляется Костина голова в шлеме. К груди он прижимает массивный диск. Очистив его от ила, убеждаемся, что это действительно колесо, сделанное из спила толстенного ствола с железным ободом и массивной свинцовой втулкой. Пока гадаем, к какому времени оно могло относиться и для чего служить, Костя находит на дне деревянный судовой блок солидного размера.
Продолжаем обследование дна по выработанной методике. Выходить на стамик удается не каждый день. То волна слишком велика, то пасмурно и видимость под водой сокращается до нескольких метров, а то просто ломается какой-то из наших агрегатов.
Так и прошел месяц — незаметно и быстро. Из крупных находок — бревно со старинными коваными гвоздями, железная якорная цепь, но насколько она древняя, определить с ходу было невозможно... Прямо надо сказать — мы надеялись на большее. И вдруг...
Перед самым отъездом, в конце августа, Василий Николаевич Кучеров, старый мастер по добыче водорослей, сказал как бы между прочим:
— Был там остов корабля большого, как раньше ходили... Но по времени уже должно порушить, здесь лед не стоит — течения большие. Вот торосы могли срезать...
— Василий Николаевич, а где это «там»? Стамик?
— Да нет, поправее, километра три от берега.
В последние дни перед отъездом была волна, и мы так и не смогли выйти на указанное место.
Когда уезжали, Дима Кравченко, остающийся со своей группой добычи агар-агара, успокоил меня:
— Постараемся туда сходить, хотя бы взглянуть.
Д. Кравченко: Как только погода наладилась, начали траление. Наш трал — это двести метров капронового шнура, заглубленного грузилами и поплавками на пять метров. Уходили в море рано утром, возвращались, когда темнело. Все зацепы — топляки.
На пятый день Аркадий Корольков предложил обследовать обсыхающую во время отлива часть рифа. Предложение деловое, странно, почему нам раньше не пришло в голову... Вернулись ребята в сумерках. И по тому, как они крадучись подошли к причалу и тихонько разгрузились, стало ясно: что-то произошло. Аркадий вытащил из-под штормовки и положил на стол обросший водорослями и мелкими ракушками кусок дерева.
Среди камней рифа ребята заметили торчащую лапу адмиралтейского якоря. Он был завален камнями и почти полностью замыт песком. Очистить его не удалось. Якорная цепь, оранжевая от ржавчины, уходила вглубь. Надев гидрокостюм и подключившись к аппарату, Аркадий, перебирая цепь руками, спустился на глубину 13 метров. Цепь зарывалась в песок.
— ...Я его сначала за обросший камень принял: стало сносить меня в сторону, ну я за него и ухватился. Представляешь, он вертикально стоит, наполовину в песке, потянул я за куст «капусты», а он на моих глазах переворачивается.
...В море вышли, как только рассвело. Из трех вех, поставленных накануне, осталась одна, остальные сорвало ночным штормом. Первым под воду ушел Аркадий. Страховочный конец дернулся. Условный сигнал. Я вываливаюсь за борт. Вижу Аркадия — он ножом режет стебли ламинарии. И там, где водоросли срезаны, из песка выступают куски дерева. Показываю Аркадию, что надо попытаться расчистить их хотя бы до основания. Минут десять разгребаем песок, но понимаем бесполезность своих попыток: чтобы добраться до их основания, наших сил явно недостаточно.
Аркадий складывает руки крестом. Это сигнал к немедленному всплытию: кончается воздух.
...Карбас болтается на якорях. Определяем по шлюпочному компасу место наших работ, хотя о том, что именно мы «зацепили», говорить пока нельзя.
С. Ковалевская: Наш отряд возник стихийно. В предыдущее лето над полуостровом Колгуев шел пожар. Горела пересохшая трава, кустарник — так Колгуев открыл древности далеких тысячелетий, до пожара спрятанные под растительным покровом. У нас не было «открытого листа», то есть права проводить раскопки. Но по заданию Соловецкого музея мы начали разведочные обследования.
Колгуев — настоящий археологический заповедник. Недаром даже в своем полевом отчете начальник археологической экспедиции, работавшей здесь в 1971 году, А. Куратов назвал полуостров «крупнейшей резервацией древних культовых сооружений не только на Анзере, но и на Соловках». В этом таинственном археологическом музее «выставлены» необычные экспонаты: дольмены и каменные курганы, гурии и могильники. И наконец уже не одно столетие вызывающие споры загадочные кольца и лабиринты, выложенные валунами.
О происхождении лабиринтов, которые выкладывались на огромной территории — от архипелага Силли (Англия) на западе до Кольского полуострова и Соловецких островов на востоке, их назначении написаны сотни работ, но единого мнения среди ученых нет и до сих пор.
Попытки объяснить их назначение предпринимались еще в средние века. В конце XV века, например, утверждали, что лабиринты являются «бесовскими» сооружениями. Видимо, многие из отцов церкви разделяли это мнение, и поэтому на земле «святой обители» возле лабиринтов выкладывался крест для очищения земли от «языческой нечисти». А может быть, кресты выкладывались не по велению святых отцов?
Некоторые исследователи связывают лабиринты с хороводными танцами современных северных народов Европы, которые ведут свое происхождение от древних культовых плясок.
Во время работы экспедиции А. Куратова все верхнее плато мыса было затянуто толстым покровом мха, скрывавшим невысокие каменные оградки могильников. «Здесь обнаружены, — написано в отчете экспедиции, — две каменные грядки четырехугольного очертания. По приближенным подсчетам, древних каменных сооружений на мысе около полусотни. В комплексе они составляют гигантский каменный пантеон — первобытное святилище, которое, без сомнения, заслуживает всестороннего исследования, включая широкие раскопки».
Сейчас эти сооружения «вышли» на дневную поверхность, и мы насчитали уже около полутора сотен таких сооружений! Древнее кладбище опоясывает Колгуев с северо-востока и тянется широкой полосой вдоль побережья, повторяя его изгибы.
Случайна ли такая «привязка к морю» лабиринтов и могильников?
К изучению могильников мы привлекли группу прибористов, которая занималась поиском затонувших колоколов.
Все материалы — обмеры, зарисовки, чертежи — мы подготавливаем для передачи в фонды Соловецкого музея.
...Если бы у нас был открытый лист.

А. Захаров: ...Голгофа открылась неожиданно. Невысокий, но крутой холм венчался белоснежным Свято-Распятским скитом. Внезапно с Голгофы донесся отчетливый каменный стук. Дорога к скиту, как к сказочному замку, несколько раз огибает гору. Мы продирались сквозь заросли иван-чая, который, несмотря на июль, и не думал цвести. Потом кружить надоело, и мы полезли напрямик, цепляясь руками за кустарник. Под ногами трещали ломкие сучья. Стук прекратился. Мы замерли, прислушались. Из-под чьих-то ног посыпались камни, и в гулкой утренней тишине явственно различались осторожные удаляющиеся шаги. Когда мы наконец добрались до скита, там не было ни души. Мы забрались на колокольню. Внизу лежал как на ладони красавец остров Анзерский. С трех сторон Голгофу окружали неподвижные зеркальные озера. За озерами вставали поросшие лесом холмы, а за холмами лежало свинцовое Студеное море.
В 1712 году бывший духовный наставник Петра I иеросхимонах Иов, сосланный на Соловки по таинственным обстоятельствам, основал на горе Анзера, названной Голгофа, уединенный деревянный скит, который начал быстро богатеть. Члены царской фамилии не забывали Иова и жертвовали в его пользу немалые средства. Слава о богатствах на Голгофе быстро распространилась по округе. Иов уже намеревался приступить к строительству каменных зданий, когда на скит обрушилась беда: в 1718 году он был разграблен «разбойными людьми», а братия нещадно избита. Лишь в 1830 году на Голгофе была построена каменная колокольня. На нее подняли восемь колоколов, по всей видимости, соловецкого литья. Но скиту так никогда и не удалось вернуть себе славу и богатство.
С первых же дней революции Соловецкий монастырь оказался в стане врагов Советской власти. Но вот наступил 1920 год, и в феврале Красная Армия вступила в Архангельск. Зимой Соловки недосягаемы. Белое море не замерзает даже в самые лютые морозы. Лишь у берегов и вокруг островов образуются многокилометровые припаи льда, разделенные полыньями. Навигация возобновляется в мае — июне. Около трех месяцев оставалось у монастыря на эвакуацию своих богатств. Из-за этих-то трех месяцев и появились слухи о несметных сокровищах, которые успели монахи спрятать в соловецкой земле.
Слухи эти смешны и наивны. Все оставшиеся ценности были эвакуированы к 1924 году несколькими музейными комиссиями из Москвы и Петрограда. Затем почти двадцать лет каждую пядь здешней земли исследовало Соловецкое общество краеведения. Одних произведений иконописи было собрано около двух тысяч. И вот только по странному недосмотру из поля зрения выпали колокола. Всего на Соловках их было пятьдесят пять. Сорок два висели в кремле, пять — в Троицком скиту, восемь — на Голгофе. Сейчас же в Соловецком музее только два колокола. Где же остальные? Музеем предпринимались поиски колоколов в 1973 году, но безуспешно.

Об этих колоколах ничего не могли нам сказать ни Г. А. Богуславский, автор книги «Острова Соловецкие», долгие годы изучающий соловецкие архивы, ни П. Д. Барановский, член одной из музейных комиссий 20-х годов, ни А. А. Карпов, в те же годы производивший обмеры Соловецкого монастыря. Правда, А. А. Карпов вспомнил одну интересную подробность:
— Заодно с обмерами мне было поручено выяснить, куда исчезли некоторые ценности из ризницы. Но монахи как воды в рот набрали. На все расспросы у них один ответ: «Не знаю». Лишь однажды... «Какие замечательные вещи были в монастыре! Им бы в музее находиться. Неужели в пожаре сгорели?» — спросил я. И услышал: «Да не сгорели». — «А где же они?» — «Ушли». И, словно спохватившись, что сказал лишнее, монах замолк, опустил голову и не произнес больше ни слова...
История соловецких колоколов берет свое начало с каменного «клепала», творения одного из основателей монастыря Зосимы. При знаменитом Филиппе Колычеве, начавшем строительство исполинских сооружений, которые дожили до наших дней, были отлиты «великие» колокола. Самый большой из них весил 173,5 пуда. В 1600 году из 600 пудов меди, пожалованной Борисом Годуновым, с добавлением 100 пудов меди монастырской был вылит колокол «Борисович». В 1762 году он был перелит, весил уже 995 пудов и назван «Преображенским». А в 1774 году с прибавкою меди монастырской его вес был доведен до 1100 пудов. Вторым на Соловках был колокол «Литийный» в 527 пудов, затем «Полиелейный» весом в 284 пуда и «Вседневный Соборный» в 283 пуда. Когда на Соловках начинали звонить, то звук долетал до Кеми и тогда жителям прибрежных сел казалось, что звон исходит из глубин Белого моря... Обрывается история колоколов пожаром 1923 года.
С тех пор о колоколах соловецких ничего не известно. Они как в воду канули. Впрочем, поговаривают, что именно в воду... Кто-то видел сам, а потом рассказывал, как монахи кидали колокола в озеро, как, ломая кустарник, катились они с горы в воду. Кто-то ощупывал их уже на дне — правда, уже другого озера. Кто-то даже пытался вытащить их (из третьего, озера), но силенок у трактора не хватило. И так далее. Короче, судя по рассказам, колокола могли лежать в каждом из почти пятисот озер архипелага. И мы приступили к поискам в озере Банное. Расчет был прост. Озеро веками использовалось монахами для хозяйственных нужд. Если не колокола, то какие-нибудь бытовые предметы в нем есть.
Работать под водой можно было только при полуденном солнце. Но и тогда видимость была не больше метра. Стрелка металлоискателя растворялась в мутной воде уже на расстоянии вытянутой руки. Одно неосторожное движение ластами — и со дна поднимались клубы ила, слой которого достигал местами полутора метров. Наземный же поиск можно было вести только в пасмурную погоду или поздно вечером. Иначе солнце раскаляло рамку прибора, и он терял чувствительность. Тем не менее груда находок, возвышавшаяся посреди палаточного городка, стремительно росла. Мощные двадцатисантиметровые кованые монастырские гвозди, украшенные затейливым рисунком осколки печных дверей, замысловатые детали каких-то неведомых механизмов; венчало коллекцию копье с изъеденным древком и длинным тонким стальным наконечником. Наконечник в сечении был квадратным, а на гранях были сделаны канавки («копье» оказалось старинной пешней для колки льда). Но колоколов не было.
Мы работали под руководством старшего научного сотрудника музея Николая Ивановича Шилова. Долгими вечерами увлеченно разговаривали мы о Соловках, о тех перспективах, которые раскрываются перед заповедником после принятия нового Закона об охране и исследовании памятников старины.
...Очень страдают Соловки от пожаров из-за небрежного обращения с огнем. Вот несколько лет назад остановились туристы в доме у Троицкого скита. Хотели разжечь неисправную печку. Дом загорелся. Они тушить бросились, а ни багров, ни ведер нету. Два перочинных ножичка да топорик на всех. Так одни угольки да печка от дома остались...
— Так ведь на Анзерский въезд только по разрешению заповедника... — говорю я и замолкаю на полуслове. Не раз на Голгофе появлялись «дикие» туристы. Откуда?
...Анзерский остров — заповедник в заповеднике. Сокровищница археологических, исторических и архитектурных памятников. На Анзер «заказана» дорога даже организованным туристам. Год от года дирекция Соловецкого музея вынуждена сокращать приток посетителей острова строгой заповедности. Это вызвано беспокойством за сохранность памятников.
И все же за два летних месяца мы препроводили с острова несколько «нелегальных» туристов — тех, кто самовольно, без ведома музея решил попасть сюда.
Анзер заслужил такую популярность, но он заслужил и почитание... Испачканы стены Распятского скита. Внутри помещений разными людьми в разное время, предпринимались самовольные раскопки.
Огромную работу по спасению и охране памятников проводит Соловецкий историко-архитектурный музей. Но...
— Контролировать трудно — штат пока мал. Впрочем, со следующего года в музее патрульный катер будет, — говорит Шилов.
Рассказали мы как-то про странный стук, который слышали на Голгофе ранним утром первого нашего экспедиционного дня.
— А это еще одна напасть. Кладоискатели. Как мухи на мед к нам слетаются.
— Кладоискатели на Голгофе? Скит-то бедный был. По книге вкладов, там всего два-три серебряных креста, и те в соловецкой ризнице хранились. А помнишь, у Пришвина — любая общепитовская столовая даст сто очков вперед их трапезной?
— Это ты читал Пришвина и историю монастыря. А он дикарь. Слышал басни, вот глаза и разгорелись. Он, может, один такой на тысячу, но вот придет ночью с кувалдой и крушит, что под руку попадет. Судить за это надо.
...После озера Банного мы обследовали металлоискателем озера Садка и Большое Гблгофское. И снова — все, что угодно, кроме колоколов. Тайна соловецких колоколов так и оставалась тайной...
Но вот однажды паутинка ссылок и очевидцев привела нас в семью Анны Ильиничны Бронниковой, заслуженной учительницы, кавалера ордена Ленина. Самой Анны Ильиничны дома не оказалось — уехала в Архангельск. Нас встретил ее сын — Энгельс Бронников. 18 лет назад, в 1958 году, сопровождал Энгельс экспедицию К. П. Гемп. Ксения Петровна, выдающийся ученый-биолог, занималась разведкой запасов ламинарии вокруг Анзерского. Ходили, конечно, и по острову. На горе Голгофа, но не на колокольне, а просто так, на двух столбах висел колокол. Даже фотография есть, где Энгельс рядом с ним снят. А куда он потом делся — неизвестно. С Ксенией Петровной связаться мы не смогли. И только лишь в Москве получили письмо сотрудника музея О. Шапошник, которая расспросила Ксению Петровну о колоколах.
И вот что она сказала. При перевозке колоколов с Соловецких островов на материк в 1924 году (значит, все же их вывозили!) теплоход «Поморье» (или «Карелия») с баржей, выйдя из бухты Благополучия, наткнулся на мель чуть западнее Песьих луд. Там и затонула баржа с колоколами. Ксения Петровна даже очертила район, где это могло произойти.
...Если бы мы это знали раньше!
Комментарий директора соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника Л. В. Лопаткиной
Я понимаю чувство неудовлетворенности ребят. Но не принимаю его. Слишком большие цели они поставили перед собой — на первый же полевой сезон.
Утешать не буду — видимо, это бесполезно. Просто подведу итоги хотя бы того «невезучего» отряда, что занимался поисками колоколов. Да, пока колоколов нет, но за довольно короткое время ребята собрали и обработали свидетельства очевидцев — и кто знает, сколько крупиц истины выявят они при дальнейшем «камеральном» изучении; провели планомерный осмотр дна большей части озер Банное, Садка и Большого Голгофского, где, по преданиям, были затоплены колокола, — и во время поисков были собраны данные, интересующие гидрографов, биологов, почвоведов, а нам переданы предметы музейного значения. И кроме того, нам кажется, что сообщение Ксении Петровны Гемп обнадеживающее. Именно поэтому дирекцией музея принято решение о продолжении экспедиции с участием клуба «Волна» на Соловецких островах в 1977 году.
Никакую «Трою» наскоком «кавалерийским» не откроешь. Мы взялись за долгое, кропотливое, но очень благородное дело. И думаю, не случайно начало экспедиции совпало с принятием чрезвычайно важного, своевременного Закона об охране и исследовании исторических памятников.
(обратно)
Со всех сторон — море

Единственный город, порт и столица этого острова, носит название Джемстаун. Над причалом нависает черная и влажная скала. У подножия грозной глыбы приютилась маленькая, словно рампа театральной сцены, набережная, отгороженная от города высокой каменной стеной. И далеко не сразу удается заметить в этом массивном сооружении замаскированную зеленью арку с гербом — «парадный подъезд» острова Святой Елены.
На площади, прилегающей к порту, высится церковь святого Джемса. Ее шпиль прежде всего виден кораблям, входящим в бухту Джемс.
Слева еще одна стена. За ней виднеется крепость, в далеком прошлом форт Ост-Индской компании, а ныне островной административный центр. Отсюда нити управления тянутся далеко за пределы Святой Елены. Джемстауну подчинены острова Вознесения, Гоф и Тристан-да-Кунья. Огромные расстояния отделяют их друг от друга. Остров Вознесения лежит почти у самого экватора, Гоф и Тристан-да-Кунья — близ черты «ревущих сороковых» широт. Пожалуй, трудно найти другую такую маленькую столицу — население ее всего 1600 человек,— управляющую столь широко раскинувшимся «архипелагом».
В площадь упирается Мэйн-стрит — в буквальном переводе и по сути своей «главная улица» города, да и всего острова Святой Елены. Количество стоящих вдоль тротуаров Мэйн-стрит машин — в расчете на каждого жителя — ничуть не меньше, чем в любой европейской столице. Казалось бы, зачем на крошечном острове столько автомобилей? Но в том-то и дело, что автомобиль тут воистину «не роскошь, а средство передвижения», причем гораздо более нужное, чем в Париже или Вене, где и шоссейные дороги не так круты, и в достатке имеется общественный транспорт, и кружной путь всегда длиннее прямого (здесь, на гористом островке, — наоборот!).
На Мэйн-стрит все «главное»: главные магазины, главные мастерские и притягательный для всех без исключения иностранных туристов главный почтамт. Только здесь можно купить уникальные марки с изображением четырех островов заморской британской колонии. С таким соблазном не властны справиться даже люди, к филателии абсолютно равнодушные. И в день, когда чужеземцы высыпают с океанского лайнера на Мэйн-стрит, в маленьком помещении почтамта вырастает очередь — явление для Святой Елены из ряда вон выходящее...
Глава историческая: «как провалилась конспирация»
...Долгие дни ничто не нарушало одуряющего однообразия забывшегося в жаркой дремоте океана. И вдруг облако... Самое настоящее облако на горизонте!
Команда встрепенулась. Жоао да Нова Костело и его матросы прекрасно знали, что тучи нередко предвещают сушу задолго до того, как появится сам берег.
Облако выросло, вспорхнуло над океаном, и между ним и водой проглянул еле заметный силуэт земной тверди. Правда, прибрежный ландшафт, развернувшийся вскоре перед моряками, согнал блаженные улыбки с лиц первооткрывателей. Мрачные, обрывающиеся в море скалы не вселяли надежд на благополучную высадку. Поначалу вообще казалось, что обнаруженный остров — это сплошная неприступная скала. Но Жоао да Нова решил обогнуть новооткрытую землю. Моряки с напряжением всматривались в пепельно-серые, зеленоватые, красно-бурые обрывы.
В конце концов португальцы отыскали единственное место, где раздавшиеся скалы открывали путь к зеленой долине, сжатой каменистыми грядами. Долина убегала в глубь острова и терялась среди холмов, густо поросших лесом.
В этот день, 21 мая 1502 года, католическая церковь славила первого среди владык Рима христианского императора Константина и его мать Елену, причисленных к лику святых. Имя Елены и получил открытый португальцами остров.
Высадившиеся на остров моряки нашли все, о чем мечтали: и вкусную родниковую воду, и фруктовые деревья, и пернатую дичь. Не нашли они только людей: остров оказался необитаем. Ну что же, тем лучше — никому не доказывая своих прав, можно безраздельно пользоваться неожиданным и щедрым подарком судьбы.
Узнав об открытиях Жоао да Нова, Португалия задумала превратить свое новое владение в промежуточную базу для кораблей, совершающих многомесячные походы в Индию за пряностями.
Для начала на крошечный, еще не тронутый цивилизацией клочок земли завезли коз. Животные быстро освоились на новом месте и за несколько лет расплодились в неимоверном количестве. Теперь остров стал не только портом, где можно было укрыться от бури и подремонтировать корабли, но и «кладовой» с неограниченным запасом мяса. И чтобы без особых осложнений сохранить эту морскую базу за собой, решили держать открытие в строгой тайне. Благодаря тщательной конспирации остров Святой Елены оставался засекреченным более восьмидесяти лет. Однако в 1588 году англичанин сэр Томас Кавендиш, совершавший кругосветное плавание на корабле «Желание», обнаружил остров, высадился на него и не меньше португальцев восхитился его прелестями. Л пуще того сэра Томаса поразили многотысячные козьи полчища: некоторые стада, бродя в поисках пищи, растягивались почти на милю. Обо всем увиденном Кавендиш соответственно доложил, но в отличие от»Португалии Англия не стала делать тайны из своего открытия. А вскоре торговые суда многих стран, но
чаще английские и голландские, стали прокладывать свои курсы с таким расчетом, чтобы непременно посетить крошечный оазис в безбрежной морской пустыне.
Глава современная: «самый беспомощный город»
Существует такой недуг — боязнь замкнутого пространства, клаустрофобия. Нечто подобное испытывает житель большого европейского города, оказавшись в Джемстауне на улице Наполеона. И не удивительно: сразу же за домами, в один-два ряда вытянувшимися вдоль узкой асфальтированной полоски, вверх круто уходят склоны трехсотметрового ущелья.
Новому человеку трудно передвигаться быстро по такой улице. Скалистые стены наступают с обеих сторон, давят на прохожего, кажется, что и дышать здесь труднее, чем на открытом пространстве. Но, даже пройдя улицу из конца в конец, путник не выбирается из ущелья. Те же каменные склоны, та же теснина...
Здесь не так чисто, как в портовом районе, дома победнее, но зато вплотную к жилью подступает небольшой тропический лесок, и прямо на улице местная детвора плещется в самодельном бассейне-лягушатнике с проточной водой.
Куда направиться дальше? Можно повернуть назад, можно взобраться по склону к шоссе, ведущему в глубь острова. Но, выбравшись из ущелья, путник, прежде чем отправиться дальше, обязательно бросит взор на только что покинутый «мир клаустрофобии». Одним взглядом окинет он весь Джемстаун целиком — едва ли не самый узкий и самый беспомощный в мире город, чьи пределы ограничены природой раз и навсегда. Отсюда удивительно ясно видны малометражные каменные дворики, отчетливо слышны голоса людей. Среди старых, потрепанных временем низеньких домов выделяются элегантные трехэтажные жилые новостройки, выкрашенные в разные цвета. Счетом их четыре...

Есть над Джемстауном еще более высокая смотровая площадка, но для того чтобы добраться до нее, надо вернуться в портовую часть города к лестнице Джекобса. Это уникальное сооружение в 699 ступеней считается самой высокой в мире однопролетной лестницей под открытым небом. Угол наклона ее — сорок пять градусов, высота по вертикали — четверть километра.
Лестница — не прихоть отцов города, пожелавших хоть в чем-то захватить мировое первенство. Не будь этих бетонных ступенек, пришлось бы проделывать кружной путь в три-четыре километра. Трудно представить, что по такой крутой и высокой лестнице вообще можно передвигаться. Однако местные ребятишки эту точку зрения не разделяют. Высоту они набирают без единой остановки, а спускаются не иначе как бегом. Да что ребятишки! На моих глазах женщина лет семидесяти преодолела это невероятное препятствие лишь с одной остановкой. Я же останавливался, шел вверх, снова останавливался — и лишь старался сделать вид, что передышки мои вызваны всего-навсего желанием лишний раз насладиться панорамой города и побережья.
Глава историческая: «лучшее место для ссыльных»
Долгие годы остров Святой Елены не имел единоличного хозяина, и все многочисленные гости заходили сюда на равных правах, а потом хозяин все-таки объявился. Им оказалась Голландия, решившая, что именно она имеет наибольшие права, а посему взяла и присоединила в 1633 году остров к своим владениям. Далее история развивалась весьма бурно. Святая Елена перешла в руки английских колонистов, голландцы не отступились и колонистов одолели, но и сами удержались на острове недолго. Более полутораста лет здесь властвовала Ост-Индская компания — хоть и английское предприятие, но тем не менее вполне самостоятельное, — и лишь в 1834 году остров стал безраздельной собственностью британской короны.
Вывезенные из Африки негры прокладывали дороги, возделывали джут, расчищали участки под лен, строили дома. Благодатные условия жизни, казалось, должны были превратить эту британскую колонию в перворазрядный курорт: ведь, несмотря на близость экватора, остров не досаждает жителям и приезжим ни тропическими ливнями, ни изнуряющим зноем. И все-таки решающее в судьбе острова слово сказал отнюдь не климат. Посмотрим на карту: ближайший мыс западного берега Африки удален от Святой Елены на 1900 километров, а южнеамериканский берег и того дальше — более чем на 3 тысячи. И, когда представился случай, правительство Великобритании решило, что лучшего места для ссыльных не найти.
Этим историческим случаем было второе отречение от престола и сдача в плен злейшего врага Великобритании, французского императора Наполеона I. На новое место жительства Бонапарта за два с половиной месяца плавания доставил фрегат «Нортумберленд». И 15 октября 1815 года император ступил на остров, ставший последним его обиталищем. Наполеону и его свите предоставили просторное здание в Лонгвуде, местечке, расположенном в горах над долиной.
Дом-музей — просторное строгое здание розового цвета, лишенное каких-либо архитектурных украшений, — почти без изменений сохранился до наших дней.
Самые ценные экспонаты музея перекочевали в Париж, где их видят не единицы, а миллионы людей. Здесь же остались посмертная маска императора, бильярдный стол, образцы оружия, военные мундиры различных родов войск и коллекция орденов. На том самом месте, что и полтора столетия назад, стоит походная койка Наполеона. Некоторая нехватка предметной экспозиции с лихвой восполняется обилием экспонатов живописных, рассказывающих об эпизодах из жизни Бонапарта.
Шесть лет жил Наполеон в Лонгвуде, а когда скончался, его похоронили в глубокой лощине, закрытой от солнца гигантскими секвойями и араукариями.
В 1840 году эскадра французских военных парусников по согласованию с английским правительством переправила прах Наполеона со всеми почестями в Париж. А в лощине, посреди хрустящего ковра из листьев, хвои и мелких сучьев, осталась безликая белесая плита, окруженная незатейливой железной изгородью.
И на долгие годы остров стал местом ссылок политических противников Англии. Здесь содержался предводитель зулусского восстания Зулу Великий — Динизулау. Сюда в первый год XX столетия прибыли 500 военнопленных буров, а за последующие два года число их возросло до шести тысяч! Для крохотного островка — не более 18 километров в длину, 11 в ширину — цифра, прямо скажем, внушительная. Буры трудились упорно и не только обеспечили себе житье-бытье, но и принесли острову процветание. Многие из них по прошествии нескольких лет обзавелись семьями и остались здесь жить навсегда.
Глава современная: «...селиться не рекомендуется...»
Наверное, вежливость и предупредительность вообще свойственны жителям небольших островов, ведущим размеренный, неспешный образ жизни. Если вы о чем-то спросите святоеленца, он не просто ответит на вопрос, а сделает это с нескрываемым удовольствием. Если, гуляя по Джемстауну, вы увидите отдыхающего на крыльце своего дома человека, не думайте, будто это ваш старый знакомый, когда он метров с двадцати начнет улыбаться и кивать вам головой. И если вас, пешего, догонит в пути машина, она обязательно остановится, и водитель предложит подвезти.
...Вечером, когда с окружающих ущелье скал на город наползает широкая тень, к причалу потихоньку стягиваются освободившиеся от дневных забот люди. Идут мужчины и женщины, с детьми и в одиночку. Идут, чтобы полюбоваться океаном, ракетными взлетами дельфинов, стоящими в бухте лодками, яхтами и, если повезет, большими океанскими судами.
Пляжа нет, поэтому никто не купается, лишь несколько отчаянных мальчуганов, вооруженных масками, трубками и пиками, презирая опасности тропических вод, охотятся на некрупную прибрежную живность.
К пристани, согнувшись под тяжестью огромного тунца, бредет юноша. Свою добычу он тащит на плечах наподобие коромысла. Тело рыбы отливает голубым цветом, плавники желтые, глянцевые, словно только что выкрашены эмалью. Рыбак аккуратно снимает ношу и усаживается рядом. Он будет сидеть так и час и два в ожидании покупателя.
Неторопливость местных жителей могла бы войти в пословицу, если бы... кому-нибудь была охота заниматься здесь пословицами.
Не торопится за прилавком продавец. Дорожники, призванные мостить битым камнем пробелок, большую часть дня созерцают океан или отдыхают в тени деревьев. Рабочий, с мачете в руке расчищающий трассу для телефонного кабеля, рубит не каждый куст сизаля, а как бог на душу положит; остальное он, может быть, срубит завтра, может быть, никогда, а может быть, это сделает кто-нибудь другой. Куда спешить?..
Было время, когда Святая Елена числилась в ряду экономически рентабельных территорий. Тогда джут, главный предмет островного экспорта, пользовался популярностью. Но появились синтетические волокна, и дела пошли на убыль. Не могут поднять экономику острова и другие отрасли хозяйства: разведение новозеландского льна или выращивание бананов.
Полусонные темпы более всего заметны в жилищном строительстве. Причин три: нехватка рабочей силы, почти полное отсутствие местных строительных материалов и дороговизна земельных участков. Впрочем, честно говоря, их почти и нет — свободных участков. Везде, где можно, дома уже поставлены и даже нанесены на карту. Вот почему появление нового здания или продажа старого — событие на острове заметное.
Мирно почивают и средства информации. Частный кинематограф Джемстауна (другого нет) трижды в неделю показывает звуковые фильмы. Раз в месяц специальная правительственная служба демонстрирует в городе и сельских районах 16-миллиметровые звуковые документальные и видовые фильмы. И — все... Житель Святой Елены никогда не встает перед выбором, какой местный журнал или газету приобрести: властями выпускается в свет лишь одно-единственное издание — еженедельник на четырех страницах небольшого формата. Этот печатный орган знакомит жителей с местными, а заодно и мировыми новостями. Разумеется, телевидения здесь нет и в помине. Так что человек, сменивший суетливый материк на уютный остров, очевидно, довольно скоро заскучает.
Впрочем, никто и не зазывает сюда гостей надолго. Провести короткий отпуск — пожалуйста, иное дело — намерение приехать в колонию навсегда.
Власти острова деликатно отпугивают потенциальных иммигрантов предупреждением о том, что «для случайных поселенцев здесь существует очень мало возможностей заработать на жизнь».
Немаловажен и еще один аспект — медицинский.
В Джемстауне есть хорошо оснащенный госпиталь. В нем трудятся три врача, один дантист и несколько медицинских сестер. Все они на государственном обеспечении. Вроде бы врачи располагают всем необходимым для поддержания здоровья своих пациентов. Но... Святая Елена удалена от материков, и из-за нерегулярной пароходной связи (аэропорт на острове до сих пор еще не появился) квалифицированная помощь специалиста может не успеть вовремя. Посему «инвалидам и полуинвалидам на острове селиться не рекомендуется», а тем, кто живет здесь давным-давно, по-видимому, не рекомендуется и болеть.
Глава историческая, переходящая в современную: «обломок погибшего мира»
Неверно думать, будто бы Святой Елене «везло» только на ссыльных. Историки острова хранят память о посещениях знаменитых людей, и прежде всего о визите великого Чарлза Дарвина. В 1836 году, возвращаясь на родину из кругосветного путешествия, в бухте Джемс бросил якорь прославленный парусник «Бигль».
Увы, творец эволюционной теории почерпнул бы для своих исследований во сто крат больше, если бы увидел здешний уникальный растительный мир до вторжения цивилизации. Но флора, которую застал Дарвин на острове, по выражению современного английского ботаника Джона Хатчинсона, уже представляла собой «обломок погибшего старого мира».
В одном из своих трудов, опубликованных сразу после второй мировой войны, Хатчинсон пишет:
«Когда этот остров открыли около 400 лет назад, он был весь покрыт густыми лесами — деревья нависали над обрывами, круто уходящими в море. Какой разительный контраст с нынешним видом острова! Теперь его флора состоит в основном из иноземных растений, которые способствовали уничтожению местных видов. Как жаль, что люди и животные почти полностью уничтожили этот музей древностей.
Прежде на острове насчитывалось около 40 видов эндемических (сугубо местных) цветковых растений. Они исчезли из-за расчистки земли под поля и прожорливости коз...» (вспомним мясную кладовку португальцев!).
Наглядной иллюстрацией к цитате может служить тот же Лонгвуд — в переводе с английского «длинный», или попросту «большой лес». Где же он? Две сотни искривленных старых деревьев неподалеку от наполеоновского дома — вот и все, что осталось от некогда мощного лесного массива в несколько сотен акров. Уже к началу XVIII века он был почти полностью сведен на нет. Пострадали и другие, казалось бы, более потаенные уголки острова. Лишь верхушки холмов, да и то не все, покрыты реденькими лесами. Иногда, впрочем, можно отыскать взглядом небольшую банановую рощу, группу секвой или капустных деревьев. Только в южной части острова падкое на потраву восемнадцатое столетие пощадило великолепный эвкалиптовый лес. Посреди него и была расчищена площадка для губернаторского дома — Плантейшн-хауза.
Существует здесь такое правило: на остров не разрешается бесконтрольно завозить животных. Собак — за исключением английских и ирландских — ждет строгий карантин, а «иммигранты» из числа попугаев и обезьян вообще раз и всегда лишены «прав гражданства». Впрочем, есть на острове два чужака, пользующиеся всеобщей симпатией. Это гигантские черепахи, что ползают по английским газонам Плантейшн-хауза: Джонатан, которому давно перевалило за сто лет, и его юная, недавно завезенная сюда подруга — ей годков пятьдесят, не больше.
Мирные рептилии никому не причиняют вреда, но сами, наверное, успели испытать немало притеснений со стороны приезжего люда. Иначе чем еще можно объяснить появление на воротах таблицы правил для визитеров, в соответствии с которыми черепах нельзя кормить, поить, раздражать, нельзя на «их ездить, делать надписи на панцирях и так далее и тому подобное.
Если близ губернаторского дома появляются туристы, то в дверях мгновенно возникают две служанки. Они уйдут лишь тогда, когда, убедятся в воспитанности гостей. И старик Джонатан, безопасность которого обеспечена, начнет тыкаться твердым холодным носом в коленки приезжих, а присевшим на газон он бесстрашно обнюхает лицо.
...Вряд ли в ближайшем будущем Святая Елена восстановит былую мощь своих лесов. Но сейчас важно сберечь оставшееся. И поэтому местные власти ввели ряд ограничений. Самое главное — приведено в относительную норму поголовье скота. Предпринимаются меры для охраны островной флоры от агрессивных растений, завезенных извне. Поэтому в инструкции для приезжающих с пугающей прямотой указано: «Импорт определенных растений запрещен, хотя, честно говоря, ни одно растение не может быть ввезено, пока не будет подвергнуто санитарной обработке». Та же инструкция категорически возбраняет туристам использовать в качестве сувениров цветы, ветви деревьев и кустарников. И тут помощь закону окажет; любой житель здешних мест.
К примеру, кто-то поднял с земли только что оторвавшуюся и свалившуюся к его ногам шишку араукарии — весьма привлекательную ярко-зеленую штуковину строго сферической формы, сантиметров пятнадцати в диаметре. И этот «кто-то» чрезвычайно удивится, потому что к нему тут же подойдет святоеленец и попросит положить желанный трофей туда, куда ему присудила упасть природа. Пусть островитянин и не слыхал никогда таких мудреных слов, как «биогеоценоз» и «экологическая ниша», но он знает другое: Святую Елену надо беречь («спасать» — пока еще слишком сильное и неточно характеризующее ситуацию слово), и, может быть, тогда — пусть в отдаленном будущем — она снова станет такой, какой предстала глазам ее первооткрывателей.
Борис Краковский
(обратно)
Оглавление
Упругие волны Земли
Час Эрдэнэта
Зеленые кочевники
Синг-Синг новых времен
В Арктике сорок второго
Вечная тортилья
Трасса ведет в Синегорье
Ю. Долетов. Разящие молнии
Терпеливая тайна Нан-Мадола
Ранголи — песком изображенное
Негоциация Ксенафонта Анфилатова
Жатва в океане
Крокодилы любят алмазы
Пути караванов
Сам себе государство
Хэммонд Иннес. Белый юг
О затонувших кораблях, кружении лабиринта и утерянных звонах
Со всех сторон — море
Последние комментарии
5 часов 39 минут назад
9 часов 54 минут назад
10 часов 4 минут назад
10 часов 9 минут назад
10 часов 30 минут назад
10 часов 38 минут назад