Карты правду говорят?
«...карты правду говорят...» Как хотелось бы, чтобы эти слова из детской песенки относились не к игральным картам, а к географическим, коим мы привыкли верить и которым порой вверяем свои судьбы, отправляясь в путешествие.
Бывает, конечно, что в силу не зависящих от картографов обстоятельств им приходится отказываться от нанесения на бумагу отдельных малозначащих объектов. Это называется генерализацией. Тут уж не взыщите: значит, городок или поселок слишком малы, речка — мелка или горка — невысока. Бывает и так, что отдельные объекты не наносятся на общедоступные карты по соображениям секретности, но их, если постараться, можно найти на картах с грифами «Для служебного пользования» или других, о которых непосвященный и знать-то не имеет права.
Но вот незадача — как быть с растиражированными географическими объектами, нанесенными на карту, но фактически отсутствующими, то есть теми, которые, подобно тыняновскому подпоручику Киже, «без лица, но с фамилией». Скажете, не может такого быть? Оказывается, может.
Украина, 1977 год. Еду на машине из Кировограда в Николаев по асфальтированному шоссе, которое обозначено во всех атласах автомобильных дорог СССР. Вдруг оно обрывается, и указатель-картонка со стрелкой «НИКОЛАЕВ» уводит меня в сторону. В результате сто с лишним километров по полям и перелескам. Ну ладно, подумал, сделали картографы в угоду строителям небольшую приписочку — рапортуйте, мол, что справились с заданием досрочно! Об этом случае я вскоре забыл, да и что вспоминать такую мелочь: до Николаева же добрался?
Сахара, 1989 год. Под изнуряющим солнцем продвигаемся по так называемой транссахарской дороге, нанесенной на все советские карты и школьные атласы. В алжирском городке Регган упираемся в барханы, а трасса «летит вперед» по несуществующим наметкам Главного управления геодезии и картографии и проходит еще... полторы тысячи километров. Но любой школьник, заглянув в карту, с уверенностью скажет, что величайшую пустыню мира действительно прорезает автомагистраль. А кто проверит, что это не так? Я проверил.
Наверное, я не стал бы писать этих строк, если бы не еще один случай, переполнивший чашу терпения. Побывал у нас в редакции чешский путешественник и писатель Яромир Штетина, возвращаясь из поездки по Сибири.
— Плохие у вас карты, Владимир, вредительские,— с горечью сказал он.— Дорога Омск — Новосибирск нарисована, но ее нет. Иркутск — Хандыга — асфальтированная дорога обозначена, но ее и в ближайшем будущем не предвидится. Нет, пойми, я не искал легкого пути, но картам у вас совершенно верить нельзя.
Что мне было возразить??
А ведь в XVI—XVII веках русские карты считались самыми достоверными. На них не было загадочных зверей и птиц, разгуливающих по неизведанным частям суши, как на многих картах Африки, выпущенных в Европе. Более того, карты считались государственным достоянием и не служили предметом купли-продажи. При Петре I начались работы по государственной съемке страны, «дабы каждый коллегиум о состоянии государства и о принадлежащих к оному провинциях подлинную ведомость и известия получить мог».
Мы стали заполнять пробелы в нашей истории. Хотелось бы, чтобы не осталось белых пятен и на наших географических картах. Ведь в конце концов обманываем самих себя. Эпоха Великих географических открытий давно прошла. Если исчезнет с лица земли Арал, а мы будем взирать безмятежно на раскинувшееся на картах море, Аралу и живущим вокруг него народам вряд ли будет от этого легче!
Владимир Соловьев
(обратно)
Над прахом Наполеона

— Сударь,— учтиво обратился я к их командиру с нашивками сержанта.— Позвольте от имени 32-й линейной полубригады приветствовать вашу часть!
Он холодно отсалютовал мне и отвернулся к строю. Беседовать со мной он был явно не расположен. Сухо кивнув строю неприветливых вояк, я отошел к своим ребятам...
Все мы из Ленинграда, и объединил нас, как и всех собравшихся в этот час на площади, интерес к истории Франции, личности Наполеона и традициям французской армии. Долгое время мы собирались друг у друга, по очереди делали небольшие доклады, рисовали эскизы военных мундиров и амуниции, изучали старинные армейские регламенты и репетировали строевые упражнения. Со временем все обзавелись точными копиями мундиров наполеоновской эпохи. В них два года назад мы приняли участие в походе любителей военной истории от Москвы до Березины через места знаменитых сражений 1812 года. Тогда же неформальные военно-исторические клубы нашей страны объединились в федерацию, куда вошла и наша ассоциация любителей истории наполеоновской эпохи. И вот первыми из советских групп исторической реконструкции мы получили приглашение на национальный праздник Франции.

Перед парадом на совете командиров заграничных отрядов — а были еще униформированные группы из Англии и Западной Германии — мне предложили возглавить колонну, что поначалу показалось довольно странным, ведь мы тут новички. Потом понял почему — я же был одет в генеральский мундир и носил настоящую шляпу и форменную треуголку, расшитую галунами и по всем правилам украшенную перьями. И здесь нельзя не отдать должное удивительной скромности и исключительному благородству более опытных участников парада. Ведь любители военной истории с туманного Альбиона и с берегов Рейна носили французские мундиры только рядовых и унтер-офицеров...
Я был счастлив, когда наш отряд с честью выдержал нелегкое строевое испытание. Это можно было понять по лучащимся глазам и приветливым улыбкам суровых англичан — именно они и были в форме французских пехотинцев. Сержант Ла Флер, с которым теперь уже без труда удалось найти общий язык, признался, что больше всего они не любят «клоунов», то есть тех, кто рядится в театральные мундиры, но ничего не понимает в армейских артикулах и не умеет держать кремневого ружья (у нас были муляжи, так как музейные ружья не разрешают вывозить за границу). Теперь щепетильные англичане убедились, что мы не «ряженые», и охотно приняли нас в свое братство. Каждый из моих солдат обрел в этот день по две дюжины друзей.
...Под купол Дома Инвалидов, где покоится прах Наполеона, с волнением вступают русские, англичане и немцы — потомки непримиримых противников республики и империи. Звучат резкие слова команд. Повзводно выстраиваемся в центре огромного зала. В наступившей тишине раздается:
— Презанте возарм! На караул!
Лязгнули ружейные замки, затрещала барабанная дробь. Трехцветные знамена медленно склонились над покоившимся под полом саркофагом из карельского мрамора, подаренного Россией.
Вдруг барабаны умолкли. На минуту в огромном зале воцарилось гробовое молчание. Но — взмах сабли, и могучие своды сотрясло громовое:
— Вив лэмпрёр! Да здравствует император!
Олег Соколов, президент Всесоюзной федерации военно-исторических клубов
Париж
(обратно)
Шесть сезонов и вся оставшаяся жизнь

Сорокалетний художник Савицкий приехал в далекий Нукус в 1956 году. Приехал навсегда, оставив Москву, квартиру на Арбате, друзей и знакомых. Через десяток лет Игоря Витальевича знала вся Каракалпакия. Когда он умер (это случилось в 1984 году), местные жители хотели похоронить его на мусульманском кладбище...
В свое время имя Савицкого встречалось мне в книгах о Хорезмской экспедиции, слышала я его и от знакомых художников, и от экспедиционников, чей маршрут проходил через Нукус, но память как-то не задержалась на нем. Когда же весной 1988 года в Москве, на Гоголевском бульваре, открылась выставка «Забытые полотна» из собрания Нукусского музея искусств и я, ошеломленная обилием незнакомых талантливых имен, кинулась расспрашивать о создателе этого музея,— было уже поздно.
Здесь же, на выставке, я узнала — об этом говорили уже открыто,— как Савицкий ходил по мастерским, разыскивал родственников умерших художников, приходил в дом, сам доставал с антресолей сваленные в кучу холсты, сам мыл полы, чтобы разложить картины (у вдов уже недоставало сил на это)— отбирал, покупал, зачастую на свои деньги, и увозил в Нукус.

Когда Савицкий появлялся в Москве, художники передавали друг другу: «Савицкий приехал... Савицкий приехал...» Для многих это означало — пришла помощь, дружеская поддержка. Те, кто еще не знал Савицкого, прежде чем отдать свои картины, спрашивали:
— Ему можно верить? Ответ был всегда один:
— Можно.
Он приобретал и сохранял то, что могло уйти в небытие или за рубеж — картины художников-авангардистов, которых в те годы официальное искусство не признавало.
Что же привело Савицкого к мысли собрать работы художников, отторгнутых жестоким временем? Было ли это просто увлечением или — выражением гражданской позиции человека, который нашел в себе силы не только иметь ее, но и защищать? Как и когда он стал своим в Приаралье — среди каракалпаков, узбеков, казахов? И вообще, что это был за человек, способный к столь резким переменам в жизни? С «Забытых полотен» началось мое путешествие по следам Савицкого, к его коллегам и друзьям, которых, к счастью, осталось много, как и добрых воспоминаний об этом человеке.
Моими соседями в самолете были: молодая женщина в цветастом платке и длинном бархатном платье, крупный мужчина с коричневым лицом и такой же смуглый мальчуган лет пяти. Мальчуган крутился на коленях отца, потом задремал, утонув в его объятиях. Я листала журнал с большой статьей об Арале и вдруг почувствовала, что мой сосед словно окаменел. Была ли ему знакома эта статья с прогнозами, почти не оставляющими надежд на возрождение Арала и Приаралья, или, зная реальную жизнь, он задумался о будущем своего сына — сказать не могу. Только неожиданно я почувствовала какую-то вину перед этой семьей из Нукуса...
Я убрала журнал, но чувство горечи не исчезло.
В Нукусе дул белый, соленый ветер. Он летел с Арала, неся с обсохшего дна озера-моря едкую пыль. Она оседала на листьях тополей и акаций — и от того город казался унылым. Город без истории (он начал строиться в 30-х годах), плоский, с четкими, словно по линейке проложенными улицами, с сухими арыками и аккуратными домиками... Чем же мог привлечь художника, потомственного русского интеллигента, родившегося в Киеве (отец его был юристом, дед — славистом), этот сонный провинциальный в те времена городок, затерянный среди пустынь?
Ищу ответ в его картинах и акварелях, собранных в музее искусств. «Утро в Хиве», «Розовый закат», «Юрта в Уйджае», «Карагачи», «Очистка хлопка», «Раскопки Кой-Крылганкала», «Ворота в Куня-Ургенче»... Мягкие, лиричные краски, раздумчиво-созерцательная интонация, какая-то приглушенная, но явная нота радости от реальности этих древних стен, осеннего цветения пустыни, закатов над ней...
В Среднюю Азию Савицкий впервые попал студентом. В Самарканде, куда во время войны был эвакуирован Суриковский институт, он учился у Фалька, Истомина, Ульянова, Крамаренко и воспринял их огромную художественную культуру, развил свой природный талант. Он впитал богатые краски Самарканда, они жили в нем, и, может быть, поэтому в 1950 году он едет в Хорезмскую археолого-этнографическую экспедицию, еще не сознавая, что этот шаг — начало его долгой любви к Каракалпакии. С тех пор шесть сезонов подряд он работал в Хорезмской экспедиции.
Впоследствии, вспоминая эти годы, Игорь Витальевич напишет: «Каракалпакия — удивительная земля. Разнообразие ее пейзажей, ее невысокие, но мощные черные, белые, красные и золотистые горы, пустыни, сады, поля и золотые от камыша рыбацкие поселки, необычайно тонкая цветовая гамма, какой-то особый серебристый свет, придающий пейзажу неповторимость световой среды,— все это не может не волновать и как бы околдовывает». И далее — о сохранившихся памятниках архитектуры, возведенных из глины: «Бесчисленные, ныне почти исчезнувшие, крепости, замки, дома встречались большими скоплениями, неожиданно возникали среди безлюдных высоченных гряд песков или розовых такыров. Мы буквально ходили по древностям».

Есть у Савицкого картина, которую он назвал «Купола Хивы»,— серо-синее скопление куполов под утренним, еще неярким небом. Казалось, художник видит город сверху, как бы парит над ним, давая простор для воображения. С какой же точки писал он эту картину?
И вот я в Хиве. Глиняные стены Ичан-калы. Через Восточные ворота вхожу внутрь крепости. Город в городе... Узкие улочки, глиняные стены домов, купола усыпальниц, порталы, минареты. Несмотря на солнечный день, серо-желтые краски приглушены, только майолика куполов вспыхивает зеленью и голубизной под ярким небом. Помните — у Мандельштама? «Лазурь да глина, глина да лазурь. Чего ж тебе еще?»
Савицкий видел Ичан-калу задолго до того, как она была объявлена заповедником. Он писал старую Хиву, и в его полотнах атмосфера древнего среднеазиатского города ощущается сильнее, чем на улицах нынешней Хивы и даже под стенами Ичан-калы, ныне отреставрированной и какой-то приглаженной.
Окунаюсь в глубокую прохладу Джума-мечети. Лес резных деревянных колонн поддерживает своды. Долгая крутая лестница ведет на минарет. Виток за витком, в полной темноте. Ощущение, будто ты в каменной трубе... Наконец чуть забрезжил и вскоре вспыхнул свет — яркий, ослепительный — свет солнечного дня.
Не верю глазам: я уже видела это скопление куполов, глубокие проемы улиц, уходящие в синее небо желтые плоскости мечетей... Конечно же, Савицкий писал свои «Купола Хивы» с верхней площадки минарета, откуда муэдзин призывал когда-то горожан на молитву.
Я часто вспоминала потом этот подъем на минарет, соотнося его со всей жизнью Игоря Витальевича: виток за витком, к цели. И думала: одни приезжают с желанием познать, запечатлеть, спасти, помочь; другие... Помните «Господа-ташкентцы» Салтыкова-Щедрина? У них на устах один крик — «Жрррать!», и мораль их донельзя проста: «Мне бы, знаете, годик-другой,— а потом урвал свое, и на боковую!»
Салтыков-Щедрин писал свой сатирический цикл в 60—70-х годах прошлого века, когда происходила колонизация Средней Азии. Тогда из России в новое Туркестанское генерал-губернаторство с центром в Ташкенте хлынула орда чиновников-хапуг. Либеральная пресса с негодованием писала о частых случаях произвола и «бесстыжества»... Оттолкнувшись от событий тех лет, писатель создал обобщенный образ «ташкентцев», которые, оказывается,— стоит только присмотреться, благоденствуют в любой точке государства Российского. «Нравы создают Ташкент на всяком месте,— замечает сатирик,— бывают в жизни обществ минуты, когда Ташкент насильно стучится в каждую дверь...»
Ох и живучи оказались господа-ташкентцы! Как и сто лет назад, они, не задумываясь, ломают и губят чуждый им уклад жизни, исторические традиции, природу. Грандиозные проекты, которыми так славились ташкентцы-цивилизаторы, кончаются ныне трепещущим на ветру лозунгом — «Борьба за сохранение Арала — всенародное дело!». Он висит в центре Нукуса, рядом с монументом Ленину, между одетыми в камень, блещущими стеклами зданиями обкома партии и Аралводстроя.
Дорога в Хиву была знакома Савицкому до мельчайших подробностей. По ней он ездил и на раскопки крепостей Кават-кала, Джампык-кала, Кзыл-кала. Он был по натуре кладоискателем, копал даже на Чилпыке, уже оставленном археологами, надеясь найти свидетельства далеких зороастрийских времен.
...По обе стороны дороги — ровная сухая земля. И вдруг — посреди пустыни — холм, увенчанный плоским навершием. Это — дахма, насыпное сооружение, где много веков назад люди, исповедовавшие зороастризм, справляли обряд прощания с умершими. Зороастрийцы считали, что мертвое тело должно быть изолировано от воды, огня, земли, и потому сооружали дахмы, как бы поднимая мертвецов над этими стихиями.
Расчищенные археологами ступеньки, прорубленные в склоне, ведут к площадке. Здесь когда-то по радиусам укладывали трупы. Звери и птицы делали свое дело, и через год кости умерших выносили в сосудах-оссуариях, чтобы захоронить на соседних возвышенностях.
Эта дахма — зороастрийский центр Западного Хорезма — единственный в своем роде памятник, сохранившийся до наших дней. С IX века ислам, принесенный ранее арабами-завоевателями, прочно утвердился в этих краях.

С вершины Чилпыка — так называют местные этот холм — далеко видна серо-желто-зеленая плоская земля, ленивые извивы Амударьи и огромное просторное небо. Жара, тишина, ветер. Игорь Витальевич любил подниматься на Чилпык в одиночестве...
Благодаря Савицкому была собрана богатая коллекция оссуариев. До сих пор при музее работает археологическая экспедиция, пополняя собрание древностей. Именно там, в музее искусств, среди каменных котлов, ритуальных кувшинов, сердоликовых бус и раковин каури — я увидела оссуарии в форме ларцов, усыпальниц и даже в виде лежащего верблюда...
В экспедиции Игорь Витальевич вставал раньше всех, к обеду его дозывались с трудом; да и после обеда, хотя по режиму экспедиции эти жаркие часы были нерабочими, брал флягу с водой, мокрый платок на голову — и в раскоп. Трудно было признать в нем начальника экспедиции.
Савицкий мог всю ночь напролет просидеть над осколками керамического блюда, а утром, словно оправдываясь, говорил коллегам: «Знаете, сначала ничего не получалось. Потом увлекся, засиделся — и вот...» В руках его сияла восстановленная находка.
Как-то он услышал, что в кипящем формалине хорошо очищаются золото и бронза. Запах ужасный, пары ядовитые — а он, несмотря на уговоры бросить это занятие, продолжал опыты. Прекратил только тогда, когда сказали, что формалина больше в городе нет. Поверил. Но здоровье свое подорвал основательно.
...Крепость Джампык-кала стоит в стороне от шоссе. Я добиралась до нее с археологами Каракалпакского филиала АН Узбекской ССР: они показывали Джампык-кала участникам экспедиции ЮНЕСКО «Шелковый путь». Мощные «мерседесы» легко преодолели ухабистую проселочную дорогу и остановились у самого подножия крепости. Долго над потревоженной пустыней стояло густое облако пыли.
Поднялись к оплывшим от времени и ветра глиняным стенам. Эту крепость нанесла на карту экспедиция Сергея Павловича Толстова еще в 1937—1938 годах, но раскопки продолжаются и поныне. Здесь была не только крепость, но и город. Он был одной из точек Шелкового пути; его жители занимались посредничеством в торговле. Еще недавно археологи относили этот город к средневековью, но раскопки показали, что есть и античный слой.
За крепостной стеной возвышались развалины цитадели. Сохранились остатки полуколонн-гофров (типично хорезмский архитектурный прием), и по ним нетрудно предоставить, какое это было мощное сооружение. Сейчас строй гофров напоминал гигантский орган, на котором постоянно играет ветер... Археологи думают, что крепость отвечала не столько оборонительным целям, сколько была символом власти над городом, расположенным ниже. Квартал его был вскрыт археологами в 1983 году, и в раскопках опять-таки принимал участие Игорь Витальевич.
Археолог Кайратдин Хожаниязов, который работал с Савицким, вел меня по улице старого, ушедшего в землю города, показывал отрытые стены помещений, баню, обложенную камнем, канализационное устройство, проложенное под улицей. Город жил в XII—XIV веках.
— Игорь Витальевич не любил субботы и воскресенья,— вспомнил Кайратдин, желая, видимо, помочь мне представить Савицкого,— и часто в эти дни мы видели его на проселочной дороге. Высокий, сутуловатый, с рюкзаком за плечами... Он добирался из Нукуса на машине, потом шел пешком на раскоп. А в рюкзаке вез нам продукты, купленные на свою зарплату.
Солнце скатилось за окоем пустыни. Глиняная крепость Джампык-кала потонула в его красно-золотых закатных лучах.
Мне рассказывали, как однажды — это было в середине 70-х годов — трактора, вспахивая поля, вплотную подошли к кургану Элик-кала. Савицкий бросился машинам наперерез: «Только через меня!» Из совхоза звонят в Нукус: «Уберите этого сумасшедшего старика!»
«Сумасшедший старик», который спасает для людей их собственную историю... Какой горький парадокс! Думали ли те, чьему приказу повиновались трактористы, что, заполучив несколько новых гектаров пашни, они уничтожают корни народной памяти? Едва ли... Кто окрыленный идеей «великих строек», кто от безмыслия, а кто зачастую и себе во благо — трудились они, засучив рукава, над созданием Аралкума, новой пустыни. Савицкий был непонятен господам-ташкентцам и неприемлем для них.
Еще во время хорезмских экспедиций Савицкий заинтересовался прикладным искусством каракалпаков. Подтолкнула его к этому Татьяна Александровна Жданко, известный этнограф. Она первая описала в трудах Хорезмской экспедиции основательно забытое и мало кому известное орнаментальное искусство этого народа. И сделала вовремя: искусство каракалпаков могло исчезнуть навсегда. Оно уже приближалось к опасной черте: давно ушли в прошлое купцы, привозившие бухарскую ткань для халатов и нитки для вышивания; страшный урон нанесли годы раскулачивания: люди уничтожали, резали на куски старые вещи — «признак зажиточности», словно стараясь забыть свое прошлое...
И все-таки Савицкому еще удалось увидеть многое: национальную одежду, богато расшитую узорами, ювелирные украшения, ковры, резные деревянные сундуки. Художника покорило народное искусство каракалпаков. Он решает посвятить себя его изучению. Это и привело Игоря Витальевича через несколько лет в Приаралье. Навсегда.
Став сотрудником Института истории, языка и литературы в Нукусе, Савицкий настаивает на массовом сборе предметов прикладного искусства. Поначалу его не понимают: чего нет, того не вернешь, а что есть — этим пользуются, какое это искусство? Савицкий убеждает, доказывает, организует этнографические экспедиции (так называемые «подворные обходы»), ходит из аула в аул, изучает, смотрит, привозит в Нукус, реставрирует утварь, одежду, украшения, седла. Отдавали тогда охотно: видно, памятны еще были 30-е годы... «Саветски»— так звали Игоря Витальевича в аулах (говорят, даже сейчас в Нукусе улицу Советскую часто называют улицей Савицкого). Улыбались насмешливо и удивленно, глядя, как городской интеллигентный человек взваливал на плечи ергенек — резную створку дверей юрты и шагал с этой нелегкой ношей по каменистой пустынной дороге...
В 1959 году открылся Каракалпакский филиал Академии наук Узбекской ССР. Савицкий устроил выставку. Скромное, казалось бы, событие, но выставка как бы заново открыла каракалпакам их собственное искусство... А Савицкий думал уже о создании музея. У него появились единомышленники: молодой художник Кдырбай Саипов, скульптор Жолдасбек Куттымуратов, ученый Марат Нурмухамедов да и многие еще. Они вместе «пробивали» идею музея, и наконец в 1966 году его открыли — для начала две маленькие комнатки, одна штатная единица. А задачи — поистине необъятные: прикладное искусство, отдел древнего Хорезма, изобразительное искусство.
Не знаю, было ли какое народное ремесло, которое не привлекало бы Савицкого. Его интересовали кузнецы, плотники, мастера юрт и арб, седельники, ювелиры, ткачи... И сейчас в музее можно видеть то, что собрано его экспедициями за долгие годы. Традиционные головные уборы невест; женские халаты с ложными, скрепленными на спине рукавами — халат накидывался и на голову; вышивки с характерными орнаментами — «муравьиная талия», «след собаки», «скорпион», «след верблюда». Коричнево-красная палитра ковров и кошм, приглушенный блеск серебра, кораллов и сердоликов, потемневшее резное дерево сундуков...
Истоки каракалпакского искусства — пласт древних степных культур Евразии; образы его складывались веками и потому — очень устойчивы, многослойны. И поэтичны. Еще казахский просветитель Чокан Валиханов в середине прошлого века отметил высокую художественную одаренность каракалпаков, «этих первых в степи песенников и поэтов». Побывав в низовье Сырдарьи, он записал легенду о песне, которая, путешествуя по миру, однажды остановилась ночевать в стойбищах каракалпаков на той стороне реки Сыр...

Этот древний тюркский народ долго не имел своего постоянного пристанища и своей письменности. Исследователи связывают его происхождение с древними кочевниками-саками, с огузами и печенежским племенем «черных клобуков». Каракалпаки вели полукочевой образ жизни, занимались скотоводством, земледелием, рыболовством. Разные исторические обстоятельства в разные столетия приводили их то в южнорусские степи, то в бассейны Урала и Волги, то снова возвращали в родное Приаралье, в низовье Сырдарьи и Хорезм. Они двигались и на восток — в Ферганскую долину, в районы Самарканда и Бухары. В 1811 году хивинский хан переселил их с Сырдарьи на территорию нынешней Каракалпакии. Это был страшный переход через пустыню, много людей погибло в песках, и до сих пор эхо этого события звучит в сказаниях и легендах.
Понять мир кочевого эпоса Савицкому помогал Марат Нурмухамедов. Он был и писателем, и филологом, и литературоведом, и этнографом. Долгие годы их связывала глубокая и нежная дружба.
— Для меня Игорь Витальевич всегда был просто «дядей Игорем»,— вспоминала дочь ученого Мариника Бабаназарова.— Я знала его с рождения, помню, как они допоздна засиживались с отцом за беседой... Отец одно время работал в обкоме партии, секретарем по идеологии, вот тогда-то он и сумел помочь в организации музея. Знаете, именно Игорю Витальевичу я обязана тем, что теперь работаю в музее. Притяжение его личности было неодолимо...
Мариника — директор Государственного музея искусств Каракалпакской АССР имени И. В. Савицкого — училась в Ташкентском университете, а недавно заочно окончила еще и Ташкентский театрально-художественный институт. Тема ее диплома: «Игорь Савицкий — создатель музея, художник, этнограф, археолог».
В ее кабинет непрерывно входят по делам сотрудники. Мариника просит их присесть, и они, услышав, что речь идет о Игоре Витальевиче, охотно включаются в разговор. И Альвина Шпаде, и Гулистан Галиулина, и Валентина Сычева, и Эльмира Газиева работают в музее давно, и им есть что вспомнить. Передаю их слова так, как они записаны: любовь и нежность этих женщин к Игорю Витальевичу скрепляют, как мне кажется, воедино разрозненные осколки воспоминаний.
...Нам достаточно было услышать голос Игоря Витальевича, чтобы понять, в каком он настроении.
— Милые дамы,— обращался он к нам, и это означало, что он в добром расположении духа.
— Девицы! Милочки! — мы поеживались от его саркастического тона, сознавая, что сделали что-то не так.
— Предатели! Вы предаете музей!— гремел он, когда кто-нибудь из ценных работников хотел уходить с работы. Он был очень вспыльчив, но отходчив.
Иногда его голос становился тихим, вкрадчивым, и нам казалось, что над головой у него вырастает нимб. Это означало, что ему очень хотелось заполучить какую-либо вещь... «Это бы музею не помешало»,— скромно говорил он.
...Трудился он по 16—18 часов в сутки. За долгие годы — ни одного отпуска для отдыха, только длительные поездки для сбора вещей и картин. Игорь Витальевич практически жил в музее. Дважды отдавал квартиры, которые ему предоставляли, своим сотрудникам. Любил ходить по музею рано утром, восхищался: «Смотрите, как играют краски на полотнах при утреннем освещении...»
...В музее он нередко и печи топил, и экспонаты чистил. Зарплата его обычно лежала в столе, все это знали. Он говорил: «Берите, если нужно». Музей покупал его полотна и акварели, и вырученные деньги Савицкий пускал на ремонт или заказывал рамы для картин.
...Когда Игорь Витальевич лежал в больнице в Нукусе (он был очень больным человеком), мы ему графику ящиками носили: он делал опись листов.
...За глаза мы звали его «Боженькой». Он знал свое прозвище и, похоже, был доволен. Нам казалось, что он может все. Было в нем какое-то детское неприятие препятствий. Все, что задумывал, ему удавалось. И в какие ведь времена!
Слушая коллег Савицкого, я подумала: а может, он уехал из Москвы не только потому, что полюбил искусство Каракалпакии и ее природу? Может, он бежал из Москвы, подальше от «шариковых», управлявших культурой, чтобы, скрывшись за рамками национального искусства, иметь возможность действовать самостоятельно? Ведь не случайно Савицкий говорил: «Никогда в другом месте и в другое время я не создал бы такой музей...»
Мариника дала мне посмотреть книгу Савицкого, изданную в Ташкенте за год до открытия музея. Называлась она «Прикладное искусство каракалпаков. Резьба по дереву».
Как внимательно и, я бы сказала, осторожно входил он в неведомую ему ранее область — чужую культуру. В книге впервые опубликовано более пятисот орнаментальных композиций, приложен словарь терминов, из которого я, к примеру, узнала породы деревьев, растущих на территории Каракалпакии, и их названия на каракалпакском языке; наухан —: шелковица, согит — ива амударьинская, карагай — сосна и так далее. И очень о многом говорят пестрящие на страницах сноски типа: «Баймурат Жусупов (р. 1889 г.) из рода Ктай аралбай — потомственный резчик по дереву, плотник, делает юрты. Проживает в лесхозе Ходжейлинского района». Скольких же мастеров выявил, обошел и записал Савицкий! Его интересовала не только технология работы плотника (профессии резчика как таковой в Каракалпакии не было — резьбой занимался плотник, который умел делать из дерева все), но и детали быта, жизни мастера. Вот, например, строки из патии — наставления, которые произносил мастер на праздничном тое в честь окончания обучения ученика: «Ты был моим учеником, а теперь должен быть хорошим мастером. Делай все, что заказывают, и дорого не бери. Если сделаешь хорошо, придут еще. Счастливого пути!»
За каждой строкой книги Савицкого, несмотря на ее научную сдержанность, виделся мне его характер, его сущность. Ни малейшего чувства превосходства по отношению к другому народу. Глубочайшая порядочность, честность. И ощутимое желание — восстановить традиции народа, продлить его линию жизни.
...Еще не так давно жил в Нукусе старик Олимпиев. Его так и звали — Олимпиев. Только по фамилии. Он любил цветы, много клумб разбил в городе. Савицкий был одним из немногих, кто водил дружбу со стариком. Другие, верно, опасались: бывший царский генерал все-таки, как говорила молва. Я вспомнила об этом человеке, размышляя о тех традициях подвижничества, которыми славились многие русские, пришедшие в Среднюю Азию в прошлом веке, и которые, безусловно, унаследовал Савицкий.
Среди тех людей были и генералы, и солдаты, военные топографы и лесоводы, учителя, врачи, естествоиспытатели. Не буду называть известных фамилий, а неизвестные уже канули в вечность... Приведу лишь одну: художник и литератор Н. Каразин. В 80-х годах прошлого столетия он путешествовал по Каракалпакии и оставил рисунки — первые свидетельства трудной жизни ее народа. Эти русские люди в отличие от господ-ташкентцев, своих братьев по крови, стремились понять местные устои и никогда не применяли насилие, пытаясь изменить их. Они помнили, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Они просто делали разные полезные для этой земли дела, закладывая тем самым основы настоящей дружбы. Как делал это и Савицкий.
...Сухощавое лицо, высокий открытый лоб, глубокие глазницы — лицо человека, погруженного в размышления; и в то же время чувствуются энергия, воля, даже, я бы сказала, фанатизм. Конечно, в этом скульптурном портрете Дамир Рузыбаев выразил не только свое личное отношение к Савицкому.
В Нукусе, на улице Джуманазарова, в небольшом одноэтажном доме живет другой скульптор — Дарибай Турениязов. Три с лишним десятка лет назад, когда он встретился с Савицким в Каракалпакском филиале Академии наук (кстати, Дарибай и сейчас там работает — завхозом, чтобы иметь возможность ездить в экспедиции за материалом), это был никому не известный молодой человек, о котором знали лишь, что он режет из дерева игрушки и дарит их друзьям.
Савицкий заметил талант Турениязова.
— Игорь Витальевич приходил в этот дом раза два в неделю,— рассказывал мне Дарибай,— сидел подолгу, расспрашивал, что я делаю, советовал не разбазаривать свои вещи на сторону. Наш музей купит, говорил он, не беспокойся...
Так стараниями Савицкого в нукусском музее были собраны многие работы Дарибая Турениязова, по которым видно, как росло его мастерство: «Птица Сирин» (она стала эмблемой музея), «Каракалпак в шапке шугурме», «Полдник» — фигура девушки с кувшином, «Маслобойка» и другие. В «Маслобойке» мастер использовал обыкновенную маслобойку каракалпаков, нанеся на ее стенки рельефные человеческие лица.
— Савицкий говорил мне: не отрывайся от жизни своего народа, ты силен этим...
Мы сидим с Дарибаем в его доме, в большой проходной комнате, возле низкого стола, за пиалами с чаем. Комната эта — то ли гостиная, то ли кухня — здесь же плита, холодильник; то ли мастерская: вдоль стены тянутся полки со скульптурами и заготовками, тут же рабочий стол мастера. Туда-сюда ходят сыновья Дарибая и его молодые невестки с детьми. Узнаю, что в этом домике из трех комнат живет... 18 человек! Дарибай показывает толстую папку со всеми справками: письмами и ответами-отписками.
— Савицкий бы помог...— вздыхает он.— Неужели мне не увидеть своей мастерской?! Вот только в экспедициях, на просторе, человеком себя ощущаю...
Дарибай снял с полки фигурку девушки. Скульптура была выполнена из твердого красноватого дерева, лицо — инкрустация из кости. Мастер говорит, что фигурка вырезана из джузгуна, дерево это крепкое и редкое, растет в пустыне, у старых колодцев, рядом с саксаулом; режет он и из корней урюка и туранги, из древесины чинара и мягкого тополя. А недавно привез из экспедиции тяжелый кусок песчаника и вот вырезал небольшую композицию «Арал»: над волной взмыл орел, в глубине плывет сом. Они словно говорят друг с другом, плачут о судьбе моря и своей собственной...
— Природу нельзя насиловать ни в большом, ни в малом,— размышляет мастер.— Вот и я — долго к каждому корню присматриваюсь, что природа подскажет, то и делаю. Так и Савицкий говорил...
Подобно Турениязову многие молодые каракалпакские художники и скульпторы тянулись к Савицкому. Один из них — Жоллыбай Изентаев, нынешний председатель правления Союза художников Каракалпакии, рассказывал мне о семинарах Игоря Витальевича.
— Развесит ковры — казахские, туркменские, каракалпакские — и велит сравнивать. Орнамент. Колорит. Ритм. Мы порой не различали, чьи это ковры. Савицкий сердился: «Плохо знаете свои традиции!» — «Но я родился в юрте!» — «Может, и родился, да смотрел плохо!»
Музей в первые годы своего существования был тем центром, где — в жарких спорах и обсуждениях — рождалось современное искусство каракалпаков.
Савицкий приближался к главному делу своей жизни. И побудительным моментом вновь стало желание спасти истинное искусство и помочь народу, с которым свела его судьба. А в те же самые годы господа-ташкентцы («право обуздывать, право свободно простирать руками вперед»— вот их единственный «талант») строили на берегу Арала дачи, которые кажутся ныне миражами: море отступило, и здания стоят посреди пустыни...
Савицкого мучил вопрос: каким должен быть музей в Нукусе, точнее, его изобразительный отдел? Ислам, как известно, налагал ограничения на изображение людей и животных, и все творческие силы народа ушли в искусство прикладное. Чтобы создать свою школу, надо было дать молодым каракалпакским художникам, которые только-только начали появляться, истинные ориентиры. И Савицкому пришла идея: показать, как зарождалось и развивалось изобразительное искусство Узбекистана в первые послереволюционные годы.
Тут нужна была не только художественная культура Савицкого, тут, скажем прямо, требовалось и гражданское мужество. Ведь многих художников 20—30-х годов, имевших свой почерк, ярые сторонники принципов социалистического реализма — единственно приемлемого тогда в искусстве — вычеркнули из художественной жизни. Многие умерли в нищете и безвестности, кое-кто «перековался», сломавшись и утратив своеобразие таланта. Савицкий задумал спасти то, что было сознательно предано забвению.
Он понимал, на что идет. «Когда меня посадят,— говорил он своим сотрудникам,— будете носить передачи». Но местные власти уже поверили в Савицкого и, может быть, даже не очень понимая, что он задумал, не мешали ему. Савицкий уверенно приходил в обком партии, показывал очередную найденную картину (так было, например, с портретом Алишера Навои кисти Г. Никитина, который Савицкий нашел в одном обветшалом доме: портретом закрывали дырку в крыше) — и получил согласие на покупку. Наверно, местным властям льстила и растущая, неофициальная, слава музея в Нукусе.
Новый замысел поглотил Савицкого целиком, потребовал отречения от себя как от художника. Игорь Витальевич пошел на это, как ни тяжело ему было, объясняя, что «будет больше пользы, если я буду собирать других художников».
Первую ниточку поиска Савицкому дали московские художники — Горчилина и Комиссаренко. Ниточка привела его в Ташкент, Самарканд. Неожиданно — даже для себя — Савицкий открыл много забытых мастеров. Причем стремился, сколь возможно, широко, полно представить художника — и теперь благодаря этому мы имеем уникальную монографическую и ретроспективную коллекцию большинства замечательных художников Узбекистана.
...Александр Волков, Урал Тансыкбаев, Николай Карахан, А. В. Николаев (Усто-Мумин), Надежда Кашина, Елена Коровай — этот перечень можно без труда продолжить. Разная судьба у этих художников — одни жили в Узбекистане всю жизнь, другие — годы, десятилетия; разная известность (многие знают, например, А. Волкова и его «Гранатовую чайхану», висящую в Третьяковке); разный творческий почерк. Но объединяют их работы черты подлинного искусства.
Средняя Азия с ее немеркнущими красками, которые всегда привлекали художников, богатый этнографический колорит, сегодня во многом ушедший, приметы прошлой и новой жизни — вот что можно увидеть на спасенных полотнах.
Со временем Савицкий стал собирать и московских художников, в творчестве которых был среднеазиатский период, а потом и полотна тех, кто был не признан, чей час наступил только сегодня.
Многим официальным лицам это понравиться не могло. Начались комиссии, объяснения. Приходилось порой прибегать к хитрости: вместо фамилии художника-эмигранта, например, ставить «неизвестный художник».
Когда Савицкий умер (это случилось в Москве), некоторые чиновники из Министерства культуры пытались запретить панихиду в Музее искусства народов Востока. Но из этих попыток ничего не вышло. Были люди, и их было много, кто понимал значение Савицкого, который сохранил целый пласт нашей культуры. Не дал ему исчезнуть так же безвозвратно, как ныне исчезает Арал.
В Муйнаке, на бывшем берегу бывшего моря, ко мне вновь пришло то чувство горечи, которое я испытала в самолете. Уже давно Муйнак перестал быть портом и городом рыбаков. Хотя еще строят новые дома, и дети идут в школу, и колышутся белые занавески на открытых дверях магазинов — город кажется потерянным. Уезжают рыбаки, уезжают капитаны, особенно русские, потомки тех уральцев, которых когда-то ссылали в Муйнак... Боль застыла в глазах людей, которые еще остаются здесь. Боль и вопрос: «Кто виноват в этом?»
Когда Савицкий жил и работал в Нукусе, ветер с Арала еще доносил свежесть моря. Игорь Витальевич часто спрашивал ученых: «Что будет с нашим Аралом?» И в тревожном предчувствии собирал пейзажи, которых — увы!— уже нет в реальности. Лишь по полотнам Урала Тансыкбаева, Ф. Мадгазина, Кдырбая Саипова, Рафаэля Матевосяна, наброскам и этюдам самого Савицкого можно представить, какими могучими и полноводными были в очень недалеком прошлом Амударья и Арал. Сердце Савицкого сжалось бы от горя, если бы он увидел Муйнак, окутанный едкой соленой пылью, и черные остовы кораблей среди песка и лиловых факелов тамариска...
Думая сегодня о подвижничестве Савицкого, о его практическом, так сказать, интернационализме, я уверена, что он сделал бы все, даже невозможное, чтобы отвести беду от своей Каракалпакии, своего Нукуса, своего музея, которому тоже грозит мертвящий ветер экологической катастрофы. Ибо любить для Савицкого означало — действовать.
Нукус — Хива — Муйнак
(обратно)
К пирамидам Ламбаеке

Нам кажется, что мы изучили нашу планету, познали ее дописьменную историю после того, как походили по натоптанным туристским тропам Египта и Мексики и увидели на картинках Мачу-Пикчу в Перу. В поисках нового посылаем исследователей на Луну, где они находят только камень и песок. А между тем на нашей фантастической планете по-прежнему можно открыть неведомые храмы и центры забытых культур, ведь люди, которые жили здесь, оставили нам свои следы.
Тихий океан... Надо же было назвать так самый большой и самый бурный из океанов нашей планеты! Придумал это название испанский конкистадор Нуньес де Бальбоа, когда первым из европейцев пересек Панамский перешеек и увидел неизвестный еще географам Старого Света океан. Название показалось подходящим и тем испанцам, которые незадолго до этого пересекли штормовую Атлантику и по ту сторону Панамы обнаружили безмятежное море, защищенное Американским материком от вечных восточных пассатов.
Вопреки собственным воспоминаниям о яростных штормах и высоченных волнах, я тоже готов был согласиться с названием «Тихий», когда недавно вновь оказался в Перу. Я сидел на скале в широком устье реки Ламбаеке, откуда испанцы в XVI веке под предводительством Писарро двинулись внутрь страны покорять могущественное племя инков. Вокруг меня была просторная долина, в глубине которой карабкалась вверх по склонам уцелевшая часть древней инкской дороги.
Далеко в океане лежали острова Общества и Маркизы, где зародился мой интерес к маршрутам морских миграций. Там находились и острова Туамоту, связанные с этим побережьем ветрами и течениями, которые доставили к атоллам наш плот
«Кон-Тики». Намного ближе и несколько севернее помещались Галапагосские острова, где мы обнаружили черепки, доказывающие, что туда часто ходили доинкские мореплаватели. Значительно дальше, но все равно лишь на половине пути, пройденного «Кон-Тики», лежал остров Пасхи, единственный остров в Тихом океане, где сохранились следы подлинной древней цивилизации с письменностью, архитектурой, астрономией и мегалитическими скульптурами.
Большинство людей считает, что я только и делаю, что прыгаю с одного плота на другой. Кое-кто готов признать, что, кроме этого, я организовываю археологические экспедиции на разные тропические острова. Но мало кому известно, что большую часть времени я провожу в стенах библиотек и музеев или за столом, где высятся горы писем, которые обрушивает на меня почтальон. Дни на плотах я назвал бы желанными паузами, позволяющими отдохнуть душой.
Я никогда не читал детективы. Захватывающие приключения — неотъемлемая часть моей жизни и деятельности. Главная задача археологов — не доказать, а что-то найти. Они и открыватели, и следопыты, ведь то, что они находят,— лишь фрагменты далекого от завершения мозаичного панно. Но каждый новый фрагмент говорит о конкретных событиях на нашей древней планете, о которых современный человек ранее не подозревал.
Когда средневековые европейцы начали совершать дальние плавания, они обнаружили, что обитатели других материков во многом опередили их. Тем не менее европейцы почитают себя первооткрывателями. Тогда история мореплавания должна начинаться с Колумба, то есть с XV века. Теперь мы признаем, что жившие в Гренландии норманны оставили свои следы на Ньюфаундленде на несколько столетий раньше. Радиоуглеродный анализ находок в местах норманнских поселений на Ньюфаундленде позволяет датировать их примерно X веком, а на острове Пасхи мы получили образцы, датируемые примерно VIII веком.
Беру на себя смелость утверждать, что в это время величайшая из всех цивилизаций Перу процветала в приморье, у Ламбаеке, и в области Тиауанако, на юге. И это было задолго до периода инков на материке. Кто же были эти люди?..
Полинезийцы утверждают, что, когда их предки добрались до острова Пасхи, они были встречены людьми с удлиненными мочками ушей. Именно они согласно древнему преданию соорудили каменные изваяния, которыми известен остров. А материалы наших раскопок говорят о том, что древние каменотесы с их техникой кладки камня, культом птицечеловека, обычаем удлинять мочки ушей, с привычным им набором сельскохозяйственных культур — бататом, юккой и тыквой — прибыли из Перу.
Среди жителей Пасхи господствовало твердое убеждение, что их предки приплыли из обширной засушливой страны на востоке и открыли этот остров, следуя на закат. На большом плоту первооткрывателя, короля Хоту Матуа, были, опять же согласно легенде, люди с удлиненными мочками ушей.
После трех лет работы на острове Пасхи я отправился на пустынные берега Перу. И снова услышал предания о длинноухих мореплавателях. Инки из правящей верхушки тоже были длинноухими. Они утверждали, что этот обычай был унаследован ими от основателя одного доинкского королевства, Кон-Тики-Виракочи, который впоследствии вышел со своей свитой в океан и уже не вернулся...
Все это были звенья одной цепи, но чтобы доказать их тесную связь, надо было найти как можно больше доказательств здесь, в долине реки Ламбаеке. Так началась наша работа в Перу.
Место, где я сидел на скале, располагало к размышлениям, будило воображение. Я представил себе, как здесь спускали на воду большие суда, которым была доступна любая точка побережья Южной Америки, а при попутном ветре они могли достигать самых дальних островов Тихого океана.
Несколько недель назад я вывел камышовую ладью «Уру» из той самой гавани Кальяо, где начиналось наше плавание на «Кон-Тики». Четыре испанца под руководством Китина Нуньоса построили «Уру» из перуанского камыша тотора, а помогали им те индейские мастера, что связали для меня «Ра II» и «Тигрис». Развив скорость, испанцы за два месяца дошли до Маркизских островов в Полинезии.
Но сейчас перед моими глазами стояло более фантастическое зрелище. То был случай, когда человек вправе сказать, что не верит собственным глазам. Дело происходило несколько месяцев назад, когда я без особой охоты принял приглашение Вальтера Альвы, директора музея Брюнинга, которому не терпелось показать нечто интересное для моей работы.
Тропическое солнце висело низко над горизонтом, когда мы, свернув с шоссе на пыльный проселок, вышли из машины на краю старой деревни. Дальше надо было идти пешком. Две-три тысячи обитателей одноэтажных строений из глины, судя по всему, отдыхали после работы в поле.
Пройдя через деревню, мы увидели мальчишек, игравших в футбол на пыльной площадке у подножия крутого холма. Сам по себе холм был ничем не примечателен, если не считать того, что он в гордом одиночестве возвышался над обширной равниной. Призрачно-серый цвет его перекликался с окраской деревенских домов и засохшей грязью под ногами. Но сразу же за холмом простиралась пышная зелень искусственно орошаемой долины. От края засушливой полосы, где мы стояли, вдаль уходили волны сахарного тростника, поля кукурузы и всевозможных овощей и тропических фруктов.
Только я хотел обратиться к Вальтеру Альве с вопросом, как он указал рукой в сторону, где стояли вечнозеленые и вечно сухие цератонии с колючими ветками и бахромчатой листвой. Перед редкими, зарослями дорога кончалась, но между стволами можно было пройти. Я предвкушал волнующее приключение. У меня не было оснований сомневаться в надежности нашего гида, который собирался, если все верно, показать нам одно из чудес древности, не упомянутое ни в одном туристском справочнике.
Впереди мы увидели холмы, похожие на первый. Этакий пересеченный лунный ландшафт: от широких долин до тесных ущелий выстроились косогоры и зубчатые гребни. Увиденное нами было явно делом рук человеческих: задумано неведомыми зодчими и сооружено людьми, жившими на этой планете задолго до возникновения письменной истории. Две лисички, бежавшие по склону ближайшего сооружения, замерли, глядя на нас.
Меня не покидало ощущение, что это — сон.
— Пирамиды,— пробормотал один из моих друзей, и я послушно кивнул.
Вальтер А льва вышел вперед и повернулся к нам лицом, чтобы видеть, какое впечатление произвело на нас увиденное.
— Здесь двадцать шесть пирамид,— сказал он,— включая ту, что стоит около футбольной площадки. Некоторые более сорока метров высотой. Ни одна еще не исследовалась археологами, и, похоже, грабители до них тоже не добрались...
Солнце опустилось так низко, что лучи его почти горизонтально высвечивали крутые скаты, по которым вниз от гребней тянулись глубокие темные борозды. Как будто некий гигантский дракон точил свои когти о стены всех этих компактных сооружений. Отчетливо было видно, что кладка состоит из сотен миллионов высушенных на солнце, твердых, как кирпич, блоков. Формовали их, вероятно, в квадратных деревянных ящиках длиной около тридцати сантиметров, куда набивали смесь глины с соломой. Дома в деревне были построены из того же материала, но эти исполины с площадью основания побольше футбольного поля и высотой с двенадцатиэтажное здание не имели пустот внутри.
Навстречу нам со стороны пирамид ехал верховой. Он явно свыкся с видом этих источенных стихиями сооружений, как и все остальные жители деревни. Случайный гость вряд ли понимал, что его окружают храмы и курганы, воздвигнутые подданными неизвестных правителей, превосходивших могуществом и богатством многих современных. А вот наша компания, бродившая на склоне дня среди мрачных холмов, наверное, вызвала его интерес.
Поравнявшись с нами, всадник негромко поздоровался на испанском языке, напомнив мне, что я нахожусь в Латинской Америке.
Да, мы были в Перу, притом в удивительном месте, не помеченном на картах, даже на археологических. Деревня, в которой мы оставили машину, называлась Тукуме, и жители окрестили свой поселок «Эль Пургаторио», то есть «Чистилище». Так повелось с той поры, когда первые испанские конкистадоры стали казнить здесь индейцев, отказавшихся креститься.
До заката оставалось всего несколько минут. Солнечные лучи позолотили скаты исполинов. Три-четыре десятилетия назад господствовало мнение, что пирамиды Мексики и Перу не содержат склепов. Специалисты утверждали, что внешнее сходство с пирамидами Старого Света — чистая случайность. Но в 1947 году в сердце большой мексиканской пирамиды из тесаного камня в Паленке обнаружили соединенный потайной спиральной лестницей с поверхностью, выложенный огромными, великолепно декорированными плитами, склеп с каменным саркофагом. В нем лежали останки правителя. Лицо мумии было накрыто роскошной маской.
Вальтер Альва первым из ученых убедился, что внутри перуанских пирамид помещаются склепы. Причем хранимые в них произведения искусства ни в чем не уступали тому, что найдено в Старом Свете. Ему в последний момент удалось остановить разграбление пирамиды в Сипане, в каком-нибудь часе езды от того места, где мы теперь находились. Несколько месяцев назад там обнаружили самый большой золотой клад нынешнего столетия. Жители деревни успели продать золото неизвестным американцам примерно на четыре миллиона долларов, прежде чем властям стало известно об этой сделке. Вальтер Альва смело вмешался и предупредил полицию. Деревню окружили, все дома обыскали. Две изумительные маски из золота и много драгоценных украшений передали в музей в Ламбаеке.
Мы прибыли сюда не как кладоискатели. Альва мечтал не просто собрать экспонаты, а раскрыть тайны могущественной династии, погребенной в здешних сооружениях. Мои же планы были значительно скромнее. Я надеялся узнать хоть что-то новое о народе мореплавателей, населявших область, нескончаемые берега которой омывал великий океан.
У меня были основания для таких надежд. Я видел поразительные изделия из Сипана, спасенные Альвой. С огромным мастерством и тонким вкусом были выполнены фигурки людей с большими круглыми дисками в длинных мочках. Почти все они были заняты рыболовством или другой деятельностью, связанной с морем. Мы видим их на верхней палубе больших плотов с пассажирами, а на нижней палубе сложены запасы воды и пищи.
Ни один фараон, ни один шумерский царь не обладали более совершенными произведениями. Однако меня больше всего заинтересовал материал, с которым работали мастера. Это не золото. Удивительно, если учесть, что поблизости находятся богатые золотые россыпи, да и месторождения в Андах не так далеко. Инкрустированные глаза масок выполнены из драгоценного камня -лазурита. Его можно было добыть только в Чили, далеко на юге континента — примерно в двух тысячах километров отсюда. Зубы тех же масок были сделаны из розовых раковин моллюска спондилюс, который водился в сотнях километров на севере, в водах Панамы и Эквадора. А в ювелирных украшениях щедро использована бирюза, доставленная, очевидно, из далекой Аргентины или южных областей Северной Америки.
Красочные перья великолепных плащей, лежавших в захоронениях правителей, принадлежали птицам из лесов по ту сторону Анд или из Эквадора. Судя по всему, вся Южная Америка была доступна и хорошо известна древнему народу, который обосновался в долине Ламбаеке и соорудил пирамиды.
Но если так, то надлежало пересмотреть все наши представления о Южной Америке доинкской поры. До сих пор господствовало мнение, что многочисленные доинкские цивилизации тихоокеанского побережья развивались независимо и изолированно. Однако недавние находки указывают на сложные взаимосвязи. Кульминация в развитии перуанской цивилизации наступила как раз перед приходом воинственных инков, которые, спустившись с горы, присвоили богатства и знания покоренных народов, как это в свое время сделали римляне в Европе.
Ослепленные золотом и прочими драгоценностями, накопленными инками, испанские конкистадоры быстро проследовали через бедный равнинный край. Им представлялось, что замечательные плоды перуанской культуры — дело рук инков. Грандиозные руины на всем пространстве от приморья до Тиауанако произвели сильное впечатление на испанцев; тем не менее рассказы инков о том, что эти памятники принадлежат еще более величественной эпохе, когда всей страной правили основатели перуанской цивилизации, они считали мифами.
Сойдя на берег Перу в первой половине XVI века, испанцы по древней инкской дороге поднялись в горы внутри страны, где обнаружили богатые золотые копи и резиденцию инков. Древняя дорога, проходившая мимо пирамид Тукуме, служила еще доинкским правителям в долине Ламбаеке. Первые хронисты отмечают, что руины в Тукуме — самые грандиозные из виденных ими в этой стране. Но по мере строительства новых дорог диковины этого края были преданы забвению, и четыре с половиной столетия никто не тревожил его покой.
С незапамятных времен местные жители привыкли считать пирамиды частью ландшафта, хотя предания упорно утверждали, что здешние сооружения были воздвигнуты строителем Кальа, сыном Ксюма, который был сыном Наимлапа.
Имя Наимлап было мне хорошо знакомо. Планируя экспедицию «Кон-Тики», я опирался, в частности, на предание о том, как этот правитель со своими наложницами выходил из Перу в открытое море в доинкские времена. Но лишь теперь услышал я от Альвы, что пирамиды Тукуме связывают с внуком Наимлапа.
Некогда, в незапамятные времена у берегов в районе Ламбаеке появилась целая флотилия оснащенных парусами бальсовых плотов. Плоты приплыли с севера и причалили в устье реки у гавани Этен. Предводителем пришельцев был, по словам здешних жителей, могущественный вождь по имени Наимлап. Его супругу звали Цетерни; кроме нее, он содержал много наложниц. Вместе с придворными в количестве сорока человек и другими своими людьми Наимлап сошел на берег, чтобы обосноваться в этом краю. В полулиге (три километра с лишним) от берега он воздвиг большую храмовую пирамиду Чот. И поместил там привезенную с собой статую, изображавшую его бога.
Ксюм — отец строителя Кальа, основавшего Тукуме,— был старшим из двенадцати сыновей Наимлапа. Но спустя десять поколений этой династии пришел конец. Последний король, Темпеллек, решил перенести священную статую в другое место. Но тут с небес обрушился ливень небывалой силы. Тридцать дней продолжался потоп, за которым последовала засуха, длившаяся целый год. Начался голод. Жрецы и вожди назвали короля виновником бедствия, связали ему руки и ноги и отправили его на плоту в море. Королевство сменилось республикой, но затем ею овладел один из могущественных правителей Чиму, потомки которого царили здесь до тех самых пор, когда приморье завоевали спустившиеся с гор инки.
Так выглядела история Ламбаеке в изустных преданиях. Все говорило о том, что в Тукуме помещался центр одного из главнейших королевств доинкской поры.
Вальтер Альва предложил мне принять участие в раскопках памятников Тукуме. На другой день я прибыл в Лиму, чтобы информировать министра иностранных дел Перу о том, что мне удалось увидеть во время краткого посещения северного побережья. На конференции в министерстве фигурировала большая карта, на которой была обозначена деревня Тукуме, однако пирамиды не были помечены, и никто из присутствующих не слышал о них. Они отсутствовали даже на новейшей археологической карте, предназначенной в 1988 году к опубликованию в октябрьском номере журнала «Нэшнл джиогрэфик».
Мне пришлось убеждать собравшихся на конференции, что содержимое двадцати шести нетронутых пирамид Тукуме — величайшая археологическая загадка. И почему этот огромный храмовый комплекс остался неприкосновенным вплоть до наших времен?..
С разрешения перуанских властей для археологических исследований в районе Тукуме было оформлено сотрудничество Национального института Перу и музея «Кон-Тики» в Осло.
Где еще на планете вы найдете долину с неизвестными современному миру, никем не исследованными пирамидами, не уступающими по масштабам самым величественным сооружениям, обнаруженным в Америке со времен Колумба?
Перевел с норвежского Л. Жданов
Тур Хейердал
(обратно)
Гиссарская катастрофа

В январе 1989 года в Гиссарском районе Таджикской ССР произошла природная катастрофа, унесшая сотни человеческих жизней. По сообщениям газет, землетрясением в 5—6 баллов была охвачена территория более 2100 квадратных километров. В эпицентре сила толчка достигала семи баллов, и это было бы не так страшно для людей и построек, если бы колебания земли не вызвали гигантские оползни. Один из них шириной около двух километров сорвался с холма, накрыв южную часть кишлака Шарора. Другой, в виде жидкой глинистой лавы, сошел с противоположного склона и добрался до кишлаков Окули-Боло и Окули-Поен. Объем оползней, по предварительной оценке специалистов, достигал миллиарда кубометров. Отмечался обильный выброс грунтовых вод на поверхность земли, что осложнило проведение спасательных работ.
В газетных сообщениях тех дней меня особенно удивила следующая подробность: «Огромное, до горизонта, хлопковое поле завалено оползнем». Тогда я не мог понять, почему с холма, едва ли достигающего стометровой высоты, сошел такой мощный поток.
В первой половине февраля в районе бедствия работал томский художник Г. Бурцев. Он собирал данные о предвестниках землетрясений, записывал рассказы очевидцев. Бурцев хорошо говорит на таджикском языке, потому ему и удалось узнать много интересного. Вот лишь одно свидетельство очевидца, проживающего в кишлаке Окули-Боло: «Шум был, взрыв. Я выбежал из дома. Увидел огонь сверху на земле. Яркий-яркий, красный! Огонь поднялся вверх и осветил все. Я и другие люди думали, что горит город Душанбе! Черный дым. Оттуда вырвался огонь, пошла лава. Мы заметили, как идет смола с большой скоростью, с паром, пылью. Лава катилась с горки в течение нескольких минут, накрывая крыши домов в Окули-Боло. От страха мы все убежали. Нам стало теперь ясно, к чему накануне была такая красная луна — к большой беде...»
Сначала был взрыв?
И вот я в Таджикистане. Знакомлюсь с геологией района по отчетам местных специалистов. Район изучен детально, геологический архив довольно объемистый, но в этих документах я не нашел ни одного описания вулканического извержения. Выходит, свидетельства, собранные Бурцевым,— выдумка, плод искаженного страхом воображения? Этот вопрос заставил меня детально разбираться в причинах катастрофы.
Плато Уртабоз, где она разыгралась, представляет собой плоскую овальную возвышенность, площадь которой более 30 квадратных километров, с высотой холмов до 130 метров. Склоны плато, особенно южные, спускающиеся к реке Кафирниган, крутые, изрезанные узкими обрывистыми саями. На западе — так называемая Окулинская долина, отделяющая от плато расположенную севернее Первомайскую горку.
На геологических картах плато выглядит двухслойным пирогом, верх которого образован лёссовидными суглинками, а над ним залегают суглинки, очень похожие на продукт извержения грязевого вулкана. Грязевые вулканы в большинстве случаев связаны с расположенными глубже месторождениями нефти и газа. И действительно, как вскоре выяснилось, в этом районе недавно найдена нефтяная залежь с газовой шапкой. На самом плато Уртабоз двадцать лет назад нефтяниками было пробурено восемь глубоких, до 2 тысяч метров, скважин, которые, однако, не испытывались.
По мере того, как накапливались доказательства грязевулканического извержения, мне становилось все труднее соглашаться с официальными выводами о так называемой гидрогенной версии гиссарской катастрофы. Причины ее, по утверждению местных специалистов, крылись в непродуманном вмешательстве человека в ход природных процессов на безводных землях плато Уртабоз. Это название переводится как «безводная пустыня в середине». Зато у подножия плато бьет множество разнообразных источников. Некоторые из них называют «кайнарами», что в переводе означает «горячий». Я не нашел сведений о гидротермальной деятельности в этом районе, хотя совершенно исключить ее нельзя, так как температура воды в источниках района непосредственно после катастрофы была на три градуса выше обычной.
...В Окули-Поен грязевой поток залил дома под чердаки. На поверхности местами торчат горбатые глыбы суглинков. На некоторых уже растут деревья и кусты, зеленеет дерн. Рядом копошатся люди, раскапывают дома, достают необходимые вещи. Здесь, в глубоком шурфе, трудится и Мухамедкадыр Басидов, бывший воин-«афганец». По его словам, грязь осела чуть ли не на метр, уплотнилась, однако внизу все еще хлюпала черная пахучая вода.
Вечером Мухамедкадыр рассказал: «В ту ночь я до 4.20 читал книгу. Потом лег, погасил свет. Но не спалось, было как-то тревожно. Примерно без двадцати пять начала легко трястись земля — как баллон на воде. Минут пять прошло, подошла к двери собака моего братишки, который в эту ночь спал в моей комнате. Как я теперь понимаю, она хотела его предупредить, спасти — сначала лаяла, потом страшно зарычала.
Я встал, и тут раздался удар, я думал, что-то взорвалось. Здесь часто трясет, а в этот раз было что-то не то. Люди думали, что упал метеорит. После удара все осветилось. Я пулей выскочил на улицу. Было еще светло, и я увидел — падает дувал. Потом быстро потемнело. Я побежал к старшему брату спасать детей. Вскоре стал нарастать звук. Брат хотел выпустить скот, а сарая уже нет. Все побежали на дорогу. После взрыва прошло 7—8 минут... Утром, когда было уже светло, я подошел и потрогал грязь. Она была теплая, градусов 40. Это отметили все жители, кого ни спросите. А кое-кто говорил, что грязь была горячей».
Действительно, многие жители Окули-Поен помнят, что грязь была теплой, даже горячей. Халима Раджабова сказала: «Я трогала в шесть часов. Сильно горячая была, обжигала руку». Халима живет в 100 метрах от того места, где остановился поток.
Дом Султана Алтынбаева, бригадира колхоза имени Карла Маркса, одним из первых в Окули-Поен принял удар грязевого потока. «Я проснулся от толчка, одновременно с которым был взрыв,— рассказывает Султан.— После толчка все осветилось, а когда я встал, света уже не было. Я встал не сразу, примерно четыре минуты выжидал, потому что тряхнуло несильно. Потом начал нарастать звук, подобный тому, какой издает большое падающее дерево или горящий шифер. Вышел посмотреть. На юго-западе была луна. В противоположной стороне увидел что-то движущееся. Думал, что клубится пыль. Потом там упало дерево. Когда осталось 35 метров, я понял, что идет глина. Первый вал был высотой 1 метр, и над ним слой белого пара высотой 50—60 сантиметров. А следом за первым валом метрах в 3—5 был виден другой, высотой 5 метров. Посмотрел в сторону Первомайской горы — там черно. Закричал своим, мол, бегите скорее. Все побежали в сторону от глины, она была горячей, это все скажут, иначе откуда взяться пару. Люди между собой говорили, что произошло извержение грязевого вулкана».
Такое утверждение Алтынбаева меня уже не удивляло. Накануне нечто подобное говорил и житель кишлака Хисор Мирзомурад Тагаев. Он с жаром доказывал, что произошло извержение грязевого вулкана. И так думали многие местные жители. Об этом же говорил по телевидению и бывший учитель географии, житель Окули-Боро Зоир Джалилов. Его дочь Махбуба помнит, как в момент толчка, сопровождавшегося взрывом, все окрестности были освещены красноватым светом. После этого несколько минут слышался шум полыхающего сильного огня. На мой вопрос: что было раньше, взрыв или толчок — Махбуба ответила: «Сначала был звук, и в этот момент тряхнуло!» Усманали Гулов добавил: «Одну-две секунды длилась вспышка, потом — взрыв, и в тот же момент тряхнуло!»
Для расследования причин катастрофы в производственном объединении Таджикгеология организовали рабочую группу из специалистов-гидрогеологов, которая и провела комплексные инженерно-геологические исследования, включающие дешифровку аэрофотоматериалов, полевую съемку, бурение скважин. По мнению специалистов, причина оползней — в обводнении лёссовидных суглинков, которое произошло в результате двадцатилетней инфильтрации воды из оросительной системы Института земледелия АН Таджикской ССР.
Случайное совпадение или закономерный результат непродуманного вмешательства человека в природные процессы? Гидрогеологам удалось выяснить, что в толще плато Уртабоз есть три горизонта переувлажненных суглинков на глубине от 2—3 до 42 метров. Два из них фактически — напорные. В одной из скважин уровень разжиженной грязи за ночь поднялся на восемь метров. Но ведь этот факт и доказывает, что источником переувлажнения лес сов послужили не поверхностные, а глубинные воды.
На плато Уртабоз
От Душанбе до райцентра Гиссар полчаса езды на рейсовом автобусе. В мае эта земля особенно красива, все в зелени, в цвету — глаз не оторвешь! — позже все сожжет знойное солнце.
Гиссарская долина — это, по сути, один непрерывный кишлак, в котором пустынными островками стоят адыры — холмы, сложенные лёссовидными суглинками типа уртабозских. За 10 последних лет население Таджикистана возросло на треть. Такого прироста нет ни в одной другой республике Союза. Через десяток лет население здесь должно увеличиться почти на два миллиона человек. Невольно возникает вопрос: где же строить жилье для людей? На хлопковых полях? И глаз тут же услужливо находит адыры. Застроить их девятиэтажками — и проблема решена. С такими мыслями я и подъезжал к Шароре.
Южная часть кишлака у подошвы крутого склона плато Уртабоз сегодня не что иное, как огромная братская могила почти километровой длины и шириной метров в двести. Она обнесена высоким глухим забором, в котором возле дороги сделан проем. Непрерывно подъезжают машины, мотоциклы. Выходят люди, присаживаются в проеме и молятся.
Я поднимаюсь на крутой обрывистый склон плато Уртабоз. Несомненно, это был оползень! Судя по развитию оползневых трещин, большой протяженности и глубины — здесь сполз блок плотных суглинков толщиной метров пятнадцать. Под ним-то и находились переувлажненные разжиженные суглинки, по которым, как по смазке, съехал верхний слой. Крайние дома кишлака залиты именно такой жидкой грязью. Она заползала в комнаты через окна и двери, на месте это хорошо видно. Узнал я и еще об одной странности оползня. Большие куски асфальта с шоссе, проходившего под склоном плато, оказались вдруг на самом краю сползавшей массы, на поверхности жидкой грязи. Но если внушительные плиты асфальта не были завалены оползнем, значит, этот участок дороги был вспучен снизу и перенесен на несколько десятков метров.
На склоне плато возле Шароры оползень срезал оросительный канал. Однако здесь, как и во всех других местах, трещины отрыва одинаковы, что свидетельствует о сходстве физических свойств суглинков под каналами и вдали от них. А это значит, что по характеру трещин весьма сложно определить причину обводнения грунтов. Более того, на местности отчетливо видны и следы древних оползней: в районе кладбища кишлака Шарора, возле Окули-Боло... Вот и получается, что оползни здесь происходили и до начала мелиорации. Конечно, можно в этом случае и предположить, что обводнение глубинных слоев произошло, например, при появлении на местности глубоких трещин. Но именно таких я и не нашел. Хотя за двадцать лет их наверняка бы обнаружили.
На противоположной, юго-западной, стороне плато произошло уже нечто совершенно иное. Здесь сошел не оползень, а мощнейший четырехкилометровый грязевой поток, который и залил площадь в два миллиона квадратных метров. Очень жидкая, подвижная грязь, растекаясь по Окулинской долине, смыла юго-восточную часть кишлака Окули-Боло и достигла центральной части кишлака Окули-Поен. В последний раз этот поток ворвался через 10 минут после взрыва, то есть скорость его распространения близка к пяти метрам в секунду. И это при уклоне местности всего в семь градусов! К счастью, люди успели уйти из Окули-Поен.
В это время в сельсовете дежурил Анвар Шайкарамов. Он вышел на улицу, и в тот момент словно по листу железа грохнули кувалдой, и пошли глухие удаляющиеся волны в сторону Душанбе.
Такое же развитие основных событий — толчок, взрыв, факел и отключение электроэнергии — записал и Г. Бурцев в начале февраля.
Тошмухамед Курбанов: «Мне 65 лет, я пережил не одно землетрясение. Под утро 23 января вся моя семья проснулась от подземного толчка и сильного звука. Меня стали спрашивать, что это могло быть. Я зажег спичку, чтобы узнать, землетрясение это или нет. Пламя поднялось кверху. Электрическая лампочка висела спокойно, а при землетрясениях она всегда болталась».
Абдурахим Кадыров, 50 лет, поселок Хисор: «23 января я проснулся очень рано, в половине пятого. Вышел на улицу и удивился, что совсем уже не хочу спать. И на душе какое-то беспокойство. Кстати, от этого тревожного чувства я и проснулся. Вернулся в дом, прилег, но не спалось. Добавлю, что везде на моей усадьбе обычно ночью горит свет. Вдруг все лампочки разом погасли! И так вдруг загрохотало, что стало страшно! Казалось, все дома сейчас свалятся на меня! Был уверен, что упал большой самолет. Мы все выскочили, а тут услышали треск, будто ломалось что-то крупное и крепкое».
Некоторые жители Окули-Боло и Окули-Поен в момент взрыва видели огонь. Омина Юлдашева из поселка Окули-Поен плохо говорит по-русски, и ее рассказ переводила Хадича Муминова: «Вышли из дома — поток грязи подходит уже. Перебежали поле. По каналу — огонь в двух местах. Первый — большой, как дом. Второй — возле дома Тухтасына Юсупова».
И все же эти внешние разнородные явления имеют одну причину, точнее, целый их единый комплекс, послуживший сложным пусковым механизмом. На протяжении длительного времени «подушка» уртабозских лёссовидных суглинков подпитывалась глубинными водами и стала совершенно непроницаемой для газов, поднимавшихся из недр. В январе 1989 года внутреннее давление газа стало приближаться к критическому. Кстати сказать, накануне извержения местные мальчишки видели трещины на вершине Первомайской горки.
Подземный толчок 23 января привел к прорыву газов на поверхность. Мощный взрыв ударил снизу по пласту жидких суглинков, вспучил их, и верхние слои лёсса скатились по этой горячей «смазке» в долины. Естественно, внимание привлекли только те оползни, с которыми были, связаны человеческие жертвы. Однако для объяснения причин катастрофы надо было изучить оползни, сошедшие на правый берег реки Кафирниган, а также и те, что случились на восточном склоне плато Уртабоз, где не было орошения. Гидравлический удар, вызванный взрывом подземных газов, вспучил грунт и там, о чем свидетельствует перенос шоссейного асфальта. В других местах жидкая грязь из глубинного очага хлынула на поверхность через несколько кратеров. Ее изверглось шесть миллионов кубометров — черной и пахнущей тленом.
Таким образом, гиссарская катастрофа представляет собой сложное явление, которое содержало в себе и сейсмический толчок, и грязевулканическое извержение, и развитие мощных оползней. Наиболее важная из этих трех составных частей оказалась скрытой от глаз исследователей.
Возвращаюсь в Душанбе другой дорогой, через Айни. Те же цветущие сады, те же адыры. Но воображение уже не рисует девятиэтажек на холмах. Ведь грязевые вулканы, как правило, не располагаются поодиночке, а выстраиваются в цепочки. Кстати, западнее плато Уртабоз Илякский разлом проходит еще через два адыра, но гораздо меньшего размера. На западном склоне первого видны следы давних оползней. На втором стоит знаменитая крепость Хисор. Верхняя часть крепостного холма явно насыпная, а на нижней, естественной части еще в недавнее время находилось глубокое озеро, рос камыш, а сейчас осталась небольшая лужа. Не исключено, что это озеро располагалось в кратере грязевого вулкана, прекратившего свою деятельность, но подпитываемого нефтяными водами с глубины.
И все же даже теперь я не могу с уверенностью утверждать, что это был грязевой вулкан. Кое-какие сомнения остались. Но разрешить их можно только в процессе исследования, которое необходимо продолжить.
Н. Новгородцев, геолог
(обратно)
Траверс
 Канченджангу долго считали высотным полюсом Земли, оттого что в отличие от большинства восьмитысячников планеты, скрывающихся от взглядов наблюдателей в лабиринте меньших братьев, эта гора видна далеко окрест. И только в результате точных топографических обмеров удалось установить, что самая высокая точка планеты — вершина Эвереста. А Канченджанга заняла в табеле о рангах третье место, пропустив вперед себя вершину К-2.
Однако вряд ли какая-нибудь гора может сравниться с Канченджангой по количеству окутывающих ее легенд. Под магическое влияние четырехглавого исполина попал и Николай Рерих. После одного из гималайских путешествий он объявил, что именно в отрогах Канченджанги скрывается вход в Шамбалу — таинственную и прекрасную страну тибетских мудрецов.
Вторая Советская Гималайская экспедиция поставила перед собой задачу совершить траверс — последовательное прохождение — всех четырех вершин Канченджанги.
Более двух лет шла напряженная подготовка к этому дерзкому проекту. И наконец в феврале 1989 года лучшие альпинисты страны отправились в Непал. В составе экспедиции был и журналист Василий Сенаторов.
Канченджангу долго считали высотным полюсом Земли, оттого что в отличие от большинства восьмитысячников планеты, скрывающихся от взглядов наблюдателей в лабиринте меньших братьев, эта гора видна далеко окрест. И только в результате точных топографических обмеров удалось установить, что самая высокая точка планеты — вершина Эвереста. А Канченджанга заняла в табеле о рангах третье место, пропустив вперед себя вершину К-2.
Однако вряд ли какая-нибудь гора может сравниться с Канченджангой по количеству окутывающих ее легенд. Под магическое влияние четырехглавого исполина попал и Николай Рерих. После одного из гималайских путешествий он объявил, что именно в отрогах Канченджанги скрывается вход в Шамбалу — таинственную и прекрасную страну тибетских мудрецов.
Вторая Советская Гималайская экспедиция поставила перед собой задачу совершить траверс — последовательное прохождение — всех четырех вершин Канченджанги.
Более двух лет шла напряженная подготовка к этому дерзкому проекту. И наконец в феврале 1989 года лучшие альпинисты страны отправились в Непал. В составе экспедиции был и журналист Василий Сенаторов.
Утреннее солнце заливает восточный склон холма у въезда в непальскую деревушку Басантапур. Мы ставим временный палаточный городок. Оранжевые польские палатки «Кемпинг» выстраиваются в ряд словно на линейке, на нижней площадке разворачивает кухню наш повар Володя Воскобойников. А на специально отведенной поляне Валентин Иванов, старший тренер сборной СССР по альпинизму, следит за упаковкой грузов.
Наш кипящий муравейник окружают любопытные. Это и жители Басантапура, и носильщики, которые, как выясняется, уже неделю ждут сигнала приниматься за дело. Чтобы предотвратить еще больший хаос, огораживаем наш лагерь веревкой.
Грузы у нас в основном трех видов: баулы из синей синтетической ткани с лямками, напоминающие высокие рюкзаки, пластиковые бочки и деревянные ящики с кислородными баллонами, для переноски которых сделаны специальные дюралевые рамы — «станки». Но европейские премудрости бессильны перед опытом многих поколений. Непальцы знают, что грузы надо носить в корзине, которая висит за спиной на налобном ремне. И все попытки приучить их пользоваться заплечными лямками ничего не дают. Получив очередной груз, носильщик оттаскивает его на несколько метров в сторону, где оставлена корзина, засовывает баул в плетенку, приседает, заводит на лоб веревочный ремень, встает и начинает, движение мелкими быстрыми шагами. Спустившись с холма, носильщики спешат в чайные Басантапура отметить чаем с молоком свой контракт.

А в шатровой палатке «Зима», где расположился склад, три дня подряд идет выдача снаряжения шерпам. Живущие в горных областях Индии и Непала, они привыкли к скудной пище и плохой погоде — просто идеальные носильщики и проводники высокогорных экспедиций. По правилам министерства туризма Непала, весь наемный персонал должен получить точно такое же снаряжение, что и участники.
В палатку бочком, с поклонами входит очередной шерп. Пока он называет мне имя и фамилию, Коля Черный, теребя бороду, внимательно смотрит на его ноги и спрашивает, какой размер нужен. Самая важная и, естественно, дорогая часть альпинистского снаряжения — обувь. У нас ботинки экстра-класса, австрийской фирмы «Кофлах». Они пластиковые, и это главное их достоинство, поскольку пластик не промокает и, соответственно, не замерзает. А для тепла в них вставляются внутренние ботинки-вкладыши из специального термоизоляционного материала. Размеры требуются в основном маленькие, и Черный, роясь в коробках, сокрушенно приговаривает, что на детский сад не заказывали, но подходящая пара, конечно же, обнаруживается. Шерп доволен, хотя мы прекрасно знаем, что вряд ли хоть один из них наденет новые ботинки. Пройдя не одну экспедицию, эти люди предпочитают ходить в испытанном обмундировании. Новое же немедленно пакуется и отправляется на продажу. Денег от одного комплекта снаряжения вполне хватает, чтобы содержать дом и семью в течение целого года.
Закончив отправку грузов, отдыхаем в центральном отеле «Як», продуваемом насквозь. Погода под вечер испортилась, и поэтому в ресторане, если можно так назвать помещение с четырьмя струганными столами и скамьями, у которого переднюю стену заменяют деревянные щиты, опускаемые на ночь, зверски холодно. Спасает терпкий местный ром «Кукри».
Вдруг к нам подходит растерянный хозяин ресторанчика и спрашивает, нет ли в экспедиции доктора — в гостиницу принесли раненного яком погонщика.
С нашим доктором Валерой Карпенко идем на осмотр больного. Бедный парень лежит в промерзшей насквозь кладовке на куче тряпья. Валера человек мягкий, но тут в его голосе появляется твердость, заставляющая людей подчиниться. Он требует перенести пациента в теплое помещение, зажечь огонь и дать горячей воды. Поддерживаемый с двух сторон родственниками, парень сам выбирается из конуры, но по лестнице подняться не может. Тогда Валера берет худенького погонщика на руки и несет на третий этаж. Укладываем его под ватное одеяло в той же комнате, где ночевали сами пару дней назад. По лицу видно, что мальчик — тибетец, как, впрочем, и большинство погонщиков яков в здешних местах. Его буквально трясет от холода, но горячий чай со спиртом делают свое дело, и парень обмякает. В это время приносят яркую китайскую керосиновую лампу, и доктор берется за работу.
Рану обрабатывал местный фельдшер. Судя по тому, как были наложены швы, он привык иметь дело прежде всего с коровами. Валера, сокрушенно качая головой, аккуратно промыл (отверстие, вправил внутрь края кожи. Укол, пара таблеток снотворного, и бедняга засыпает. Набившиеся, несмотря на все грозные предупреждения, в комнату родственники и знакомые с благоговением следят за работой доктора.
Парню еще повезло — острый рог яка не затронул жизненно важных центров. Могло кончиться хуже. После этого случая я утратил доверие к обманчиво добродушной внешности косматых животных и поспешно уступал тропу похрюкивающим бестиям. Яки довольно коварны и не очень любят быть вьючными животными. Это, правда, понимают и их владельцы. Сколько раз я наблюдал, как по тропе вышагивает як, украшенный бубенчиками и вплетенными в хвост ленточками, с парой мягких переметных сумок на спине. За ним идет налегке погонщик с тросточкой в руке, а завершает процессию его жена с самой неудобной поклажей.
Каждый приход Валеры Карпенко в новую деревню становился там «Днем здоровья». Еще бы — в деревенской местности Непала, по статистике, на 100 ООО жителей приходится три врача! Мы начали даже опасаться, что пятисоткилограммовый запас медикаментов иссякнет. Этого, к счастью, не произошло. И причина, наверное, в том, что непальцы излечивались даже небольшими количествами антибиотиков, которые там совершенно неизвестны.
«Могила Паша»
Не самое веселое название для места, в котором предполагаешь прожить два месяца. Но выбирать не приходится: уступ древней морены (Морена — от франц. moraine -отложения, накопленные ледниками при их движении.), приткнувшийся к юго-западному фасаду Канченджанги,— идеальное место для базового лагеря. А название пришло из далекого 1905 года, когда на склоне горы неподалеку отсюда разыгралась трагедия.
Швейцарский лейтенант Алексис Паш был участником первой альпинистской экспедиции на Канченджангу. Восходителям удалось тогда подняться до 6300 метров. На спуске поскользнулись и поехали вниз два носильщика. Они и увлекли за собой Паша, шедшего с ними в одной связке, и еще одного носильщика. Все было бы ничего, не вызови они своим падением лавину. Все четверо погибли. Друзья высекли на одном из камней имя альпиниста, и с тех пор площадка на вершине скального холма стала называться «Могилой Паша».
Обычно этот плацдарм на высоте 5500 метров использовали для штурма горы с юго-западного направления, в том числе и знаменитая экспедиция 1955 года, под руководством Чарльза Эванса, впервые добившаяся успеха. Со временем вершина холма приобрела вполне обжитой вид. Поднявшись на него, наша передовая группа увидела удобные, почти стационарные площадки под палатки, выложенные из камней, четырехугольник кухни и очаг для ритуальных молебнов. А также... огромную свалку из пакетиков из-под французских лекарств, американских батареек, консервных банок и пустых газовых баллончиков производства всех стран. Даже привычные ребята ахнули, увидев эту картину, и — делать нечего — засучили рукава и вскоре расчистили площадку.
Утилизация отходов становится все более жгучей проблемой в альпинизме. Несколько лет назад непальское правительство даже организовало специальную санитарную экспедицию на Эверест. Казалось бы, давно известно: чисто не там, где убирают, а где не сорят. Но на практике это невозможно. Не только из-за халатности, но и по причине непогоды и усталости.
Когда я поднялся в базовый лагерь, он приобрел уже вполне цивилизованный вид.
Столовая из двух сшитых вместе шатровых палаток с кухней образовали как бы центр нашего городка, вокруг которого в художественном беспорядке расставлены оранжевые «Кемпинги». Рядом с палаткой начальства дрожит на ветру растянутая веревками 10-метровая антенна. Все понятно — радиорубка будет под боком у руководителя экспедиции Эдуарда Мысловского. Здесь же и шатровая приземистая «Зима»— в ней склад.
Лагерь, ставший больше чем на неделю важным промежуточным пунктом экспедиции, опустел. Последней наверх ушла отдыхавшая после похода в базовый лагерь «группа России»: ее руководитель Евгений Виноградский из Свердловска, Сергей Богомолов из Саратова, Владимир Каратаев из Дивногорска и Александр Погорелов из Ростова-на-Дону. А вместе с ними повар Володя Воскобойников. Остались лишь Мысловский да я. Такая уж наша доля — плестись в хвосте и заставлять работать носильщиков. Грузы оставались на леднике, впереди не хватало самого необходимого, непогода то и дело путала карты.
В палатке сыро и холодно. Погрузившись в спальники, читаем,
пишем дневники. Тишина такая, что, кажется, слышно, как каждая снежинка касается ткани палатки. Из небытия нас выводит официальное приглашение на ужин от сопровождавшего нас индийского офицера связи Раджа Ганеша Рая. Наш юный друг в последнее время заметно сник. Еще в начале подъема у него начала болеть голова. А уже здесь, на высоте 4200 метров, Рай почувствовал себя совсем паршиво. К общему недомоганию добавились боли в желудке. Доктор определил гастрит и прописал строгую диету. А позади остался родной Дхаран-базар, где родители и друзья, где тепло и на базаре всегда свежие фрукты и овощи. Понятно, что, имея возможность выбирать, любой нормальный человек предпочтет лучший вариант.

Рай был нормальным человеком, в чем окончательно убедил нас, потребовав денег на дорогу и компенсацию за питание. Суммы, которую он при этом заломил, вполне хватило бы, чтобы совершить паломничество по всем буддийским святыням Непала. Но живой интерес к экспедиции у него быстро пропал, а в конфликтных ситуациях с носильщиками он старался сохранять нейтралитет — словом, помощь его перестала ощущаться. А задержки в пути грозили обернуться нехваткой продуктов к концу восхождения, поэтому Мысловский отпустил офицера связи без особых возражений.
Надо сказать, что и сирдар На Темба и его заместитель Дорджи также отнеслись к этому спокойно. Шерпы вообще невозмутимый народ. На Темба — сильный альпинист и скромный человек. В 1982 году он уже побывал на главной вершине Канченджанги с двумя итальянцами, но рассказывать об этом стеснялся. Только от его брата Анг Три, который был здесь же — среди высотных носильщиков, мы узнали, что наш сирдар тогда практически втащил на себе на вершину одного из альпинистов, чуть было не отступившего от своей мечты. В благодарность восходители пригласили На Тембу на месяц в Италию. Эта поездка, очевидно, произвела сильное впечатление на молодого непальца. Во всяком случае, о Европе он вспоминал с большой любовью и даже грустью.
Дорджи — человек совершенно другого склада. Невысокого роста, крепкий, с черными вьющимися волосами, он чувствует себя в любой сложной ситуации как рыба в воде. К этому обязывает его не совсем обычная для нас, но почетная в здешних местах профессия. Дорджи — контрабандист. И в экспедиции ходит, что называется, «для отвода глаз». Хотя и альпинист он тоже сильный. «Я был, пожалуй, единственным, кто курил на Южном седле Эвереста»,— любит прихвастнуть он при случае. Действительно, без сигареты «Як» в уголке губ, постоянно обнажающих в улыбке крепкие кривоватые зубы, его трудно увидеть.
Вряд ли кто-нибудь точно подсчитывал, но, на мой взгляд, половина товаров, продаваемых в Непале,— контрабандные. Дорджи, например, гоняет своих яков в Тибет за кедами, коврами, термосами, солью. А сам везет туда рис, ткани, ширпотреб индийского производства. И неплохо на этом зарабатывает. Его профессия и хобби тесно связаны между собой. Ведь перевалы через Главный Гималайский хребет, которыми пользуются контрабандисты, лежат на высоте более 5 тысяч метров.
Итак, на следующий день Рай ушел вниз, прихватив с собой палатку и еду. А мы с Мысловским и На Тембой отправились наверх, оставив в лагере Дорджи. Идти по тропе теперь гораздо легче — акклиматизация закончилась. Дорогу мне неожиданно пересекает ласка. Сделав несколько элегантных прыжков, любопытный зверек встает на задние лапки и, вытянув узкую мордочку, изучающе смотрит: что там за странное навьюченное существо с палками в руках движется по его владениям?..
На кратком вечернем совете решили, что Мысловский и Черный уйдут вперед, а я останусь на боевом посту. Их нетерпение понятно — группа Бершова уже установила второй высотный лагерь на высоте 6800 метров.
А на леднике тихо, если не считать грохочущих раскатов лавин, довольно часто срывающихся с обступивших его хребтов. Пару дней назад на моих глазах обвалился зеленоватый язык одного из ледников, стекающих со склонов. Обычно звук доходит до тебя тогда, когда основная масса обвала уже пролетела вниз. Здесь же я невольно стал свидетелем того, как пошел вниз карниз весом в несколько десятков тысяч тонн. Секундная тишина и взрыв. Облако снежной пыли окутывает место происшествия и доходит до меня вместе с уже сильно ослабевшей ударной волной. В горах практически невозможно определить расстояние на глаз. Но по скорости звука я вычислил, что это произошло в двух километрах от меня.
Уже под вечер слышу голоса — идут сверху доктор и повар. Несмотря на значительную разницу в возрасте, они подружились еще на Тянь-Шане. Характеры у них действительно похожи — оба сдержанные, очень аккуратные и обязательные. Чай уже почти закипает, когда они вваливаются в мою палатку. Карпенко пришел за некоторыми особо нужными лекарствами, а Воскобойников — за сухим молоком. Но главная цель, конечно, прогуляться и хотя бы на время сбросить груз высоты. Это ведь не шутка — жить практически на уровне Эльбруса, самой высокой точки Европы.
Даже у самых сильных людей, впервые попавших на большую высоту, отмечают странности поведения. Ни с того ни с сего человек вдруг начинает громко петь, что-то декламировать, впадает в эйфорию или, наоборот, в апатию. И только те, кто уже много раз поднимался высоко в горы, своевременно могут распознать признаки надвигающейся «горняшки» — горной болезни — и, зная особенности своего организма, настроить его соответствующим образом. Практически у всех на высоте более пяти километров начинает болеть голова. Разница в том, что опытные люди воспринимают это как должное и знают, что лучшая мера защиты — активная работа, тогда акклиматизация проходит интенсивнее, а новички падают духом и концентрируют все внимание на недомогании, тем самым усиливая его.
На связи — Канченджанга
— Раз-два-три-четыре... Катманду, Катманду, как слышишь меня? Вызывает Канченджанга. Перехожу на прием,— звучит традиционное начало связи из базового лагеря.
Настраивает нашу «Ангару» обычно Мысловский. А в Катманду этим занят корреспондент ТАСС Дмитрий Макаров. Рация там стоит в специальной комнате министерства туризма, на крыше которого мы соорудили антенну, развернутую в восточном направлении. Будь у нас радиостанция помощней, триста километров, отделявших базовый лагерь от столицы, не становились бы зачастую непреодолимой преградой для «Ангары», особенно в плохую погоду. Аккумуляторы, которые мы везли из Москвы, сели почти сразу же, и если бы не генератор постоянного тока, напоминающий ручной велоэргометр, то связи не было бы.
Уловив некое подобие русской речи на другом конце радиомоста, Мысловский кратко излагает основные события прошедших дней и вручает мне микрофон. Начинаю диктовать заметку. Дима далек от альпинизма, и поэтому любой горный термин приходится передавать по буквам.
— Группа готовится на траверс,— ору я, например, почти засунув микрофон в рот.
— Кто готовит каверзы?— отзывается через шумы эфира недоумевающий Дима.
Во время таких передач начинаешь вдруг ощущать вес каждого слова. И, перефразируя известную поговорку, твердишь себе: «Не пиши красиво». Поэтому невольно ограничиваюсь изложением фактов, в те дни не очень радостных.
Хвост экспедиции безнадежно отстал. В базовом лагере не хватает еды, а чтобы идти выше, надо сначала забросить грузы и устроить промежуточные высотные лагеря.
Шерпы не спешат с выходами наверх, а ходить вниз, помогать носильщикам, считают ниже своего достоинства. Основной заработок — пусть в виде инвентаря они получили авансом. Теперь же, когда начинается самый трудный этап, доходы станут непропорциональны затратам сил и риску. По договору с владельцем компании «Аннапурна треккинг» Пандеем им положено всего 40 рупий в день. Это примерно столько же, сколько стоит в Катманду бутылка пива. Потому вполне объяснимо их желание «не высовываться», и похоже, что На Темба с его мягким характером не способен их заставить. Но через несколько дней носильщики сами взялись за работу: просто надоело сидеть в холоде, без еды, и они притащили основную часть поклажи в базовый лагерь.
К слову сказать, и мне диспетчерская моя функция надоела до предела. Пару раз я делал вместе с портерами грузовые ходки на «Могилу Паша», передавал материалы, а затем с грустью отправлялся вниз, в свой отшельнический скит.
Через несколько дней в экспедиции случилась беда. На леднике от отека легких умер сирдар Нри Бадуру. В Соло Кхумбу — как называют шерпы свою страну — у него остались жена и пятеро детей, ему было тридцать шесть лет. Самое печальное, что мы вполне могли спасти его. Накануне погода улучшилась, и несколько человек отправились вниз проторить тропу для носильщиков, которые кашляли не меньше альпинистов. Опустившись, ребята выдали им таблетки. Никто особо не жаловался на самочувствие, поэтому, загрузив рюкзаки, группа потащилась через вьюгу обратно в базовый лагерь. А через несколько часов случилась беда. Если бы кто-нибудь из его друзей забил тревогу, попросил обратить на него внимание, уверен, все вышло бы по-другому. На леднике было достаточно медикаментов и кислорода, чтобы спасти беднягу.
Высота и гипоксия ускоряют развитие любой болезни. Утреннее першение в горле может обернуться к вечеру фолликулярной ангиной, к полуночи из нее разовьется двустороннее воспаление легких, которое за считанные часы перейдет в отек... Единственное спасение — ударные дозы антибиотиков и как можно более быстрый сброс высоты или искусственный кислород.
Несколько дней назад Валера Хрищатый почувствовал себя плохо на маршруте. Понимая, чем может обернуться недомогание, он пулей бросился вниз, а случившемуся здесь же Карпенко было приказано сопровождать больного. Легко сказать сопровождать, если тот несется вниз так, что только пятки сверкают! В результате доктор отстал от подопечного на полчаса и вышел к базовому лагерю уже в темноте, за что ему и влетело от начальства — не ходи, мол, один по ночам. Карпенко даже ничего в свою защиту сказать не мог, так обидно прозвучало для него это обвинение. Но собрался с духом и пошел лечить виновника происшествия — а что делать?
Карпенко и сообщил по рации о смерти носильщика. Он в компании еще нескольких человек спустился утром за продуктами на ледник и узнал печальную весть. Настроение у всех паршивое, даже какое-то чувство вины появилось. Критикуем, дескать, наемный персонал, заставляем их работать — и вот результат. Хотя все это, конечно, не так. Риск, которому подвергают себя наши ребята, неизмеримо больше. Только мотивы разные. Нри Бадур отправился сюда заработать, а в результате семья лишилась единственного кормильца. По правилам министерства туризма каждый носильщик застрахован нанимающей его компанией на 50 тысяч рупий. Сумма, по местным масштабам, огромная. Не откладывая в долгий ящик, сообщаем печальные новости в Катманду и приспускаем флаги в знак траура.
Товарищи похоронили Нри Бадура через два дня, когда прекратился снегопад. Его завернули в палатку, в которой он лежал, и заложили камнями неподалеку от второго ледового лагеря. Надо сказать, что его земляки довольно спокойно восприняли происшествие. Средняя продолжительность жизни в Непале —50 лет. В горах эта цифра несколько ниже. Причем у мужчин она значительно ниже, чем у женщин. Так что, по их разумению, погибший вовсе не был чересчур молодым человеком. К тому же индуизм — а он был индуистом — не велит расстраиваться из-за смерти. Ведь она лишь означает переход из одного состояния в другое. В этой жизни ты был человеком, потом будешь черепахой, а в следующий раз окажешься принцем или самим богом Кришной. Предугадать не дано. Но чем больше ты страдал в предыдущей жизни, тем больше шансов возвыситься в следующей...
В самом конце марта к нам впервые попала почта. Ее принес из Катманду прибывший под Канченджангу с группой туристов знаменитый английский альпинист Дуг Скотт. Отдельные счастливчики получили письма, но таких было немного, а всем остальным достались газеты. Столовая сразу же превратилась в избу-читальню. Газеты зачитали, без преувеличения, до дыр.
Вообще альпинисты — народ читающий. Редко кто отправляется в базовый лагерь без одной-двух любимых книжек. В результате в экспедиции образуется библиотека, а на особо популярные книги возникает очередь. У нас особым спросом пользовались «Избранное» М. Булгакова, «Котлован» А. Платонова и «Введение в сексологию» А. Кона. Помню, в одном из репортажей я сообщил и об этом.
Однажды, когда Сережа Бершов лениво вертел ручку настройки своего миниатюрного приемника «Сони», мы услышали обрывок фразы: «...советские альпинисты прошли опасный участок через джунгли. Теперь им предстоят два месяца работы среди снега, льда и скал». Это из моей информации более чем двухнедельной давности. Ничего себе оперативность! А сколько всего случилось за эти две недели!
Высотная акклиматизация, которую успели набрать все ребята, тем временем давала свои плоды, и группа Валиева окончательно установила третий лагерь на высоте 7200 метров. Большая терраса — место ветреное и холодное. Ночью температура падает там до — 25°С. Ординарная же палатка «Зима», которую планировали под базовую высотную, тепло не держит, а под напорами ветра и вовсе складывается. Поэтому ребята оборудовали рядом две пещеры. В них тепло — относительно, конечно, и тихо.
Отсюда ребята пойдут на штурм Канченджанги.
(Окончание следует)
Василий Сенаторов
Фото автора
(обратно)
Нгоронгоро своими глазами
 Бесстрашное путешествие нашего человека к знаменитому кратеру
Африка в моем представлении всегда связывалась с приключениями. В действительности приключения начались за несколько дней до отлета в Танзанию. Все запутала командировка от ЮНЕСКО, оплаченная голландскими гульденами.
Бесстрашное путешествие нашего человека к знаменитому кратеру
Африка в моем представлении всегда связывалась с приключениями. В действительности приключения начались за несколько дней до отлета в Танзанию. Все запутала командировка от ЮНЕСКО, оплаченная голландскими гульденами.
В московском банке придирчиво оглядели мои документы и предложили получить законно причитающуюся на расходы валюту. Кое-какой опыт пребывания в развивающихся странах у меня имелся, поэтому я вежливо попросил выдать мне наиболее распространенные в мире американские доллары.
— Вам положены голландские гульдены, вот и получайте свои гульдены! — сухо ответили из окошка.
— Да вы посмотрите, куда я еду! — пробую слабо возражать.— Может, в Танзании и не видели таких денег.
— Не говорите глупостей! Это свободно конвертируемая валюта, во всем мире ее знают!
— Ну, ладно,— сдаюсь я под напором,— только монет не давайте. Уж монет они точно не меняют!
— Да что вы такое говорите! — изумляется девушка в оттягивающих уши пластмассовых клипсах.
Самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Дар-эс-Салама. Каждый прибывающий сюда иностранный пассажир по закону обязан обменять на местные шиллинги пятьдесят долларов. «Сколько это гульденов?» — начинаю соображать я. И вообще, каков сегодня курс гульдена?
Клерк на валютном контроле уставился на мои банкноты. Они действительно красивы, я назвал бы их деньгами будущего — без всяких портретов, с каким-то сооружением вроде маяка и с вальдшнепом на месте водяных знаков.
— И почему у вас гульдены? — удивляется клерк.— Дали бы ровно пятьдесят долларов!
— Это конвертируемая валюта, весь мир ее знает! — защищаюсь я.— Да и нет у меня других денег!
Клерк ушел искать сегодняшний курс гульдена, перед этим обслужив весь мой рейс. Аэропорт опустел. Явился советский консул, чтобы выспросить, «по какой линии» я приехал, пригласить меня в консульство и уйти без тени беспокойства за своего соотечественника. Через полчаса вернулся клерк и принес десять тысяч не умещающихся в кармане танзанийских шиллингов.
Наконец, я оказываюсь на улице. В лицо ударяет солнце, опьяняет свежесть морского ветра, в глазах рябит от зелени пальм и огненных цветов бугенвиллий.
К остановке подкатывает автобус без стекол, с дырявыми сиденьями, и увозит меня в центр Дара. Даже с небольшими деньгами я чувствую себя уверенно в незнакомой стране, не подозревая, что основные приключения с гульденами еще впереди.
...Оставалось пробыть в Танзании несколько дней. Свою миссию здесь я выполнил, но приходило ощущение чего-то несделанного, каких-то упущенных возможностей. И тут я понял причину непонятного беспокойства. Быть в Танзании и не увидеть заснеженных пиков Килиманджаро или знаменитого кратера Нгоронгоро, объявленного государственным заповедником? Это значит... В конце концов у меня возник план «побега» из прохладного отеля «Твига», что на суахили означает «жираф», туда, где ходят настоящие масаи и живут всамделишные жирафы.
Подсчитываю, сколько осталось от командировочных. На вояж явно не хватает, но — была не была — решаюсь. Может быть, я стану первым советским туристом, путешествующим по Африке «дикарем».
И вот я шагаю по центральной улице Дар-эс-Салама. Я иностранец, поэтому мне не дают прохода, беспрестанно предлагая обменять валюту по курсу черного рынка и отвести куда угодно за немыслимую цену. Забираюсь в такси и через пять минут выхожу у центрального автовокзала. Походив туда-сюда по щиколотку в грязи, узнаю, как здесь добираются до Нгоронгоро. До Аруши — центра Северной провинции — надо ехать автобусом всю ночь. А там скажут, что делать дальше. Целая ночь в обшарпанном местном автобусе — перспектива незавидная. Таксист соглашается со мной и везет на железнодорожную станцию, которая, к счастью, неподалеку. Но на перроне пустынно. Оказывается, где-то на севере пронесся ураган, несколько человек погибло, и поезда не ходят уже неделю. На самолет взять билет даже не пытаюсь: билеты распроданы на месяц вперед. Остается одно — вернуться на стоянку автобуса.
Беру в дорогу ананас величиной с голову, тут же съедаю половину, а другую с источающими аромат плодами манго запихиваю в сумку. До Аруши, кроме меня, едет еще один европеец. Узнаю, что он бельгиец и зовут его Франк. Представиться не успеваю: очередь с тюками и корзинами бросается в открывшуюся дверцу автобуса. Франку удалось усесться впереди. Мне же досталось сиденье номер 44, над самым колесом, у разбитого окна, без пространства для ног. Рядом устраивается негритянская девушка, а по соседству школьник и его отец. Девушка должна выйти в Моши — центре земли масаев (это возле Килиманджаро), а отец с сыном, как и я, едут до Аруши.
При каждом толчке вся компания дружно валится на меня. В спину врезается железная скоба. Сзади чрезвычайно толстая негритянка беспрестанно болтает с соседями (понимать бы, о чем говорит!), а как только на одной из остановок в проход автобуса забрались два масая, громкий хохот не смолкал в салоне ни на минуту. Не в силах заснуть, я принялся бесцеремонно разглядывать представителей здешнего племени, одетых в кусок материи с вырезом для головы и вооруженных длинными копьями. Вдоволь натешившись, воинственные масаи вышли где-то на дороге, уселись на землю и стали чего-то ждать.
На остановке Франк купил очищенные кусочки ананасов и с аппетитом стал поедать их. Но я не забыл внушение советских врачей ничего по дороге не есть и стараюсь не глядеть ни на жаренную в углях кукурузу, ни на апельсиновую мякоть, ни на треугольные перченые пирожки.

К двум часам ночи одолела дремота, но автобус вдруг резко остановился. Что стряслось? Огромный трейлер врезался в идущий впереди автобус. Обе машины развернуло, не объехать. Разглядеть подробности из окон не удается, и все пассажиры выскакивают наружу. Сидеть скрючившись больше нет сил, я тоже выхожу в темноту. Пожилой чернокожий пастор, одетый во все черное, взял меня за запястье и, посвечивая фонариком, повел за собой мимо очереди из автомобилей к месту аварии. Отпустив руку, пастор благословляет меня и призывает не заблудиться в потемках.
Кажется, жертв нет. Все смотрят, как кран вытаскивает из кювета разбитый автобус. Как только дорога освободилась, автокран, включив четвертую скорость, рванул прямо на толпу зевак. Все бросаются наутек. Забыв о всяком чувстве собственного достоинства, впереди меня бежит пастор с фонариком, и я, слава богу, не проскочил мимо своего автобуса.
Под утро въезжаем в Моши. Здесь переходим в другой автобус. Через несколько минут спокойно сидевший у окна Франк выхватывает из сумки фотоаппарат с мощнейшим телеобъективом. Впереди Килиманджаро — самая высокая гора Черного континента с двумя белоснежными пиками. Но отсюда на голубом полотне неба виден лишь один из них.
По сторонам шоссе бесконечная зеленая саванна. Но вот мы въезжаем в Арушу. Прощаюсь с бельгийцем. Он спешит в столицу соседней Кении, до границы с которой совсем близко и можно доехать на такси. Из Найроби Франк вылетает в Париж и оттуда домой в свой Льеж. А у меня времени в обрез, а что ждет впереди — неизвестно.
Первый же встречный, услышав магическое слово «Нгоронгоро», указывает на здание с вывеской «Саванна Турз». Эта компания — одна из многих, которые обслуживают тех, кто приезжает осматривать знаменитый кратер.
В офисе я увидел за столом необъятных размеров женщину. Мисс Реджина, весело сверкая глазами, бойко перечисляет предоставляемые туристам услуги. Самое простое — нанять «тоету-круизер» с водителем за двести тридцать шесть долларов. Я в шоке. Но что прикажете делать? Ведь позади столько трудностей! И не зря же я притащился в Арушу!
Водителя «тоеты» зовут Мчау. Он из племени чанга, живущего на склонах Килиманджаро. Я усаживаюсь поудобнее, Мчау из предосторожности захлопывает дверь на защелку, и мы бесшумно несемся из города.
Изредка навстречу нам попадаются масаи, в основном женщины в бисерных шейных кольцах, тяжелых серьгах, и подростки с лицами, вымазанными чем-то белым. Мчау интересуется, откуда я приехал. Услышав ответ, едва не теряет управление. За одиннадцать лет работы в компании он впервые везет советского человека.
— Не может быть! — зычно рокочет он.
Я показываю «серпастый» паспорт.
— Теперь я понимаю, почему с вас мало взяли! — проглотив слюну, выдавливает Мчау.
— С американских и западноевропейских туристов просят больше,— поясняет водитель и неожиданно заключает: — Это для того, чтобы вы рекламировали Нгоронгоро в своей стране, так как русские почему-то сюда не едут.
У дороги вырастает огромная пятнистая фигура на негнущихся ногах. Жираф! Он внимательно оглядывает нас фиолетовым глазом, потом решает, что ничего опасного нет, и пересекает шоссе.
Наша машина мчит уже по территории заповедника.
— Выходить здесь нельзя,— говорит мне Мчау.— Никогда не знаешь, что тебя ждет в саванне. Недавно львица напала на мотыжившего поле крестьянина. Об этом даже газеты писали.
Остановку делаем в деревне. Она называется Мто уа Мбу, что в переводе означает «комариное место». Здесь мы покупаем на обед бананы. Мчау беседует с одетыми в защитные куртки рейнджерами — сочетающими обязанности охотников и проводников в заповеднике. Догадываюсь: говорят обо мне. Наверное, Мчау демонстрирует меня, как экзотический экспонат. От рейнджера узнаем, что русских в прошлом году побывало в заповеднике трое — генералы из Москвы.
Купив фруктов, мы трогаемся и медленно въезжаем под сень огромных раскидистых акаций и баобабов. Незаметно для водителя выбрасываю за окно кожуру банана. Учуяв сладкий запах, на ветровое стекло с криком бросаются павианы. Вожак хватает добычу, слизывает остатки мякоти и швыряет объедки мелюзге. Те поднимают визг, запихивая в рот что кому перепало от моих с вожаком щедрот. Остальные павианы в поисках лакомства рыскают по земле. Мчау прильнул к стеклу и не отводит от обезьян взгляда. Похоже, его больше меня удивляет сказочная африканская природа.
Кружим дальше.
— Тихо! — командует Мчау, хотя я молчу.
Интересно, откуда он узнал, что неподалеку «симба»? Ловлю себя на мысли, что уже научился понимать язык рейнджеров. «Симба» на суахили — это лев. Выехав из зарослей, замечаю вдалеке трех молодых львиц. А рядом выставили ноздри из воды бегемоты и хрюкают в свое удовольствие. Когда-то меня научили нехитрой уловке. Если посвистеть, бегемоты обязательно высунутся из воды и оглядятся. Увидев, что поблизости ничего интересного нет, снова плюхнутся мордой в ржавую воду и выставят огромный зад. На следующее утро я познакомил с этой штукой своих новых знакомых по сафари, они пришли в восторг, и целый день над заповедником стоял сплошной свист.
И вновь Мчау кружит по кирпичной колее. Он специально маневрирует, чтобы я лучше разглядел животных. Направо — газели Томпсона, налево — газели Гранта, у акаций пасутся жирафы, а поодаль — антилопы гну и импала. А в небе парят африканские сипы.
В бунгало, где туристы коротают ночь, собрались туристы со всего света. Знакомлюсь с канадцами из Ванкувера» французом и его женой вьетнамкой, англичанином в шляпе, смешно подвязанной снизу шарфом. Англичанин утверждает, что видел, как львица влезла на дерево. Сочиняет! Позже к нам присоединились финны и шведы со своими палатками, а перед самым сном лагерь взбудоражили итальянцы в трусах и туфлях на босу ногу, а следом компания шумных американцев — «прямо как чума», по определению разбуженной гамом немолодой англичанки.
Я устроился в закутке с канадскими студентами — двумя братьями и невестой старшего. Они так и сказали, что им надоело учиться и поэтому они решили взять годовой отпуск и совершить кругосветное путешествие по типовому туристскому маршруту. По их студенческому билету везде делают пятидесятипроцентную скидку — даже в пирамиду Хеопса...
Ночь прошла без происшествий, если не считать нападения комаров и одной лягушки, запрыгнувшей на физиономию жениха.
Наша машина медленно взбирается на гору высотой около шестисот метров. Останавливаемся на специальной смотровой площадке. Перед нами кратер потухшего вулкана Нгоронгоро — самый большой в Африке и четвертый по величине во всем мире. Дно кратера совершенно плоское и окантовано рощей зонтичных деревьев. Чтобы увидеть своими глазами эту удивительную кальдеру размером восемнадцать на двенадцать километров, я и подверг себя риску заблудиться в чужой непонятной стране и соответственно получить массу неприятностей по возвращении на родину. Но в эти минуты ни о чем невеселом не думалось. Я неотрывно смотрел на тысячи населяющих кратер травоядных животных и хищников. Ближе всего к нам антилопы гну. Сопя и тяжело дыша, они с недоверием вглядываются в понаехавшие невесть откуда автомобили, явно не воспринимая людей как часть живой природы.
— Смотри! — тянет меня Мчау, и я замечаю вдали мощного бородатого быка, который, не помня себя от ужаса, мчится через открытое поле. Примерно в километре от него, вытянув передние лапы и как бы изготовившись к прыжку, следит за бегущим быком грозный царь зверей. Одолжив у запасливых канадцев бинокль, долго разглядываю на дальней площадке резвящихся львят, наскакивающих на лениво отбивающихся мам.
Дальнейший путь лежит по строго установленному маршруту. Замечаю гиен. Не знаю, почему молва приписывает им уродство. Я хорошо разглядел этих симпатичных хищников с отороченной светлым пухом мордочкой. Правда, когда дело доходит до охоты, эти животные превращаются в фурий. Мчау однажды стал свидетелем сцены, когда стая гиеновых собак загнала до изнеможения антилопу и тут же разорвала ее на куски. Стремительных пятнистых гепардов и каракалов заметить трудно. Они невидимо присутствуют в этом мире, искусно укрываясь в зарослях. Зато небольшие дикие кошки — сервалы — развалились прямо на обочине. А как-то раз дорогу, пугливо озираясь, перебежал золотистый шакал.
Над озером Макат, розовом от скопления тысяч фламинго, стоит неумолкающий «гррр». Кроме фламинго, здесь пятьсот видов других птиц: венценосные журавли, африканские дрофы, птицы-секретари, пеликаны, ибисы, аисты, утки и гуси. Забыв предостережения, вытаскиваю из сумки сэндвич. Как молния, с неба пикирует на руку орел. От боли разжимаю пальцы и остаюсь ни с чем. К счастью, рана пустяковая. У Мчау после такого случая в детстве навсегда остался шрам во всю ладонь.
Тем временем над озером собираются густые тучи. Если пойдет дождь, отсюда не выбраться. Дорога раскиснет в считанные минуты. На прошлой неделе Мчау пришлось ночевать в машине под барабанный стук дождевых капель. Забуксовала на подъеме и наша «тоета», и мне приходится вылезать в черное месиво. Едущие за нами останавливаются и терпеливо гадают, выберемся мы или нет.
Машину все же удалось вызволить из грязи, и засветло мы возвращаемся в Арушу. Мисс Реджина встречает меня как старого знакомого. Любезно сообщает, что движение поездов восстановлено, но сегодня воскресенье, и на железной дороге выходной. Не будет поезда в столицу и завтра, так как из-за потопа единственный поезд, курсирующий по одноколейке, застрял на полпути к Аруше.
— Только не автобусом,— пугаюсь я, так как чувствую, что ночной маршрут едва ли выдержу.— А может, есть билет на самолет?
Впрочем, заплатить я могу только оставшимися гульденами, а «Танзания Эйр» в отличие от Аэрофлота гульдены не принимает.
Ждем кассира, понимающего толк в валюте. Тот отвергает мои «футуристические» бумажки с ходу. Мисс Реджина, войдя в мое положение, с некоторым опасением обещает гульдены взять и выдать мне чек. Но чек действителен только с двумя подписями, а начальника Реджины в этот день нет.
— Может, «Танзания Эйр» примет чек с одной подписью? — робко интересуюсь я.— Ведь в городке все друг друга знают.
Кассир даже не реагирует.
На улице пытаюсь обменять гульдены на доллары у приставалы с черного рынка. Тот голландских денег в глаза не видел. Едем к местному заправиле под кличкой Ротманз — как пачка сигарет. Он оказывается индийцем с хитрыми глазами. Выслушивает меня и безжалостно бросает:
— Извини, меня это не интересует. Другой делец предлагает за мою конвертируемую сотню смехотворную сумму в танзанийских шиллингах. Меня это никак не устраивает. Ведь говорил же, что с гульденами здесь никуда!
Возвращаюсь в офис. Кассир ушел домой. Решаюсь ехать за ним на такси и умолять продать билет. Только отъехав, замечаю его в открытом кафе на углу с бутылкой лимонада, а рядом с ним знакомую семейку американцев. При моем появлении они обрадовано вскакивают: вместе были в Нгоронгоро — это не забывается. Американцы взяли напрокат самолетик и утром вылетают в Дар-эс-Салам. Прошусь в их «чартер», но он и так перегружен на два человека.
И тут, как добрая фея, появляется необъятная мисс Реджина. С кем и о чем она договорилась, неизвестно, но в ее руках долгожданный билет на самолет.
Полюбовавшись из иллюминатора на пики Килиманджаро, я оказываюсь в Дар-эс-Саламе за два часа до вылета лайнера Аэрофлота. Перед таможенным досмотром обнаруживаю в бумажнике неистраченную сотню гульденов. Теперь уж точно не побоюсь отправиться с ними куда угодно.
Олег Ефимов
Фото автора
Дар-эс-Салам — Аруша
(обратно)
Маленькое село посреди большой Тундры
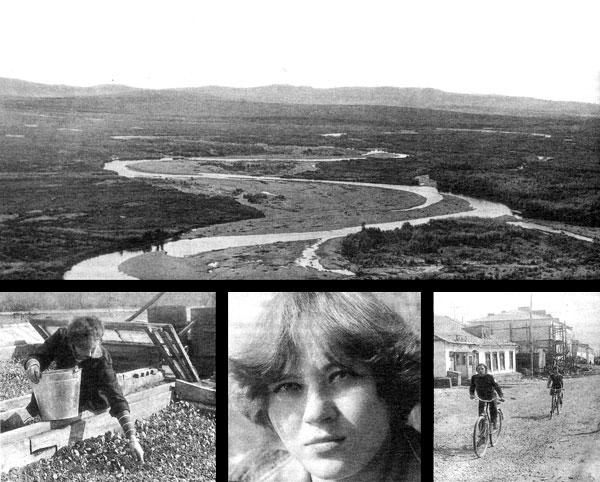
Если вы считаете, что Чукотка — это долгие и занудные пурги, холодные дожди, тоскливые туманы,— словом, всяческие погодные неудобства, вы правы. И как бы вас горячо ни убеждали, что все это мелочи, а главное — необычный простор и звенящая тишина, когда порой слышишь, как перешептывается падающий снег, красота голубых сопок и игра диких речек,— не верьте.
Одно время и я с жаром доказывал преимущества этого далекого края перед большим цивилизованным миром со всем его комфортом. Но когда пережил и перевидел здесь немало — недельные бдения в аэропортах по непогоде; березовые рощи, нарисованные на заборах вокруг детских садиков, чтобы малыши представляли настоящие деревья; тропы через перевалы за полсотни километров, лишь бы нырнуть в лужу серной воды из горячего ключа — тогда пришел к убеждению, что для пришлого человека здешняя жизнь чаще всего оборачивается мукой.
Теперь который год пытаюсь это доказать себе и другим и за доказательствами ежегодно хоть на неделю-другую возвращаюсь на берега Чукотки. Поброжу кромкой Тихого или Северного Ледовитого океана, нахватаюсь сырого воздуха, насмотрюсь... Словом, нигде нет, наверное, неприветливей и невзрачней места, чем чукотская земля. Правда, недавно пришлось мне здорово усомниться в этом...
Я сидел в аэропорту Анадыря, столицы Чукотки. Как обычно, с моря тянул ветер с дождем, над самой головой неслись взлохмаченные тучи. И пассажиры из очередного самолет та — «борта» по-здешнему,— изворачиваясь, прикрываясь чем попало, гурьбой семенили в аэропортовское здание — просторное, в три этажа, выстроенное не так давно на месте барака. Много лет назад, когда я впервые собирался на Чукотку, чтобы жить здесь и работать, моя тетка горестно причитала: «И куда же тебя несет, касатик. Анадырь — это дыра, значит. Ты слышишь?»
— Так, залегай надолго,— появился мой давний знакомый авиатор.— Твоя бухта Провидения закрыта. И залив Креста закрыт, и Мыс Шмидта закрыт. Скоро и мы закроемся. Пока лишь Марково принимает — лети туда. Посмотришь на чукотское Сочи.
И мы засуетились, забегали, потому что знали: стоит зазеваться при такой непогоде и потом долго будешь зевать в аэропортовском кресле, ловя момент, чтобы на ночь захватить прилавок газетного киоска.
А через полчаса я уже уютно подремывал на горе из ящиков, коробок, перетянутых страховочной сеткой, прислушиваясь, как согревает тело кружка только что выпитого крепкого, с «чифиринками», чая, и сквозь щелки глаз иногда посматривал на тройку веселых симпатичных ребят из местного летного отряда. В неизменных белых рубашках с галстуками, гладко выбритые, аккуратно причесанные, они сидели у пилотской кабины нашего Ан-24 и, кажется, забыв обо мне, своем единственном пассажире, тянули чай и наперебой толковали о чем-то своем.
Люди все-таки неисправимые оптимисты! Давным-давно, когда я только привыкал к жизни в Анадыре, старожилы меня успокаивали: «У нас еще ничего, у нас летом как в Сочах бывает — тепло, и комарье особо не кусает. Вот на Мысе Шмидта — там да, там жуть что творится...» Занесло меня и на Мыс Шмидта, насмотрелся, как с крыш двухэтажек пацаны слетают на санках — такие сугробы наметены. Но северяне были веселы: «Ладно, это для нас нормально. Не то, что в Певеке. Там, представляешь, камни летают!» И точно, в Певеке бывают до того мощные ветры — «южаки», что мелкая галька, словно пули, свистит по улицам. «Да ну, невидаль какая! А мы все очки носим мотоциклетные,— показывали мне певекчане набор рокеровских очков на всю семью.— Ни за что глаз не вышибет! Вот на острове Айон...» Побывал я на острове Айон, и сидели мы, свесив ноги с обрыва к Ледовитому океану, с одним из немногочисленных его жителей. «Как на флюгере живем,— радостно сказал он.— Оттуда подует — здесь прикроемся, с другого края понесет — мы и тут спрячемся. Главное, что по горизонтали ветры ходят. Ничего жизнь! А вот...»
Но Марково... Я ведь не раз слышал об этом поселке, лежащем почти в самом центре Чукотского автономного округа и отдаленном от дорог на сотни и сотни километров.
Каждый мало-мальски уважающий себя житель Чукотки знает романтическую историю его основания. Знает, как в 1648 году экспедицией торгового человека Федота Попова и казачьего атамана Семена Дежнева было официально доказано существование Аниана — пролива между Азией и Америкой. Как трагично сложилась дальше судьба мореплавателей. Начальник экспедиции погиб, а Дежнев с остатками отряда в дюжину человек, спасаясь от голода и холода, брел вверх по реке Анадырь и только на 430-й версте от ее устья нашел большое селение аналуитов, местных людей, и удобный остров для зимовья. Здесь, рядом с нынешним Марковом, и был поставлен Анадырский острог — самый восточный на то время форпост Российского государства. Именно с этого острога разошлись затем веером маршруты русских — в поисках новых «землиц», богатых соболем и «рыбьим зубом». Отсюда начинался путь, приведший к великим открытиям: была «изобретена» Камчатка, изучены северные берега Охотского моря, открыт большой остров, названный со временем именем Беринга. Здесь, в дымных избах, зарождались великие планы, которые впоследствии осуществились, явив миру Русскую Америку. Окрестная земля, видимо, еще помнит шаги Стадухина, Атласова, Гулыгина, Шалаурова, Моторы...
В конце XVIII столетия острог был разрушен и сожжен, так как содержание его обходилось империи слишком дорого, да и стал невыгоден — большие пути-дороги переместились дальше, на восток. Что же осталось на его месте? Об этом тоже свидетельствует история, только с меньшими подробностями. Будто вокруг остатков острога образовались небольшие селения, возводить, обживать которые принялись потомки русских землепроходцев и местных женщин. Своеобразной была внешность следующих поколений — светлоглазые, ростом повыше окрестных жителей, но тоже смуглокожие, темноволосые. Они говорили на причудливом языке — плотной смеси русских, чукотских, корякских и юкагирских слов. Для них стали близкими, родными как традиции отцов и дедов, пришедших с далекого юга, так и матерей, бабушек — исконных обитателей прианадырской тундры.
Уже в начале нынешнего столетия, когда в эти края снова зачастили по государственной службе люди с материка, они, эти служилые, были здорово удивлены, увидев в самой что ни есть глуши Чукотки добротные избы-пятистенки. Правда, отапливались избы, как яранги, жирниками. Надежно, ладно жили в них большие семьи. Внешний вид незнакомцев — густые бороды у мужчин, яркая цветастая одежда у женщин — говорил о том, что это русские люди. Но — раскосые глаза, чукотский говор, хитроумные способы охоты на зверя, рыбной ловли, страсть к пастушьему оленному делу... Налицо был симбиоз материальных и духовных культур двух отдаленных во времени и пространстве народов, волей судьбы соединивших в один образ жизни все самое удобное, надежное, душе пригожее. Центром же этой культуры было село Марково.
...Самолет вздрогнул, словно устав от долгого полета, и клюнул носом. Гора ящиков подо мной накренилась, шевельнулась, и я всеми конечностями уцепился за канатную сетку. Пару раз слегка болтануло, а затем, удивительно, без всякого толчка, мы плавно и легко покатили по аэродромной полосе.
Выйдя из самолета, я замер на месте, оглядываясь. Странная картина предстала моим глазам. Повсюду, куда только можно было достать взглядом, простирались густые заросли кустарника. Парили над стройными деревьями, тихо перекликаясь, птицы. Солнце с макушки чистого прозрачного неба светило так ярко, что больно было глазам. И — ни ветерка, ни дуновения.
Передо мной была иная Чукотка, к стыду моему, совершенно незнакомая. Долго не мог я взять в толк, что и чистая широкая дорога, по которой шел в поселок, и лесополоса вдоль нее — тоже примета, казалось бы, знакомого мне края. Дальше происходило еще более удивительное.
То, что к вечеру в Маркове я встретил своего давнего товарища из бухты Провидения, было в принципе нормально: переезды с места на место, из поселка в поселок — здесь обычное дело. Совершенно поразил меня его огород. Приятель выдернул куст картошки с крупными клубнями, а рядом густо зеленели петрушка, укроп, подпирали друг дружку капустные кочаны с футбольный мяч. И это — на вечной Мерзлоте, рядом с тундрой!
— Дежневцы знали, где оседать. Здесь микроклимат. Вон, посмотри еще...
И в небе я увидел стайку белых голубей — необыкновенное явление
здесь.
Потом мы вернулись к разговору о дежневцах, об их следах в Маркове и остановились на неком «деде Иване». Он и знаток своего края, и местный философ, он все про все знает. И его все знают, в чем я убедился на следующий день, спросив на улице, как пройти к деду Ивану.
Он сидел весь в плотном табачном дыму, как в осеннем чукотском тумане, и вязал сеть. Сначала мы с хозяином повосхищались огнестойкостью его избы — «надо же, тридцать лет обкуриваю и ни разу не полыхнула»,— а затем уже вместе затянулись крепкой «Балтийской».
Иван Иванович Куркутский, оказывается,— старейший из мужчин Маркова. Он пожаловался на глаза — теперь сложнее дается зимняя охота. Руки уже не те. А надо самому по хозяйству управляться. Жена, Улита, умерла несколько лет назад. Единственная дочка в теплые края перебралась — живет на Камчатке, до нее далеко. Он еще ей старается помогать — вот сеть свяжет и отправит бандеролью. У самого этого добра предостаточно и все надежное, потому что самодельное. Посмотреть? Айда!
Согнувшись перед низкой дверью, мы перешли в сенцы, где Иван Иванович стал бережно доставать из закутков и показывать охотничье снаряжение, рыболовные снасти. Посокрушался, что не может усадить гостя в каюк — самолично долбленную из осины лодчонку, которую сдал на хранение соседу. Так вернее, потому что недавно кто-то ее увел — до слез жалко было. Не случалось здесь раньше такого никогда! Хорошо, мальчишки нашли, принесли обратно.
А когда хозяин извлек полозья от нарты, еще какие-то ее части — вздохнул тяжко. Вот на чем он каюрствовал, считай, всю жизнь. Развозил! почту, разные товары для магазинов, иной груз. С собаками своей упряжки мерз в тундре, тонул в разводьях — всякое бывало. Сейчас только воспоминания остались, да вот нарта разобранная. Собрать? Иван Иванович охотно откликнулся на просьбу, и мы сгребли в охапку все снаряжение, перенесли в избу. Затем он устроился поудобнее и не спеша, словно растягивая удовольствие, стал возводить сани. Все детали — естественно, без гвоздя, без всякого металлического крепления — ладно прилегали друг к дружке, накрепко схватывались кожаными ремнями.
— Вот, глянь, нарта из разного дерева делается. На полоз идет лиственница — плотная, смолистая, при морозе шибко скользит. А вот копылья. Их из березы я выстрогал. Легки, крепки. На баран осину пустил. Она гнется как надо. А все вместе соединил — и получилась отменная штука. Такая нарта и большой груз выдерживает, и шустро бегает, и на застругах играет — гибкая, значит. Так и в нашей жизни получилось. У нас, марковчан, не только кровь русских казаков, чукчей, коряков, юкагиров. У нас и норов, манеры ихние воедино собраны. И народец» думаю, добрый вышел. Для здешней природы, для нашей земли приспособленный. Не только исправно работать, но и весело жить. Встарь люди говаривали: коль душа веселится, значит, тело цветет. Вот, значит, надо о вечерках рассказать, как они были. А потом про нынешние поговорим.
Иван Иванович отставил уже почти готовую нарту, задумчиво поглядел в
небольшое окошко, за которым была поздняя ночь...
Собирались на вечерки обычно в зимнюю пору, когда работы было поменьше. И начинались они с мальчишек-зазывал — дед Иван сам в них бегал. Однажды хозяин какой-либо избы поручал им «кликать» к себе ближних и дальних соседей. «На вечерку просят! На вечерку!..» — неслась детвора улочками, и вскоре к намеченному двору, кто помоложе — весело, кто постарше — с достоинством, подходили гости. «Милости просим, милости просим на вечерку»,— привечали каждого переступившего порог.
Потом все садились на лавки вдоль стен. Женщины по одну сторону, мужчины по другую. Усаживались в углу музыканты, пробуя мехи гармони, настраивая скрипку. Радостный гомон, шумные угощения строганиной разом обрывались, когда под низким потолком вдруг раздавалось...
Рассказчик мой прокашлялся, умолк. Стало так тихо, что послышалось, как бьется в оконное стекло ночная бабочка. А потом неожиданно чистым и молодым голосом затянул:
Как по этой быстрой речке
Плыла стайка лебедей.
Все лебедушки с парами,
Я, несчастная, без пары...
Старик пел, закрыв глаза, высоко подняв голову, и казалось, что он забыл обо мне, что он очень далеко отсюда — где-то там, в своей молодости.
Песня оборвалась. Иван Иванович смущенно улыбнулся, сказал, что многое забыл. Но самое любимое, дорогое помнит. Вот, например, такое. И повел снова:
Во лузях, во зеленых,
Во садах
Вырастает трава шелковая...
За первыми куплетами, за распевкой, продолжал мой собеседник, подходил кто-нибудь из мужчин к женской стороне, вставал перед своей избранницей, кланялся. «Пойдем по кругу вместе»,— говорил он, и с этих слов начинался и полнился круг танцующих пар, который становился средоточием вечерки и главным действом в деревне.
«Пойдем... вместе»,— повторялось в избе все чаще. И порой оно звучало, как предложение навсегда разделить судьбу, пойти по жизни рука об руку...

Под конец вечерок часто запевали: «Я качу, качу по блюдечку наливное яблочко...» Нет, не «наливное», непонятное для певцов, уточнил Иван Иванович, а от налима, местной речной рыбы. Или встречалось в куплетах: «Перепелка-ласточка, сизокрылая касатка моя...», «в темной чаще ветвей соловей громко пел...» Не летали ласточки и соловьи над чукотской землей, не поднимались здесь лесные чащи и сады. Сам Иван Иванович за свою долгую жизнь никогда не видывал всего этого. Но из песни, как известно, слова не выкинешь. И чудные птицы, странные звери, необычные деревья для певцов олицетворяли дальнюю-дальнюю прародину — незнакомую, непонятную, но милую и любимую, потому что она была такой для их предков.
— Песни-то пели русские, а иной раз услышишь, вроде и чукчи поют,— заметил Иван Иванович.— И исполнялись они под скрипку со струнами из оленьих жил. Откуда у нас сталь-то? А прочную нить выделывали по старинному чукотскому способу. И одеты все были в кухлянки да керкеры чукотские. А как заговорят, то и не поймешь по-какому...
Потом старик, разгоряченный, заведенный не на шутку, пел снова. Делал это он так самозабвенно, пылко, что я невольно стал подпевать, и наш дуэт не казался нам странным. Я словно видел перед глазами ясную картину: посреди зимы с чукотским морозом градусов в пятьдесят, посреди ночи и глубоких снегов чернела изба, но свет от жирников теплился в ее окошках и разносились вокруг вечерочные напевы. Слушала их ночь, слушала притихшая маленькая деревня и даже, наверное, чутко внимал на верхушке бездонного неба яркий Полуношник — Полярная звезда.
...Уже в Москве мне попалась на глаза одна статья, в которой специалист по фольклору утверждал, что житель Маркова И.И. Куркутский помнит один из замечательных памятников народного эпоса — казацкую «Балладу», считавшуюся навсегда утерянной. Жаль, что узнал я об этом так поздно. Впрочем, возможно, что-нибудь из этой баллады мы тогда походя спели...
Чего только не случалось в старые времена, да уж былое быльем поросло — слышу я скептический голос читателя. Мне тоже так думалось, когда брел я пустынным ночным Марковом, обходя колдобины, цепляясь за покореженные, гнилые заборчики и по своей дурной привычке заглядывая в окошки мрачноватых, неухоженных домов. Видел я, как в полумраке комнат мерцали экраны телевизоров, а напротив них вырисовывались одинокие силуэты людей, и никому, наверное, не было дела до задумчивой луны над поселком и тонких запахов увядающих трав. А в центре Маркова из окон Дома культуры неслась револьверная пальба и лошадиное ржание — на двери я разглядел рекламу американского видеофильма с каким-то страшным названием.
Конечно, ничего в этом удивительного, подумалось. Ускоряемся, технологизируемся. Но за душу брала тоска. И как-то не хотелось в Дом культуры. Потому, наверное, на следующее утро я туда пришел в несколько агрессивном настроении. И попал в окружение очень милых, приветливых женщин — работников ДК. Мы долго и обстоятельно обсуждали непростые вопросы: что сегодня осталось от культуры народов, три с половиной сотни лет назад соединившихся здесь, на берегах Анадырь-реки? И есть ли шанс сохранить ее для потомков?
Я вообще-то и раньше слышал о самодеятельном хоре «Марковские вечерки», но с настороженностью относился к потоку хвалебных заметок о нем в местных газетах. Очень уж, казалось, красиво, беспроблемно рассказывалось об этом коллективе. Но теперь, к концу нашего общения с художественным руководителем хора Татьяной Чернышовой и старейшей певуньей Матреной Феофановной Дресвянской, достоверно убедился в следующем: «Марковские вечерки» объединили людей истово, по-настоящему преданных народной песне. Здесь собралось около двадцати человек — в основном пожилые женщины. На свои спевки они непременно приводят внуков. Не только чтобы присмотреть за ними, но и чтобы им становились близкими, понятными напевы из дальнего далека.
У «Вечерок» есть свой хор-спутник «Солнышко» из учеников местной школы, который по активности, голосистости не уступает коллективу-ветерану. Словом, внешне все выглядит здесь очень даже благополучно.
Но фольклористы видят за этим благополучием тревожную проблему. В исполнительской манере «бабушек» отмечают традиционную мягкость, нежность. Говорят о необычной плавности, как бы скольжении голосов от звука к звуку, о своеобразном кружеве внутриголосовых распевов, витиеватом опевании. Бабушки исполняют песню так, как певали ее когда-то их предки, выходцы из Беломорья, но с оттенками чукотского пения.
«Солнышко» поет то же, да не так. Молодежь выравнивает напев, упрощает его. Исправляются архаичные, непонятные слова, грамотно произносятся все звуки. И пропадает душа песни, ее особенность, живинка, а значит, теряется самобытность пения. Попросту происходит унификация песни, подгонка ее под единообразие, своего рода уравниловка. Конечно же, не по вине девчат и ребят или руководителя хора. Они сами сознают, что видят и слышат последних представительниц редкостного таланта, и стараются запечатлеть на бумаге, магнитофонной пленке их голоса. Но ведь все это делается не на серьезном профессиональном уровне! Надолго ли сохранится такая магнитофонная лента, качественной ли будет запись?..
Старушкам же остается лишь довольствоваться известностью, временной славой местного масштаба. Они всегда охотно откликаются на приглашения поучаствовать в песенных состязаниях, не говоря о поездках в тундру, в оленеводческие бригады. Мигом собрались, сели в вертолет — и полетели за сотни километров к пастухам.
Были они однажды и в Москве, где стали лауреатами Всероссийского конкурса художественной самодеятельности. После этого хору присвоили почетное звание народного. Но... Повосторгались в столице гостями из Маркова, поаплодировали песням «про старину», и на том закончилось общение с «большой цивилизацией». Ничего не было сделано для того, чтобы продлить жизнь уходящей культуры.
И все последующие дни в Маркове, во время неудачных моих поисков на реке остатков Анадырского острога, меня не покидали мучительные вопросы. Естественно ли то, что зародившаяся в экстремальных условиях культура сейчас теряет свои черты, нивелируется в бурном потоке нового, не всегда пригожего? Нормально ли то, что через пару десятков лет может не остаться и следов общины, удивительным образом пронесшей в своей памяти предания глубокой старины? Является ли все, что случилось в тихом уголке Чукотки, шуткой истории или оно имеет великий смысл и должно побуждать нас на серьезные размышления и действия? Казалось, вот-вот в самом Маркове я должен был получить ответы на эти вопросы. Поэтому отнюдь не случайность вывела меня на Эдуарда Гунченко.
Эдуард человек заводной, беспокойный. Обычно он делает сразу несколько дел. Дочку из Магадана готовится встречать и заодно картошку на огороде выкапывает. Собирается за ягодой, грибами и попутно, отбросив ведра и туески, забор у дома подправляет. Не сказать, что при этом все у него получается, как хотелось бы. Но главное дело, которое почти всецело занимает его мысли, движется успешно.
Эдуард, историк по образованию, давно одержим идеей создать в Маркове историко-этнографический музей. И вот после настойчивых просьб, объяснений, бумажной возни с областными и окружными инстанциями необходимое «добро» он получил. Как только — благодаря сочувствию и содействию председателя исполкома поссовета А.С. Малькова — был куплен дом под будущий музей, Гунченко оставил довольно престижную работу в Магадане и переехал в Марково, на свою родину.
Вот-вот он выставит на обозрение около тысячи экспонатов, собранных самим, подаренных ему сельчанами, тундровиками. Это оригиналы документов из острога, древнее оружие, предметы быта, одежда, тетрадки учеников Марковской школы, самой первой на Чукотке, которой недавно исполнилось сто лет,— целое достояние.
— Ты только глянь, какая красотища! Это ж надо было такое сотворить,— восхищался он, показывая мне старинные ритуальные шапочки из оленьего меха, искусно расшитые бисером.— Все это надо показывать здесь, нашим ребятам, чтобы видели свои корни...
Что они сотворят на этой земле через годы? Какими глазами будут смотреть на нее? С любовью и почитанием или с холодным расчетом прагматиков, не более? Это, считает Гунченко, зависит от него самого и его товарищей по идее.
Своими экспонатами он хочет показать взаимосвязь и взаимозависимость всего сущего на земле, человека и общества, как слагаемых единой природы. И это, утверждает он, можно проследить по истории освоения Чукотки, Анадырского острога, ставшего как бы лабораторией по выработке форм не только самосохранения, но и активного действия традиционных национальных культур в экстремальных географических и природных условиях.
Вокруг Гунченко образовалась целая группа страстных патриотов своего края. Например, Олег Сергеевич Головин, учитель местной средней школы. Азартный путешественник, он и детей приучает видеть необычное в обычном, гордиться своим романтичным краем. Или Володя Чаин, секретарь комитета комсомола совхоза «Марковский» — неутомимый изыскатель материалов для будущего музея, увлекающий этим сверстников. Бессменный помощник своему брату и охранник природы, знаток местного фольклора Михаил Гунченко.
Это лишь несколько человек из неформального комитета по созданию музея. По сути, эта группа возглавляет особо неприметное, неафишируемое движение среди населения поселка за сохранение своей истории, ее изучение и осмысление. В местной библиотеке ведется летопись Маркова. Школьники сами создали и расширяют краеведческий уголок. Хоть, может, и слишком ярко, но зато с нескрываемой гордостью за прошлое Маркова оформили северяне въезд в поселок, Дом культуры.
Как-то в разговоре с одним из старожилов Маркова я машинально задал обычный для северянина вопрос:
— Когда на «материк» переезжаете?
И услышал сердитый ответ:
— Это еще зачем? От добра добра не ищут...
И вдруг я сообразил, что сильно обидел собеседника, невольно обратившись к нему как к временщику. Ведь на Чукотке — временщики, люди, часто отбывающие добровольно положенный срок ради «длинного рубля»,— сущая напасть. От них главные беды на земле под Полярным кругом. Искореженные техникой на сотни лет вперед пастбища. Уничтоженные мелиорацией озера. Поредевшие оленьи стада. Поистине, где нет корней человека, где нет его памяти, там нет созидания, нет добра.
В Маркове все это есть.
Но оно ведь такое маленькое посреди тундры...
Василий Садковский
Чукотка, пос. Марково
(обратно)
Андреевский флаг в Нью-Йорке
 Эта история приоткрылась мне, когда я, работая в Военно-Морском архиве, натолкнулся на документы более чем столетней давности. Восстановить ее в подробностях помогли материалы старейших русских журналов «Морской сборник» и «Русская старина», газеты «Кронштадтский вестник», а также работа Джона Аоубата «Миссия Фокса в Россию», изданная в Нью-Йорке в 1873 году. Трудно было отказать себе в желании и не рассказать читателям эту историю, насытив ее — за давностью — высказываниями свидетелей тех дней, чтобы передать дух времени, в котором свершался искренний факт дружбы.
Визит первый
Эта история приоткрылась мне, когда я, работая в Военно-Морском архиве, натолкнулся на документы более чем столетней давности. Восстановить ее в подробностях помогли материалы старейших русских журналов «Морской сборник» и «Русская старина», газеты «Кронштадтский вестник», а также работа Джона Аоубата «Миссия Фокса в Россию», изданная в Нью-Йорке в 1873 году. Трудно было отказать себе в желании и не рассказать читателям эту историю, насытив ее — за давностью — высказываниями свидетелей тех дней, чтобы передать дух времени, в котором свершался искренний факт дружбы.
Визит первый
В «Кронштадтском вестнике» за 1863—1864 годы собственный корреспондент из Нью-Йорка подробно, изо дня в день, информировал читателей о ходе официального дружественного визита русского флота в США. В историю он вошел как Американская экспедиция.
Идея ее возникла в начале 1863 года в связи со сложившейся к этому времени крайне напряженной международной обстановкой. Уже третий год в США шла гражданская война. Англия и Франция были на стороне южан и, стремясь разрушить государственную целостность Соединенных Штатов, готовили вооруженную интервенцию. Россия поддерживала правительство Авраама Линкольна и выступала против планов Лондона и Парижа. «Для нас нет ни Севера, ни Юга, а есть Федеральный Союз, разрушение которого мы наблюдали бы с прискорбием,— писал вице-канцлер А.М. Горчаков.— Мы признаем в Соединенных Штатах только то правительство, которое находится в Вашингтоне». В единстве и мощи Соединенных Штатов Россия видела противовес Англии и Франции, проводивших враждебную по отношению к ней политику: обе эти державы стояли за сохранение унизительного и тягостного для России Парижского мира 1856 года, который подвел черту под Крымской войной. Взаимоотношения России с Англией и Францией в начале 60-х годов резко ухудшились и из-за так называемого польского вопроса (Именно в эти годы в Королевстве Польском прокатилась волна национально-освободительного движения, возникла революционная ситуация. Царское правительство ответило жесткими мерами. Англия и Франция, преследуя свои интересы, внешне заняли позиции защитников польского народа.). Попытки русской дипломатии ослабить возникшую напряженность путем переговоров результатов не дали. Над Россией нависла угроза новой войны.
Тогда-то и встал вопрос, как использовать флот, чтобы в случае начала военных действий он не оказался запертым во внутренних водах. Ведь печальный опыт Крымской войны был еще так близок. Адмирал А.А. Попов, например, писал: «Прошлая война подтвердила... что самая ложная... из всех идей сбережения флота есть необходимость спрятать его: военные суда сберегаются в море, учатся в сражениях». Такой же точки зрения придерживались многие передовые деятели русского флота. Так в Морском министерстве сформировалась идея заблаговременного вывода русских эскадр в океан еще до начала военных действий. Предполагалось, что базироваться они будут в портах Соединенных Штатов — согласие Вашингтона было получено.

Планируемая операция преследовала три цели: во-первых, создать угрозу торговому судоходству Англии и Франции и тем оказать давление на шедшие еще с ними дипломатические переговоры; во-вторых, продемонстрировать поддержку правительству Линкольна в его борьбе с мятежными южными штатами; и в-третьих, в случае начала военных действий нанести удар по самому уязвимому месту Англии — ее морским коммуникациям.
Было сформировано две эскадры: Атлантическая и Тихоокеанская. В состав Атлантической эскадры (ей отводилась главная роль) вошло три фрегата— «Александр Невский», «Пересвет» и «Ослябя», два корвета — «Варяг», «Витязь» и клипер «Алмаз». Командующим эскадрой был назначен контр-адмирал Степам Степанович Лесовский, опытный и образованный моряк, недавно возвратившийся из командировки в Америку, где он в течение полутора лет изучал опыт броненосного кораблестроения США. Он свободно владея английским, французским, немецким, испанским языками и прекрасно знал обстановку в Америке.
Тихоокеанской эскадрой командовал контр-адмирал Андрей Александрович Попов, будущий выдающийся организатор и строитель отечественного броненосного флота. Базировалась эскадра в Приморье, которое только что начало осваиваться русскими. В ее состав входило четыре корвета — «Калевала», «Богатырь», «Рында», «Новик» и два клипера — «Абрек» и «Гайдамак».
Подготовка операции проводилась в глубокой тайне. Даже командиры кораблей о действительных целях похода узнали лишь накануне выхода из Кронштадта. 14 июля 1863 года была утверждена «Инструкция Морского министерства контр-адмиралу С.С. Лесовскому». Она предписывала «следовать к берегам Северо-Американских Соединенных Штатов, не заходя... на пути ни в какой порт и по прибытии... бросить якорь в Нью-Йорке». В инструкции указывалось, что в случае начала войны эскадре надлежит действовать всеми возможными средствами, нанося наичувствительнейший вред неприятельской торговле. Подробно излагая политическую обстановку в мире, давая конкретные рекомендации по взаимодействию с адмиралом Поповым, инструкция тем не менее предоставляла Лесовскому полную свободу действий. В ней прямо говорилось: «во всех... случаях, когда Вы признаете... необходимым, не стесняться данными наставлениями и действовать по Вашему усмотрению».
Менее чем через месяц после утверждения плана операции Атлантическая эскадра была готова к выходу. Утром 18 июля все корабли, кроме фрегата «Ослябя», который находился в Средиземном море и шел в Нью-Йорк самостоятельно, вышли из Кронштадта. В дальнее плавание уходила первая эскадра Российского; парового флота, полностью состоящая из парусно-винтовых кораблей. Адмирал Лесовский спешил. Шли не под парусами, а «под парами». Пополнить запасы топлива корабли должны были на выходе из Балтики — с заранее посланных туда двух транспортов. Впервые в истории отечественного флота заправку боевых кораблей осуществляли на ходу.
25 июля, находясь в полной боевой готовности, эскадра вышла в Северное море. Главное, о чем теперь заботились,— это не встретиться с англофранцузскими силами. Поэтому решено было выходить в Атлантику не обычным путем через Ла-Манш, а севернее Британских островов. Планы Лесовского были решительны. «Если начальник встретившейся иностранной эскадры,— писал он в инструкции своим командирам,— предложит вернуться обратно в Балтийские воды или сделает какие-либо оскорбительные для чести нашего флага предложения, то адмирал намерен вступить в бой».
К счастью, к крайним мерам прибегать не пришлось.
Плавание в океане проходило тяжело. Штормовые ветра сменялись полным штилем с густыми туманами и непрекращающимися дождями. Уголь экономили, шли под парусами. Трудность совместного плавания кораблей усугублялась еще и разницей в скорости их хода. В конце концов адмирал Лесовский принял решение — каждому кораблю следовать самостоятельно.
13 сентября на рейде Нью-Йорка встали на якорь «Александр Невский» под флагом командующего и «Пересвет». Фрегат «Ослябя» был уже там. На следующий день подошли «Варяг» и «Витязь». Клипер «Алмаз», попавший в штилевую полосу, пришел 29 сентября. К 1 октября в Сан-Франциско собралась и эскадра Попова. Для координации действий между командующими немедленно была установлена оперативная связь — курьерами и шифротелеграммами. Надо сказать, что одновременное появление в портах Соединенных Штатов двух русских эскадр произвело на Англию и Францию именно тот эффект, на который и рассчитывало русское правительство. Операция «наших морских сил в Северной Америке,— писал вице-канцлер Горчаков,— в политическом смысле мысль удачная, а в исполнении отличная».
Русский посол сообщал из Вашингтона в Петербург, что приход русских эскадр американцы восприняли как демонстрацию поддержки правительства Линкольна. Вот как описывала, например, газета «Нью-Йорк геральд» встречу адмирала Лесовского и его офицеров на улицах города: «Полные народа тротуары улиц, по которым направлялось шествие, окаймляли войска, стоявшие длинными шпалерами. Дома были разукрашены флагами... народ с восторгом встречал процессию». Страницы газет пестрели заголовками: «Россия и Соединенные Штаты братствуют», «Новый союз скреплен», «Восторженная народная демонстрация...»
Почти ежедневно русские корабли посещали делегации городов и штатов. Они выражали свое уважение и признательность России за доброжелательство и поддержку русским правительством Соединенных Штатов, «в особенности при настоящих несчастных затруднениях, в которых находится американская нация». Будущий великий композитор, а в те дни гардемарин клипера «Алмаз» Н.А. Римский-Корсаков писал: «Нашу эскадру приняли здесь дружелюбно, даже до крайности. В военном платье на берег и показаться нельзя: не ты будешь смотреть, а на тебя будут смотреть, будут подходить (даже дамы) с изъявлением уважения к русским и удовольствия, что они находятся в Нью-Йорке». Популярность русских моряков была столь велика, что это сказалось даже на женской моде. Как писали газеты, для многих нью-йоркских модниц непременной принадлежностью туалета стали пуговицы сюртуков, кокарды, гардемаринские якоря и аксельбанты; последние — как деталь бального наряда.
Однако не только банкетами, визитами и парадами были заняты наши моряки. Проявляя мужество и «истинно русскую самоотверженность», они неоднократно помогали населению в тушении городских пожаров, столь часто возникавших в то время. Муниципалитеты Анаполиса и Сан-Франциско выразили в связи с этим командующим свое искреннее восхищение и благодарность. Группа офицеров Атлантической эскадры во главе с командиром «Осляби», капитаном 1-го ранга И. И. Бутаковым, братом известного русского адмирала Г.И. Бутакова, совершила поездку в действующую Потомакскую армию. Встречали русских офицеров в войсках северян с восторгом: при объезде позиций «каждый полк отдавал честь, преклоняя знамена».
В крайне сложной обстановке оказалась эскадра адмирала Попова. Северяне, по существу, не имели на Тихом океане своего флота, и жители Сан-Франциско постоянно находились под угрозой нападения южан, которых за пиратские, разбойничьи действия на море называли корсарами. Единственно, на что могли рассчитывать жители Сан-Франциско, это на заступничество русской эскадры, пользовавшейся их гостеприимством. Готовились и снаряжались корсары южан, как правило, в Англии, один из таких кораблей, «Алабама», как раз крейсировал в районе Сан-Франциско, когда там собиралась Тихоокеанская эскадра. И надо же было случиться, чтобы один из кораблей Попова — клипер «Абрек» по своему внешнему виду настолько походил на «Алабаму», что в первый момент своего появления на рейде был принят за корсара. Брандвахтенный пароход открыл огонь по входящему на рейд клиперу. Береговые форты также готовились последовать его примеру. Командир «Абрека» капитан 2-го ранга К.П. Пилкин сообразил, что для клипера неопасны мелкие пушки брандвахты, но огонь фортов может оказаться роковым. Он, не задумываясь, направил клипер к борту брандвахтенного парохода, пробил тревогу и, подойдя вплотную к судну и прикрывшись им, вызвал наверх абордажные партии. На пароходе к этому времени поняли ошибку, и русский клипер был принят с криком «ура!».
Будучи человеком решительным, адмирал Попов принял однозначное решение — взять Сан-Франциско под свою защиту. Эскадра начала готовиться к боевым действиям против корсаров южан. Однако из Петербурга предупредили: «Действия корсар в открытом море... нас не касаются, даже в случае нападения их на форты, обязанность Вашего превосходительства соблюдать строгий нейтралитет». Командующему эскадрой предоставлялось право применять оружие лишь в одном-единственном случае — если корсары, пройдя форты, будут угрожать самому городу. «В этом случае,— указывалось Попову,— Вы имеете право, единственно во имя человеколюбия, а не политики, употребить влияние Ваше для предупреждения зла». К счастью, все обошлось благополучно. Пока русские корабли, находясь в полной боевой готовности, стояли в порту, ни один корсар южан не посмел приблизиться к городу.
Президент Линкольн предложил Лесовскому посетить Вашингтон и другие порты Атлантического побережья. Командующий Атлантической эскадры, несмотря на крайне неблагоприятную погоду, отдает приказ о переходе в Вашингтон. Однако прежде чем покинуть Нью-Йорк, адмирал счел необходимым ответить на «любезность и гостеприимство, оказанное горожанами... нашей эскадре». Он предложил составить подписку в пользу благотворительных заведений Нью-Йорка. Это предложение было принято с большим удовольствием. В своем письме мэру Нью-Йорка Лесовский писал: «Прежде чем мы оставим Нью-Йорк, прошу Вас, сэр, принять от имени офицеров вверенной мне эскадры выражение душевной благодарности за те дружественные... чувства, с которыми принимали нас Ваши сограждане... Прошу Вас принять прилагаемую при этом сумму 4760 долларов, собранную по добровольной подписке офицерами нашей эскадры с целью предложить оную на покупку топлива бедным семействам».
Ответ мэра был незамедлителен. «Я имел честь... получить Ваше... письмо... с вложением 4760 долларов, пожертвованных офицерами Вашей эскадры... За этот великодушный акт благотворительности прошу позволения передать Вам и Вашим сослуживцам — офицерам чистосердечную благодарность города. Могу Вас заверить... что граждане Нью-Йорка платят Вам тем же чувством за Ваше дружественное к ним расположение... Их всегдашнее желание было, чтобы, пользуясь приходом Вашей эскадры... укрепить узы дружбы, между Россией и Соединенными Штатами».
21 ноября 1863 года фрегат «Ослябя» — под флагом командующего, корветы «Варяг», «Витязь» и клипер «Алмаз» встали на якорь на реке Потомак в аванпорту Вашингтона — городе Александрии. С кораблей хорошо был виден купол Капитолия. К сожалению, из-за болезни Линкольн не смог посетить наши корабли, и адмирал Лесовский задерживает уход эскадры. 7 декабря, как только здоровье президента улучшилось, русский посол представил президенту и его супруге адмирала Лесовского и офицеров эскадры. Русские моряки посетили Вашингтон, были гостями Конгресса. С ответным визитом на кораблях побывали государственный секретарь Стюард, морской министр Уэллес и другие общественные и государственные деятели США.
Почти полгода находились русские корабли в американских водах. По приглашению президента они посетили многие порты обоих побережий США. Разрядившаяся в начале 1864 года политическая обстановка позволила русскому правительству разрешить адмиралам Лесовскому и Попову отправить часть своих кораблей в плавание в малоизученные русским флотом южные и экваториальные районы Мирового океана.
Вернувшись через несколько месяцев в Нью-Йорк и Сан-Франциско, корабли начали готовиться к возвращению на родину...
 Визит второй
Визит второй
Шел 1865 год. Гражданская война между северными и южными штатами приближалась к концу. В правительственных кругах Вашингтона все чаще и чаще стали говорить об ответном визите в Россию. Ждали лишь завершения президентских выборов. 4 апреля 1865 года Линкольн вновь стал хозяином Белого дома. Однако прошло лишь несколько дней — и выстрел в вашингтонском театре Форда погрузил Америку в траур. Снова стало не до визита.
16 апреля 1866 года в Петербурге, на набережной Невы, было совершено покушение на Александра II. По счастливой случайности царь остался жив. Американцы, находясь еще под впечатлением недавней гибели любимого президента, решили, что время для ответного визита настало. Лучшего случая выразить России свою признательность за поддержку в трудные годы гражданской войны и одновременно поздравить императора «по поводу чудесного спасения его от смерти» найти было трудно.
4 мая 1866 года лидеры правящей республиканской партии выступили в Конгрессе с заявлением, в котором говорилось, что «народу, отдавшему нам в час нашей смертельной опасности свои самые теплые чувства, следует направить нечто большее, чем просто поздравление императору». Палате представителей и сенату предлагалось принять специальное совместное постановление с обращением к главе русского государства, а для его вручения направить в Россию отряд военных кораблей с чрезвычайным послом на борту. Постановление было принято и подписано президентом Э. Джонсоном. В качестве чрезвычайного посла Соединенных Штатов Конгресс назначил помощника государственного секретаря по морскому министерству, члена Вашингтонского кабинета Густава Фокса. Бывший морской офицер, сорокапятилетний Фокс был известен как активный политический деятель администрации Линкольна. В годы гражданской войны он был одним из видных организаторов и руководителей флота северян.
Конгресс одобрил предложение Фокса осуществить визит в Россию на одном из мониторов. Считалось, что именно корабль принципиально нового типа, впервые заявивший о себе во время войны во флоте северян, будет наилучшим образом представлять военно-морские силы Соединенных Штатов. Не последнюю роль играло, очевидно, и стремление продемонстрировать всему миру мореходные качества мониторов. Ведь ни один из них еще ни разу не пересекал океан, да и мало кто в Европе верил в возможность такого чуда. Мониторы воспринимались прежде всего как речные корабли, предназначавшиеся для борьбы с береговыми батареями противника. Командование американского флота хотело проверить — а «не могут ли они строиться так, чтобы быть сильным орудием даже во время сражения в открытом море?»
Для участия в визите был выбран один из новейших мониторов — «Миантонамо». Это был сравнительно небольшой низкобортный, глубокосидящий броненосец. Для обеспечения его перехода через океан было выделено два паровых парусно-колесных фрегата «Аугуста» и «Ашуелот». К концу мая все корабли небольшого отряда сосредоточились в бухте Сент-Джонс на острове Ньюфаундленд. Пункт отправления был выбран не случайно: отсюда начинался самый короткий путь в Европу, к берегам Ирландии.
5 июня Фокс прибыл в Сент-Джонс. В тот же день корабли снялись с якоря и вышли в море. С погодой американским морякам повезло. Как следует из шканечного журнала «Миантонамо», в течение всего перехода дул свежий северо-западный ветер, шла пологая океанская волна. Большую часть пути «Миантонамо» проделал на буксире у «Аугусты» — экономили уголь. По едва возвышающейся над водой палубе монитора постоянно гуляла полутораметровая волна. Выход на верхнюю палубу был небезопасен. Зато бортовая качка глубоко сидящего корабля почти не давала себя знать.
Каждый полдень, после определения места нахождения корабля, листок с координатами закупоривали в бутылку и бросали за борт — кто знает, что может быть завтра. Океан; есть океан. Да и недавняя гибель во время шторма у мыса Гаттерас первого корабля этого типа тоже настораживала. Что и говорить, через океан на «Миантонамо» шли люди не робкого десятка... Переход длился 11 суток. 16 июня, пройдя 1765 миль, отряд Фокса достиг побережья Ирландии. Корабли вошли в бухту Корк и встали на якорь. Кстати, три бутылки, брошенные с «Миантонамо» тоже достигли Европы. После нескольких месяцев дрейфа они были выловлены у побережья Нормандии и по давней морской традиции переданы американским властям.
Странное зрелище представлял для европейцев монитор — «это невиданное дотоле судно, походившее издали на огромный плот, на котором возвышались две башни и труба». Не случайно английский адмирал, встречавший эскадру, спросил Фокса: «И вы действительно переплыли Атлантику на этой штуковине? Очень сомневаюсь, что я смог бы это сделать». Но вот прошло несколько дней, и «штуковина», напоминающая баржу, вновь отправляется в плавание. На пути в Россию было два захода — в Шербур и Копенгаген. Большую часть пути «Миантонамо» шел своим ходом. Сопровождал его теперь один лишь фрегат «Аугуста». После успешного перехода через океан «Ашуелот» был отправлен в Средиземное море.
Балтика встретила заокеанских гостей частыми туманами. То и дело приходилось сбавлять ход, а то и просто ложиться в дрейф.
Наконец 3 августа отряд прибыл в Гельсингфорс. Тревожили слухи о свирепствующей в Петербурге холере. К счастью, слухи оказались преувеличенными, и 5 августа американские корабли покидают Гельсингфорс. Предстоял последний переход по Финскому заливу. При выходе из гавани отряд Фокса был встречен русской броненосной эскадрой. После обмена салютами «русские суда выстроились в две колонны, а американский пароход и монитор стали между ними... Таким образом, соединенная эскадра поплыла в Кронштадт и при благоприятной погоде прибыла туда 6 августа».
Величественную картину представлял в тот день Кронштадтский рейд. В Купеческой гавани — толпы народа; множество шлюпок и яхт; на заднем плане — русская эскадра; на переднем — медленно движущийся «Миантонамо», приветствуемый пушечными выстрелами с фортов и звуками американского национального гимна.
Как только корабли встали на якорь, посланника Конгресса от имени императора приветствовал контрадмирал С.С. Лесовский, которого американские моряки помнили по визиту русской эскадры в Нью-Йорке в 1863—1864 годах. В тот же день Фокс и сопровождающие его лица прибыли в Петербург; их разместили в гостинице «Hotel de France», что находилась на Большой Морской, недалеко от арки Главного штаба.
8 августа чрезвычайное посольство было принято Александром II. Аудиенция состоялась в Петергофском дворце. До Петергофа ехали поездом. На станции пересели в придворные кареты. Несмотря на строгий дипломатический этикет, прием проходил в исключительно теплой обстановке. «Многочисленные связи, издавна соединяющие великую империю на востоке и великую республику на западе,— говорилось в зачитанном Фоксом послании Конгресса,— вновь умножились и упрочились благодаря поддержке, которую русское правительство оказало Соединенным Штатам в тяжелые годы их междоусобной борьбы». О традиционно дружественных отношениях между Россией и Америкой говорил и царь. Свою речь он закончил заверением, что никогда не забудет дружественного приема, оказанного Соединенными Штатами его эскадрам. Желая отблагодарить американских моряков, император объявил, что все они, без исключения, и офицеры, и команда, являются гостями русского правительства. Тотчас после аудиенции в Вашингтон была отправлена телеграмма, в которой Фокс докладывал правительству об исполнении возложенной на него миссии; Это была первая телеграмма, отправленная из России в Америку по только что проложенному трансатлантическому кабелю.
Пока во дворце шел официальный прием, американские офицеры в сопровождении адмирала Лесовского осматривали дворцы и парки Петергофа. В нижнем парке они встретили героя Севастопольской обороны Э.И. Тотлебена. «Офицеры с почтением и восторгом приветствовали знаменитого инженера... Прощаясь с ним, прокричали ему трижды «Ура!», которое слилось с неумолкаемым шумом петергофских фонтанов». На Царицыном острове американским гостям показали дуб, выросший из желудя, взятого с дуба, «осеняющего могилу Вашингтона».
Ответный визит императора не заставил себя долго ждать. На следующий же день Александр II в сопровождении наследника и великих князей посетил американские суда. «Миантонамо» салютовал ему из своих башенных орудий. Делалось это впервые и вопреки существующим правилам, ибо на американском флоте орудия такого калибра «предназначались исключительно для военных действий».
Так начался первый официальный визит американского флота в Россию. Впереди было знакомство со столицей. Однако до нее, конечно, был Кронштадт с его мощными фортами, доками, морской обсерваторией, богатейшей библиотекой морского клуба, почетными читателями которой стали все американские офицеры. При осмотре арсенала гости были «поражены множеством военных флагов, забранных у неприятеля и свидетельствующих о подвигах русского флота на море».
Петербург поразил американцев своим великолепием, а также непрерывными богатыми обедами и балами. Например, ужин, состоявшийся в «роскошно иллюминированном саду» одного из особняков на Каменном острове, на котором присутствовал «весь цвет петербургского общества», обошелся гостеприимному хозяину более чем в 40 тысяч рублей...
23 августа по приглашению «Московского городского общества» посольство выехало в Москву. Ехали в специальных вагонах, «задрапированных снаружи флагами американских цветов».
...Первопрестольная встречает гостей медью оркестра. Над привокзальной площадью, заполненной толпой, звучит национальный гимн «Славься, Колумбия». Городской голова, члены управы и многочисленные представители различных обществ приветствуют посольство. Гости направляются в приготовленную для них резиденцию. Неожиданно для себя они находят там свои фотографии. Однако удивление их возрастает еще больше, когда они видят и свои портреты, написанные маслом,— ведь они никому не позировали! Секрет раскрывают хозяева — снимки были сделаны еще в Петербурге скрытой камерой за два дня до отъезда в Москву. С них и писались портреты. В тот же день посольство нанесло официальный визит генерал-губернатору Москвы В. А. Долгорукову. Поднимая тост за здоровье гостей, он сказал: «Прием, оказанный вам в среде нашего флота, говорит о том, каким уважением пользуются граждане Соединенных Штатов в нашем отечестве. Поверьте, что такой же прием вы встретите и в Москве, нашей древней столице».
Так оно и было.
На пятый день посольство отбыло в Нижний Новгород. Американцам хотели показать знаменитую Нижегородскому ярмарку. Она продолжалась ровно два месяца в году, и в эти месяцы население города возрастало в 6—8 раз, с 40 до 250—300 тысяч человек. Торговый оборот ярмарки превышал 100 миллионов рублей. Одного только чая здесь продавалось более чем шесть тысяч тонн.
Купечество в честь приезда на ярмарку посольства устроило обед. «Обеденный зал был украшен цветами, зеленью, национальными флагами и портретами государя, Вашингтона, Линкольна и Джонсона. За стол село около полутораста человек, между которыми были представители всех национальностей: русские, персы, татары, армяне, купцы с Кавказа и из далекой Сибири». Тем не менее ярмарочный комитет очень сожалел, что в связи с разгаром ярмарки купечество не может принять дорогих гостей с тем блеском, с каким оно желало бы.
1 сентября посольство отплыло в Кострому. «Как только м-р Фокс вступил на набережную, один из крестьян снял с себя верхнюю одежду и расстелил ее перед ним. М-р Фокс попытался перешагнуть через нее. Однако в ту же минуту, словно по мановению волшебного жезла, весь путь до конца набережной был мгновенно устлан одеждами. Толпа молча наблюдала, что будет дальше. Когда же м-р Фокс решил, наконец, пройти по одежде, толпа радостно приветствовала его громким «ура!». После знакомства с Костромой и осмотра памятника Ивану Сусанину посольство продолжило свой путь по Волге.
В последние дни пребывания в столице американцам был дан обед в аристократическом, так называемом «английском клубе». Выступил канцлер А.М. Горчаков: «Я радуюсь... что умы практические, чуждые всякого предубеждения могут сами и беспристрастно судить о нас. Они могли оценить и... величайшую славу, и гордость нашего отечества, и народ, составляющий его силу!» Выразив надежду, что добрые взаимоотношения между обоими народами будут существовать вечно, Горчаков отметил, что он особенно ценит эти взаимоотношения потому, что «они не представляют никому ни угрозы, ни опасности... Господь даровал обеим странам такие условия существования, что они вполне могут довольствоваться своей великой внутренней жизнью». В тот же день полный текст речи Горчакова был передан телеграфом в Соединенные Штаты. Интересно, что отправка этой телеграммы обошлась корреспонденту «Нью-Йорк геральд» в семь тысяч долларов.
15 сентября 1866 года американская эскадра снялась с якоря и вышла в Финский залив...
Юрий Коршунов
(обратно)
«Господи, лечу!»
 Человек во все времена стремился жить в согласии с небесами, чтобы слышать слово Господне и открывать Бога в себе. В наш век, когда небо может принести гибель миллионам и миллионам людей от ядерной беды, так важно помнить о непреходящих ценностях жизни, бороться за оздоровление международных отношений, за разоружение. Культу насилия, жестокости и войны христианская традиция противопоставляет проповедь взаимной любви и мира во всем мире. Ваша ФИЕСТА, собравшая гостей из многих стран,— это праздник раскрепощенного человеческого духа, праздник добра и любви. И потому я приветствую вашу встречу и желаю вам хранить в душе чувство свободного полета, открывающее путь к вечным истинам бытия.
Небо дано нам для радости.
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй, народный депутат СССР
Человек во все времена стремился жить в согласии с небесами, чтобы слышать слово Господне и открывать Бога в себе. В наш век, когда небо может принести гибель миллионам и миллионам людей от ядерной беды, так важно помнить о непреходящих ценностях жизни, бороться за оздоровление международных отношений, за разоружение. Культу насилия, жестокости и войны христианская традиция противопоставляет проповедь взаимной любви и мира во всем мире. Ваша ФИЕСТА, собравшая гостей из многих стран,— это праздник раскрепощенного человеческого духа, праздник добра и любви. И потому я приветствую вашу встречу и желаю вам хранить в душе чувство свободного полета, открывающее путь к вечным истинам бытия.
Небо дано нам для радости.
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй, народный депутат СССР
Кованые двустворчатые ворота, по-старчески заскрипев, распахнулись внутрь огромного двора Екатерининского дворца. На его зеленое поле выплеснулся веселый калейдоскоп легковушек всевозможных моделей с прицепами, облепленными по бортам эмблемами воздушных соревнований. Тысячи шаров поднимаются последние десятилетия во всех уголках земли, и в майские дни нынешнего лета пилоты-баллунисты из многих стран мира — от Австралии до Америки — впервые съехались в Ленинград на фиесту под многозначительным девизом «Открытое небо мира».
Почему «съехались», а не «слетелись»? Что ж, возможен и воздушный вариант прибытия в Ленинград — его в конце этого года хотят продемонстрировать в совместном полете на воздушном шаре два
известных баллуниста: президент бристольской фирмы «Камерон баллунз» Дон Камерон и летчик Аэрофлота Геннадий Опарин, ставший первым в СССР обладателем диплома английского Королевского клуба воздухоплавания, который дает право пилотировать воздушные шары. Они полетят из Англии над Северным и Балтийским морями, над Данией и Швецией на Высоте примерно 6000 метров над уровнем моря и приземлятся в Ленинграде через два-три дня. Это будет первый управляемый полет на воздушном шаре из Великобритании в СССР. Шар для английского и советского баллунистов сконструировала самая крупная в мире фирма по изготовлению воздушных шаров «Камерон баллунз». Правда, наполнят его гелием, а ленинградская фиеста — это парад монгольфьеров, которые поднимаются за счет подогрева воздуха...

Итак, пестрые машины разбежались по зеленому лугу перед Екатерининским дворцом, а атланты и кариатиды, подпирающие его стены, с недоумением взирали на небывалое на их памяти зрелище. Шустрые люди в комбинезонах вытаскивали из прицепов ивовые корзины и мягкие тюки в нейлоновых чехлах — в них-то и хранились оболочки воздушных шаров. Стоящий рядом со мной американец в белоснежном костюме с яркой матрешкой на спине ухватил веревку, торчащую из чехла, и стал быстро раскатывать по траве полотнище шара. Я потрогал ткань: нейлон или капрон. По всей ее поверхности — нашитые или наклеенные разноцветные рисунки и рекламные надписи.
Пока американец расправлял шар, его сосед-француз, уже прицепив к стропам шара корзину, установил на ней по углам стойки и водрузил на них газовую горелку. Рядом он поставил «ветродуй» — большой вентилятор — и направил поток воздуха в горловину шара. Она приоткрылась, слегка надулась, и тут француз, опрокинув корзину набок, включил горелку. Почти невидимое на солнце пламя ударило в сторону горловины и погнало горячий воздух в шар. Для того чтобы не поджечь ткань, в горловине делается специальный вырез, куда и направляют пламя. Когда шар наполняется горячим воздухом и начинает приподниматься над землей, пилоты моментально ставят корзину на дно, не переставая включать горелку для подогрева воздуха...
Я выбрался из толпы и, поднявшись на ступеньки, окинул взглядом все пространство, ограниченное прекрасной декорацией — сине-золотым лепным фасадом Екатерининского дворца с белоснежными классическими колоннами, одним из лучших творений Варфоломея Растрелли. Зеленое поле переливалось многоцветием красок. Шары разной формы (была даже голова дяди Сэма и русская матрешка) вздувались на глазах, наполняясь воздухом, меняя очертания, полыхая всеми цветами радуги. Словно в замедленной киношной съемке распускались гигантские цветы на заколдованном лугу.
Из этой сказки меня вернул на грешную землю звучный голос, раздавшийся откуда-то сверху из динамиков — буквально с неба. Голос патетически рассказывал о нынешнем празднике-параде воздушных шаров в Пушкине, бывшем Царском Селе, и элегически вспоминал воздухоплавателей прошлого.
Как известно, тепловые воздушные шары стали называться монгольфьерами с той поры, когда братья Жозеф и Этьен Монгольфье поднялись в 1783 году на надутом парусиновом шаре с корзиной и приспособлением для подогрева воздуха, продержавшись минут десять на двухкилометровой высоте.
Для одних это было волнующим приключением, как для смельчаков из романа Жюля Верна «Пять недель на воздушном шаре», другие мечтали на монгольфьерах сделать научные открытия. Именно поэтому летом 1804 года ученый-химик Яков Захаров вместе с физиком Робертсоном совершили примечательный исследовательский рейс. Вот что они о нем писали: «Главный предмет сего путешествия состоял в том, чтобы узнать с большой точностью о физическом состоянии атмосферы и о составляющих ее частях в разных определенных возвышениях оной». Иван Крузенштерн во время своего знаменитого кругосветного плавания использовал воздушный шар для определения направления ветра, а Дмитрий Менделеев, несмотря на свою славу создателя периодической системы элементов, рискнул на мальчишеский, в глазах обывателей, поступок и поднялся на шаре для наблюдения за солнечным затмением.

Но всю эту комбинацию из надуваемой парусины, ивовых корзин и огня для подогрева воздуха трудно было контролировать, невозможно управлять, на популярности подобных полетов сказывалась также невысокая надежность аппаратов.
Так наступила славная эра аэростатов и дирижаблей. С управляемыми аэростатами проводил свои опыты Константин Циолковский. Их пытались даже оснастить паровой машиной, приводившей в движение воздушный винт. Идею Циолковского об управляемых аэростатах удалось осуществить только после изобретения двигателя внутреннего сгорания. Но в начале века любители новых летательных аппаратов могли созерцать в небе над Петербургом и другими российскими городами дирижабли «Кречет», «Голубь», «Ястреб», «Сокол», «Альбатрос». Они не только перевозили грузы, но и устрашали врагов в небе первой мировой войны.
Дирижабельный бум прервали известные катастрофы: гибель «Италии» Умберто Нобиле, авария британского «Р-101», сгоревший в пламени водорода немецкий гигант «Гинденбург». Все знают о рекордных полетах в 30-е годы советских стратостатов. Но мировой рекорд «Осоавиахима-1», поднявшегося на 22 километра, стоил жизни всему отважному экипажу стратонавтов. С той поры только летчики-высотники и космонавты поднимались в стратосферу.
Как странно движется человеческая история: вроде бы угас в свое время ажиотаж вокруг полетов на воздушных шарах, и вдруг с новой силой вспыхивает жажда полетов в конце XX столетия. Сейчас в шестидесяти странах люди не только сами взлетают на шарах, вмещающих от одного до пятидесяти человек, но и поднимают прицепленные к корзинам на карабинах дельтапланы, чтобы парить, как птицы, в воздушных потоках. Судя по тому, что фирма «Камерон баллунз» выпускает в день не менее одного шара и, имея фабрики в Англии и США, мечтает создать совместное предприятие у нас,— действительно наступает новый бум полетов на воздушных шарах.
— Дело-то какое хорошее,— убеждал меня один из ветеранов-баллунистов,— развивает массу полезных навыков у молодежи, не говоря уже о том, что воспитывает ответственность, находчивость, мужество, отвлекает ребят от всего дурного. Спортивным обществам вместе с ДОСААФ давно бы надо поддержать развитие воздухоплавания. Очевидны преимущества нынешнего поколения воздушных шаров. Прежде всего безопасность: подогретый воздух не взорвется — это тебе не водород. «Летательный аппарат» прост в обращении: загрузил в машину оболочку, корзину с газовыми баллонами и горелкой и поехал на природу, лишь бы ветра да дождя не было.
Поверьте моему опыту: шары и дирижабли — превосходный экологически чистый транспорт — еще послужат людям в народном хозяйстве, перевозя пассажиров и грузы. Наши тоже уже соображают, что к чему: разрабатывают различные конструкции дирижаблей, а на Тушинском аэродроме состоялось испытание первого серийного советского воздушного шара, созданного коллективом научно-производственного государственно-кооперативного предприятия «Дирижаблестрой СССР».
Вы посмотрите, какие здесь, в Пушкине, собрались настоящие профессионалы...
В самом деле, на зеленом поле разворачивались последние приготовления, казалось, что предстартовая лихорадка охватила не только бывалых баллунистов, но и толпы зрителей, особенно снующих всюду мальчишек.
Пилоты, присев в корзинах, слали из газовых горелок залпы огня в ненасытное чрево воздушных шаров. Когда они включали одновременно спаренные горелки, то казалось, что ревут настоящие огнеметы. В одних корзинах экипажи дружно подпрыгивали, выравнивая надутые шары, другие уже выжидали момент для отлета — их шары рвались вверх, еле удерживаемые с земли веревочными «вожжами».

В людских волнах, плещущих под цветным пологом вздымавшихся шаров, я никак не мог найти ответственного за прессу англичанина Блетина Ричардса. Во-первых, он мне обещал показать единственный на фиесте дирижабль-шар с мотором, которому пропеллер позволял двигаться против ветра, а во-вторых, познакомить со знаменитым Яном Эшполом, чемпионом мира по выполнению акробатических номеров на высоте. Ян установил рекорд, переворачиваясь на перекладине, подвешенной под его воздушным шаром, на высоте 4880 метров над землей. Как говорится, комментарий здесь излишен, и понятно, что мне хотелось полететь в его экипаже.
Но судьба распорядилась по-другому, разбросав нас с фотографом по разным командам. Не найдя Яна, я прибился к ребятам в белых костюмах с матрешками. В последний момент перед отлетом я, еле найдя ногой выемку в борту корзины, тяжело перевалился через него внутрь, чуть не сбив американца Роберта Кинсинфилда. Пока я деликатно устраивался в углу рядом с газовыми баллонами, корзина совсем неслышно отделилась от земли.
Совсем перед моим лицом проплыли морды собак, нарисованные на одном из шаров, и вот уже мы с натугой переваливаем Екатерининский дворец. Под ногами статуи на крыше, и рукой можно дотянуться до позолоченных куполов дворцовой церкви.
Тут я замечаю, что судорожно вцепился в обтянутый замшей борт корзины. Отнимаю руки и оглядываю сверху Екатерининский парк с Чесменской колонной посреди пруда, витой лестницей Камероновой галереи и только никак не могу отыскать спрятавшуюся в зелени деревьев бронзовую девушку с кувшином, которую обессмертил Пушкин в гекзаметрах. Почему-то повторяю эти строки, и только теперь до меня доходит, что я лечу. Не во сне — наяву.
«Господи, лечу!» Откуда это? Да ведь это же изумленный хриплый крик мужика, полетевшего с колокольни в «Андрее Рублеве» Тарковского. Но ведь не только в кино. Было же, было такое на Руси. Я потом нашел эти чудом уцелевшие строки за 1731 год (за пятьдесят с лишним лет до братьев Монгольфье), описывающие небывалый поступок первого российского Икара — рязанского подьячего Никиты Крикутного. Церковная книга повествует, что он «мешок сделал, как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него сделал петлю, сел в нее, и нечистая сила подняла его выше березы, а после ударила в колокольню, но он уцепился за веревку, чем звонят, и тако остался жив».
...Позади остается Екатерининский парк, внизу суетливые, не очень чистые улочки бывшего Царского Села, где прогуливались Ахматова с Гумилевым.
Внизу живая жизнь, а мы тихо скользим над нею, оторванные от нее, как цветок от почвы.
Безветрие, скользящие лучи солнца. Тишина. Абсолютная тишина, как в вакууме, только изредка «пыханье» горелки.
Как же сильно желание в каждой душе оторваться и полететь. Забыть все. Стать безучастным. Свобода, полная свобода. Ты наедине с землей и небом. Неужели это и есть согласие с небесами?
В. Лебедев, В. Орлов (фото), наши спец. корр.
(обратно)
Рафаэль Сабатини. Самозванец
 Глава из романа «Удачи капитана Блада».
1
Глава из романа «Удачи капитана Блада».
1
Стремительность, как известно, во все времена была существенным фактором успеха у лучших командиров на суше и на море. В том числе и у капитана Блада. Иногда его атака оказывалась внезапной, как падение сокола на добычу. А когда он достиг вершины славы, стремительность его нападений создавала впечатление вездесущности, и испанцы решили даже, что лишь общение с Сатаной может дать человеку возможность столь чудесно переноситься с места на место.
И вот после захвата «Марии Глориосы», флагманского корабля адмирала Испании маркиза де Риконете, до капитана Блада дошли слухи, что в день отплытия из Сан-Доминго он совершил налет... на Картахену, находящуюся в двухстах милях от Челюсти Дракона. Тогда он и предположил, что некоторые рассказы о его деяниях, доходивших до него в последнее время, основаны не только на суеверном воображении.
Так, в прибрежной таверне Кристианштадта на островке Сант-Круа, куда «Мария Глориоса» (бесстыдно прозванная «Андалузской красоткой») зашла за дровами и водой, капитан Блад услышал об ужасных злодеяниях, якобы совершенных им и его людьми при налете на Картахену.
Рассказчиком был здоровенный краснолицый голландец по имени Клаус, а его повествование о зверствах слушали два торговца французской Вест-Индской компании. Блад без приглашения примкнул к их обществу, и вторжение это было принято не просто с терпимостью, обычной в подобных местах, но даже приветливо благодаря элегантности его одежды и благородным властным манерам.
— Приветствую вас, месье.
Если французский язык Блада не был столь беглым, как испанский, то довольно гладким. Он придвинул стул, без всяких церемоний сел и постучал костяшками пальцев по грязному сосновому столу, подзывая владельца таверны. Потом обратился к голландцу:
— И когда, вы сказали, это происходило?
— Десять дней назад,— ответил голландец.
— Не может быть,— Блад потряс головой в пудреном парике.— Я точно знаю, что десять дней назад капитан Блад находился в Сан-Доминго.
— В таком случае, позвольте сказать вам,— фыркнул голландец,— что рассказ об этом я слышал в Сан-Хуане де Пуэрто-Рико от капитана одного из двух галионов с ценным грузом, подвергшихся нападению в Картахене. Этот проклятый пират преследовал их. К счастью, они удачным выстрелом повредили его фок-мачту и тем самым вынудили убавить паруса.
На капитана Блада это не произвело никакого впечатления.
— Ерунда,— сказал он.— Испанцы ошиблись. Вот и все. Я точно знаю, что «Арабелла» стоит в Тортуге на ремонте.
— Много вы знаете,— ответил голландец с сарказмом.
— Я собираю все сведения,— последовал вежливый, уверенный ответ.— Это благоразумно.
— Да, но только если ваши сведения точны. На сей раз вы глубоко заблуждаетесь. Поверьте мне, в настоящее время капитан Блад находится где-то поблизости.
Блад улыбнулся:
— А вот в это я вполне верю.
В тот же вечер в каюте «Андалузской красотки», отделанной камкой и бархатом, с резными позолоченными переборками, с хрусталем и серебром, капитан Блад созвал военный совет. На нем присутствовали одноглазый гигант Волверстон, Натаниэль Хагторп и Чеффинч, маленький штурман. Той же ночью «Андалузская красотка» подняла якорь, тихо ушла из Сент-Круа и через два дня появилась у Сан-Хуана де Пуэрто-Рико. С красно-желтым испанским флагом на грот-мачте она легла в дрейф, отсалютовала выстрелом из пушки и спустила шлюпку.
Чтобы убедиться в правдивости слов голландца, капитан Блад взял подзорную трубу и оглядел гавань. Среди небольших судов он ясно увидел два крупных желтых галиона, каждый с тридцатью орудиями на борту; такелаж их носил следы сильных повреждений. Очевидно, минхеер Клаус говорил правду. А это было главным.
2
Весть о захвате Бладом испанского флагманского корабля в Сан-Доминго еще не могла достичь Пуэрто-Рико, поэтому явно испанские обводы «Марии Глориосы» должны были служить достаточным подтверждением ее национальной принадлежности. С богатым гардеробом де Риконете Блад обращался как с собственным и потому нарядился в костюм из фиолетовой тафты с сиреневыми чулками. Его портупея из прекрасной кордовской кожи того же цвета была густо отделана серебряным кружевом. Широкая черная шляпа с большим золотистым пером покрывала черный парик и скрывала в тени обветренное аристократическое лицо.
Высокий, прямой и сухощавый, всем своим видом выражающий властность, он встал, опираясь на длинную трость с золотым набалдашником, перед генерал-губернатором Пуэрто-Рико доном Себастьяном Мендесом и заговорил на беглом кастильском наречии, обретенном с такими муками.
Одни испанцы называли Питера Блад а доном Педро Сангре, переводя его фамилию буквально (Блад — кровь (англ.)), другие — эль Диабло Энкарнадо (Воплощенный дьявол (исл.)). Саркастически соединив эти два прозвища, он дерзко представился как дон Педро Энкарнадо, заместитель адмирала де Риконете, который не мог лично сойти на берег, потому что приступ подагры приковал его к постели. Неподалеку от Сент-Круа адмирал получил с одного голландского судна сведения о том, что негодные пираты напали на два испанских корабля из Картахены, которые нашли теперь убежище здесь, в Сан-Хуане. Маркиз требует самых точных сведений об этом деле.
Дон Себастьян — крупный, темпераментный человек, дряблый, изжелта-бледный, с черными усиками над толстыми, будто у негра, губами и несколькими подбородками, синими от бритья, с горячностью дал их.
К дону Педро он проявил почтительность, как к заместителю адмирала, представителя католического короля. Затем дон Себастьян представил гостя своей грациозной, еще молодой жене донье Леокадии и уговорил остаться на обед, поданный в прохладном белом патио.
Горячность дона Себастьяна, вызванная вопросом гостя, не покидала его и за столом. Правда, корабли были атакованы пиратами, тем самым подлым hi jo de puta (Сукиным сыном (исл.)), который недавно превратил Картахену в ад. Генерал-губернатор приводил кровавые подробности, не считаясь с чувствами доньи Леокадии, и в продолжение ужасного рассказа она не раз вздрагивала и крестилась.
Если капитана Блада и шокировало, что в таких деяниях обвиняются он и его люди, то он забыл об этом, услышав, что в трюмах галионов находится золотое кружево ценой в двести тысяч пиастров да еще перец и специи на ту же сумму.
— Какая добыча могла достаться этому дьяволу во плоти Бладу! Это просто Божья милость, что галионы не только вырвались из Картахены, но и ушли от преследования!
— Бладу? — переспросил гость.— Стало быть, это точно его работа?
— Нет ни малейших сомнений. Кто еще из плавающих по морю способен на такое? Попадись он мне в руки, клянусь Богом, я сдеру с него шкуру и сошью из нее бриджи.
— Себастьян, дорогой мой! — упрекнула его донья Лео кадия.
— Попадись он только мне в руки...— яростно повторил дон Себастьян.
Капитан Блад добродушно улыбнулся.
— Это не исключено. Возможно, он гораздо ближе, чем вы предполагаете.
— Молю Бога, чтоб это было так.— Генерал-губернатор подкрутил свои комичные усы.
После обеда гость с сожалением откланялся, поскольку нужно было вернуться и доложить обо всем адмиралу. Однако на другой день он вернулся, и, когда шлюпка, с которой он высадился, вернулась на бело-золотистый флагманский корабль, большой галион под взглядами зевак с мола поднял якорь, поставил паруса и величественно тронулся, подгоняемый свежим утренним ветром, на восток, вдоль полуострова, на котором стоит Сан-Хуан.
Накануне капитан Блад посвятил некоторое время занятиям каллиграфией, благо в адмиральском ящике с письменными принадлежностями оказалось все, что требовалось: адмиральская печать и лист пергамента, увенчанный гербом Испании. В результате получился документ, который он выложил перед доном Себастьяном, сопроводив подробными объяснениями.
— Ваше заверение, что капитан Блад находится в этих водах, убедило адмирала начать охоту за проклятым пиратом. В отсутствие его превосходительства мне, как сами видите, приказано остаться здесь.
Генерал-губернатор уставился в пергамент с громадной печатью маркиза де Риконете, оттиснутой на красном воске. Это был приказ передать дону Педро Энкарнадо командование над вооруженными силами Сан-Хуана де Пуэрто-Рико, фортом Сан-Антонио и его гарнизоном.
Принять такое хладнокровно дон Себастьян не мог. Он нахмурился и надул свои толстые губы.
— Ничего не понимаю. Полковник Варгас, командующий фортом под моим началом,— знающий и опытный офицер. Кроме того,— рассвирепел он,— мне казалось, что генерал-губернатор Пуэрто-Рико — я и что мне надлежит давать назначения моим офицерам.
Ответить примирительнее, чем это сделал капитан Блад, было просто невозможно.
— Дон Себастьян! — Он доверительно понизил голос.— Вы же знаете этих королевских фаворитов...
— Королевских...— Дон Себастьян внезапно все понял и подавил поднявшееся было раздражение.— Но я впервые слышу, что маркиз де Риконете — королевский фаворит.
— Любимчик его величества. Это, разумеется, строго между нами. Отсюда и его наглость. Я не стану вас осуждать, если вы решите, что он злоупотребляет привязанностью короля. Вы же знаете, как ударяет людям в голову королевская благосклонность.— Блад вздохнул.— Мне очень неприятно, что приходится вторгаться в сферу вашей деятельности. Но я так же беспомощен, как и вы, мой друг.
В течение двух последующих дней Питер Блад умиротворил не только генерал-губернатора, но и полковника Варгаса. Успокоило полковника, по крайней мере отчасти, то, что новый комендант не обнаружил желания вмешиваться в его военные мероприятия. Наоборот, проведя тщательный осмотр форта, его вооружения, гарнизона и боеприпасов, он с похвалой отозвался обо всем, что видел, и великодушно признал, что не смог бы сделать ничего лучшего.
Мнимый дон Педро сошел на берег, чтобы принять командование, в первую пятницу июля. В ближайшее воскресенье во дворе генерал-губернатора молодой запыхавшийся офицер слез со взмыленной, усталой лошади. Он привез дону Себастьяну, который завтракал со своей супругой и своим временным комендантом, тревожную весть о том, что сильно вооруженный корабль без флага, явно пиратский, угрожает Сан-Патрико, находящемуся в пятидесяти милях. С корабля открыли огонь по поселку, но пока не причинили вреда, потому что пираты не осмеливались подойти на расстояние выстрела орудий форта. Однако, к несчастью, в форте очень мало боеприпасов, и когда они кончатся, немногочисленный гарнизон будет не в состоянии препятствовать высадке пиратов на берег.
Изумление дона Себастьяна было так велико, что пересилило тревогу.
— Черт возьми, что искать пиратам в Сан-Патрико? Там нет ничего, кроме сахарного тростника и маиса.
— Кажется, я понимаю,— сказал капитан Блад.— Сан-Патрико — черный ход к Сан-Хуану и кораблям с ценным грузом.
— Черный ход?
— Неужели непонятно? Поскольку пираты не решаются на лобовую атаку вашего хорошо вооруженного форта Сан-Антонио, они собираются пройти по суше от Сан-Патрико и нанести удар с тыла.
На генерал-губернатора эта проницательность произвела впечатление.
Клянусь всеми святыми, ваше объяснение убедило меня.
Он грузно поднялся, сказал, что немедленно примет меры, и отправил посыльного в форт за полковником Варгасом.
Расхаживая взад-вперед по длинной комнате, в которой опущенные жалюзи сохраняли прохладу, он благодарил своего покровителя-святого, центуриона-мученика, что форт, благодаря его предусмотрительности, обеспечен боеприпасами и может уделить Сан-Патрико столько пороха и ядер, сколько потребуется, чтобы не допускать пиратов в бухту.
— Прошу прощения, сеньор,— холодным голосом заговорил новый комендант, едва генерал-губернатор остановился, чтобы перевести дух,— но брать боеприпасы из форта не стоит. Пираты могут изменить свой план, обнаружив, что высадиться в Сан-Патрико труднее, чем казалось. Или,— и тут он сказал то, в чем был уверен, потому что сам отдал этот приказ,— или нападение на Сан-Патрико может оказаться уловкой, чтобы оттянуть туда ваши силы.
Дон Себастьян провел рукой в перстнях по челюсти и озадаченно уставился на него.
— Возможно. Да, о Боже правый!
Дон Педро немедленно взял на себя командование.
— Мне известно количество боеприпасов на кораблях с ценным грузом. Оно значительно. Их вполне хватит для нужд Сан-Патрико, а кораблям боеприпасы сейчас ни к чему. Мы снимем с них не только порох и ядра, но и пушки, чтобы немедленно отправить их в Сан-Патрико.
— Вы хотите разоружить галионы? — Взгляд дона Себастьяна стал встревоженным.
— Какой смысл держать их вооруженными в этой гавани? Форт защищает вход в бухту, если его придется защищать. Опасность сейчас в Сан-Патрико.— И заговорил более определенно: — Будьте добры, прикажите собрать нужное количество волов и мулов для перевозки. Что касается солдат, в форте их двести тридцать, а на борту кораблей сто двадцать. Сколько людей в Сан-Патрико?
— Около пятидесяти.
— Да поможет нам Бог! Если пираты намерены высадиться, их будет, наверное, четыреста или пятьсот. Чтобы отстоять Сан-Патрико, я отправлю туда полковника Варгаса, а с ним сто пятьдесят человек из форта и сто человек с кораблей.
— И оставите Сан-Хуан беззащитным? — воскликнул в ужасе дон Себастьян и невольно добавил: — Вы сошли с ума?
— Нет. У нас есть форт, там сотня орудий, половина из них крупного калибра. Ста человек вполне хватит для их обслуживания. А если вы полагаете, что я не готов разделить с вами ответственность, то я остаюсь здесь и буду командовать сам.
Полковник Варгас, как и дон Себастьян, был ошеломлен таким ослаблением обороны Сан-Хуана. И в пылу спора он едва не переходил границ вежливости. С презрением глядя на заместителя адмирала, он говорил о военном искусстве, словно о какой-то немыслимой вершине, недоступной обычному человеку. Но с этой высоты новый комендант спокойно опустил его на землю.
— Если вы считаете, что мы можем воспрепятствовать высадке пиратов в Сан-Патрико меньше чем с тремя сотнями солдат, то вам еще предстоит овладеть основами своей профессии. И как бы то ни было,— прибавил он, поднимаясь и тем самым давая понять, что разговор окончен,— я имею честь отдавать здесь приказания, и вся ответственность лежит на мне. Буду очень рад, если вы станете выполнять мои приказы незамедлительно и беспрекословно.
Когда колокола собора созывали верующих к торжественной мессе, полковник Варгас, несмотря на приближающуюся полуденную жару, выводил из Сан-Хуана своих людей, потому что дело не допускало отлагательства.
3
Вы, конечно, догадались, что пиратский корабль, угрожавший Сан-Патрико, некогда был флагманским кораблем испанского адмирала, а теперь именовался «Андалузской красоткой», и его отправил к форту капитан Блад. Командовал кораблем Волверстон, ему было приказано продолжать демонстрацию и не давать маленькому, жалкому форту передышки в течение сорока восьми часов. Потом он должен был под покровом ночи незаметно уйти до прибытия подкрепления, которое будет уже на подходе, и поспешить для нанесения удара по почти беззащитному Сан-Хуану.
Весь понедельник из Сан-Патрико регулярно прибывали посыльные, и, судя по их донесениям, Волверстон четко выполнял полученные им указания.
Но на следующий день произошли события — однако совсем не те, что ожидались капитаном Бладом.
Воплощенный дьявол, прикрыв ладонью глаза от утреннего солнца, с удивлением рассматривал красный корабль, обстреливавший форт Сан-Хуан. Как будто бы и «Арабелла», но все же и не «Арабелла». Он не мог определить, в чем заключается отличие, хотя и улавливал его.
Громадный корабль, разворачиваясь, обратился к нему бортом. И тут капитан Блад понял, в чем дело. У этого корабля было на четыре орудия меньше, чем на его флагмане.
— Это не капитан Блад,— объявил он дону Себастьяну.
— Не Блад? Скажите еще, что я не Себастьян Мендес. Разве корабль не называется «Арабелла»? — дон Себастьян протянул ему подзорную трубу: — Прочтите название на корме.
Корабль разворачивался, чтобы дать залп правым бортом, и на его корме Блад с удивлением прочел написанное золотыми буквами название «Арабелла».
— Ничего не понимаю,— прошептал он.
Пять минут спустя, когда он вдевал ногу в стремя, подле него бушевал генерал-губернатор.
— Ответственность за все это лежит на вас! — кричал он.— На вас и на вашем драгоценном адмирале. Ваши нелепые меры оставили нас беззащитными. Вы ответите за это!
У капитана Блада было ощущение, что он попался в собственную ловушку. Тщательно составленный им такой хитроумный замысел обезоружить Сан-Хуан, может лопнуть лишь потому, что явился какой-то мерзавец, чтобы выхватить добычу из-под самого носа. Блад не знал, с кем он будет иметь дело, но был почти уверен, что корабль не случайно назван «Арабеллой», и не сомневался, что именно владелец этого корабля учинил в Картахене зверства, приписанные капитану Бладу.
Но как бы там ни было, сейчас требовалось разгромить этого так некстати появившегося мерзавца. И, по странной иронии судьбы, капитан Блад, ставший жертвой собственной хитрости, призван был организовать оборону испанского города от нападения пиратов.
Крепость он нашел в бедственном положении. Половину орудий завалило обломками разрушенных стен, из ста оставшихся там людей десять были убиты, а тридцать ранены. Однако шестьдесят уцелевших были решительны и спокойны: на свете не существовало войск лучше испанской пехоты. Правда, из-за ошеломляющей бестолковости командовавшего ими молодого офицера они не знали, что делать.
Блад появился среди них как раз в то время, когда очередной бортовой залп снес двадцать ярдов крепостного вала. В похожем на колодец дворе, задыхаясь от пыли и едкого порохового дыма, он напустился на офицера, выбежавшего ему навстречу.
— Вы собираетесь держать здесь свой отряд, пока люди и пушки не будут погребены под развалинами?
Капитан Аранья возмущенно выпятил грудь.
— Мы готовы погибнуть на своих местах, сеньор, расплачиваясь за ваши ошибки.
— Умереть сумеет любой дурак. Но будь у вас столько же ума, сколько дерзости, вы бы извлекли несколько пушек. Они вскоре понадобятся. Вытащите десяток орудий из завалов и укройте их там.— Он указал на рощу перечных деревьев, растущих менее чем в полумиле от форта, ближе к городу.— Оставьте мне дюжину солдат, а всех остальных возьмите с собой. И унесите раненых из этого опасного места. Когда доберетесь до рощи, пошлите за упряжками мулов, лошадей, волов на тот случай, если орудия придется снова транспортировать. И зарядите их картечью. А теперь — поторапливайтесь.
Если у капитана Араньи не хватало воображения, чтобы составить собственный план, то по крайней мере он обладал нужной энергией, чтобы выполнить чужой. Восхищенный мерами коменданта, простота и надежность которых стала ясна ему сразу, он усердно принялся за дело. Блад тем временем принял командование над батареей из десяти орудий на южном бастионе, откуда лучше всего простреливалась бухта. Дюжина солдат, выведенных из бездействия его энергией и вдохновленных его пренебрежением к опасности, выполняла приказы быстро и точно.
Пиратский корабль, дав залп правым бортом, разворачивался, чтобы стрелять левым. Воспользовавшись этим маневром и определив с возможной точностью местоположение, с которого будет произведен следующий залп, Блад перебегал от орудия к орудию, тщательно наводя их собственными руками. Едва он навел последнее, как красный корабль, положив руль против ветра, подставил левый борт. Блад выхватил у солдата запальный фитиль и выстрелил по этой широкой цели. И если выстрел оказался не столь удачным, как он рассчитывал, то и не пропал зря. Ядром снесло бушприт. Корабль отклонился от курса, чуть накренился, и как раз в этот миг был произведен очередной бортовой залп. В результате этого случайного крена ядра корабля безвредно пролетели над фортом. Корабль тут же развернулся по ветру, чтобы уйти за пределы досягаемости ядер.
— Огонь! — загремел Блад, и остальные девять орудий выстрелили одновременно.
Узкая корма представляла собой трудно уязвимую цель, и Блад рассчитывал главным образом на моральный эффект. Но удача снова улыбнулась ему, и если восемь двадцатичетырехфунтовых ядер лишь взметнули брызги возле корабля, то девятое врезалось в корму, ускорив его ход.
Испанцы одобрительно закричали: «Вива дон Педро!» Со смехом они стали перезаряжать орудия, их мужество окрепло после первого, пусть и небольшого, успеха.
Но теперь уже спешить было не нужно. Пиратам требовалось время, чтобы убрать обломки бушприта, и прошел целый час, пока корабль, идя в крутой бейдевинд, не направился обратно для свершения мести.
Во время этой драгоценной передышки Аранья оттащил пушки под прикрытие рощи. Блад мог присоединиться к нему, но он остался на месте, однако на сей раз его ядра пролетели мимо цели, а вся мощь залпа с пиратского корабля обрушилась на форт.
Блад у показалось, что чьи-то громадные руки схватили его, приподняли, а потом с силой швырнули на землю. Затем случайное ядро угодило в пороховой погреб, и форту пришел конец.
С моря, словно эхо взрыва, донеслись радостные возгласы пиратов.
Блад приподнялся, стряхнул с себя глину и камни, которыми был полузасыпан, откашлялся, медленно встал на колени, а потом и на ноги. Он был весь измазан пылью и грязью, но по крайней мере все кости были целы. Однако из двенадцати солдат невредимыми оказались лишь пятеро; шестой стонал, лежа с перебитым бедром, седьмой сидел, потирая вывихнутое плечо. Остальные пятеро погибли и были погребены под руинами.
Блад решил, что нет смысла задерживаться на груде мусора, которая только что была фортом. Пятерым уцелевшим он приказал отнести двух пострадавших товарищей к пальмовой роще.
Встав на опушке и прикрыв глаза от солнца, Блад ясно видел приготовления к высадке на берег. Пираты спустили пять шлюпок, и, загруженные до предела, они направились к берегу, а красный корабль стал на якорь, готовясь огнем прикрывать высадку.
Нельзя было терять ни минуты. Блад поспешил туда, где его ждал Аранья со своими людьми. Он одобрил расстановку орудий, о которых пираты не подозревали, заряженных, как и было приказано, картечью. Тщательно определив место, где враг будет высаживаться, приказал навести туда пушки и сам проверил прицел. Ориентиром Блад избрал рыбацкую лодку, лежащую на берегу вверх килем в полукабельтове от пенистой кромки воды.
— Подождем,— объяснил он Аранье,— пока эти сукины дети не поравняются с ней, а потом выдадим им пропуск в ад.
Затем, чтобы скоротать минуты ожидания, стал читать испанскому капитану лекции о тончайших деталях военного искусства.
Теперь вам ясна польза, которая может заключаться в отступлении от школярских правил и предубеждений, в оставлении форта, который невозможно удержать, чтобы создать другой, импровизированный. Данная тактика дает нам преимущество над этими негодяями. Через минуту мы добудем победу из недавнего поражения.
Несомненно, все было бы именно так, если б не вмешательство его величества случая. В сущности, у капитана Араньи утро выдалось более поучительным, чем того хотелось Бладу. Теперь Аранья должен был получить наглядное представление о том, как вредно разделение командования.
4
Беда надвигалась от дона Себастьяна, который, к сожалению, тоже не бездействовал. Как генерал-губернатор Пуэрто-Рико, он счел необходимым собрать всех жителей города, способных носить оружие. Не советуясь заранее с доном Педро и даже не предупредив его о своих намерениях, дон Себастьян привел импровизированную армию, около ста двадцати человек, и остановил в ста ярдах от кромки воды. Там он держал ее в засаде, чтобы атаковать высаживающихся пиратов в последний миг. Таким образом он рассчитывал уберечь людей от обстрела с корабля и очень гордился своим замыслом.
Сама по себе эта тактика была столь же надежна, сколь и проста, но страдала одним непредвиденным недостатком: нейтрализуя пиратских канониров на корабле, она точно так же не позволяла вступать в бой испанской батарее в роще. Не успел Блад открыть огонь, как с ужасом увидел орущих горожан, идущих по берегу в атаку на пиратов. Через минуту образовалась беспорядочная, суетливая, шумная свалка, в которой смешались свои и чужие.

И вот дерущаяся толпа стала пятиться к городу, сперва медленно, потом все быстрее и быстрее, по мере того, как войско дона Себастьяна уступало натиску почти вдвое меньшего отряда пиратов. С выстрелами и криками они все вместе скрылись в городе, оставив на песке несколько трупов.
Пока Блад проклинал несвоевременное вмешательство дона Себастьяна, Аранья уговаривал его броситься на выручку. И получил еще один урок:
— Сражения выигрываются не только героизмом, мой друг, а еще и расчетом. Этих негодяев на борту осталось почти вдвое больше, чем высадилось; а те благодаря «героизму» дона Себастьяна являются хозяевами положения. Если сейчас пойти на город, то другой отряд высадится, ударит нам в тыл, и мы окажемся меж двух огней. Так что, с вашего позволения, мы подождем высадки второго отряда, а когда покончим с ним, разделаемся с негодяями, занявшими город.
Ждать, однако, пришлось долго. В каждой пиратской шлюпке оставалось всего по два человека, и возвращались к кораблю они медленно. Долго тянулись посадка в шлюпки и обратный путь. Так что между высадками двух отрядов прошло почти два часа.
Второму отряду, очевидно, казалось, что спешить незачем, поскольку все говорило о том, что слабое сопротивление, оказанное Сан-Хуаном, уже сломлено.
Поэтому пираты не торопились, даже выбравшись на берег. Они лениво вылезли из шлюпок разношерстной толпой: кое-кто был в шляпах, кое-кто в шлемах, прочие с яркими повязками на голове, такую же смесь представляли и костюмы — от откровенно пиратских хлопчатобумажной рубашки и кожаных штанов до кружевных дворянских камзолов, кое-кто был в латах. Объединяло их то, что у каждого на поясе был патронташ, на плече мушкет, а с бедра свисал какой-нибудь клинок.
Пиратов было около пятидесяти. Тот, кто, судя по всему, командовал ими, одетый в ярко-красный камзол с потускневшими галунами, построил их, если это можно было назвать строем, а потом, встав во главе, взмахнул шпагой и дал команду к выступлению.
На ходу пираты запели. Пронзительно выкрикивая непристойную песенку, они приближались тесной толпой, а тем временем канониры в роще раздували фитили, не сводя глаз с Блада, поднявшего правую руку. Наконец разбойники поравнялись с лодкой, служившей испанцам ориентиром. Блад опустил руку, и пять орудий выстрелили одновременно. Визжащая картечь смела голову колонны вместе с махающим шпагой предводителем в красном камзоле.
Неожиданный удар буквально парализовал пиратов. Рука Блада еще дважды поднималась и опускалась, а выстрелы пяти орудий косили эти слишком тесно сомкнувшиеся ряды. В результате почти все высадившиеся на берег полегли, кое-кто корчился в судорогах, кое-кто был уже недвижим. Около полудюжины уцелевших пиратов, Не посмев вернуться к вытащенным на берег пустым шлюпкам, решили искать спасения в городе и поползли, чтобы их не смел очередной смертоносный залп. Блад криво улыбнулся, глядя в испуганные глаза капитана Араньи, и продолжил военное образование этого достойного испанского офицера.
— Теперь, капитан, можно уверенно идти вперед, потому что мы обезопасили себя от нападения с тыла. Очевидно, вы заметили, что пираты с прискорбной опрометчивостью употребили для высадки все свои шлюпки. Те, кто остался на корабле, не смогут его покинуть.
— Но у них есть пушки,— возразил Аранья.— Вдруг они в отместку откроют огонь по городу?
— Когда там их капитан и первый отряд? Не думаю. Однако на всякий случай оставим возле орудий дюжину солдат. Если оставшиеся на борту с отчаяния потеряют голову, залп-другой их образумит.
И по команде Блада дисциплинированный отряд из пятидесяти испанских солдат, о существовании которых пираты не подозревали, бегом двинулся от рощи к городу.
5
С непреклонной решимостью, чтобы не сказать — мстительностью, Блад вел небольшую колонну испанских солдат, чтобы очистить город, который осквернял самозванец, присвоивший его имя. Когда они подошли к городским воротам, шум, доносившийся до них, полностью подтвердил подозрения Блада о бесчинствах грабителей.
Пиратский капитан беспрепятственно взял город, сопротивление защитников которого было сломлено в самом начале. Завладев им, он отдал город своим людям на разграбление. Дозволил им повеселиться на свой жестокий манер, прежде чем перейти к главной цели налета и захватить галионы в гавани. Безжалостная команда, состоявшая из тюремных отбросов, разбилась на группы, рассеявшиеся по всему городу, и вожделенно предавалась насилию: рушила, жгла, грабила, убивала.
Для себя капитан избрал то, что сулило самую богатую добычу. С полудюжиной людей он ворвался в дом генерал-губернатора, где дон Себастьян заперся после разгрома своего войска.
Захватив дона Себастьяна и его испуганную жену, капитан отдал дом на разграбление своим подручным. И пока четверо из них преспокойно расхищали добро испанца и жадно хлестали прекрасные вина, привезенные из Испании, он с двумя остальными занялся грабежом особого рода.
Высокий, загорелый вульгарный человек лет тридцати, называющий себя капитаном Бладом и щеголявший в черном с серебром камзоле, излюбленной, как известно, одежде капитана Блада, небрежно развалился в столовой. Он сидел во главе длинного стола из мореного дуба, перекинув ногу через подлокотник кресла, шляпа с плюмажем была сдвинута на один глаз, пухлые губы кривились в усмешке.
Напротив него, в конце стола, между двумя головорезами стоял дон Себастьян в рубашке и брюках, без парика, со связанными за спиной руками, лицо его посерело, однако в глазах сверкал вызов.
Между ними, но в отдалении от стола, на высоком стуле сидела спиной к открытому окну донья Леокадия, еле живая от страха.
Капитан, держа в руках бечевку, вязал на ней узел за узлом. И неторопливо, насмешливо, на ломаном, едва понятном испанском обращался к своей жертве.
— Значит, не желаете говорить? Хотите вынудить меня разобрать ваш проклятый дом по кирпичику, чтобы найти то, что мне нужно? Ошибаетесь, мой идальго. Вы не только заговорите, но даже и запоете. Музыку заменит вот эта штука.
Бросив бечевку с узлами на стол, капитан жестом приказал одному из своих людей пустить ее в ход. Бечевка тут же туго облегла голову генерал-губернатора. Потом ухмыляющийся скот, который завязывал ее своими грязными руками, взял из буфета серебряную ложку и продел между бечевкой и головой.
— Погоди,— остановил его капитан.— Итак, дон губернатор, вы знаете, что последует, если не развяжете свой упрямый язык и не скажете, где храните свои пиастры.— Он сделал паузу, глядя на испанца из-под опущенных век и кривя губы в презрительной усмешке.— Если угодно, можем сунуть вам зажженную спичку между пальцами или приложить к подошве раскаленное железо. Нам знакомы все способы чудесного исцеления немоты. Выбирайте, мой друг. Но молчанием вы ничего не добьетесь. Где дублоны? Где вы их прячете?
Но испанец, высоко подняв голову и плотно сжав губы, молча глядел на него с омерзением.
Пират улыбнулся еще шире, еще сильнее выражая презрение и угрозу. Потом вздохнул.
— Ну-ну! Я человек терпеливый. Даю вам минуту на размышление. Одну минуту.— Он поднял грязный указательный палец.— Пока я не выпью это.
Он налил себе из серебряного кувшина полный бокал темной сладкой малаги и выпил одним духом. Потом поставил бокал на стол с такой силой, что ножка его сломалась. Это была неприкрытая угроза.
— Вот так я сломаю тебе шею, испанская гнида, если будешь упрямиться. А ну говори: где дублоны? Или ты не слышал, что с капитаном Бладом шутить опасно? — Пират в гневе стукнул кулаком по столу.— Молчишь? Ну, хорошо же. Выжмите все, ребята, из его рогатой башки.
Один из пиратов взялся обеими руками за ложку, продетую под бечевку. И уже хотел повернуть, но капитан его остановил.
— Постой. Кажется, есть более надежный способ.— Он засмеялся, снял ногу с подлокотника и выпрямился в кресле.— Эти доны очень гордятся своими женщинами.
Он повернулся и поманил донью Леокадию.
— Aqui, mujer! aqui (Сюда, женщина! Сюда! (исп.).).
— Не слушай его, Леокадия! — вскричал муж.— Не двигайся с места!
— Он... он вполне может меня схватить,— ответила она, трогательно-практичная в своем неповиновении.
— Слышишь, болван? Жаль, что у тебя нет ее здравого смысла. Идите сюда, мадам.
Маленькая, хрупкая, мертвенно-бледная, дрожа от страха, она подошла к его креслу. Пират взглянул на нее с гнусной усмешкой, затем обхватил ее за талию и притянул к себе.
— Поближе, женщина! Какого черта!
Дон Себастьян, закрыв глаза, застонал от боли и ярости. С минуту он отчаянно вырывался из державших его сильных рук.
Капитан посадил маленькую, лишившуюся от ужаса воли даму на колено.
— Не слушай его ревнивых воплей, малышка. Он тебе ничего не сделает, слово капитана Блада.
Пират взял ее за подбородок, приподнял и улыбнулся, глядя в темные, расширенные от страха глаза. Этот жест и последовавший долгий поцелуй она перенесла словно мертвая.
— Я проделаю это еще раз, моя молодка, если твой неотесанный мужлан не поумнеет. Видите, дон губернатор, она у меня в руках, и, смею поклясться, ей понравится со мной. Но вы можете выкупить ее спрятанными дублонами. Теперь вы сочтете это щедростью с моей стороны. Потому что при желании я могу взять и то, и другое.
Ничто не могло доставить дону Себастьяну больших мучений.
— Пес! Если я соглашусь, где гарантия, что ты не обманешь?
— Слово капитана Блада.
Внезапно орудийный залп потряс дом. За первым последовал второй и третий.
— Что за черт...— начал было капитан, но тут же оборвал фразу.— Ерунда. Просто ребятки веселятся... Вот и все.
Но вряд ли бы он был так спокоен, если бы мог догадаться, что эти залпы скосили около полуста его ребяток, когда те высаживались к нему на подкрепление, или что испанские солдаты под водительством настоящего капитана Блада приближаются к городу, чтобы разделаться с пиратами.
Поэтому он продолжал наслаждаться своей победой над генерал-губернатором. В конце концов дух дона Себастьяна был сломлен, и он сказал, где хранятся королевские сокровища.
Однако злоба в душе пирата не смягчилась.
Теперь уже поздно,— объявил он.— Ты слишком долго шутил со мной. А я тем временем привязался к твоей красавице. Так привязался, что теперь не могу с ней расстаться. Жизнь тебе я оставляю, испанская собака. Но твою женщину и твои деньги я забираю, а заодно и галионы короля Испании с ценным грузом.
— Ты дал мне слово! — крикнул испанец.
— Верно, верно! Но это было давно. Ты не захотел воспользоваться предоставленной тебе возможностью. Предпочел шутить со мной.— Пират издевался над ним, и никто в комнате не обращал внимания на приближающиеся шаги.— А я тебя предупреждал, что шутить с капитаном Бладом опасно.
Внезапно дверь распахнулась, и раздался четкий металлический голос:
— Право, я рад слышать это от вас, кто бы вы ни были. Высокий человек без шляпы, в растрепанном черном парике и рваном фиолетовом камзоле, с худощавым лицом, покрытым потом и копотью, вошел, держа шпагу в руке. За ним последовали трое солдат в латах и шлемах. Окинув комнату беглым взглядом, вошедший сразу оценил обстановку.
— Так, так. Кажется, я здесь очень вовремя. Испуганный негодяй отшвырнул донью Леокадию, вскочил на ноги и положил руку на один из пистолетов.
— Что это значит? Кто вы такой, черт возьми? Вошедший подошел поближе, и от твердого взгляда его синих глаз у пирата похолодело внутри.
— Подлый самозванец!
Понял ли негодяй или нет, но ему стало ясно, что действовать нужно мгновенно. Он вскинул пистолет, на котором покоилась его рука. Но не успел он прицелиться, как шпага Блада, мелькнув внезапно, словно жало гадюки, пронзила руку пирата, и пистолет выпал из нее.
— Нужно было бы нанести тебе удар в сердце, собака, но я поклялся, да поможет мне Бог, что капитан Блад будет повешен.
Один из солдат подошел к раненому, повалил его с ворчанием и руганью, пока Блад и остальные быстро, умело разделывались с его приспешниками.
Сквозь шум этой недолгой схватки прозвучал вопль доньи Леокадии, которая, шатаясь, подошла к креслу, повалилась в него и потеряла сознание.
Дон Себастьян тоже был на грани обморока. Когда его развязали, он промямлил невнятную смесь из благодарностей за чудесное спасение и вопросов, как это удалось.
— Позаботьтесь о своей супруге,— посоветовал ему Блад,— и больше ни о чем не думайте. Сан-Хуан очищен от этих тварей. Около тридцати мерзавцев отправлено в городскую тюрьму, откуда им не вырваться, остальные в ад, откуда не вернуться тем более. Если кто и удрал, то возле шлюпок их встретит засада. Теперь нужно похоронить убитых, позаботиться о раненых, вернуть в город беженцев. Позаботьтесь о своей супруге, а все остальное предоставьте нам.
Блад ушел так же внезапно, как и появился, с ним ушли солдаты, уводя пленника.
6
Когда капитан Блад вернулся к ужину, порядок в доме был восстановлен, слуги находились на своих местах и стол был накрыт. Увидев его, еще не смывшего боевую грязь, донья Леокадия расплакалась, а дон Себастьян прижал к своей широкой груди и провозгласил спасителем города, истинно кастильским героем, достойным представителем великого адмирала Испании. Таково было и мнение всего города, оглашавшего его улицы криками: «Вива дон Педро! Да здравствует герой Сан-Хуана де Пуэрто-Рико!»
Все это было приятно, трогательно и пробудило в капитане Бладе, как впоследствии он признался Джереми Питту, мысль о нравственности служения делу закона и порядка. Умывшись и переодевшись в слишком короткую и просторную одежду, позаимствованную у дона Себастьяна, он сел за стол, проявил отменный аппетит и отдал должное испанскому вину, уцелевшему в погребе после налета.
Спал Блад спокойно, с чувством исполненного долга и в уверенности, что мнимая «Арабелла» бессильна захватить галионы. Однако на всякий случай он оставил испанцев нести дозор у орудий в пальмовой роще. Но тревоги не было, а на рассвете все увидели, что пиратский корабль скрывается на горизонте, а в порт на всех парусах входит бывшая «Мария Глориоса».
За завтраком дон Себастьян сообщил дону Педро Энкарнадо, что адмиральский корабль только что бросил якорь в бухте.
— Он очень пунктуален,— сказал дон Педро, думая о Волверстоне.
— Пунктуален? Он прибыл слишком поздно, чтобы завершить вашу славную работу потоплением этого пиратского корабля. Надеюсь, мне удастся сказать это ему.
Дон Педро нахмурился.
— Учитывая, что король к нему благоволит, это было бы неосмотрительно. Сердить маркиза не стоит. К счастью, он вряд ли сойдет на берег. Подагра замучила.
— Но я нанесу ему визит на борт корабля.
Капитан Блад непритворно посуровел. Если не отговорить дона Себастьяна от этого резонного намерения, тщательно разработанный план рухнет.
— Нет-нет. Я не стал бы этого делать,— сказал он.
— Как? Я непременно отправлюсь с визитом. Это мой долг.
— Ни в коем случае. Вы уроните свое достоинство. Вспомните о своем положении. Вы генерал-губернатор Пуэрто-Рико, чуть ли не вице-король. Не вы должны представляться адмиралам, а они вам. И маркиз де Риконете прекрасно об этом знает. Вот почему, будучи не в состоянии из-за проклятой подагры прибыть лично, он послал меня, своего заместителя. Все, что вы намерены сказать маркизу, вполне можете сказать мне.
Польщенный услышанным, дон Себастьян задумчиво провел рукой по своим нескольким подбородкам.
— Разумеется, в том, что вы говорите, есть определенная истина. Да-да. Однако же в данном случае у меня есть особый долг, который мне надлежит исполнить лично. Я должен полностью ознакомить адмирала с той героической ролью, которую вы сыграли в спасении Пуэрто-Рико и королевской сокровищницы, не говоря уж о галионах. Честь должна воздаваться по заслугам. Я обязан позаботиться, дон Педро, чтобы вы получили достойную награду.
И донья Леокадия, с содроганием вспомнив вчерашние ужасы, пресеченные отважным доном Педро, и возможные дальнейшие ужасы, предотвращенные им же, горячо поддержала намерения мужа.
— Не нужно никакой благодарности, дон Себастьян.— Дон Педро был категоричен.— Давайте больше не будем об этом. Прошу вас.— Он поднялся.— Я должен сейчас же отправиться на корабль за распоряжениями адмирала. Сообщу ему своими словами о том, что произошло здесь. И покажу виселицу, которую вы возводите на берегу для проклятого Блада. Это весьма ободрит его превосходительство
О том, как это ободрило адмирала, дон Педро поведал около полудня, когда снова сошел на берег, вновь во всем блеске испанского гранда.
— Маркиз де Риконете просит передать вам, что, поскольку Карибское море, к счастью, избавлено от бесчестного капитана Блада, миссия его превосходительства в этих водах завершена, и теперь ничто не удерживает его от срочного возвращения в Испанию. Он решил сопровождать галионы с ценным грузом через океан и просит вас приказать капитанам поднять якорь с началом прилива — сегодня в три часа.
Дон Себастьян пришел в ужас.
— И вы не сказали ему, что это невозможно? Дон Педро пожал плечами.
— С адмиралом не спорят.
— Но, дорогой мой дон Педро, больше половины обеих команд отсутствует, и на галионах нет пушек.
— Уверяю вас, я поставил об этом в известность его превосходительство. Он лишь разозлился. Сказал, что если на каждом корабле достаточно людей, чтобы управлять им, то ничего больше не требуется. Вооружения «Марии Глориосы» достаточно, чтобы защитить их. Итак, распорядитесь немедленно загрузить корабли провиантом. Его превосходительство нельзя заставлять ждать, а прилив не станет ждать даже его.
— Прекрасно понимаю,— сказал дон Себастьян с ироничной покорностью.— Я немедленно отдам распоряжения.
— Я доложу об этом его превосходительству. Он будет доволен. Ну что ж, дон Себастьян, я покидаю вас.
Они обнялись.
— Поверьте, я буду долго помнить о нашем сотрудничестве. Засвидетельствуйте мое почтение донье Леокадии.
— Неужели вы не останетесь посмотреть, как вешают капитана Блада? Казнь состоится в полдень.
— Адмирал ждет меня на борт к восьми склянкам. Я не смею держать его в ожидании.
Однако по пути в гавань капитан Блад остановился у городской тюрьмы. Дежурный офицер принял спасителя Сан-Хуана с подобающей почестью и, по его просьбе, впустил.
Пройдя через двор, где были собраны униженные, закованные в тяжелые кандалы пленники, Блад вошел в камеру, тускло освещаемую высоко расположенным окном с толстой решеткой. В этой темной, вонючей норе, сгорбясь, сидел на табурете злосчастный пират, обхватив голову руками. Когда дверь заскрипела на петлях, он поднял лицо и злобно уставился на посетителя. Капитан не узнал своего вчерашнего противника в этом элегантном сеньоре, помахивающем тростью с золотым набалдашником. Теперь на нем был черный с серебром камзол и черный парик, тщательно завитые локоны которого спадали до плеч.
— Уже пора? — проворчал пленник на скверном испанском.
Человек, так похожий на кастильского идальго, ответил ему по-английски с ирландским акцентом.
— Да не спешите вы так. Еще не поздно очистить душу, если только у вас есть душа; еще есть время покаяться в отвратительных побуждениях, приведших вас к этому самозванству. Я готов простить, что вы назвались капитаном Бладом. Это своего рода комплимент. Но я не могу простить вам содеянного в Картахене: бессмысленное убийство мужчин, изнасилование женщин, отвратительные жестокости ради жестокости, которыми вы утоляли свои злобные страсти и позорили присвоенное имя.
Негодяй усмехнулся.
— Вы говорите как ханжа-священник, присланный меня исповедовать.
— Я говорю как тот, кто я есть: как человек, чье имя вы осквернили мерзостью своей натуры. Оставлю вас подумать об этом в немногое оставшееся вам время. Капитан Блад — это я.
Он задержался еще на миг, непроницаемо глядя на обреченного самозванца, лишившегося от изумления дара речи; затем повернулся на каблуках и вернулся к ждущему испанскому офицеру.
Оттуда Блад пошел мимо воздвигнутой на берегу виселицы к поджидавшей шлюпке и был доставлен на бело-золотистый флагманский корабль.
И вышло так, что в один и тот же день самозваный капитан Блад был повешен на берегу у Сан-Хуана де Пуэрто-Рико, а настоящий отплыл к острову Тортуга на «Марии Глориосе», или «Андалузской красотке», конвоируя тяжело нагруженные галионы с ценным грузом, без пушек, без команд, не способных оказать сопротивление, когда их капитанам открылась истинная картина происходящего.
Перевел с английского Д. Вознякевич
(обратно)
Амфоры острова Левке
В это трудно поверить, но в Черном море есть неизведанный остров. В наше время его назы¬вают Змеиным. Древние греки именовали его Левке, что значит «Белый». Изучение этого неболь¬шого острова, а значит, и провер¬ку множества связанных с ним легенд, более полувека затрудня¬ло одно немаловажное обстоя¬тельство. Здесь пограничная зона СССР особого режима. И только прошлым летом археологи полу¬чили разрешение на исследова¬ние этого необитаемого клочка суши, прежде открытого только для пограничников.
Под научным руководством сотрудников Одесского археоло¬гического музея Академии наук Украинской ССР поиски истори¬ческих реликвий у берегов Змеи¬ного вели подводники из люби¬тельских клубов Одесского ин¬женерно-строительного институ¬та и Одесского политехнического института.
Перед нами поднималась из волн скалистая громада острова Змеиный. По известной легенде, богиня Фетида, мать погибшего под стенами Трои героя Ахилла, решила поселить его душу в пустынном месте. По ее просьбе бог морей Посейдон поднял со дна остров, на котором и нашла успокоение душа Ахилла. Жители соседнего древнегреческого города-колонии Ольвии построили на пустынном острове прекрасный храм, посвятив его герою Троянской войны. Они почитали Ахилла как владыку Понта Эвксинского (Черного моря).
Всякий, кто пересекал в древности Понт Эвксинский, считал своим долгом пристать к берегу Левке. Под этим названием, начиная с VIII века до нашей эры, упоминается он в сочинениях древнегреческих писателей и географов. О нем писали историк Геродот, философ Аристотель, лирик Пиндар, античный географ Арриан, римский философ и софист Максим Тирский, Филострат-младший. Несомненно, что в прошлом остров был перекрестком множества путей античного мира.
Значит, должны были остаться следы. По преданиям, в храме на острове находились статуя Ахилла и множество посвященных владыке Понта даров — драгоценных украшений, чаш, а также доспехов и плит с греческими и более поздними латинскими надписями.
...На разметку акватории Северной бухты острова ушло несколько дней. Привязанными к буям линиями мы разбили обширную поверхность на квадраты, как это делал основатель отечественной гидроархеологии академик Р. Орбели и несколько позже другой выдающийся наш историк В. Блаватский. Однако у нас не было грунтонасоса, поэтому мы решили ограничиться простым обследованием дна.
Наконец подготовительные работы закончены. Мы облачаемся в акваланги и уходим под воду. Плывем медленно, тщательно осматривая скопления мидий и каждый валун. Игорь Гонтарук по нескольку раз возвращается и снова проплывает над уже осмотренными участками. Но эта его дотошность и помогла нам обнаружить весьма интересную находку.
Нам предстояло пройти полосу обросших мидиями камней на глубине около девяти метров.
— Видимость здесь плохая, будем идти рядом, чтобы не потеряться,— сказал я.— Только не застревай надолго под камнями, ты это умеешь.
— Зато ты спешишь, как на пожар,— буркнул Игорь.
В это трудно поверить, но в Черном море есть неизведанный остров. В наше время его называют Змеиным. Древние греки именовали его Левке, что значит «Белый». Изучение этого небольшого острова, а значит, и проверку множества связанных с ним легенд, более полувека затрудняло одно немаловажное обстоятельство. Здесь пограничная зона СССР особого режима. И только прошлым летом археологи получили разрешение на исследование этого необитаемого клочка суши, прежде открытого только для пограничников.
Под научным руководством сотрудников Одесского археологического музея Академии наук Украинской ССР поиски исторических реликвий у берегов Змеиного вели подводники из любительских клубов Одесского инженерно-строительного института и Одесского политехнического института.
«Интересно, где это он видел пожар под водой»,— с иронией подумал я, уже закусив загубник и уходя на глубину. Слегка подрабатывая ластами и стараясь погружаться более вертикально, чтобы точнее выйти на место, я чувствовал, как возрастающее давление воды выгоняет пузырьки воздуха из-под костюма и они бегут по телу, исчезая где-то в ногах. Не прошло и десяти минут, как Игорь потерялся из виду. Я повернул обратно и увидел его за обычным занятием — исследованием затянутых илом камней. Я подплыл ближе и терпеливо стал ждать, улегшись на грунт рядом. Но не выдержал и, оттолкнувшись от дна, похлопал его по плечу — все-таки я был в перчатках. Он уступил мне место, отгоняя руками ил, который повис в воде зеленым облачком. Вскоре и я понял, что в этой каменной гряде действительно что-то было. Изучив предмет на ощупь, сообразил, что он имеет широкое горло и прямую ручку. Расшатав, выдернул...
Это был кувшин высотой сантиметров тридцать с двумя прямыми ручками у самого венчика, похожий на раздвоенную кость с головкой на конце. Как выяснилось позже, кувшин относился к римскому периоду и такие формы встречаются довольно редко.
Обнаружив находку, выставляем на поверхности буй. Всплываем и привязываем его к базовой линии. С помощью теодолита научный руководитель экспедиции Сергей Борисович Охотников проводит вычисления и наносит на план-карту место находки. Признаться, это довольно скучная часть нашей работы, но без нее немыслимо квалифицированное археологические исследование.
Первым научным «уловом» стали глиняные черепки амфор, их ручки, черепица. По клеймам на обломках сосудов Сергей Борисович определил их возраст. Они, по его заключению, были изготовлены в V—III веках до нашей эры.
В очередное погружение на глубине десять метров я заметил необычный предмет, покрытый белесым налетом. Чуть изогнутый, с отверстием посередине, он покоился среди валунов на плоском камне. Поднять предмет оказалось не под силу. Вдвоем с Александром Терещенко мы принялись волочить по дну тяжелую находку. Пока добрались до берега, ободрали перчатки, а на берегу силы почти оставили нас.
Весомый, в прямом смысле этого слова, улов оказался свинцовым штоком античного якоря. Позже, обнаруживая под водой тяжелые предметы, мы приспособились передвигать их с помощью полиэтиленового мешка. Под водой вталкивали в него находку, наполняли воздухом и буксировали облегченный таким образом груз с помощью лодки уже по поверхности. Этот способ опробовали через несколько часов после находки свинцового штока. Всего в одиннадцати метрах от него Саша Терещенко обнаружил второй свинцовый якорь. Он отличался от первого и казался склепанным из двух пластин. Приглядевшись, мы убедились, что якорь цельный, просто посередине его шел желоб. Даже нам было ясно, что эта находка старше первой не на одну тысячу лет. Свинец был ломким, к нему так плотно прилипли мелкие камушки, что якорь казался слепленным из песка. Сергей Борисович не скрывал радости. Он датировал второй якорь VI веком до нашей эры, то есть относил его к еще доклассическому периоду истории Древней Греции.
В штормовую погоду, чтобы не терять даром времени, мы переходили в другие бухты. За месяц пребывания на Змеином мы обследовали все побережье скалистого острова: Северную бухту, Восточную, которую кто-то давно окрестил Дамским пляжем, Южную — Золотой пляж — и, наконец, Западный берег, называемый неизвестно почему Бандитским пляжем. И всюду, где мы работали, следовали находки — доказательства активной жизни на острове более двух тысяч лет назад.
Особое любопытство вызвала у всех серповидная каменная гряда, которая уходила метров на двести в море от Дамского пляжа. Глубина здесь от восьми до двадцати метров. Но если учитывать, что в античное время поверхность моря была на пять-восемь метров ниже современного уровня, то можно согласиться с гипотезой об искусственном происхождении этой странной косы. Возможно, гряда была насыпана в древности для защиты бухты от волн. При беглом осмотре подтверждения этой версии мы не нашли, но, думается, гипотезу отбрасывать рано. Следует тщательно проверить ее в следующих экспедициях. А на этот раз все наше внимание — акватории. Ведь чем больше мы найдем под водой скоплений керамики, корабельной оснастки, тем легче будет определить береговую линию острова в давние эпохи и выявить места стоянки античных кораблей...
На каменной гряде Дамского пляжа наше внимание привлек свинцовый брусок длиной около восьмидесяти сантиметров. Его мы заметили в камнях на глубине девять с половиной метров, когда передвигались на буйрепе вокруг центральной точки. Подобный метод подводного поиска применяется в условиях плохой видимости. До глубины десять метров вода практически непрозрачна из-за взвеси водорослей и останков микроорганизмов. Глубже десяти метров видимость гораздо лучше из-за резкого перепада температуры воды. Здесь она восемь-десять градусов, а значит, и плотность воды в этом слое другая, водоросли сюда не опускаются. Но много на такой глубине не поплаваешь — холод дает себя знать. Так вот, наш свинцовый брусок был обнаружен почти на самой границе «температурного скачка». Окажись он чуть ниже — мы проплыли бы мимо находки, назначение которой не смог объяснить даже Охотников. И это, конечно, не единственная загадка античного Левке.
Известно, что в прошлом веке на Змеином был русский карантинный пост. Служившие здесь морские чиновники «в свободное от работы время» занимались раскопками — искали драгоценности храма Ахилла. Кладоискателей не интересовали обломки краснофигурной и лаковой керамики. Все это они отбрасывали в сторону и перелопачивали культурный слой, который мог дать много ценной информации современному археологу. Но, так или иначе, на острове мы нашли множество черепков и ручек от кувшинов и амфор с клеймами гончарных мастерских со всего Средиземноморья. Коммерция в те далекие времена процветала, и положение острова Левке на торговых путях было весьма важным. Разглядывая керамические обломки, я увидел на ручке от амфоры углубление, сделанное пальцем. Вероятно, это след руки неопытного подручного гончара, который прикреплял ручку к стенке сосуда. Что ж, отпечаток тысячелетий...
Западный берег острова неприступной тридцатиметровой стеной обрывается в море. О него разбиваются постоянно бушующие здесь волны. Оставив акваланги на берегу, Саша Терещенко и я решили пройти к Бандитскому пляжу. Глубина под обрывистым берегом была не больше пяти метров. Неспешно проплывая здесь, мы видели подводные гроты, освещаемые откуда-то сверху лучами солнца. Мы ныряли в расщелины, колодцы с сифонами, заглядывали в маленькие пещерки и ниши, которые выбило в стекловидной тверди неутомимое море. Как тут не вспомнить неизвестно когда родившуюся легенду о том, что жрецы храма Ахилла при набеге на остров прятали сокровища в тайный грот, куда вел ход из-под воды. К сожалению, все ходы, в которые нам удалось проникнуть, заканчивались тупиками. Геологи и спелеологи, побывавшие на Змеином раньше нас, убеждены: массив острова состоит не из осадочных пород, а из вулканического кварцита, и в нем нет естественных пещер. А что, если древние все-таки успели прорубить в скалах тайные гроты?
...Издалека Левке действительно кажется белым. То ли из-за отблеска солнца, то ли от белесых скал. Или от морского тумана, скрывающего очертания острова? А может быть, он белый от миллионов живущих здесь чаек. По преданию, чайки каждое утро, омочив свои крылья в море, окропляли и обметали крыльями пол храма Ахилла.
Юрий Мурзин, член гидроархеологической экспедиции
Фото автора
Одесса — о. Змеиный
(обратно)
Альфред Муней — англичанин
 Окончание. Начало см. в № 9/90—10/90.
София, 1939—1944
Окончание. Начало см. в № 9/90—10/90.
София, 1939—1944
После месяца, проведенного со Славкой в деревне вдали от столичной суеты, Побережник вернулся в Софию. В ту же ночь связался с Центром, получил разрешение возобновить работу. Причем разведчику запретили показываться в офицерском кафе и вообще рекомендовали по возможности меньше бывать на улицах. В шифровке также говорилось, что в случае осложнений следует действовать по варианту «игрек», а при чрезвычайной ситуации вступает в силу вариант «Но пасаран»...
Жизнь текла своим чередом, злополучный Димо больше не появлялся, так что причин для тревоги не было.
В то воскресенье Побережник отправился на кладбище положить цветы на могилу родственницы жены. Сама Славка приболела, а ее мать написала из Русе, что из-за дел не сможет приехать на годовщину смерти сестры.
На обратном пути, когда он находился около пивной «Здраве», сзади послышался шум машины. Разведчик не мог объяснить, почему у него вдруг возникло чувство приближающейся опасности. Он хотел было юркнуть в пивную, но оттуда вышли трое парней. Продолжая что-то оживленно обсуждать, они остановились на некотором расстоянии от Побережника, загораживая тротуар.
Не раз и не два пытался он представить свой арест, но никогда не предполагал, что все произойдет настолько буднично и просто. Сзади кто-то легонько тронул его за плечо. В этом прикосновении не было ничего враждебного, но Побережника словно током ударило. Он с трудом удержался, чтобы не сбить противника с ног и не броситься бежать.
— В чем дело? — обернулся Побережник к двум хорошо одетым мужчинам, совсем не похожим на полицейских.
— Прошу вас проехать с нами,— негромко сказал один, отворачивая лацкан и показывая значок с четкой надписью «Дирекция полиции».
— Но позвольте, это какая-то ошибка. Я — Александр Муней, вот мой паспорт. Учтите, мой тесть — председатель митрополийского суда Тодор Панджаров, его хорошо знает сам царь...— попытался протестовать Побережник.
— Не волнуйтесь, разберемся. А сейчас не мешайте прохожим,— заявил полицейский, хотя, кроме уставившейся на них троицы у пивной, на улице никого не было.
Сильные руки с двух сторон взяли его за локти и мгновенно втолкнули в распахнувшуюся дверцу подъехавшего «форда». «Такой же был у меня в Испании»,— машинально отметил Побережник.
Еще на родине разведчик заранее продумал свое поведение в случае ареста, чтобы не заниматься импровизацией. К тому же Центр недавно специально напомнил, что в этой ситуации нужно придерживаться варианта «игрек», то есть отрицать какую-либо причастность к разведке, тем более советской.
Агенты привезли его в Дирекцию полиции безопасности на улице Марии-Луизы, отвели к какому-то чину, причем, судя по отдельному кабинету, чину немалому. Это был средних лет мужчина. Как узнал Побережник позднее — старший следователь Коста Георгиев. Лицо бесстрастное, усики под Гитлера, косматые брови. Он указал на стоявший напротив него стул, предложил кофе, сигареты. Побережник отказался. Продолжал возмущаться незаконным арестом.
— Откуда вы взяли, что вас арестовали, господин Муней? — усмехнулся следователь.— Просто задержали, чтобы выяснить кое-какие мелочи: на кого вы работаете, где спрятана рация, что передавали и от кого получали сведения. Только и всего.
Побережник, конечно, заявил, что не понимает, о чем говорит следователь.
— По происхождению я англичанин. Принял болгарское подданство, женился на внучке...
— Не тратьте зря слов, господин Муней, это мы знаем и без вас. Нас интересует другое — ваша шпионская работа...
Так продолжалось часа два: требование признания и полное отрицание всего. Наконец полицейский не выдержал. С перекосившимся от злобы лицом перегнулся через стол и по-боксерски без замаха сильно ударил задержанного в подбородок:
— Вот из-за таких, как ты, гибнут тысячи людей!
Разведчик вскочил, закричал:
— Вы не имеете права бить меня! Я буду жаловаться царю!
— Хоть самому господу богу! Только он тебе не поможет. Подумай до утра, потом продолжим нашу беседу...
Утром в кабинете следователя его ожидал неприятный сюрприз — очная ставка с Димо. На ней присутствовал начальник полиции безопасности Козаров. Разведчик же решил придерживаться прежней тактики. Когда Димо заявил, что передавал через англичанина разведывательную информацию для русских, Побережник отрицал это.
Начальник полиции был явно разочарован, так как, видимо, возлагал на очную ставку большие надежды. Держать под арестом зятя весьма влиятельного священника Панджарова значило идти на риск, тем более если тот действительно окажется невиновным. Поэтому прямо при Мунее Козаров приказал произвести повторный тщательный обыск на улице Кавала. «Проверьте в лупу каждую половицу! — раздраженно потребовал он от следователя.— Потребуется — разберите дом по кирпичику...»
Теперь Побережнику стало ясно, что послужило причиной ареста. Он сам никаких ошибок не совершил. Поскольку ни его настоящего имени, ни адреса провокатор не знал, полиция, скорее всего, нашла Мунея по словесному портрету, установила за ним наблюдение. Однако, убедившись, что никто из многочисленных знакомых англичанина не является его агентом, а следовательно, он — не резидент, стоящий во главе разведывательной сети, решили все же взять Мунея, даже не имея прямых доказательств, что зять Панджарова связан с русскими. Со стороны контрразведчиков это был вынужденный шаг, продиктованный большой, по их мнению, опасностью, которую представлял этот шпион-одиночка.
Через три дня, когда Побережника привели в знакомый кабинет, по сияющему виду следователя он сразу догадался, что случилось худшее.
— Вот видишь, мистер Муней, как мы умеем работать,— торжествующе сказал Георгиев, поднимая прикрывавшую стол газету: под ней лежал передатчик.— Если тебе дорога жизнь, советую прекратить бессмысленное запирательство...
Отрицать очевидное действительно не имело смысла. Оставалось одно — молчать.
В конце концов, терпение у следователя лопнуло. «Не хочешь по-хорошему, заставим по-плохому»,— пообещал он, нажимая кнопку звонка.
В кабинет ввалились два дюжих молодца. Ни о чем не спрашивая Георгиева, они подошли к арестованному, каждый наступил ему на ногу, и принялись избивать. Разведчик не издал ни единого стона. В паузах, когда следователь задавал вопросы, по-прежнему упорно молчал.
Совершенно обессиленного Побережника приволокли в камеру и швырнули на пол. Он долго лежал неподвижно, ожидая, пока немного утихнет боль. Бетон приятно холодил разбитое, опухшее лицо. «Славка пришла бы в ужас, если бы увидела сейчас своего Сашу,— почему-то подумалось ему.— Бедная Славка, она теперь осталась одна...»
Делом советского разведчика заинтересовались гестапо, СД и доктор Делиус, личный представитель начальника абвера адмирала Канариса. Они потребовали передать англичанина им, гарантируя «положительный результат», однако болгарские контрразведчики не соглашались.
Впоследствии Побережник узнал, что фактически его спасли родственники Славки, в первую очередь ее дед, использовавший свои связи. А ее матери, Петранке Петровой, даже удалось добиться свидания, во время которого она рассказала, что ее и Славку тоже арестовали, подозревая в «содействии государственному преступнику». Но быстро выпустили за отсутствием улик, установив, что они знают Альфреда Мунея только как приехавшего из Америки туриста, англичанина по национальности, и не имеют никакого понятия о его секретах. Их показания свелись к тому, что их родственник умел чинить часы, мог работать электромонтером, а одно время даже был совладельцем мелкого транспортного предприятия. Под конец свидания Петранка шепнула: «Дед Тодор благодарит тебя за то, что помогал русским братушкам».
Изредка в камеру наведывались тюремщики, но били скорее по привычке. Неожиданно их визиты и допросы прекратились. Об арестованном словно забыли. Началась мучительная, пытка неизвестностью.
...Однажды в Испании, сбившись с дороги, они чудом проскочили по захваченному франкистами мосту. Тогда Пабло Фриц сказал: «Хуже смерти лишь плен. Если у тебя остался последний патрон, считай, что святая Мария сделала подарок. А если она отвернулась, сумей умереть достойно, по-солдатски, стиснув зубы и не проронив ни звука».
Фриц прав. Но разведчик не просто солдат, а смерть для него далеко не всегда единственный достойный выход.
И Центр в крайнем случае рекомендовал использовать вариант «Но пасаран» — так условно назвал перевербовку наставник.
Именно для того, чтобы убедительно сыграть будущую труднейшую роль, он упорно молчал. Согласие работать под контролем у него должны вымучить. Вот тогда ему поверят. Главное при этом было точно выбрать момент, когда должен «сломаться» англичанин Александр — Альфред Джозеф Муней.
По тому, что вдруг стали лучше кормить, дали второе одеяло, разведчик догадался: приближается развязка. Наконец после долгого перерыва его вновь повели на допрос.
В кабинете, кроме следователя Георгиева, находился и начальник полиции Козаров. Оба держались подчеркнуто вежливо, даже любезно. Как и в самый первый раз, ему предложили кофе, сигареты.
— Кофе — с удовольствием,— делая вид, что принимает их показную любезность за чистую монету, согласился Побережник.— От сигарет увольте, берегу здоровье.
— Напрасно. Выкурить хорошую сигарету большое удовольствие. А о здоровье не беспокойтесь, оно вам не понадобится. Завтра вас расстреляют,— меланхолично заметил Козаров.
— Как... это? — изображая растерянность, едва выдавил из себя Побережник.
— Очень просто: на стрельбище в Лозенце.
Контрразведчики могли праздновать победу. Психологический шок подействовал куда сильнее физических пыток. Арестованный чуть не сполз со стула. Хваленое английское хладнокровие изменило ему.
Вдоволь насладившись зрелищем поверженного врага, Козаров бросил утопающему спасательный круг:
— Впрочем, для вас еще не все потеряно, если проявите благоразумие и немного поработаете на нас. Согласны? — ни в коем случае нельзя дать арестованному опомниться.
— Да...— прошептал англичанин.
В тот же вечер из тюремной камеры Муней передал радиограмму, в которой сообщал, что лежал в больнице с воспалением легких, но сейчас выписался, чувствует себя лучше и готов приступить к работе. Когда Побережник зашифровывал ее, он поразился примитивности составленного контрразведчиками текста. В Центре сразу сообразят: воспаление легких не такая уж внезапная и тяжелая болезнь, чтобы разведчик не смог предупредить о перерыве в связи. Ведь для экстренных случаев предусмотрено специальное расписание. Кроме всего прочего, в текст было включено предупреждение о том, что в среду на следующей неделе «Волга» передаст очень важную информацию. Это вообще не укладывалось ни в какие правила. Для верности Побережник в конце сообщения поставил точку — условный знак работы под контролем.
После небольшой паузы «Кама» коротко ответила: «Вас поняли. Надеемся на скорое выздоровление. Ждем сообщений».
Вариант «Но пасаран» заработал.
Присутствовавшие при сеансе связи начальник полиции Козаров и неизвестный Побережнику полковник в жандармской форме остались очень довольны. Шутка ли сказать, иметь такой козырь перед немецкими «друзьями» из абвера и гестапо, как работающая под их диктовку советская агентурная радиостанция!
Во время второго выхода на связь Муней сообщил о намерении немцев вернуть значительную часть своих кораблей для усиления обороны дунайского побережья Австрии и Венгрии. Чтобы у Центра не оставалось сомнения, что это дезинформация, разведчик, как и в прошлый раз, не стал менять кварцы в ходе передачи, а в конце опять поставил точку. Наблюдавшие за ним радисты были уверены, что Муней полностью «раскололся»: по его признанию, сигналом тревоги являлось отсутствие даты в телеграмме.
Увы, проверить эти слова разведчика оказалось невозможно, поскольку немецкая и болгарская службы радиоперехвата располагали лишь обрывками прошлых сообщений «Волги». Сколько ни бились с ними немецкие криптографы, они не смогли прочесть ни слова: шифр был слишком стойкий. Англичанин использовал роман Киплинга «Свет погас», наугад выбирая страницы и каждый раз меняя способ наложения гаммы. Естественно, никаких пометок в книге Побережник не делал, а запомнить детали каждой шифровки было выше человеческих сил.
О судьбе «Волги» Центру стало ясно еще во время первого сеанса связи. Было принято решение помочь оказавшемуся в трудном положении разведчику. В очередном сообщении «Кама» специально «от имени командования» передала благодарность за важную информацию, касающуюся оперативных планов германских ВМС на Черном море, и просила впредь такие сведения направлять вне всякой очереди. Эти два слова «от имени командования» сказали Побережнику, что радиоигра началась.
Об успехе контрразведки было доложено и генштабу, поспешившему подключиться к столь многообещающей в плане наград радиоигре с русскими. Мунея перевели на конспиративную квартиру — в маленький двухкомнатный домик в Коньовице, обнесенный глухим забором. В первой комнате поселились четыре охранника, один из которых круглосуточно дежурил во дворе. Во второй, с забранными решетками окнами, жил англичанин. Днем его выводили подышать воздухом в крошечный садик с несколькими чахлыми деревьями, почти не дававшими тени. Когда предстоял выход в эфир, являлся радист-шифровальщик, доставал из железного ящика передатчик, а потом сидел рядом, пока Побережник работал на ключе. Донесения «Волги» и расшифрованные телеграммы «Камы» он каждый раз забирал с собой.
Радиообмен был настолько интенсивный, что, как прикинул Побережник, для составления дезинформации в генштабе наверняка пришлось оторвать от дел не одного, а целую группу офицеров. Впрочем, не осталась в стороне и контрразведка. По ее заданию «Волга» попросила Центр организовать присылку подводной лодки к определенному участку побережья в районе Варны, чтобы взять на борт бежавшего из тюрьмы человека, чей псевдоним «Диран».
«Кама» ответила согласием, был обусловлен день и час встречи в море неподалеку от берега. Но в назначенное время подводная лодка не пришла. Не было ее и на следующий день. Затем из Центра сообщили: помешала слишком яркая луна. Придраться контрразведчикам было не к чему. Вторая ночь действительно выдалась лунной. Не могли они возразить и против решения Центра вообще отменить операцию, поскольку подлодке было опасно слишком долго находиться поблизости от побережья.
Однако вновь назначенный глава дирекции полиции Сава Куцаров полагал, что подконтрольная «Волга» все же должна помочь ему снискать славу непревзойденного охотника за шпионами в глазах премьера Муравиева.
На сей раз переданная разведчиком в понедельник просьба была скромна: положить сто тысяч левов в лунку под правой задней ножкой крайней скамейки на бульваре Драгомирова. Деньги нужны для подкупа тюремной охраны в Варне. После неудавшейся встречи полиция выследила и опять схватила Дирана. Время не терпит, так как в ближайшие дни арестованного могут перевести в Софию, и освободить его будет гораздо труднее.
В четверг ночью Куцарову доложили, что от русских получен ответ: за деньгами нужно прийти в пять часов утра в пятницу.
Побережник был уверен, что в Центре найдут способ выйти из положения и одновременно не скомпрометировать радиоигру.
Вечером, как всегда, за два часа до эфира пришел новый радист. Когда он начал проверять и настраивать передатчик, Побережник мимоходом спросил, где его постоянный контролер Георгий, уж не заболел ли? Тот молча сложил из пальцев решетку. Остальное рассказала предназначенная для отправки телеграмма: «В лунке нашел пустой конверт. Деньги, видимо, украдены. Прошу повторить закладку тайника с подстраховкой, заранее сообщив время». Она объяснила исчезновение Георгия. Когда контрразведчики обнаружили, что вытянули пустышку, то задали себе вопрос: кто знал о деньгах? Только радист, очевидно, соблазнившийся большой суммой и через сообщников организовавший дерзкое похищение.
С тех пор, как разведчик оказался в этой маленькой тюрьме на окраине Софии, он, пожалуй, впервые с таким удовольствием работал на ключе. Больше всего радовало сознание, что он не один, рядом продолжают действовать его товарищи. Бульвар вне всякого сомнения находился под наблюдением тайных агентов. И все-таки наши ухитрились обвести их вокруг пальца.
Ответное сообщение «Камы» напомнило Побережнику ловкий ход в запутанной шахматной партии: «О решении сообщим через два дня». Интересно, как долго продлится она и каков будет исход?
Об этом же гадали в Дирекции полиции, обосновавшейся в бывшем Народном доме по улице Марии-Луизы. Не случайно в тот вечер, когда от «Камы» должен был прийти ответ, на конспиративную квартиру явился знакомый разведчику жандармский полковник в сопровождении какого-то генерала. Ровно в полночь Побережник отстучал свой позывной, перешел на прием. И тут же понеслись скорострельные очереди точек и тире. Вместе с радистом они записывали их. Телеграмма оказалась длинной. Наконец, после традиционного пожелания успеха «Кама» умолкла.
Муней взял
толстый том романа «Свет погас», нашел нужную страницу и не спеша начал превращать в буквы колонки цифр. Рядом, проверяя его, сопел радист. За спиной нервно переминались с ноги на ногу офицеры. Но вот сообщение Центра аккуратно выписано на специальном бланке, который англичанин вручил полковнику: «На бульваре Драгомирова сегодня заложены еще сто тысяч левов. Тайник надежно обеспечивается постоянным наблюдением. Пакет следует взять немедленно. Освобождение Дирана считаем целесообразным провести в Софии. Деньги передайте полковнику Петру Жекову. Он согласен организовать побег арестованного при доставке из тюрьмы на допрос в следственное отделение. Для встречи с Жековым на ваше имя в кассе кинотеатра «Модерн» оставлен билет рядом с ним в 10-м ряду на последний сеанс в среду. Выемку денег и передачу по назначению подтвердите».
Оба офицера буквально впились глазами в текст телеграммы. Побережник с удивлением увидел, как вдруг побагровело лицо полковника. Генерал, напротив, побледнел. «Сдайте оружие»,— властно приказал он, как только чтение закончилось.
Трясущимися руками полковник расстегнул кобуру и протянул пистолет генералу. Тот спрятал оружие в карман, затем бросился в соседнюю комнату охраны. Через распахнутую дверь было слышно, как он по телефону приказал срочно выслать дежурный наряд на бульвар Драгомирова.
После того, как офицеры поспешно ушли, растерянный радист забрал злополучную шифровку и покинул конспиративную квартиру. Больше разведчик его не видел.
Присланный на замену третий по счету радист-шифровальщик Петко, в отличие от остальных, оказался веселым словоохотливым парнем, к тому же большим любителем выпить. До начала сеанса он обычно ограничивался рюмочкой-другой мастики. Зато потом, когда связь была окончена, Петко все внимание переключал на бутылку, предоставив Мунею заниматься нудной расшифровкой.
В припадке откровенности он и выболтал разведчику, чем закончилась история со злополучной телеграммой. Ведь Муней, доложивший в Центр, что задание выполнено, не знал главного. Когда начальство примчалось на бульвар Драгомирова, в тайнике действительно лежали деньги. Тогда генерал вернул пистолет Жекову и сказал: «Надеюсь, утром мне доложат, что вас уже нет». На следующий день полковника нашли застрелившимся у себя в квартире. При обыске в кармане одного из его штатских костюмов обнаружился и билет в кинотеатр «Модерн».
...В начале августа радист исчез. Вместо него никто больше не приходил, поэтому «Волга» молчала. Между тем из разговоров встревоженных охранников Побережник узнавал радостные новости: Красная Армия все ближе подходила к границам Болгарии.
Побережнику повезло. Когда в ночь с 8 на 9 сентября в столице произошло народное восстание, полиция разбежалась. Скрылись и охранники с конспиративной квартиры.
Черновцы, 1989
— Так они, видно, спешили, что даже входную дверь за собой не заперли,— вспоминает Семен Яковлевич.— Я очутился на свободе. Но поскольку обстановка оставалась тревожной, решил временно опять уйти в подполье. Благополучно выбрался из города и отправился к Василу, второму дяде Славки, который жил в селе Дервеница. Там я узнал долгожданную весть: Красная Армия под командованием маршала Толбухина идет к Софии.
Конечно, для подстраховки следовало бы на время затаиться. Но ведь я — разведчик. Поэтому был обязан как можно быстрее связаться с Центром, доложить о себе...
На третий день я все же рискнул выбраться в Софию. Побродил по улицам и на площади возле храма Александра Невского заметил советского офицера. Остановился рядом, сделав вид, что любуюсь храмом. Даже несколько раз перекрестился. Потом, не поворачивая головы, тихо сказал, что хочу поговорить с ним. Вообще-то я поступил опрометчиво: офицер мог начать расспрашивать, что и как, и «засветить» меня, а фашистская агентура в те дни еще действовала в городе. Но он среагировал четко, повернулся ко мне спиной и так же тихо спрашивает: «С какой целью?» Отвечаю, что мне нужно связаться с командованием. «Хорошо, приходите сюда через два часа». С этим и разошлись.
Офицер явился точно, минута в минуту. Но вот сообщение принес отнюдь не радостное: «Советских войск в Софии нет. Ждите».
Пришлось Побережнику опять укрыться в деревне, а через три дня повторить вылазку. На этот раз она оказалась успешной. Встретил армейский патруль и узнал, где стоит ближайшая воинская часть. Отправился туда, пробился к командиру, подполковнику, доложил, что он советский разведчик, ищет связь с Центром. Тут же был вызван оперуполномоченный СМЕРШа, ему приказали помочь разведчику, а пока суд да дело, разрешили остаться в части.
Дни идут, война продолжается, а Побережник живет как на курорте, бьет баклуши. Стал теребить опера из СМЕРШа, но он только руками разводит: нет, мол, указаний от ваших хозяев. Почти два месяца тянулась эта неизвестность. Наконец вызывает командир части. В кабинете у него сидят оперуполномоченный и какой-то флотский лейтенант. Подполковник улыбается: «Ну вот, Семен Яковлевич, кончились ваши переживания. Поедете на родину. За вами прибыли»,— показывает на лейтенанта.
— Я как-то смотрел один послевоенный фильм, где пели радостную песенку: «...путь обратный, путь в Россию, через села, города...» Вот и у меня так же получилось,— продолжает свой рассказ Побережник.— Лейтенант прибыл не один, а с двумя матросами на машине. Я уже знал, что жена Славка после моего ареста вернулась в Русе к своему дяде Ивану Беличеву, и попросил лейтенанта заехать туда.
Через несколько часов я постучал в знакомую дверь. Открыла Славка. С тех пор, как мы виделись в последний раз, она осунулась, похудела. Ни слова не говоря, бросилась мне на шею, разрыдалась. Потом, когда немного успокоилась, засыпала вопросами. Дядя и ее дед Тодор Панджаров тоже никак не могли поверить, что мне удалось спастись. В общем для всех мой приезд стал настоящим праздником. Накрыли общий стол. Рядом с мусакой и кувшинами вина на нем были и солдатские припасы из вещевых мешков.
Первый тост как старший среди нас поднял дед Панджаров:
— Владыко мой праведный! Видишь и знаешь ты, как я всегда любил Россию и ее сыновей. Если бы не она, до сих пор страдали бы мы, рабы твои, в ярме. Спасибо вам, русские братья...— поклонился старик в пояс морякам и каждого перекрестил.
Утром, когда я прощался с женой и ее родными, они не могли сдержать слез. Словно чувствовали, что больше увидеться нам не придется...
Потом мы добрались до румынского порта Констанца, где нас ждал катер. Когда вышли в море, я вдруг почувствовал, как соскучился по всему этому за долгие годы. В кубрик спускаться не стал, так и простоял на мостике до самого Севастополя.
...Всякое в жизни бывает: и радости, и беды, и страх. «Как у любого нормального человека,— говорит Семен Яковлевич.— Это только Штирлиц в кино ничего не боится». Случалось, подступало и отчаяние. Но Семен Побережник всегда думал о том, как вернется на Родину. Теперь это сбылось. Да к тому же так удачно, нарочно не придумаешь — в самый канун седьмого ноября.
В Севастопольском порту прямо к причалу, где пришвартовался катер, подкатил закрытый «додж». Подобная сверхконспирация слегка удивила Побережника, но он не придал ей значения. Его привезли в управление СМЕРШ на Морском бульваре и под конвоем отвели в одиночную камеру. Такую же сырую и темную, как в Софии, и тоже в подвале.
В том, что разведчика после длительной загранкомандировки на первое время поместили «в карантин», не было ничего необычного. Предстояло написать отчет, пройти проверку. Немного смутило другое: сделано это было в какой-то непонятной спешке. В управлении СМЕРШ никто не сказал ему и двух слов. Не иначе, виновата предпраздничная суматоха, утешил себя Побережник. Поэтому и не стал требовать встречи с начальством, рассудив, что ему сейчас не до него. После праздника разберутся и уж тогда, извинившись, наверняка дадут возможность пусть скромно — война! — отметить возвращение домой, на родную землю. Ведь не каждый же день им приходится встречать разведчиков-нелегалов, целую пятилетку проработавших, как пишут в книгах, «в стане врага».
Предположение относительно праздников оказалось правильным. Утром девятого ноября конвоир отвел Побережника в кабинет кого-то из начальства, где ему... предъявили постановление об аресте.
Началось следствие. Нет, к нему не применяли «мер физического воздействия», как к другим, потому что знали: бесполезно, у этого человека железная воля. В софийском застенке его так истязали, что за неделю он поседел, сломали ребра, но ничего не добились. Вместо этого следователи — сначала некий Ильин, а затем молоденький лейтенант Петр Хлебников — избрали тактику ночных допросов. Вызывали обычно вскоре после отбоя и отправляли обратно в камеру за час-полтора до подъема. Днем надзиратели строго следили, чтобы подследственный не спал. Такой режим, а по сути дела, утонченная пытка, ломал человека почище самых жестоких побоев. Побережника выручало умение полностью выключаться, спать стоя, с полуприкрытыми глазами, чтобы наблюдавший через волчок надзиратель не мог придраться и отправить в карцер.
Никаким компроматом СМЕРШ не располагал, если не считать рассказанного самим разведчиком о радиоигре. Увы, по тем временам этого оказалось более чем достаточно. «Нам все известно!» — и кричал, и уговаривал следователь, добиваясь признания в том, что Побережник — немецкий шпион. «Ложь»,— категорически отрицал он. «Тогда почему тебя не расстреляли?» — приводил Хлебников «неопровержимый», как ему казалось, аргумент. Напрасно требовал разведчик, чтобы местное управление СМЕРШ запросило Центр. Война близилась к завершению, и никто не собирался беспокоить Москву из-за «мелкого» дела.
Несколько раз оно передавалось в прокуратуру и особое совещание, но неизменно возвращалось обратно на доследование «ввиду невозможности вынести решение за недостатком материала», как указывалось в отказной сопроводиловке. Однако, сколько ни бились следователи, «признательных показаний» от арестованного получить не удавалось. Он продолжал стоять на своем: делал только то, на что имелась санкция Центра.
— Почти год я просидел в одиночке.— Семен Яковлевич усмехнулся.— Поэтому, когда осенью сорок пятого перевели в общую камеру в тюрьму, для меня это стало праздником. Месяца через два вызвал сам начальник тюрьмы. Честно признаюсь, сердце у меня екнуло: «Все, выпускают!» Да и он начал разговор весьма обнадеживающе :
— Ну вот, пришло решение по вашему делу. Как думаете, какое?
— Ясно: освободить.
— Ошибаетесь. Десять лет исправительно-трудовых лагерей и два года спецпоселения. Распишитесь,— протягивает мне какой-то бланк.
Я отказался:
— Подписывать не буду. Я ни в чем не виноват.
Никогда не забуду его ухмылку:
— Я не прошу расписываться в своей виновности, а только в том, что ознакомлены с решением особого совещания. Считать себя невиновным — ваше личное дело.
Десять лет, от звонка до звонка, провел Побережник за колючей проволокой: в Тайшете начинал прокладывать БАМ, строил нефтеперегонный завод под Омском. От непосильной работы, лишений и голода ежедневно умирали десятки людей, но он выжил, хотя, как это получилось, и сам не знает. «Наверное, помогла болгарская тюремная закалка»,— невесело шутит Семен Яковлевич.
Два года ссылки отбывал в спецкомендатуре в Караганде, работал на шахте. Там познакомился со своей нынешней женой. Наконец в 1957 году Побережнику разрешили вернуться в родные Клишковцы. Неприветливо встретили односельчане своего земляка, невесть где пропадавшего столько лет да к тому же отсидевшего в тюрьме. Даже мать и младший брат — отец к тому времени уже умер — не пустили его к себе в хату. Но жить как-то нужно. Вот и пришлось с женой и маленьким сыном снимать угол у чужих людей.
Пошел Семен Яковлевич к председателю колхоза проситься на работу. Сказал, что он первоклассный шофер, профессия по тому времени в деревне дефицитная. В ответ услышал откровенно враждебное: «Завод еще не собрал ту машину, на которой будет работать Побережник». Его послали подсобником в садоводческую бригаду.
Может быть, так и остался бы Побережник безвестным героем, если бы не случай. Приятель убедил его попытаться разыскать того советника, с которым судьба свела волонтера Семена Чебана в Испании. Он обратился в газету «Правда», откуда сообщили, что Пабло Фриц — это Павел Иванович Батов — ныне генерал армии, дважды Герой Советского Союза, и дали его адрес в городе Риге.
Так вот кого я возил по фронтовым дорогам Испании! Жив, жив мой дорогой Фриц! От радости чуть было не прослезился,— рассказывает Семен Яковлевич.— Поколебавшись, в тот же вечер написал в Ригу письмо. Коротко напомнил о себе, в двух словах изложил свою историю после Испании, сообщил свой адрес. Попросил, если не затруднит, ответить.
И ответ пришел. Командующий Прибалтийским военным округом П.И. Батов извинялся за задержку с ответом — выезжал в войска,— приглашал в гости и даже выслал деньги на дорогу.
Можно представить, с каким волнением ожидал этой встречи с боевым товарищем Семен Яковлевич. Он не может скрыть его и сейчас, когда вспоминает о ней:
— Не успел я снять полушубок и вытереть с мокрых валенок грязь, как в дверях появился в полной генеральской форме военный. С трудом узнал в нем испанского Пабло. Прямо в передней мы бросились в объятия друг другу. Троекратно расцеловались. И тут к горлу у меня что-то подступило, сдавило, как клещами,— ни откашляться, ни проглотить. По моему лицу потекли слезы.
— Ну что ты, Семен! Успокойся, друг, не нужно! — говорит Батов, а я никак не могу взять себя в руки. Внутри словно что-то порвалось.
Павел Иванович обнял за плечи, провел в гостиную, усадил на диван. Еще и еще раз посмотрел в мое лицо, на седину, покачал головой и с грустью говорит:
— Да, не пожалела тебя жизнь... Рассказывай обо всем без утайки...
О многом переговорили боевые друзья за месяц, что гостил Семен Яковлевич в Риге. Узнав о его судьбе, Батов как депутат Верховного Совета СССР обещал помочь восстановить справедливость.
Вот тогда и появилась возможность встретиться в Клишковцах с Семеном Яковлевичем, о котором затем я написал очерк «На семи холмах». Гранки очерка я передал генералу армии П.И. Батову, который вернул их с таким отзывом:
«Я с большим удовольствием прочел гранки «На семи холмах»... о человеческой судьбе замечательного бойца-интернационалиста Семена Яковлевича Побережника... Я до конца дней буду гордиться, что моя скромная помощь сыграла какую-то роль в судьбе этого воина-разведчика».
Но очерк тогда так и не был опубликован. У «компетентных органов» было особое мнение: «Опубликование очерка «На семи холмах» считаем нежелательным».
Потом я еще дважды обращался туда, но в разрешении на публикацию каждый раз получал отказ. И только двадцать лет спустя, когда стало возможно рассказать о «заключительных главах» жизненной эпопеи разведчика Семена Побережника, появилась на свет эта рукопись.
Минул год. Побережник уже начал свыкаться с мыслью, что так и не удастся добиться реабилитации, поскольку его заявления оставались без всякого ответа. Но однажды Семена Яковлевича вызвали к начальнику милиции в райцентр Хотин.
— Я терялся в догадках: зачем? Никаких правонарушений вроде бы не допускал... Захожу в кабинет начальника, и тот с порога огорошил меня вопросом: «Читать, писать умеете?»
— Да,— отвечаю, а сам прикидываю, зачем это ему: может быть, какую-нибудь недозволенную агитацию хотят пришить?
— А по-русски?
— Тоже.
— Давайте паспорт.
Подаю. Он раскрыл его, берет ручку и крест-накрест перечеркивает разворот с фотографией. Все, думаю, началось, но виду не показываю, что на душе кошки скребут. Тут уж начальник милиции не выдержал:
— Ну и выдержка у вас, Семен Яковлевич,— открывает сейф и дает мне какой-то документ: — Читайте.
А я без очков ничего разобрать не могу. Тогда он сам прочитал постановление о реабилитации.
— Идите, товарищ Побережник, в паспортный стол, заполняйте анкеты на получение нового паспорта.
Вскоре после этого мне по почте прислали справку о том, что Военный трибунал МВО отменил постановление ОСО «за отсутствием состава преступления».
Кому-то это может показаться не совсем уместным, но я все же задал Семену Яковлевичу деликатный вопрос о материальной компенсации за все, что было совершено с ним.
— В справке было указано, что я могу обратиться по последнему месту работы, где обязаны выплатить среднюю заработную плату за два месяца. Вот и понимай как хочешь, куда именно: то ли к тем, кто меня за границу посылал, то ли в управление исправительно-трудовых лагерей, то ли на шахту в Караганду? Если в Центр, то я даже не представлял, какое у меня было денежное содержание как разведчика-нелегала. Нам ведь тогда накрепко внушили, что советские разведчики работают не за деньги, а за идею. Короче, за все про все перевели мне сто двадцать рублей, по-нынешнему двенадцать, за что я сказал спасибо. Не знаю только кому. Правда, позднее мне установили персональную пенсию местного значения в размере шестидесяти рублей...
После этого правление колхоза тоже кое в чем пошло навстречу: выделило участок для дома, разрешило брать бутовый камень из карьера. А из Черновицкого гарнизона прислали несколько машин со стройматериалами и солдат-строителей. Да, не зря тогда, в Риге, Батов сказал при расставании: «Не унывай, Семен, с крышей что-нибудь придумаем».
Не сразу, но нашли-таки ветерана-интернационалиста и заслуженные награды. Среди многих советских наград, среди которых орден Отечественной войны, с гордостью носит он итальянскую медаль имени Гарибальди, польскую «За нашу и вашу свободу», памятную медаль «Участник национально-революционной войны в Испании 1936—1939 г.г.». Приняли его и в ряды КПСС, но без восстановления прежнего партийного стажа: секретарь обкома убедил, что так будет проще. Однако Семен Яковлевич продолжает добиваться, чтобы в партийном билете стояло: «1932 год».
...Конечно, возраст дает себя знать: в феврале Семену Яковлевичу исполнилось 84 года. Но он еще бодр и по-молодому подтянут, этот высокий седой человек с необычайной судьбой, живущий теперь в областном центре городе Черновцы.
При расставании я решился задать ему мучивший меня вопрос:
— Что помогло вам все выдержать, не сдаться?
И вот что я услышал в ответ:
— Я был и остаюсь коммунистом.
Сергей Демкин
с. Клишковцы — София — г. Черновцы, 1 968— 1 989
(обратно)
Зеленый пирог бань

Нет во Вьетнаме праздника важнее, ярче, шумнее и продолжительнее, чем Тэт — Новый год по лунному календарю. Его празднуют все вьетнамцы — буддисты и католики, сектанты и атеисты. Горные национальные меньшинства, не успевшие приобщиться ни к одной из «цивилизованных» религий и поклоняющиеся духам земли, воды и джунглей, тоже отмечают свой Тэт как праздник начала весны. Правда, в многоликом Хошимине по размаху с древним Тэтом давно сравнялось христианское Рождество: всенощные гулянья миллионной толпы по мостовым, засыпанным тоннами конфетти, громкая музыка из многочисленных кафе и с открытых концертных подмостков...
Рациональный двадцатый век сократил празднества. Тэт уменьшился до трех дней, а для государственных служащих стал и того короче. Однако все равно за неделю до Тэта и неделю спустя бесполезно обращаться в учреждения в надежде решить важный вопрос или по крайней мере найти там кого-либо.
Доподлинно известно, что за новогоднюю неделю среднестатистический вьетнамец выпивает почти половину потребляемого им за год спиртного и съедает такую же долю положенного ему на целый год мяса. Не это ли самый веский довод в пользу главенства Тэта среди прочих праздников! Хотя согласно той же весьма несовершенной во Вьетнаме статистике в ряде провинций мяса приходится на душу населения не более семи кило в год.
Европейский гурман, измеряющий богатство стола свиными окороками, копченой колбасой и поджаристыми бифштексами, после такой постной статистики наверняка потеряет интерес к вьетнамскому праздничному угощению. И напрасно.
Во-первых, сразу открою тайну: кроме собственно мяса — в основном свинины и буйволятины,— во Вьетнаме едят множество других продуктов животного происхождения — не всегда, мягко говоря, для нас привычных. Поэтому стол не совсем уж вегетарианский. Во-вторых, наверняка во всем многообразии яств даже для иноземца найдется что-то очень вкусное. Ну а в-третьих, о вкусах не спорят, и спустя годы или месяцы вдруг открываешь в некоторых деликатесах неповторимую прелесть.
Так было, например, у меня с традиционным и даже ритуальным новогодним блюдом «баньтингсань». Уже перед моим первым Тэтом вьетнамские друзья и сотрудники преподнесли вместе с поздравлениями эти завернутые в зеленый лист и перевязанные мочалом квадратики размером с четверть калача. Объяснили: пирог с начинкой, и символизирует он квадратную землю с твердью, водами, лесами и полями. Отведав первый пирог, мы всей семьей стали мучительно придумывать, куда деть остальные. Кто-то бывалый — из соотечественников — посоветовал отнести в пагоду и положить к алтарю. У буддистов принято в праздник делать подношения монахам.
Перед следующим Тэтом в моем холодильнике лежало опять не менее пяти зеленых пирогов. И снова поход в пагоду. Вьетнамским друзьям я этой тайны не открывал, и когда приходил к ним в гости, они с восторгом угощали меня ритуальным лакомством, наблюдая, с каким удовольствием я его буду есть.
Со временем я стал привыкать к вьетнамскому меню и году этак на четвертом сам не заметил, как впервые съел «баньтингсань» с неподдельным удовольствием. И даже попросил своего друга — ханойского художника Май Ван Хиена — посвятить меня в таинство приготовления пирога. Это стоило мне всенощного бдения у него дома, подкрепляемого горьким вьетнамским кофе и разговорами о том о сем.
Исходные продукты для «баньтингсаня» заготавливают задолго до Тэта. Собственно, не только их. Любая снедь накануне праздника резко дорожает, становится острым дефицитом. Так было даже в те времена, когда каждая семья имела свое хозяйство и в нем минимум необходимого. В последние десятилетия в моду вошло слово «достать», и предновогодний марафон значительно удлинился. У Май Ван Хиена, как и у многих ханойцев, в явно неприспособленном городском дворе бегали купленные в октябре еще цыплятами голенастые куры, а из тесной бамбуковой клети подозрительно косил маленькими глазками не очень упитанный, но достаточно крупный боровок. Что делать, морозильных камер нет, да и простые холодильники только начинают проникать во вьетнамский быт.
Для тэтовского пирога загодя покупают клейкий рис (это особый сорт), зеленую фасоль. Заготавливают широкие листья фрикиума — водного растения, которое в деревнях увидишь по обочинам полей, в кюветах и в других укромных уголках, где есть место у воды, свободное от риса. Большинство горожан покупает их заранее по дешевке, а для сохранности отваривает. Мой приятель имел возможность достать у своих сельских родственников свежие. Они лучше, потому что окрашивают рис в пироге в нежно-зеленый цвет, и тогда «баньтингсань» соответствует в полной мере своему названию: «зеленый вареный пирог».
Приготовление зеленого пирога требует времени. Меньше чем за восемь часов даже искусный повар не управится. Надо вымыть и замочить клейкий рис, зеленую фасоль, перемолоть в фарш постную свинину и отдельно сало, выжать сок из мясистых и колючих ананасовых листьев, чтобы добавить его в рис для вкуса и цвета.
Потом на сильно разогретой чугунной сковороде в свином жире с толченым чесноком поджаривают фарш и сало» перемешивают с фасолью, тушат. Полученную начинку солят, перчат, добавляют в нее сахар, митинь (это глютамат, широко применяемый на Дальнем Востоке компонент, у нас он известен как основа приправы «Вегета»). Затем в деревянной форме лепят квадратный пирог из клейкого риса с начннкой, заворачивают его в лист фрикиума, перевязывают мочалом, как почтовую бандероль, и в таком виде бросают на два-три часа в кипяток. На стол подают холодным.
Как и в России, где на Пасху гостей не потчуют одними куличами, вьетнамский новогодний праздник — это целый пир. На столе — и непременные жареные рисовые блинчики «тязо», или «нэм», фаршированные мясом, крабами, древесными грибами. И жаренная с толченым арахисом мелко порезанная козлятина, креветки в кляре, рыбные фрикадельки по-ханойски, разные блюда из курятины. Набор продуктов отличается по районам. В приморской полосе преобладают моллюски, ракообразные, рыба, а в дельте Меконга к тому же еще и пресмыкающиеся. На юге сильно влияние южнокитайской кухни, острой, сладковатой. На севере в национальной кухне давно укоренились такие заимствования из далекой Франции, как голуби, лягушки, виноградные улитки. Все это с большим количеством маринованного лука и всевозможной зелени: петрушки, мяты, базилика, салата, чеснока, очень жгучего красного перца. А посреди стола — большая миска, а то и котел с варенным на пару рассыпчатым рисом.
Не обходится Тэт без сладостей — засахаренных овощей и фруктов. Это, пожалуй, главный съестной товар, который под праздник до последнего часа предлагают торговцы-частники и продавцы государственных и кооперативных прилавков рынка Донгсуан в Ханое, базара Бентхань в Хошимине и сотен других больших и малых рынков в городах и селах страны. Засахаривают и сушат порой самые неподходящие, на наш взгляд, вещи: не только цитрусовую цедру и кокосовую копру, но и морковь, кабачки и даже помидоры. Но больше всего душистого и едкого, как перец, засахаренного имбиря. Кстати, вьетнамцы считают его превосходным средством от простуды.
На богатых столах, особенно на юге Вьетнама, обязателен суп «кулао». Посреди стола ставят агрегат, представляющий собой низкий самовар без верха и крана, в котором уже кипят овощи и приправы, а добавки для своей пиалы гость выбирает и варит сам из сырых, тонко нарезанных заготовок — мяса, рыбы, даров моря. Берет палочками и опускает на несколько секунд в кипящую воду.
Но не менее аппетитна и не столь изысканная вьетнамская лапша — то ли суп, то ли целый обед. Один из видов такого супа Май Ван Хиен сварил при мне за три часа на десять человек. В большой кастрюле сначала отварил целиком курицу, потом в том же бульоне — мягкие свиные ребрышки, после них для сладости бульона — стакан мелких креветок. Бульон процедил и снова поставил на огонь. В большие пиалы насыпал пряной зелени, бросил по клубку сухой быстроразваривающейся вермишели, поровну разложил кусочки отделенной от костей вареной курятины, свиных ребрышек, мелко нарезанный свиной паштет, похожий на нашу вареную колбасу, понемножку креветок, и все это перед подачей на стол залил кипящим бульоном. Жгучего перца и соленого соевого или рыбного соуса «ныок-мам» каждый добавлял по вкусу.
Вспоминая праздничные обеды у друзей в Ханое и Хошимине, я иногда пытаюсь повторить что-то из тамошних блюд у себя дома. Лучше всего это выходит, когда кто-нибудь с оказией пришлет пучок прозрачной рисовой лапши или кипу бумагообразных рисовых лепешек «баньчанг», бутылочку рыбного соуса «ныок-мам» и узловатое корневище имбиря.
Можно обойтись и без этого. Но тогда вкус получается не более похожим на вьетнамский, чем морозный воздух соснового бора на липкую дурманящую влагу тропической ночи. И даже если в точности соблюсти рецепт, все равно будет не хватать той самой липкой влаги, запахов цветов, уличных харчевен, курящихся благовоний, треска новогодних петард.
И тем не менее, я порекомендую вам хотя бы один рецепт несложного, но очень вкусного вьетнамского блюда «сао» (это общее название кушаний из мелко нарезанного мяса).
Мелко-мелко, нарежьте граммов триста говядины и три-четыре крупные луковицы. Смешайте мясо с луком. Растолките четыре-пять крупных зубчиков чеснока — именно растолките деревянным пестиком, а не нарежьте — и смешайте (обязательно руками!) с мясом и луком. Добавьте чайную ложку сахарного песка и отставьте минут на десять.
На глубокую сковороду на сильном огне вылейте две столовые ложки растительного масла. Если это масло подсолнечное, подождите, пока оно задымит, и бросьте кружок лука. Когда лук обуглится, извлеките его из масла: запах и привкус исчезли.
Тут выкладывайте мясо и, тщательно его перемешивая, убавьте огонь до среднего. Через десять минут посолите по вкусу, посыпьте сверху мелко нарубленной ароматической зеленью (лучше всего кинзой) и оставьте на огне еще на пять минут, прикрыв плотно крышкой.
Потом выключайте огонь и сразу подавайте на стол. Вьетнамские блюда должны быть с пылу с жару.
Да, и не забудьте отварить рассыпчатый рис — без него в Восточной Азии за стол не садятся, как у нас без хлеба. Только пропорция другая: в тарелке куда больше риса, чем мяса.
Л. Минеев
(обратно)
Луи Буссенар. За десятью миллионами к Рыжему Опоссуму
 Продолжение. Начало см. в № 1/90—10/90.
Продолжение. Начало см. в № 1/90—10/90.
Деревня нга-ко-тко состоит по меньшей мере из трехсот просторных хижин, сложенных из солидных ветвей. Ветви эти воткнуты основанием в землю и соединены вверху необычайно прочными растительными волокнами. Щели заделаны растертой землей, снаружи все сооружение покрыто специально обработанной корой. Эта разумная система делает хижины непроницаемыми для ветра и дождя. Вход, неизменно обращенный к восходящему солнцу, просто прикрывается занавесом из коры или шкуры кенгуру. Несколько слоев сухого душистого вереска, застеленного шкурами, служат кроватями, удобными и мягкими.
И наконец, нечто удивительное и даже уникальное для аборигенов Австралийского континента — много гектаров земли вспаханы, и целые поля белоуса, ямса, батата и разных корешков, названия которых мы не знаем, служат защитой от голода всему клану, возглавляемому нашим другом.
Все мы испытываем глубокое удовлетворение при виде того, что зачатки цивилизации проникли в это пустынное место. Энергия одного белого человека, подкрепленная его добротой и примером неустанного труда, позволила привить известные навыки этим обездоленным. Они стали людьми, эти несчастные, которых англичане преследуют и уничтожают огнестрельным оружием как диких зверей, вместо того чтобы улучшить условия их жизни и помочь им воспользоваться благами европейской цивилизации.
Подлинная деликатность, которую они проявили в день нашего прибытия, окончательно укрепила самое лучшее мнение о них.
Потом самые видные люди племени, не столь обнаженные, как аборигены, которых мы встречали до сих пор, отвели нас за триста метров от деревни — к месту захоронения усопших племени нга-ко-тко.
Племя отказалось от древнего обычая бросать тела умерших под открытым небом и стало закапывать их в землю, как это делают в Европе. Но, не имея возможности увековечить память усопшего в бронзе или мраморе, на которых — увы! — часто начертаны лживые слова скорби, эти простодушные дети солнца и лесов усеяли последнее прибежище своих друзей и близких цветами, которые из года в год вновь расцветают. Они превратили кладбище в ослепительный цветник. И насколько же отличается это скромное австралийское кладбище, где поют птицы и распускаются цветы, от скорбных огороженных участков цивилизованных наций.
Теперь нам нет надобности доказывать подлинность наследников. И после недели, полностью посвященной отдыху, в котором каждый из нас остро нуждался, Рыжий Опоссум, добросовестный душеприказчик, поступил к передаче детям своего друга состояния их отца.
Количество золота, собранного бывшим каторжником с помощью аборигенов, действительно колоссально. Первый тайник, который открыл Рыжий Опоссум, содержит золота примерно на четыре миллиона, по словам поселенцев, которые в той или иной степени занимались золотоискательством. Это отборные слитки, почти все величиной с куриное яйцо. Их около двухсот пятидесяти.
Должен сказать, что это богатство занимает довольно мало места, поскольку удельный вес золота в 19,25 раза превосходит удельный вес воды. По этой цифре можете судить о том, сколько оно занимает места. При виде бледно-желтых, дымчатых самородков мне вдруг приходит в голову банальный образ, но, ей-богу, мне кажется, что я вижу три или четыре оуа-о (Буасо — старинная мера сыпучих тел, равна 12,5 литра.) только что вымытого картофеля. Таково единственное впечатление, которое производит на меня эта кучка золота, что могла быть достойным выкупом даже для короля.
Во втором тайнике находились двадцать восхитительных кусков чистого золота стоимостью, вероятно, более полутора миллиона. Слитки волнистые, с параллельными бороздками, как будто их медленно охлаждали, причем каждый слой по очереди.
В третьем тайнике стояли рядами около сорока бочонков, сплетенных из толстого бамбука. Все они до краев наполнены кусочками золота разной величины — от размера пальца до пули крупного калибра. Невозможно оценить стоимость этой феерической кладовой. Но вид сокровища производит отрадное впечатление на его обладателей, как бы равнодушны они ни были к материальным ценностям. Подобная находка не может не вызвать радости.
И наконец в четвертом и последнем тайнике находились два огромных слитка, засверкавших на солнце, когда их вынули. Размеры и ценность слитков настолько уникальны, что музей Мельбурна был бы счастлив обладать ими.
Если, судя по всему, стоимость сокровищ достигает десяти миллионов, то общий вес всей массы золота должен составлять более трех тысяч трехсот килограммов.
Такую тяжесть невозможно везти на лошадях в дополнение к весу повозки, обитой листовым железом. Потребовалась бы упряжка по меньшей мере из десяти совершенно свежих тягловых лошадей, привыкших к хомуту. И это при том, если тянуть повозку по хорошо укатанной дороге, а не по траве и песку.
Но поскольку наша повозка в этом случае будет бесполезна как средство передвижения по суше, ее можно опять превратить в лодку. Если мы найдем реку — эту «движущуюся дорогу»,— то она без препятствий доставит сокровище к заливу Карпентария.
Мы должны находиться совсем рядом с полноводной Харберт-крик. И хотя карта, вверенная заботам Фрэнсиса, несколько пострадала после последней встречи с аборигенами, мы все же сможем найти на ней полезные данные, определить свое местонахождение и наметить маршрут следования.
Аборигены племени нга-ко-тко поистине проворные и ценные помощники. Распределив золото по ста пятидесяти небольшим тючкам, каждый из которых весит в среднем от 24 до 27 килограммов, они завернули слитки в куски гибкой, но прочной коры, затем оплели их тонкими лианами, соорудив упаковку, прекрасно выдерживающую тяжесть свертков при их небольшом размере. С обеих сторон такого свертка они пропустили веревки из растительного волокна, и получилось нечто вроде ручки корзины, что позволяло носильщику нести тючок на руке или повесить его через плечо.
Все приготовления завершились менее чем через три часа.
...Прежде чем распрощаться с этими славными людьми, оказавшими нам такое сердечное гостеприимство, рассеявшими наше прежнее предубеждение в отношении коренных австралийцев, необходимо обсудить в мельчайших деталях важный вопрос о пути возвращения домой. Прежний вариант — вернуться тем же путем, каким мы пришли к племени нга-ко-тко, оказался неприемлем. У нас нет ни лошадей, ни повозок, ни провизии. Приходилось избирать другой путь.
Общее мнение сводилось к тому, чтобы двигаться до залива Карпентария. Пустая лодка будет завтра доставлена к Харберт-крик. Поскольку у нас немало рук и наши помощники весьма усердны, будет нетрудно одновременно перетащить на спине и все тючки. После того как груз будет уложен, останется место для двух девушек и провизии, потому что водоизмещение лодки, как вы помните, составляет 10 тонн. Одного человека у руля и двоих на веслах достаточно для того, чтобы управлять ею.
Харберт-крик впадает в реку Грегори, довольно крупный приток реки Николсон, широкое устье которой несет воды всех этих рек в залив Карпентария.
— Этот проект, господа,— сказал майор, который проследил маршрут по карте,— во всех отношениях превосходный, но что мы будем делать, когда прибудем на берег моря с нашим сокровищем после такого утомительного пути? Ждать корабля, следующего через этот пункт, к которому суда приближаются крайне редко?
— Сэр Харви, если позволите, я изложу план, который обдумывал много дней и выполнение которого столь же просто, сколь и надежно,— заговорил герр Шэффер.— Я считаю, что это единственный план, который может нас спасти.
— Говорите, герр Шэффер.
С того момента, когда ему, наконец, удалось оторвать глаза от слитков золота, высокий пруссак, похоже, был погружен в какие-то раздумья. Казалось, блеск золота его заворожил. Я никогда не доверял тевтонам-кладоискателям, мечтающим о миллиардах. Но раз у него есть план, послушаем его. Мне много раз приходилось встречать людей, у которых были всевозможные планы!
— Совсем кратко, господа. Вам известно расстояние, которое отделяет нас от трансавстралийского телеграфа?
— Хм... четыре или пять градусов.
— Всего три. Семьдесят пять лье. Наши лошади отдохнули и резвы, как в самом начале экспедиции, и это расстояние они смогут преодолеть самое большее за пять дней, а может быть, даже за четыре. Пусть они падут в пути, но люди все равно прибудут в отделение телеграфа в поселке Барроу-Крик.
— Замечательно! — воскликнул майор.— Таким образом наш посланец свяжется с цивилизованными пунктами. Соблаговолите продолжать, герр Шэффер.
— Из отделения Барроу-Крик легко связаться с Саут-портом и Порт-Деннисоном. Я упоминаю об этих пунктах потому, что они ближе всего расположены к истоку реки Николсон. В Порт-Деннисоне полно судов, и можно легко договориться с капитаном какого-нибудь парохода, и он будет несколько дней курсировать в ожидании нашего прибытия на берега залива Карпентария. Поднявшись на борт парохода, мы достигнем Мельбурна западным путем, так как проход через Торресов пролив довольно сложен. Что вы думаете о моей идее, сэр Рид? Приемлема ли она?
— Во всех отношениях, герр Шэффер. Но на кого бы я мог возложить выполнение этой миссии?
Пруссак, казалось, на минуту задумался.
— На меня, если я удостоюсь этого поручения.
— Подумать только, вот мерзкий лицемер,— тихо проворчал возмущенный Сириль, враждебность которого к немцу усилилась еще больше.
— Вы отправитесь завтра с четырьмя своими товарищами. Загоните лошадей, если потребуется. В Барроу-Крик вы купите других для обратного пути. Не жалейте денег. Время важнее всего.
На следующее утро немец отправился в путь, облеченный скватером всеми полномочиями; кроме того, сэр Рид дал ему портфель, набитый банкнотами, который он предусмотрительно всегда носил с собой. Герр Шэффер взял трех немцев, в том числе одного ганноверца, которого он, видимо, полностью подчинил себе, а также одного простоватого поселенца.
— До скорой встречи! Желаю удачи! — напутствовал отъезжающих сэр Рид.
— До скорой встречи! — ответил немец, салютуя по-военному.
Перенесение золота в лодку должно было начаться лишь после возвращения нашего посланца, поэтому каждый решил провести оставшееся время по своему усмотрению. Кто прогуливался по лесу, кто занимался рыбной ловлей, кто отправился на охоту. Со смешанным чувством удовольствия и сожаления теперь вспоминаю я время, проведенное среди аборигенов. Эта неделя, как и все хорошее, миновала очень быстро. Однако наш посланец все не возвращался. Правда, опоздание на два дня не могло слишком уж взволновать нас, но хорошо известная пунктуальность немца заставляла опасаться, что задержка вызвана каким-то несчастьем.
Наконец, когда наше беспокойство переросло в тревогу, на поляну перед деревней выскочили два всадника. Они были верхом на крупных пегих лошадях хорошей стати, совершенно загнанных. Это были герр Шэффер и ганноверец. Их одежда была разорвана в клочья, лица усталые и мрачные. Бока лошадей расцарапаны, у ганноверца перевязан лоб.
— Где остальные? — вскричал сэр Рид.
— Погибли!
Мы были потрясены. Только когда вместе идешь в поход, вместе подвергаешься одним и тем же опасностям, спишь бок о бок под открытым небом и делишься последним куском хлеба, можно понять, какие неосознанные узы связывают вас с вашими спутниками. Двое из погибших принадлежали к вражеской нации, но, несмотря на то, что мы, французы, не питаем к ним симпатии, мне казалось, что в сердце моем образовалась пустота. В конечном счете, они выполняли свой долг, сотрудничая в нашем предприятии.
После благополучного прибытия в отделение телеграфа в Барроу-Крик, герр Шэффер немедленно начал переговоры с капитаном одного парохода, которые увенчались полным успехом. Имя сэра Рида помогло устранить все трудности. Капитан заверил, что немедленно выходит в море. Раздобыв лошадей, пятерка покинула отделение телеграфа и направилась в деревню нга-ко-тко. Однако на одном из привалов на них внезапно напала группа враждебных аборигенов, и трое из поселенцев были убиты, не успев оказать сопротивления. Двоим все же удалось вскочить в седла и ускакать...
— Наши жизни принадлежали не нам,— с достоинством закончил герр Шэффер свой рассказ,— нам надо было во что бы то ни стало вернуться сюда. Приказ есть приказ. А наши товарищи погибли, выполняя свой долг.
Наконец наступило время уходить. После трогательного прощания на покрытом цветами кладбище мы тронулись в путь. Все племя нга-ко-тко высыпало из хижин, чтобы проводить нас. Сопровождаемые мужчинами, которые несли тючки с золотом, мы направились к реке Харберт-Крик, на которой покачивалась наша лодка, охраняемая группой аборигенов во главе с сыном Рыжего Опоссума и усиленная четырьмя поселенцами.
Укладывание груза не отняло много времени. Эта операция не представляла особого труда, поскольку достаточно было равномерно разложить тючки с золотом на плоском дне лодки, чтобы не нарушить ее осадку.
Рыжий Опоссум, отправив часть своего племени в деревню, оставил с собой двух сыновей и двадцать лучших воинов: наш друг никак не мог заставить себя расстаться с нами и решил проводить как можно дальше, снабжая едой в незнакомой местности; по которой нам предстояло идти.
Всем, кто возвращается в деревню, мы подарили топоры, ножи, одежду и все безделушки,
которые еще сохранились,— жалкие остатки былого богатства. Аборигены приняли эти подарки с огромным удовольствием. Но больше всего были обрадованы девушки, которые получили полдюжины маленьких карманных зеркалец.
Мисс Мэри и Келли удобно расположились под небольшой занавеской, натянутой над лодкой вместо тента. Эдвард занял место у руля, Фрэнсис и Сириль сели за весла, и, подхваченная течением, наша лодка заскользила по воде.
От залива Карпентария нас отделяло три с половиной градуса. Мы считали, что сможем пройти это расстояние самое большее за пятнадцать дней. В реке полно всевозможной рыбы, а леса, тянувшиеся справа и слева, где обитают опоссумы и кенгуру, сулили нам отличное жаркое. Нам не на что особенно жаловаться, хотя духота, которая еще больше усилилась с тех пор, как мы вступили в жаркий пояс, подчас мучительна.
Печальный момент расставания настал. Джо надо возвращаться к своим соплеменникам. Этот замечательный человек в глубокой печали. Он трогательно прощается с детьми своего умершего друга. Старый дикарь-европеец рыдает как ребенок. У Эдварда, Ричарда и их сестры глаза полны слез.
— Джо, дорогой Джо,— говорит сэр Рид, сжимая его руки,— мы еще свидимся, клянусь! Мне хочется помочь в вашей благородной миссии, которую вы взяли на себя. Дети меня понимают. Теперь они богаты благодаря вашей преданности их отцу. Они не забудут ни вас, ни ваше племя. Не пройдет и года, как мы пригоним к вам стада быков и овец, а также лошадей, доставим вам земледельческие орудия для обработки ваших земель. Руководимые и просвещаемые вами, при нашей помощи, аборигены, надеюсь, смогут в будущем побороть голод. Не прощайте, Джо, а до свидания!
Наконец мы пересекли Австралию с юга на север!
Крик радости вырвался из груди каждого при виде парохода, стоявшего на якоре в естественной бухточке меньше чем в четырех кабельтовых от берега. Герр Шэффер — человек слова.
Едва только наша группа показалась в виду судна, как с парохода спустили шлюпку. Сидящие в ней матросы приветствуют нас оглушительным «ура!». Высокий мужчина с грубым загорелым лицом и живыми глазами, типичный моряк, ловко спрыгивает на землю и представляется нам. Это капитан «Уильяма» — так называется пароход, который должен доставить нас к месту назначения. Капитан строго придерживался инструкций, переданных по телеграфу из Барроу-Крик в Порт-Деннисон, и, выбросив балласт, чтобы идти как можно быстрее, прибыл на место встречи, назначенной немцем, на четыре дня раньше срока.
Любезное предложение подняться на борт парохода, чтобы оговорить условия погрузки, немедленно принято, и сэр Рид, майор, Эдвард, Мак Кроули, Робартс и я, короче говоря, генеральный штаб экспедиции, вскоре поднимаемся на палубу «Уильяма». Капитан принимает нас с исключительным вниманием и быстро заключает сделку со скваттером, который платит, не торгуясь.
После превосходного завтрака с отличным вином, который мы поглотили с величайшим аппетитом, осматриваем пароход сверху донизу. На нем царят безупречный порядок и идеальная чистота. Капитан демонстрирует нам все до мелочей, и наш визит заканчивается осмотром пушки, заряжаемой с казенной части, присутствие которой на борту успокаивает нас, поскольку возможна встреча с пиратами.
Итак, все отлично, и мы возвращаемся на берег, восхищенные увиденным. В последнюю ночь, которую мы проводим на берегу, никто не смыкает глаз.
На следующее утро шлюпка с парохода вновь пристает к берегу, и начинаются организованная перевозка и погрузка сокровища на борт «Уильяма». Герр Шэффер находится на пароходе, наблюдая за прибытием тючков, и поскольку команда судна достаточно многочисленная — двадцать человек, не считая тех, кто работает в машинном отделении,— операция происходит с невероятной быстротой. Шести ездок шлюпки достаточно, чтобы перевезти три тысячи и несколько сот килограммов золота. Матросам по окончании работы обещан двойной рацион, и эта перспектива стимулирует морских волков. Наша бедная лодка, освобожденная от своего ценного груза, танцует на волнах у самого берега. Затем мы вытаскиваем ее на песок со всей оснасткой и переворачиваем килем кверху, чтобы она не пострадала от дождя. Эта филантропическая идея скваттера, который надеется, что в случае необходимости ею смогут воспользоваться потерпевшие кораблекрушение или исследователи. Остается только перевезти на пароход участников экспедиции. На борту судна все готово. Пар со свистом вырывается из предохранительных клапанов. Пора перевозить на борт семнадцать членов экспедиции, ибо — увы! — кости троих выбеливает тропическое солнце. Мы прощаемся с берегом залива Карпентария.
Но нет! Это — немыслимо! Тут можно сойти с ума! Шлюпка с парохода прижимается к его борту, а шесть матросов, находящихся в ней, в мгновение ока поднимаются на борт. Звучит свисток. Якорные цепи сбрасываются через клюзы в море. Вздымая пену, закрутился корабельный винт, и судно удаляется от берега со скоростью морской птицы. А мы... мы остаемся на берегу, бессильные что-либо предпринять.
Раздаются возгласы ярости и отчаяния. Все выхватывают оружие и стреляют по бандитам, которые не только украли наше золото, но и вероломно оставили нас без малейших запасов провизии на этом негостеприимном берегу. Бесполезные выстрелы! Никого из негодяев нет на палубе, от которой со свистом отскакивают наши пули. И последняя наглая бравада: английский флаг, который реял над кормой, скользит вниз по фалу, а вместо него на гафель бизань-мачты поднимается кусок черной материи. Это — пиратский флаг!
А где Шэффер?
Он остался на пароходе, мерзавец!
Хотя пиратам и не было нужды опасаться нас, они тем не менее еще больше увеличили скорость; пароход удаляется. Для нас все кончено.
И тогда к сэру Риду, хладнокровно обдумывающему последствия постигшего нас бедствия, подходит один из путников, смертельно бледный, спотыкающийся, как пьяный, с блуждающим взором. Это — ганноверец.
— Убейте меня! — бормочет он прерывающимся голосом.— Я жалкий человек, не достойный сожаления. Убейте меня из милости, иначе я сам покончу с собой.
Он уже приставил револьвер ко лбу, но майор выбивает оружие из его рук.
— Герман, вы предали своего благодетеля, вы помогли разорить наших детей! Вы подвергли опасности самое наше существование! Но я вас прощаю. Пусть угрызения совести будут для вас самым тяжким наказанием.
— Но вы еще не все знаете. Шэффер — сообщник и самый преданный друг главаря пиратов — уже давно придумал эту аферу. Помните, когда его не было и он якобы охотился на казуаров? Он тогда загнал лошадь, потому что помчался в отделение телеграфа предупредить своего сообщника и обсудить с ним, как вас ограбить. Я знал об этом, но трусливо молчал.
Я сразу вспомнил, как у меня зародилось подозрение при виде взмыленной лошади Шэффера и что я хотел размозжить голову негодяю.
— Теперь же,— продолжал ганноверец,— когда вы послали его в Барроу-Крик, он и сообщил пирату, что экспедиция завершается и чтобы тот спешно выходил в море. Но поскольку он боялся разоблачения со стороны товарищей, он не остановился перед убийством.
У нас вырвался крик ужаса и негодования.
— Да, господа,— продолжал несчастный вне себя от горя,— именно он подло перерезал горло трем своим спутникам во время сна, а меня пощадил только потому, что я ему был нужен в качестве свидетеля. Никаких аборигенов мы не встречали, а рану, которая у меня на лбу, я нанес себе сам, чтобы придать больше правдоподобия нашей лжи... Вы, которого я предал, теперь видите, что я не заслуживаю никакого прощения!..
Продолжение следует
(обратно)
Оглавление
Карты правду говорят?
Над прахом Наполеона
Шесть сезонов и вся оставшаяся жизнь
К пирамидам Ламбаеке
Гиссарская катастрофа
Траверс
Нгоронгоро своими глазами
Маленькое село посреди большой Тундры
Андреевский флаг в Нью-Йорке
«Господи, лечу!»
Рафаэль Сабатини. Самозванец
Амфоры острова Левке
Альфред Муней — англичанин
Зеленый пирог бань
Луи Буссенар. За десятью миллионами к Рыжему Опоссуму
Последние комментарии
7 часов 10 минут назад
9 часов 27 минут назад
1 день 8 минут назад
1 день 9 минут назад
1 день 5 часов назад
1 день 9 часов назад