Стивен Фрай Неполная и окончательная история классической музыки
БЛАГОДАРНОСТИ
Я хотел бы поблагодарить Роджера Льюиса, директора-распорядителя радиостанции «Классик FM», за предоставленные мне возможность и время работать над «Неполной и окончательной историей» и за его постоянное содействие, равно как и Даррен Хенли — за оригинальную идею и большую поддержку. Кроме того, что касается сотрудников «Классик FM», я очень благодарен Кэти Джаксон за всю ее помощь, а также Гилесу Пирману и Джо Уилсону. Огромное спасибо моему выпускающему редактору Эмме Мариотт, от которой я при осуществлении этой идеи изо дня в день не видел ничего, кроме поддержки и ободрения. Я хотел бы также поблагодарить литературную сотрудницу Кристин Кинг и художников Шона Гаррехи и Джонатана Бейкера. И наконец, большое спасибо и множество слезливых поцелуев вам — Сиобан, Милли, Дейзи и Финн, позволившим мне провести так много времени в вашей «норе». Примите мою любовь и благодарность.ПРЕДИСЛОВИЕ
Обыденность и возвышенность. Вот в чем вся соль. Уверяют, будто Иоганн Себастьян Бах сказал однажды: «Играть на любом музыкальном инструменте очень легко: все, что для этого требуется, — нажимать в нужное время на нужную клавишу, а играть он будет сам». До некоторой степени я с ним согласен. Я совершенно уверен, что смог бы освоить технику, необходимую, чтобы справиться, ну, скажем, с блок-флейтой или губной гармошкой. Я мог бы, наверное, зажимать нужные отверстия и, как знать, по прошествии недолгого времени сумел бы изобразить «Чижика-пыжика». А вот с чем я почти наверняка не совладал бы, так это с происходящим задолго до и после того, как прикасаешься к клавише фортепиано или закрываешь отверстие блок-флейты. То, о чем говорят: «Не просто играйте, играйте вот так». А потом: «И чтобы вот такая была фразировка». А иногда еще: «И старайтесь добиться такого звучания ноты, чтобы слушатель подсознательно возвращался к той части мелодии, которую слышал три такта назад». Все это внушает мне мысль, что лучше бы Бах не молол языком, а держал его за зубами. Греки, вот те понимали, что к чему. У них было девять муз, и каждая отвечала за определенную часть «mousike» — то есть музы занимались не одним только пением да танцами, но всеми областями искусства, науки и учености вообще. Потому и слова вроде «музыка», «музей» (и даже «мистерия») имеют изначальное отношение к деятельности муз. Иногда я гадаю, не это ли знание и внушает мне столь великий страх перед музыкой. Когда я учился в школе, то больше всего сожалел о своей неспособности изобразить хотя бы пару нот в порядке, о котором можно было сказать, что он смахивает на мелодию. Одну? Пожалуйста, одну я мог издать ничуть не хуже других, возможно, не самую лучшую и, надо признать, порой привлекавшую ко мне пристальное внимание представителей животного мира, но тем не менее ноту. Сложности возникали, лишь когда мне предстояло изобразить две ноты и более — подряд, да еще в виде мелодии. Серьезные, вообще-то, сложности, поскольку мне тут же приказывали заткнуться, не лезть и даже рта не разевать якобы в пении. Не таилось в моей музыке волшебства, способного «смирять свирепосердых»[*]. И потому еще в раннем возрасте я принял решение оставить музыку знатокам — тем, кто умеет с ней поладить. У них это вроде бы получалось, и неплохо. А кроме того, существовал один род музыкальных занятий, в котором я достиг выдающегося мастерства. Думаю, не будет чрезмерной нескромностью, если я скажу, что многие считали меня ранним, обещающим далеко пойти дарованием. И действительно, временами я показывал в этой музыкальной дисциплине такие успехи, что не раз и не два задумывался — не стать ли мне профессионалом по этой части. Сфера деятельности, о которой я говорю и в которой считаю себя отвечающим олимпийским стандартам, есть не что иное, как… слушание музыки. Слушание классической музыки. Я мог предаваться ему, говоря словами Вольтера, «jusqu’à се que les vaches viennent à la maison»[*]. И ax как это верно. Больше всего любил я слушать Моцарта и Вагнера, но и помимо них репертуар у меня имелся обширный. Впрочем, произведением, к которому я могу возвращаться и возвращаться, так и остался «Дон Жуан» — он похож на любимую прогулку, под конец которой обнаруживаешь нечто особенное, новое. Всегда обнаруживаешь нечто новое, и помногу. То же и с Вагнером. Мне давно уже удалось отделить этого довольно скверного человека от его музыки. Рихард Вагнер особой приятностью не отличался, а на его расовые и политические взгляды, и сами-то по себе не обаятельные, еще и падает тень задушевных отношений потомков композитора с Гитлером[*]. Однако по плодам их узнаете их[*]: произведения Вагнера, возносящие любовь превыше силы, — это такие антифашисты, что лучших и желать не приходится. Книга эта предназначена для тех, кто любит слушать великую классическую музыку. Книга, о чем я не раз еще напомню вам на нашем пути, неполная. В ней не говорится о многом из того, о чем следовало сказать, чтобы заслужить титул «Полная и окончательная история классической музыки Стивена Фрая». В результате мы решили отказаться от этой кликухи и с присущим нам остроумием выдумали другую, которая, с одной стороны, намекает на первую и подразумевает ее, а с другой — решительно и напрочь ее отрицает. Блестяще. То был припадок гениальности, уверен, что вы со мной согласитесь. Книга наполнена также разного рода оценками — одни мои, другие не очень. Она переполнена сопоставлениями, полетами фантазии, приключениями музыкальной мысли и, по правде сказать, совершеннейшей чепухой. Собственно, там, где я имею нахальство прибегать к выдумкам, я позволяю себе вставлять значок ☺ (весёлый смайлик — прим. верст.), чтобы вы окончательно не запутались. Кроме того, опять-таки чтобы не слишком сбивать вас с толку, я поместил кое-какие мелочи — пояснения, реплики в сторону, все, что угодно, — в сноски, так что смешливый читатель может их пропускать. В итоге книга получилась очень личная, доносящая до читателя если не что-либо еще, то хотя бы часть воодушевления, с которым автор относится к ее теме. Ну и время от времени я быстрым взглядом окидываю в ней преходящие обстоятельства времени — просто чтобы понять, какие дела совершались вокруг великих композиторов, пока они, как бы это сказать, композировали. Музыка по существу своему абстрактна и не нуждается в привнесении каких-либо знаний, музыкальных или исторических, но ведь интересно же видеть, что за свершения формировали мир, в котором жили композиторы. Все, происходившее в истории, искусстве, философии и науке, оказывало на композиторов огромное влияние, и оттого по ходу книги упоминаются современные им события, одни пустяковые, другие сейсмические. Спешу добавить, что за живое меня берут не одни только Моцарт с Вагнером. На самом деле, пока мы, готовясь к этой книге, отсиживали бесконечные, как нам представлялось, концерты и слушали записи произведений Великих Композиторов, я нередко забывал о музыке, принимаясь гадать, кем именно из них мне хотелось бы быть. Если не считать двух моих главных любимцев, очевиднейший выбор — Бетховен. Он, может быть, ничего и не слышал — под конец жизни, то есть, — однако в способности чувствовать ему не было равных. Что привлекает меня в Бетховене, так это все та же «обыденная возвышенность». Если сможете, вообразите на миг его комнату в «Шварцшпаниерхаузе». За спиной у него виднеется старенькое фортепиано работы Графа, совершенно… ну, в общем, раздолбанное стараниями Бетховена — он колотил по клавишам с такой силой, чтобы можно было расслышать звук. Стол пообок от композитора завален бог знает чем — рядом со слуховой трубкой громоздится кипа тетрадей, исчерканных-перечерканных кривыми фразами, посредством которых гостям Бетховена приходится вести с ним беседы. Видны здесь и внушающие немалую грусть объедки, треснувшие кофейные чашки, капли свечного воска — в общем, все это похоже скорее на спальню студента, чем на жилище человека, чья гениальная музыка сделает его имя бессмертным. Все здесь обыденно, даже убого. И возвышенно. Бритт, сидящий во мне, случается, словно бы видит меня также и Элгаром. Ну, это птица совсем иного пошиба. Э-э, виноват, обмолвился, — полета. Помню, я видел фотографию Элгара с женой, Алисой, у их летнего дома Бричвуд-Лодж, близ Малверна. Элгар стоит чуть справа от парадной двери, руки сложены на груди в манере «раздражительного папаши», голову украшает фуражка. Алиса, похоже, смотрит, чуть наклонив голову набок, в сторону калитки и не видит ее. Почему-то этот снимок наполняет меня уверенностью, что мне понравилась бы их жизнь. Да и мысль об отце, владеющем местным музыкальным магазином, тоже не лишена приятности. Я уж и не припомню, когда именно музыкальный магазин сменил кондитерский в первой строке моего списка «Десять мистически фантастических мест, в которых я хотел бы работать, когда вырасту». Ну и то, как Элгар написал вариации «Загадка», зашифровав в них не только своих друзей, но скрыв и само происхождение главной темы, отвечает моей склонности к игре. Да, Элгар. Я мог бы быть им. Чайковский. Ах, как мне хотелось бы пережить то, что пережил он. Картина, которую я пытаюсь себе представить, изображает Чайковского в 1893 году, когда он получал почетную степень Кембриджского университета. Поскольку места эти я хорошо знаю со студенческих лет, мне странно думать о нем, бродящем по улицам города или возвращающемся в свое временное пристанище — в Вест-Лодж, Даунинг-колледж. Человек, написавший си-бемоль-минорный фортепианный концерт, «Лебединое озеро», «Щелкунчика» и «Спящую красавицу», легко мог забрести на Риджент-стрит и смотреть на проплывавшие мимо плоскодонки, напевая последние из пришедших ему в голову идей Патетической симфонии. Впрочем, есть в этом его визите и еще пара вещей, которые не дают мне покоя. Во-Первых, он был не единственным композитором, принимавшим во время той июньской церемонии почести, — на ней собралась неплохая компания. Степени получили также Сен-Санс и Брух, и все трое дали накануне небольшой концерт. Вы только представьте. А еще — стоял июнь 1893-го. Через несколько месяцев после Кембриджа Чайковский выпил стакан зараженной холерой водопроводной воды и умер. Брамс — вот человек, которого я очень одобряю. Каждый свой день он, живший в наемной квартире, начинал в 5 утра с чашки свежесваренного крепкого кофе. Собственно, он потому и не позволял никому варить для него кофе, что ни у кого он не получался достаточно крепким. Он усаживался с чашкой крепкого черного кофе в кресло и выкуривал хорошую сигару — в 5 утра. Таков был его излюбленный ежеутренний ритуал. И в дальнейшей жизни, когда музыка сделала его человеком очень богатым, Брамс так и жил в наемной квартире и по-прежнему наслаждался в 5 утра кофе и сигарой. Обыденное — понимаете? — уступающее место возвышенному. И наконец, есть еще Гендель, такой же, как я, завзятый любитель трубки (конечно, у него была белая, фарфоровая, с длинным чубуком, а я предпочитаю более традиционный калабаш с круглой чашечкой). Черта, которая внушает мне в Генделе восторг, это не его гениальность или способность тронуть вас музыкой — редко отмечаемая мной в барочном композиторе, — но его аппетит. Человек двойной национальности, Гендель, похоже, способен был есть и за Англию, и за Германию сразу. Есть один знаменитый рассказ о том, как он, зайдя в английскую таверну, попросил накрыть стол на четверых. А когда к нему подошел хозяин, Гендель заказал четыре обильные порции, каковые вскоре и получил. «Когда придут ваши гости?» — спросила принесшая тарелки служанка. «Какие еще гости? — проворчал Гендель. — Давайте сюда еду и оставьте меня в покое». После чего взял да все и съел. Вот каких композиторов я люблю слушать — реальных, обыденных людей, умевших при этом создавать возвышенную музыку. Россини (столь популярный, что легко забыть, до чего он хорош) тоже был не дурак поесть. Настолько, что забросил сочинительство и отдался гурманству. Это ему мы обязаны рецептом «торнедо Россини»[*].* * *
«Неполная и окончательная история классической музыки Стивена Фрая», вот эта самая книга, выросла из проекта, который я осуществлял вместе с Тимом Лигоро, художественным директором популярной радиостанции «Классика FM». Прошло немало времени, наша программа обратилась в приятно тускнеющее воспоминание, и тут меня спросили, не желаю ли я поучаствовать в составлении книги, основанной на этом проекте. Разумеется, я сразу ответил отказом, заявив, что не хочу снова связываться с этими людьми и, более того, не будете ли вы так любезны напомнить мистеру Лигоро, что он задолжал мне 150 фунтов и долгоиграющую пластинку Рольфа Харриса? Однако предложение было повторено. Я отклонил его снова. И разумеется, после третьего моего отказа я услышал, что у них имеются кое-какие фотографии… и если мне не хочется, чтобы они стали всеобщим достоянием, лучше согласиться написать книгу. Ладно, сказал я, но при условии, что мне не придется ради этого прерывать другую работу. (Как-никак у меня на руках были «Блестящие», «Пантомима» для студии «Тасмания» плюс озвучка трех рекламных роликов. Не мог же я все бросить.) Ну-с, после этого за мной начал, куда бы я ни направлялся, таскаться один жутковатый тип с диктофоном. Премьера в «Тасмании» — он рядом. Запись на Би-би-си — тут как тут. Собственно, если вы пересмотрите репортаж о вручении прошлогодней премии Британской киноакадемии, он и там выглядывает прямо из-под трибуны ведущего. Кошмар, вот что это было такое. Ну да ладно. Теперь все позади. И под конец — перед тем, как мы начнем, — позвольте мне вернуться к моему любимому Моцарту. В нем было много обыденного и заурядного. Снятый о Моцарте фильм не так уж и сильно врет — да, он любил играть на бильярде и нередко сочинял музыку прямо во время игры. Да, он был немного помешан на задницах, что видно из его писем. Но то, что не дает мне в связи с Моцартом покоя, может быть правдой, а может — и нет. Я прочитал об этом несколько лет назад в одном музыкальном журнале. Недавние исследования, говорилось там, способны пролить новый свет на причину смерти Моцарта. Причиной этой не был, говорилось там, яд, полученный им от Сальери. Как не была и убийственная доза ртути, модного в ту пору лекарства от сифилиса. Смерть Моцарта, как позволяет заключить это исследование, была вызвана тем, что примерно за сорок четыре дня до нее он угощался свиными отбивными. А они, говорилось в статье, могли быть заражены трихинами, маленькими паразитическими червями, которые заводятся в подтухшем мясе, — симптомы, наблюдавшиеся у Моцарта перед кончиной, идеально укладываются именно в эту версию. Вот так. Композитора, который написал возвышенный Кларнетовый концерт, возвышенного «Дон Жуана» и возвышенную 29-ю симфонию, в конечном счете прикончила коварная, обыденная свинина. Невероятно. Как сказал однажды Том Лерер[*], «очень отрезвляющая мысль — ко времени, когда Моцарт дожил до моих лет, он уж два года как умер». Вот именно, Том, вот именно.Стивен Фрай, июль 2004
ВВЕДЕНИЕ
 Неумение правильно напеть хотя бы одну ноту — это и благословение, и проклятие сразу. Вернее сказать, ноту, которая входит в состав мелодии. Из-за присущей мне неспособности заставить гортань издать звук, хотя бы отдаленно схожий с чем-то приятным для слуха, я ощущаю себя — и далеко не в одном только смысле — едва ли не человеком палеолита. Очень это меня удручает. Помню один на редкость скверный день, когда размышления о сходстве моих вокальных дарований с теми, что присущи полезным для пищеварения крекерам, довели меня до того, что я еле-еле смог выволочь мои кости из кровати и проволочь их до ванной. Но с другой стороны, как и всякий, кому постоянно приходится выслушивать обвинения в сходстве с первобытным человеком, я ощущаю куда более чем мизерное сродство с тем существом, которое впервые сподобилось испустить совершенную там или не совершенную, но, во всяком случае, музыкальную ноту. Разумеется, никто порядком не знает, что это было за существо, — сведения о добром деле, им содеянном, утратились за века, в которые шансы сохранить оригинал какого ни на есть документа были еще даже меньшими, чем в эпоху Уотергейта. А кроме того, легко сообразить, что это был вовсе и не один человек, но коллектив людей, работавших — кто по отдельности, кто скопом — на царей и цариц, фараонов и императоров, а то и на целые царства и династии.
Так что можно с полной уверенностью сказать, что этому даровитому мужу (а он, увы, почти наверняка был именно мужем), проведшему нас от хрюканья к хорам, от варварского воя к упоительному покою, места в исторических трудах так никогда и не найдется. «Я, знаете ли, придумал для папы Григория кантус планус» — такого рода похвальбы, может, и годятся для пивной, но места в «Зале славы» Евтерпы[♫] они вам точно не доставят. И не подумайте, даже на минуту, будто моя книга сможет пролить на этих людей хоть какой-нибудь свет. Не сможет. Она, знаете ли, названа «неполной и окончательной» историей не просто так.
Что я, однако, сделаю — только не говорите мне, будто вам оно ни к чему, — так это предоставлю вам возможность оглянуться и понять, какие сообщества людей дали начальный толчок всей нынешней музыке. И чтобы выяснить это, вам придется вернуться назад, и довольно далеко. Говоря «далеко», я имею в виду далеко. Не в Древний Египет, не к китайской династии Шан-Инь, даже не к шумерам или грекам. Вы мне, может, и не поверите, но всего-навсего во Францию, вообразите!
Неумение правильно напеть хотя бы одну ноту — это и благословение, и проклятие сразу. Вернее сказать, ноту, которая входит в состав мелодии. Из-за присущей мне неспособности заставить гортань издать звук, хотя бы отдаленно схожий с чем-то приятным для слуха, я ощущаю себя — и далеко не в одном только смысле — едва ли не человеком палеолита. Очень это меня удручает. Помню один на редкость скверный день, когда размышления о сходстве моих вокальных дарований с теми, что присущи полезным для пищеварения крекерам, довели меня до того, что я еле-еле смог выволочь мои кости из кровати и проволочь их до ванной. Но с другой стороны, как и всякий, кому постоянно приходится выслушивать обвинения в сходстве с первобытным человеком, я ощущаю куда более чем мизерное сродство с тем существом, которое впервые сподобилось испустить совершенную там или не совершенную, но, во всяком случае, музыкальную ноту. Разумеется, никто порядком не знает, что это было за существо, — сведения о добром деле, им содеянном, утратились за века, в которые шансы сохранить оригинал какого ни на есть документа были еще даже меньшими, чем в эпоху Уотергейта. А кроме того, легко сообразить, что это был вовсе и не один человек, но коллектив людей, работавших — кто по отдельности, кто скопом — на царей и цариц, фараонов и императоров, а то и на целые царства и династии.
Так что можно с полной уверенностью сказать, что этому даровитому мужу (а он, увы, почти наверняка был именно мужем), проведшему нас от хрюканья к хорам, от варварского воя к упоительному покою, места в исторических трудах так никогда и не найдется. «Я, знаете ли, придумал для папы Григория кантус планус» — такого рода похвальбы, может, и годятся для пивной, но места в «Зале славы» Евтерпы[♫] они вам точно не доставят. И не подумайте, даже на минуту, будто моя книга сможет пролить на этих людей хоть какой-нибудь свет. Не сможет. Она, знаете ли, названа «неполной и окончательной» историей не просто так.
Что я, однако, сделаю — только не говорите мне, будто вам оно ни к чему, — так это предоставлю вам возможность оглянуться и понять, какие сообщества людей дали начальный толчок всей нынешней музыке. И чтобы выяснить это, вам придется вернуться назад, и довольно далеко. Говоря «далеко», я имею в виду далеко. Не в Древний Египет, не к китайской династии Шан-Инь, даже не к шумерам или грекам. Вы мне, может, и не поверите, но всего-навсего во Францию, вообразите!
ЭТИ МНЕ ФРАНЦУЗЫ, КОТОРЫМ ПО МЕДВЕДЮ НА УХО НАСТУПИЛО
Ну вечная же история. Они поставляют нам не только отличную еду, отличное вино и отличных любовников — нет, кое-кто полагает, что они и к музыке тоже первыми подобрались. Как бы вам это объяснить попонятнее? Ну ладно, может, вы на минутку составите мне компанию и попытаетесь вообразить, что находитесь сейчас в пещере. Это неподалеку от Перигё, километрах в тридцати к северу от реки Дордонь, от того места, где она прощается с Бержераком. Превосходная часть Франции, может быть, нам стоит, когда мы со всем этим покончим, съездить туда, попробовать тамошние вина. Именно здесь, в деревушке под названием Арьеж, в мадленской пещере «Три брата» вы сможете увидеть совершенно офигенную фреску, на которой изображен получеловек, полубизон. (Вот слова, которых я не слышал со дня моего первого выхода в свет.) В руке он держит явственное подобие лука — и немалое число ученых, совершенно справедливо считающих, что они намного умнее меня, утверждают, рискуя навлечь на свои академические головы гневную критику: это почти наверняка смычок или, быть может, лук двойного назначения — наполовину музыкальный инструмент, наполовину смертоносное охотничье оружие. Могу назвать вам имена множества оркестрантов, которые с наслаждением держали бы в своих футлярах что-нибудь в этом роде. Если этот получеловек, полубизон и вправду таскал с собой смычок, тогда он, надо полагать, как-то крепил его к своей охотничьей маске — поближе к носу, — а нанося этой штукой удар, держал ее обеими руками. Нечто похожее нередко проделывается и поныне в туалетах, облюбованных уличными девками, но, правда, для музыковедов оно представляет интерес куда как меньший. Хорошо, если все сказанное кажется вам хотя бы сносно приемлемым, вы должны усвоить, что речь у нас идет о временах, отстоящих по меньшей мере на восемь с половиной тысяч лет от мгновения, когда первая из египетских кошек оторвала мордочку от миски с едой, скосилась на своего хозяина и сказала себе: «Сдается мне, у этого хмыря что-то неладное на уме». Так вот. 13 500 лет до Р.Х. - перед вами своего рода эскизное свидетельство того, что какую-то музыку кто-то уже играет. А уж после этого, даже при том, что вы можете напороться там или сям на «флейту мамонтовой кости», вам все равно придется перетерпеть еще девять с чем-то тысяч лет — или две с половиной оперы Вагнера, — чтобы получить хоть сколько-нибудь основательное свидетельство несомненного существования музыки. Если вас попросят набросать музыкальную карту, ну, скажем, года 4000-го до Р.Х., большого числа цветных мелков вам не понадобится. Просто возьмите один для египтян, другой для шумеров или жителей Вавилона и третий для греков. А если останется еще парочка для Китая и Индии — тогда все хорошо и замечательно. Давайте, однако ж, начнем с первых трех, с ними одними возни не оберешься.
КОШКИН ДОМ
По моим предположениям, любовь египтян к кошкам объясняется на самом-то деле тем, что египтяне искали, где только могли, жилы, которые можно было натянуть на их арфы. Ныне, где-то около 4000–3000 лет до Р.Х., египтяне, судя по всему, застолбили совсем новый участок, закрепив за собой основательные права на звание первой культуры, которая использует не только арфы, но и флейты. Если их арфы обладали хоть каким-нибудь сходством с теми, на которых примерно в то же время играли шумеры, тогда они должны были иметь эллиптическую форму, три струны и довольно нарядный резонатор, вырезавшийся обычно в форме чего-то такого, что почиталось в ту пору немаловажным. К примеру, в Месопотамии нередко можно было увидеть добродушного местного арфиста-шумера, который сидел, увлеченно перебирая свои три струны, а на лоне его покоился роскошный, резной сидящий бык. То было время, когда в Гизе подрастал Большой сфинкс, когда металлические монеты окончательно сместили ячмень с должности валюты, когда музыканты сражались за лучшие в городе ангажементы — за возможность играть на религиозных церемониях, справляемых в честь главных богов того или этого дня: богини-матери Инанны, ее отпрыска Думузи. Разумеется, меня это всегда наводило на мысль, что уже в ту пору широко использовались музыкальные группы на подхвате, — отчасти потому, что музыканты и в лучшие-то времена были шатией несколько малахольной, отчасти же потому, что шумеры и египтяне пользовались разными календарями. Египет к этой поре уже перешел на календарь, в году которого содержалось 365 дней, между тем как в городах Месопотамии все еще оставались в ходу добрые старомодные «двенадцать месяцев по тридцати дням в каждом», что давало 360. Путаница получалась кошмарная, и если вы умудрялись родиться в неправильные пять дней, то никаких подарков на день рождения вам ожидать не приходилось.
«SUMER» IS ICUMEN IN, ИЛИ ШУМЕРСКИЙ КАНОН[♥]
Добравшись до Шумера 2600 года до Р.Х. - периода, известного его поклонникам как Ранняя Третья династия, вы обнаружите новенькие вырезанные в известняке рельефы, свидетельствующие, похоже, о том, что арфа обзавелась шестью, а то и семью струнами. Где-то невдалеке от Бисмайи нашли даже горшок, показывающий, что арфу подвешивали на ремешке к шее, — свидетельство либо победного шествия прогресса, либо того, что до местной публики дошло наконец, как можно использовать избытки ячменя, и она принялась упиваться до положения риз. Египтяне тем временем пристрастились к округлой, лукообразной арфе, носившей название «бинт» — предположительно потому, что ее приходилось щипать, как корпию, — а также к длинным флейтам и двуствольным трубам, порой именовавшимся «авлосами». Столетие примерно спустя, когда в Уре возводили гробницу для недавно скончавшейся царицы Пу-аби, — дело было за добрых четыреста лет до того, как Авраам надумал этот город покинуть, — ее, царицу то есть, снабдили напоследок очаровательной одиннадцатиструнной арфой с прямой шейкой. Теперь нам ясно, что арфа стала «электрогитарой» своего времени — вездесущей и открытой для самых разных стилистических интерпретаций. Создается впечатление, что существовала даже своя, особая ниша для «глэм-роковой» арфы, не просто имевшей резонатор в форме быка, но как самый настоящий бык и выглядевшей. Честное слово. Вся арфа представляла собой здоровенную… штуковину, которая стояла на деревянных бычьих ногах. Жаль только, что рельефы не показывают, было ли принято отрывать эту арфу под конец концерта от пола и молотить ею по усилителю и микрофону.
БАНДА ПЯТЕРЫХ
Позвольте мне ненадолго отлучиться из Египта и Месопотамии. Я понимаю, думать в этих местах о снеге трудновато, однако, даю вам слово, примерно в это время в Родое, Южная Норвегия, были созданы изображения людей, которые, судя по всему, разъезжали на лыжах. Не думаю, что люди эти так уж часто перебрасывались фразочками наподобие «Слушай, а не тяпнуть ли нам после трассы глинтвейна, ты как?». Скорее ими владели мысли совсем иного рода: «УДИРАЙ, КОМУ ЖИЗНЬ ДОРОГА, МАМОНТ ИДЕТ!» По-моему, я прав. К музыке, как сами вы понимаете, это особого отношения не имеет. Я просто хотел предоставить вам возможность окунуться, что называется, в эпоху. Так или иначе, пока я еще в отлучке, позвольте мне избрать для возвращения в неолитическую Вавилонию дорогу поживописнее, а именно — через Китай. Китайцы обладали тогда — да и теперь обладают — изрядными математическими способностями, и потому нет, скорее всего, ничего удивительного в том, что они прибавили два к двум и получили… пять. Во всяком случае, получили октаву из пяти нот, которой отличнейшим образом и пользовались. Ноты были примерно такие:
ганг | шанг | яо | йи | ючто, насколько я понимаю, выглядит в вольном переводе как: Жили, Убабуси, Пять, Веселых, Гусей. Таковы, более или менее, основные пять делений музыкальной октавы в раннем китайском стиле. Живи уже тогда дама Джулия из Эндрюса, существовала бы и отличная от нуля вероятность того, что самой прославленной песней тех дней была бы не «Умчи меня, олень», а «Ганг, мой Ганг»… Что-нибудь в таком роде:
Ганг, мой Ганг, большой Вольфганг,
Шанг, мой дождик золотой,
Яо, я о нас пою
Йи про деточку мою,
Ю, который я не я,
Вот и вся моя семья…
(м-м-м, виноват, полностью текст этой песни не сохранился).
МОЯ ГЕРЛА
Вообще-то, раз уж мы заговорили о прославленных некогда певцах, присмотритесь-ка к такому вот имени: Па-Паб-Би-гаггир герла. Полный блеск, верно? И вот вам мое честное слово: он — хотя это могла быть и она, сказать тут что-либо определенное, как и в наше время, нелегко — был/была музыкальной звездой времен Ранней Третьей династии. Присутствующая в этом имени «герла» означает просто ВЕЛИКИЙ(АЯ), а его/ее обладатель/обладательница упоминается в нескольких текстах и присутствует на нескольких рельефах. Он/она могли состоять на царской службе или подвизаться в храмовых композиторах-песенниках, а могли и просто разъезжать с концертами и выступать на всяких там праздниках и церемониях. Что бы он/она/оно собою ни представляли, они в свое время почти наверняка были хорошо знакомы с целым набором инструментов, уже начинавших принимать окончательный вид. С арфами, лирами и странноватыми ударными. Певцы, судя опять-таки по рельефам, найденным в Египте времен Древнего царства[♫], как правило, зажимали себе одно ухо левой ладонью. Нынешние исполнители уверяют, будто это делается для того, чтобы лучше слышать «внутреннюю музыку», хотя кое-кто говорит — чтобы не слышать того, кто горланит рядом с тобой. Всеми прочими руками они, по-видимому, «выпевали» — слова поточнее мне подобрать не удалось. То есть, как я это понимаю, либо проделывали примерно то же, что церковный регент, показывающий, какую ноту брать следующей, либо подавали бармену знак, что пора принести всем им еще по кружечке. Имеются также изображения, на которых каждый певец размахивает зажатым в одной руке комплектом трещоток или погремушек (систр), а другой щиплет себя за гортань. И опять-таки, нынешние певцы могут сказать вам, что, наступая себе на горло, они способны менять высоту и тембр любой ноты, однако большинство музыковедов объясняет эту певческую манеру желанием «проделать все самостоятельно, не дожидаясь, когда их возьмет за горло кто-нибудь другой».
ПОЙ, ПОЙ, ЛИРА, О ГЛУПОСТЯХ ДРЕВНЕГО МИРА
А кстати, известно ли вам, как понять, что перед вами лира? Нет? Ладно, в таком случае займите мне десятку, завтра отдам. Шуточка, в общем-то, никакая, однако в ней хотя бы на йоту меньше занудства, чем в объяснениях, что арфа-де выглядит примерно так:
 а лира — вот этак:
а лира — вот этак:
 Усвоили? Ну и прекрасно. Хотя, может, вам лучше все это записать — вместе с именем ведущей поп-звезды Ранней Третьей династии: Па-Паб-Би-гаггир герла, вы ее еще не забыли? И как только вы это запишете, сложите листок, только аккуратно, и поместите его в мусорную корзину. Можно надеяться, что больше вам эти сведения никогда не понадобятся. Если же вы вдруг да поймаете себя на том, что используете их снова… что ж, тогда, думаю, мы с вами еще встретимся — на каком-нибудь званом обеде в аду.
Усвоили? Ну и прекрасно. Хотя, может, вам лучше все это записать — вместе с именем ведущей поп-звезды Ранней Третьей династии: Па-Паб-Би-гаггир герла, вы ее еще не забыли? И как только вы это запишете, сложите листок, только аккуратно, и поместите его в мусорную корзину. Можно надеяться, что больше вам эти сведения никогда не понадобятся. Если же вы вдруг да поймаете себя на том, что используете их снова… что ж, тогда, думаю, мы с вами еще встретимся — на каком-нибудь званом обеде в аду.
ГОСТЕВАНИЕ ГУТИЕВ
Итак. Лиры, арфы, флейты, погремки. Сами видите, все на мази. Вот, правда, шумерам приходилось туговато. Начиная с 2370 года до Р.X. их захватывал практически всякий, у кого имелось несколько сот фунтов и умение владеть мечом. Самыми, возможно, достопримечательными захватчиками были гутии, которые — мне нравится так думать, хоть я и не имею ни грана этимологических доказательств, — должны произноситься скорее как «кутни», каковое название, по всему судя, происходит от слова «кутерьма». Гутии представляли собой орду горных варваров. Ну это уж всегда так бывает, верно? «Варварами» кого только не обзывали. Еще одну «волну вторжения» — с точки зрения шумеров — образовали «аккадские семиты», которые — вероятнее всего, по причине их довольно путаного, плохо продуманного брендинга (ну, то есть, я что хочу сказать: с одной стороны, гутии, а с другой — аккадские семиты; уж я-то знаю, кому отдала бы предпочтение моя фокус-группа!) — решили не искоренять завоеванную шумерскую культуру, но скорее усвоить ее. Гутийско-аккадский период при всей его краткости стал для музыки благотворным. Строились храмы, а, как говорится, где храм, там и трам-пам-пам. В данном случае в моду почти наверняка вошли всякого рода дудки, а также трубы из бычьих рогов, выглядевшие, если судить по изображениям той эпохи, на редкость эффектно и впечатляюще. Особенно с точки зрения быков. После этого шумеры стали основными участниками представления в жанре «Прийти, увидеть, помереть», поставленного с размахом, который еще очень долгое время оставался непревзойденным. Их покоряли, одолевали, перепокоряли, корячили, побеждали, переперепокоряли, повергали в прах и вновь покоряли многажды — в общем, было на что посмотреть. Мне кажется, я понятно все объяснил. И раз уж я застрял в этом времени, может быть, стоит ненадолго остановиться и вывести на сцену кое-кого из вавилонских царей, и в особенности самого прославленного из них, Хаммурапи. В голове моей часто и в обстоятельствах самых разных мелькали две мысли — думаю, мне стоит поделиться с вами обеими. Обе относятся к «потусторонности». Понимаете, я нередко думал о том, что если бы такое место и вправду существовало, то прежде всего оно должно было смахивать на автозаправку. Почему — не знаю: просто думал так, и все тут. И представлял себе заметную издали красно-белую вывеску с приятной, пусть и слегка туманной на вид фигуркой-талисманом, немного похожей на фурию, которая ласково манит вас заехать и полюбоваться пластиковым, сильно переоцененным потусторонним интерьером. Я понимаю, что не все, вероятно, представляют себе посмертную жизнь именно так, ну и ладно, доказать мне, что я не прав, вам все равно никогда не удастся, так что можете ПОДАВАТЬ НА МЕНЯ В СУД! А вторая и, что уж тут вилять, куда более важная особенность посмертного существования, неизменно меня поражавшая, состоит в том, что, несмотря на обещанную вечность, я — хоть убейте меня после смерти — не могу понять, как мне удастся найти время, необходимое для того, чтобы обойти всех, с кем мне хочется от души помолоть языком. Что и возвращает меня к Хаммурапи. Всегда есть совершенно очевидный список людей и вопросов, который окажется у вас на руках в какой угодно потусторонности, — ну, знаете: «А-а, мистер Эйнштейн, вы позволите на минутку отвлечь вас от завтрака? Я просто хотел попросить, чтобы вы еще раз растолковали мне, что это за штука такая: „Е = mc2“. Вы уж простите, но как-то она до меня не доходит. Кстати, не забывайте, кофе тут даровой, так что стесняться нечего». Но помимо людей очевидных есть еще люди не менее интересные, просто вы о них пока ничего не знаете. И по-моему, старина Хаммурапи как раз из их числа.
ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ХАММУРАПИ
Я сказал «старина». Хаммурапи почти наверняка умер молодым еще человеком, но тем не менее время его правления было отмечено огромными скачками вперед, совершавшимися почти во всех областях человеческой деятельности: он упорядочил, что называется, законы, создав то, что почти наверняка было первой организованной правовой системой, и наряду с этим впервые принял крутые меры, направленные против «вождения боевых колесниц в пьяном виде». Не меньших успехов добился он и в сфере здравоохранения. Однако нас прежде всего интересуют его достижения в музыкальном бизнесе. Во времена Хаммурапи музыка воистину и по-настоящему шагнула вперед. С ней произошло много чего хорошего. И нового. В этот «западносемитский», как его нередко именуют, период музыкальные инструменты стали куда более компактными — гораздо меньшими — и почти наверняка куда более легкими. Не приходится сомневаться, что именно тогда была создана модная концепция «самой последней династии», равно как и передовые приемы игры на всякого рода инструментах. Эпоха Хаммурапи ознаменовалась появлением новой лиры, опять-таки более миниатюрной и легкой. Ее прижимали резонатором к телу, а струны перебирали, пользуясь… постойте, как его… медиатором! Черт возьми! Я что хочу сказать — конечно, поначалу он представлял собой всего-навсего огрызок гусиного пера, однако вообразите беседу, когда эту штуковину впервые притащили в храм.
Хаммурапи. А это еще что такое? Музыкант. Это плектр, ваше предположительное высокородие. Хаммурапи. Чего? Музыкант. Плектр, а иначе — медиатор, доброй евфратской работы. Хаммурапи. И на что он сдался? Музыкант. Им дергают струны лиры, сир. Благодаря этой штуке пальцы не грубеют и не мозолятся, а это означает, что лирник может играть куда дольше… Хаммурапи. Ну, не уверен, что мне от этой хреновины будет какая-нибудь польза… Музыкант. …э-э, а это, в свой черед, означает, что соло на ударных укорачиваются. Хаммурапи. Закажи для меня сразу тысячу[♫].На случай, если вы не сочтете роль медиатора в музыке достаточно значительной для того, чтобы оправдать упоминание о Хаммурапи, — не стоит забывать, однако, что кое-кто из рок-звезд того периода вынужден был дергать струны зубами, — отметим, что он, Хаммурапи то есть, помимо всего прочего предрек рождение тимпанов (литавр) и кимвалов. Так что при всяком исполнении гимна «Правь, Британия» говорите себе: вот эта барабанная дробь и звон тарелок, сопровождающие
Праааавь… [дробь]… Британн-ия… [ДЗЫНЬ]… Правь, Британия, волнами…не забывай — за все это ты должен сказать спасибо Хаммурапи и присным его. И сколько, по правде сказать, иронии в том, что партитура «Правь, Британия» обязана своим происхождением маленькому, ныне безлюдному городку, лежащему в 90 километрах от Багдада, в Центральном Ираке.
ШУМЕР-ЕГИПЕТ — 1:0
В Египте между тем дела шли едва ли не вдвое хуже. Если не втрое. Цари семитов-гиксосов, отогнавшие египтян на юг и установившие в дельте Нила собственное правление, были, судя по всему, полной противоположностью более-менее современным им, жившим через один дом вавилонянам. В том, что касается музыки, культуры и искусства вообще, достижения, которыми отмечено время господства гиксосов в этом бесценном регионе, — господства, продолжавшегося примерно с 1650 по 1550 год до Р.Х., — сводятся к следующему: nihilum, οùδéν и
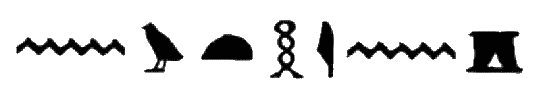 Или в более внятном виде — ничего, ничего и ничего по-латыни, на греческом и на шутовском египетском. Да, для искусства Египта то был период, не вызывавший никаких бездыханных восторгов. Ни тебе новых инструментов, ни новой музыки, ни чартов, заполненных кавер-версиями.
Что же, в таком разе давайте округлим последнюю дату. Теперь уже 1500 год до Р.Х., все складывается вполне пристойно. У нас имеется «версия», если можно так выразиться, музыки: гармонии в ней, по правде сказать, с гулькин нос, играется она по преимуществу на одной ноте, а инструментовка и вовсе ни на что не похожа. В общем, перед нами нечто такое, что в современном Соединенном Королевстве особого признания не получило бы — ну разве что среди поклонников Фила Коллинза. Зато хетты Северной Сирии, великое им спасибо, делали большие успехи, играя на множестве инструментов, в том числе на гитаре, трубе, тамбурине и лире. Еще позже, начиная с 1000 года до Р.X., появляются свидетельства участия использующих эти же инструменты профессиональных певцов и музыкантов в религиозных церемониях Израиля. Однако, чтобы подобраться к первой из музыкальных записей, вам придется перескочить лет через двести с лишком и снова вернуться к шумерам. Где-то после 800 года до Р.X. они тоже додумались до пятиступенной октавы, а спустя недолгое время создали и первую из когда-либо осуществленных запись музыкального произведения. То был гимн, и, понятное дело, говоря «запись», я имею в виду, что она была вырезана на так называемой клинописной табличке — клиновидной лепешке глины, на которой, пока глина еще оставалась сырой, можно было писать стилом. Теперь же, если я просто-напросто проигнорирую большую часть последующих ста с чем-то лет, — и поверьте, я более чем готов это сделать, — мы с вами сможем заняться греками, без шуток. Однако с кого или с чего лучше начать — с Терпандра или с Лесбоса? Ну вообще-то говоря, это вопрос риторический.
Или в более внятном виде — ничего, ничего и ничего по-латыни, на греческом и на шутовском египетском. Да, для искусства Египта то был период, не вызывавший никаких бездыханных восторгов. Ни тебе новых инструментов, ни новой музыки, ни чартов, заполненных кавер-версиями.
Что же, в таком разе давайте округлим последнюю дату. Теперь уже 1500 год до Р.Х., все складывается вполне пристойно. У нас имеется «версия», если можно так выразиться, музыки: гармонии в ней, по правде сказать, с гулькин нос, играется она по преимуществу на одной ноте, а инструментовка и вовсе ни на что не похожа. В общем, перед нами нечто такое, что в современном Соединенном Королевстве особого признания не получило бы — ну разве что среди поклонников Фила Коллинза. Зато хетты Северной Сирии, великое им спасибо, делали большие успехи, играя на множестве инструментов, в том числе на гитаре, трубе, тамбурине и лире. Еще позже, начиная с 1000 года до Р.X., появляются свидетельства участия использующих эти же инструменты профессиональных певцов и музыкантов в религиозных церемониях Израиля. Однако, чтобы подобраться к первой из музыкальных записей, вам придется перескочить лет через двести с лишком и снова вернуться к шумерам. Где-то после 800 года до Р.X. они тоже додумались до пятиступенной октавы, а спустя недолгое время создали и первую из когда-либо осуществленных запись музыкального произведения. То был гимн, и, понятное дело, говоря «запись», я имею в виду, что она была вырезана на так называемой клинописной табличке — клиновидной лепешке глины, на которой, пока глина еще оставалась сырой, можно было писать стилом. Теперь же, если я просто-напросто проигнорирую большую часть последующих ста с чем-то лет, — и поверьте, я более чем готов это сделать, — мы с вами сможем заняться греками, без шуток. Однако с кого или с чего лучше начать — с Терпандра или с Лесбоса? Ну вообще-то говоря, это вопрос риторический.
МОЖЕТ, ВСЯ ПРИЧИНА В ТОМ, ЧТО Я ЛЕСБИЯНКА…
А что, из этого могло бы получиться неплохое название для песенки. Однако, прежде чем приступить к нашему делу, следует выяснить, в какого рода артистическом мире родился этот самый Терпандр. Понимаете, где-то, как-то, по пути между давними придворными музыкантами Египта и этими местами, музыка превратилась из почти ничего в почти все. Греки верили ныне, что музыка есть носительница всяческого блага. Она формирует нравственность. Она дает образование. Удовольствие, которое музыка доставляет «уху», — это лишь крошечная верхушка айсберга. Сама музыка намного важнее той улыбки, которую она вызывает. К тому же речь у греков шла не просто о музыке. Для них музыка — mousike — означала три вещи: танец, поэзию, ну и собственно музыку. Терпандр жил на острове Лесбос, вероятно, с 712 по 645 год до Р.X., а родился, скорее всего, в Антиссе, городе, расположенном на северо-западном берегу названного острова. Ему приписывают изобретение семиструнной лиры. Изобрел ее Терпандр или не изобрел, он определенно наделал с ее помощью достаточно шума на 26-й Олимпиаде древних, проводившейся в Спарте, так что стал даже чем-то вроде национального героя. А если и этого не достаточно, чтобы приобрести славу и состояние, отметим, что он же, предположительно, основал в Спарте первую музыкальную школу. Примерно в то же самое время в музыкальном мире произвел своего рода фурор человек еще более легендарный. Арион был уроженцем Самоса, прославленным музыкантом, состоявшим при дворе Периандра, царя Коринфа. В наши дни его помнят прежде всего благодаря двум обстоятельствам: во-первых, потому, что он ввел идею «строф» и, стало быть, «антистроф», то есть чередующихся частей стихотворения. Во-вторых же, что несколько более интересно, его запомнили по причине истории, однажды приключившейся с ним в море. Его корабль, возвращавшийся с музыкального состязания на Сицилии, был захвачен морскими разбойниками. Они ограбили беднягу и совсем уж было собрались выбросить его за борт, но тут Арион попросил, чтобы ему позволили напоследок спеть. Он взял лиру и запел, да так сладкогласно, что вокруг корабля собрались дельфины. Когда Ариона наконец отправили прогуляться по доске, один из дельфинов усадил его себе на спину и благополучно доставил на берег. Люблю счастливые концовки. Следующий важный персонаж нашей неполной, но окончательной истории греческой музыки — это всесторонне одаренный Пифагор. Нет-нет, это имя вовсе не носили два человека, я говорю все о том же Пифагоре, родившемся около 580 года до Р.Х. и додумавшемся до теоремы о прямоугольных треугольниках. Собственно говоря, если поразмыслить, музыка пребывала тогда примерно на том же этапе развития, что и математика и естественные науки, поэтому не приходится удивляться тому, что философ/математик на каком-то этапе своего развития обратил взоры на музыку. Именно Пифагор и придумал ту самую более или менее октаву, которой мы ныне пользуемся. Легенда гласит, что вдохновение посетило его, когда он слушал стук молотов в кузне. Заметив, что каждый молот порождает собственный звук, Пифагор выяснил, что весят они 12, 9, 8 и 6 фунтов соответственно. Говорят, будто из этого он и вывел главные интервалы: октаву, квинту, кварту и тон. Если все это правда, следует сказать, что то был далеко не последний случай, когда музыка и молотобойцы шли рука об руку. Пифагор скончался около 500 года до Р.Х. Сроки его жизни пересекаются, так сказать, со сроками жизни Пиндара, великого лирического поэта Греции, — может быть, величайшего. Он был беотийцем, обитателем Центральной Греции, человеком высокородным, много странствовавшим, — из сочинений же его сохранилось число фрагментов, достаточное для того, чтобы показать: именно он и придумал оду — и первом приближении. Он также был своего рода магом и волшебником в том, что касалось игры на авлосе, кифаре и лире. Башковитый был малый, что и говорить, однако, если сравнить Пиндара с человеком, явившимся на свет ровно через одиннадцать лет после егокончины, становится ясно, что место Пиндара — во втором составе. Я говорю о мистере Латоне: мистере П. Латоне.
ПЛАТОНИЧЕСКАЯ СОЛЬМИЗАЦИЯ
Ладно, ладно, я слышу ваши слова: с какой это стати в «Неполную и окончательную» затесался еще один философ? Извольте, я вам скажу. Платон не только дал нам большую часть сведений о Пифагоре, он также изложил новые, «философские» представления о музыке — и в своем «Государстве», и в своих «Законах». Музыку, заявил он, следует рассматривать в трех аспектах, каковые суть — слово, гармония и ритм. Инструментальную музыку долой. Главное — слова. Кроме того, у Платона нашлось что сказать и о природе различных тональностей. Различные тональности представляли собой гаммы, на которых строилось каждое музыкальное произведение, — если быть точным, не совсем гаммы и не совсем тональности, просто группы нот, используемых при исполнении того или иного сочинения. Платон считал себя способным определить многие из характеристик тональностей, а сделав еще один шаг, предписать и присоветовать разные тональности для самого разного употребления. Миксолидийский лад, говорил он, полон жалоб и стенаний, тогда как лидийский и даже ионийский более женственны и умиротворительны — а потому для мужчин-воинов негожи. Сочинения, написанные в дорийском ладу, героичны, между тем как фригийский действует возбуждающим чувства образом. Интересно было бы знать, нашелся ли на свете человек, который, приняв эти рекомендации на веру, вышел, вооружась одной лишь лидийской одой, навстречу мародерствующей армии варваров в надежде умиротворить всех их до смерти?
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛИЗМА
Подобно тому как Платон был учеником Сократа, Аристотель был учеником Платона. Родившийся в Стагире, Македония, в 384 году до Р.Х., Аристотель проводил вместе с мистером П. исследования в афинской Академии. Волыним музыкантом, как таковым, Аристотель (разве не приятно было бы обнаружить свидетельства о том, что друзья называли его Ари?) не был, однако, как и Платон до него, обращался мыслью ко многим сферам жизни, одной из которых была музыка. Он тоже считал, что музыка ГОРАЗДО значительнее доставляемого ею слуху удовольствия. В ней присутствовала подлинная этическая мощь, она играла жизненно важную роль в образовательном процессе. Однако в том, что касается слов, он с Платоном не соглашался. Аристотель готов был принять инструментальную музыку, поскольку полагал, что она обращается непосредственно к чувствам слушателя, без помех, создаваемых словами поэта. Музыка была для него средством почти гомеопатическим и определенно слабительным. Будь Аристотель у власти в наши дни, вы, возможно, носили бы в аптеку рецепты на струнные квартеты — принимать два-три раза в день во время еды. Принадлежащий уже к следующему поколению Аристоксен, ученик Аристотеля, перенял его идеи и, оставив без внимания почти все прочие области философии, занялся одной только музыкой, сочинив книги «Элементы гармоники» и «Элементы ритмики». Одна из его основных теорий состоит в том, что душа для тела — это то же, что гармония для музыкального инструмента. Он отошел и от идей своих прежних учителей, пифагорейцев, заявив, что ноты октавы определяются не только математическими отношениями, но и слухом. Даты жизни Аристоксена в точности не известны, однако, если присоединиться к мнению большинства, согласно которому к 300 году до Р.Х. он был уже мертв и отпет, мы останемся с тем, что греческие ученые называют «megalos trypa aimatodis», или, в переводе, «черт знает какой пробел». Поскольку года примерно до 50-го до Р.Х. ничего интересного больше не произошло.
ЭПОХА ОРГАНИЗАЦИИ
Если честно, этот «черт знает какой пробел года до 300-го до Р.Х.» — так его называют в нашей семье — включает в себя самую начальную суету вокруг органа. В какой-то из годов этого периода некий умник решил, что авлос, или труба, обладает одним роковым недостатком и недостаток этот коренится в том, кто на авлосе играет. Этим людям вечно не хватало дыхания. В итоге на свет появился «нагнетательный авлос», построенный в основном на том же принципе, что ирландская волынка, — исполнитель, нажимая локтем на воздушный пузырь, играет на трубах двумя руками. А затем, в третьем веке до Р.Х., подвизавшийся в Александрии инженер по имени Ктесибус сделал, как уверяют, еще один шаг вперед и создал «organon hydraulikon», или водяной авлос, в котором использовался воздух, сжимаемый весом воды. Ктесибус был сыном цирюльника и пользовался большой популярностью у императоров Рима. Как инженер, он работал на ремонте акведуков. На самом деле он даже строил для одного императора военные машины, имевшие назначением причинять максимальные огорчения тем, кто с ними сталкивался. Так что его обращение к органу представляется мне только естественным. Скорее всего, он-то орган и изобрел — более или менее. Современники Ктесибуса оставили нам рассказы о его «mechanike syntaxis», этакой флейте Пана, «на которой играли руками и которая именовалась гидравлосом», причем «нагнетательный механизм ее посылал воздух в медный пнигеус, опущенный в воду». Вы что-нибудь поняли? По-моему, тут говорится, в общем и целом, что Ктесибус почти наверняка подарил миру орган — или что-то вроде него, — а с ним и кривоногого музыканта со слегка вытаращенными глазами, немного слабоумной улыбкой и склонностью вторгаться в ваше личное пространство. Или мне следовало просто сказать «органиста»? Орган имел громовый успех в Дельфах 90 года до Р.Х., когда Антипатр победил, играя на нем, в больших состязаниях. За ним, лет сорок спустя, как раз когда Кай Юлий Цезарь боролся с Помпеем за лавровый венок, появилась еще одна важная новинка, а именно гобой. Император Нерон, хотя ныне его называют прежде всего и по преимуществу скрипачом, почти наверняка играл и на гобое. Как это ни грустно, когда я теперь слышу слова «император Нерон», перед внутренним взором моим неизменно предстает «император Кристофер Биггинс»[*], плавно вышагивающий в тесноватой ему тоге на фоне шатких — дунь и развалятся — декораций. Произведению, именуемому «Я, Клавдий»[*], еще много за что придется ответить. Беспечно проскочив мимо того обстоятельства, что в 38-м до Р.Х. китайцы разбили свою октаву на шесть частей — как и почему, понятия не имею, — мы добираемся до нового megalos trypa aimatodis. Хотя на сей раз мне, вероятно, следовало сказать «grandis cavus sanguineus»[*].
НЕ БАХ, НО ВСЕ-ТАКИ
Впрочем, это был уже другой «grandis cavus sanguineus». Это был «grandis cavus sanguineus ET CHRISTIANUS»[*]. Ну еще бы! Эпоха, именуемая «по Р.Х.», набирала полный ход, и буквально все норовили дополнить костюм какой-нибудь рыбой[*]. Музыка доказала свою полезность для утверждения того, что было поначалу всего лишь верованиями маленькой секты. Совершенно фантастическим инструментом распространения христианства оказались псалмы с их диалоговым построением[♥] — равно как и ставшие вскорости вездесущими «гимны». Святые Августин и Иероним быстро усвоили, что с помощью прилипчивого мотивчика можно внедрить в людское сознание все, что потребуется, — хоть их и тревожили как доставляемое музыкой «чувственное наслаждение», так и вредоносность оного. Кроме того, поскольку средством такого внедрения было «устное слово», гимны нередко несли в себе неверную, а то и заведомо ложную информацию. Нот тут-то за дело и взялся первый крупный спаситель музыки. Он был крупен, смел и порывист — и был, если честно, епископом — Миланским. И носил волнующе эротичное имя…
 Ну хорошо, не такое уж и эротичное, согласен, но все-таки, а? Как говорится, на безрыбье и рак белорыбица.
Ну хорошо, не такое уж и эротичное, согласен, но все-таки, а? Как говорится, на безрыбье и рак белорыбица.
НАВЕРНОЕ, ПОТОМУ Я И АМВРОСИЙ
Нет, честное слово. Амвросий действительно был епископом Миланским, избранным на эту должность в тридцать пять лет, причем довольно причудливым образом. Говорят, что во время совещания, на котором обсуждалась кандидатура нового епископа, — Амвросий присутствовал на нем отнюдь не в качестве претендента — какой-то ребенок заблажил в толпе, выкликая: «Амвросия… в епископы… Амвросия… в епископы…» Поскольку воспринято это было как знак свыше, а не, скажем так, простое совпадение, Амвросий, вовсе того не желавший, получил место епископа. Причина, по которой неохочий епископ вступил в мир СФНиОИКМ, состоит в том, что основные его притязания на славу были вовсе не теологическими или литургическими, но музыкальными. До эпохи Амвросия музыку в церкви исполняли преимущественно профессиональные хористы, более или менее монополизировавшие все лучшие мелодии. Амвросий же дал такую возможность и простым людям, введя антифонное пение, коего вполне хватило, чтобы довести до слез, ну, скажем, святого Августина. Пение это, известное ныне как «амвросианское», до сей поры практикуется на севере Италии, где его предпочитают принятому почти повсеместно пению григорианскому (по имени папы Григория I — о нем через минуту скажу чуть больше). Чтобы вы представляли себе контекст — все происходило примерно в то время, когда римские легионы начали в массовом порядке покидать небольшую пограничную заставу, которую они называли Британией, — исход их был каким-то образом связан с ворчливыми жалобами наподобие «Вечно у них тут дождь идет…» и «Приличного кофе с молоком не допросишься…». Амвросианское пение, григорианское пение — оба они подпадают под аршинный заголовок «кантус планус», или «ровное пение»: поют это дело все больше монахи в монастырях, на одной ноте, под вступающий время от времени аккомпанемент органа. Я всегда считал такое определение неудачным, поскольку зачастую ничего в этом пении «ровного» нет. Оно прекрасно. Если честно, все время Амвросия и Григория рассматривается многими как начало более или менее классической музыки — какой она известна нам ныне, — главным образом потому, что это первый период, в котором мы и впрямь получаем немалый кус записанного музыкального материала. Разумеется, как мы уже поняли, музыка существовала задолго, задолго до этого времени. Шумеры играли ее, заглядывая в свои клинописные таблички, греки дули в авлосы, и даже египтяне — во флейты. Понимаете? Египтяне вообще были ребята умные, у них даже свой Джеймс Гэлуэй[*] появился раньше, чем у кого-либо другого.
NON UNUS BOTULUS[*]
А затем самым неожиданным и драматичным образом, и к тому же, это тоже необходимо сказать, совершенно без всякого предупреждения… …не произошло ничего. На самом-то деле, даже закончившись, оно тут же произошло снова. Я имею в виду это самое ничего. Если честно, оно так и происходило, раз за разом, в течение двух столетий. Ничего. Происходившее целых два столетия! Если хотите представить себе, на что это может быть похоже, включите компьютер и попробуйте получить хоть что-нибудь по справочному каналу. И все это время Земля продолжала вертеться. Просто так. Годы, как им и следует, проходили, покряхтывая. Трам-пам-пам. Собственно, вы и оглянуться-то не успели, как уже наступил, оох, поздний вечер того же дня. Хотя, впрочем, последний уходивший из Британии римлянин все же успел сказать: «Bonum ridensum»[*] и погасить за собой свет; и помелькал там и сям весьма рассерженный молодой человек по имени Аттила Гунн; и флот остготов, уже отколовшихся от вестготов, был разгромлен Византией. Сами видите, что получается. Не столько «история того периода», сколько ролевая игра. А следом, совершенно неожиданно, — прежде чем вы успели бы сказать «уноси готовенького» — наступил год 600-й.
ВЕСЬ МИР Я НАУЧИЛ БЫ ПЕТЬ… НА ОДИН ГОЛОС
Итак, год 600-й, и, откуда ни возьмись, явился новый папа. Шаг вперед… Григорий I. Он не только отправил св. Августина[*] на остров Тенет, произнеся при этом исторические слова: «Э-э, Густик, малыш, для тебя нашлась работенка… давай-ка сбегай за зонтиком…» — он также решил создать в Риме школу, «Схолу Канторум», чтобы еще раз попробовать упорядочить музыкальный бизнес. Можно предположить, что примерно в это же время и появилась новая порода людей, «managerius brandius», или бренд-менеджеры, как их стали потом называть. Во всяком случае, именно тогда кто-то произнес — впервые в истории: «Ладно, давайте убедимся, что все мы раскрыли сборник гимнов на одной странице». Кроме того, «Грег Один», как значилось на номерных знаках его коня и кареты, опубликовал «Антифонарий» — собрание церковных песнопений. Если честно, сейчас можно с почти полной уверенностью сказать, что он был просто-напросто одним из целой оравы религиозных, по преимуществу, деятелей, пытавшихся продвинуть куда-то музыку в целом, однако благодаря соединению легенды с личным влиянием только его за эти дела и запомнили. Личное влияние очевидно — он был папой (с 590 по 604), а в те времена не существовало лучшей гарантии того, что, на какую бы вечеринку вас ни пригласили, в списке гостей, который держал в руках стоящий при дверях вышибала, против вашей фамилии будет значиться «на два лица». С легендой все обстоит сложнее. Судя по всему, несмотря на то что св. Августин был всего лишь одним из целой оравы влиятельных в музыкальном деле людей, ход времени — и, возможно, желание свалить всю вину на кого-то одного — привел к тому, что в нем стали видеть не только человека, составившего сборник григорианских напевов, но и сочинителя большинства из них, что почти наверняка неверно. Ну что ж, по крайней мере у нас теперь есть очень удобная точка отсчета. Итак, на свет явилось григорианское пение, и последние скудные отзвуки амвросианского постепенно затихли вдали.
РОЖДЕНИЕ
 Итак. Официальное начало положено. РОВНОЕ ПЕНИЕ. Прекрасное, на одной, как правило, ноте. На свет появилась музыка — благодаря соединенным усилиям святых Амвросия и Григория. Следующий, на кого стоит полюбоваться в той рубрике истории музыки, что носит название «Фабрика звезд», — это человек по имени Гвидон. Нет-нет, царь Салтан тут решительно ни при чем.
Простите за спешку, но мне еще эвон сколько веков придется отмахать. Так что я позволю себе перескочить через несколько сот лет, идет? Во главе ООО «Британия» стоит ныне король Кнут, и большой популярностью пользуются палочные наказания. Все замечательно. И вот, не успели мистер и миссис Хайям поместить в «Персидских новостях» крошечное объявление о рождении маленького Омара, как в распоряжение музыкального мира уже поступила новая система, изобретенная человеком по имени Гвидон Аретинский. Именно он проложил путь для другого мистически одаренного музыканта — для уже упоминавшейся выше великой «Джулии из Эндрюса».
Как позволяет заключить его имя, Гвидон, или Гвидо, провел значительную часть жизни в итальянском городе Ареццо, стоящем примерно в 30 километрах к северу от Тразименского озера. Он был бенедиктинским монахом, перебравшимся сюда из родного Парижа.
Гвидо придумал слова, отвечавшие каждой из нот, или, как сказала об этом сама королева Джулия: «Начинать надлежит с начала, ибо лучшего почина измыслить не можно. Егда некий человек научается чтению книжному, то первым делом изначальные три знака уразумевает — аз-буки-веди, того для и ты, коегожды петь приступая, починай с „до-ре-ми“». Э-э, et cetera.
Хотя, если честно… примерно к этому все и сводится. Так что, когда будете в следующий раз беседовать с кем-то о «Звуках музыки», попробуйте-ка обронить: «Ах да, старая тоновая система сольмизации, которую ввел в одиннадцатом веке Гвидо д’Ареццо. Или это была все-таки группа „Степс“?»
На самом деле старина Гвидо много чего понаделал. В том же самом году, как раз когда китайцы окончательно довели до ума изобретенную ими симпатичную, пусть и смертоносную, смесь древесного угля, серы и нитрата калия, она же порох, а по всей Европе только и разговоров было, что о поэме с невразумительным названием «Беовульф» (ну, то есть, либо так, либо все они там перепились), наш человек в музыкальном мире придумал еще и маленькую штучку из пяти строк, на которой ныне вся музыка и пишется, — штучку, именуемую «нотоносцем», или «нотным станом». Вот она.
Итак. Официальное начало положено. РОВНОЕ ПЕНИЕ. Прекрасное, на одной, как правило, ноте. На свет появилась музыка — благодаря соединенным усилиям святых Амвросия и Григория. Следующий, на кого стоит полюбоваться в той рубрике истории музыки, что носит название «Фабрика звезд», — это человек по имени Гвидон. Нет-нет, царь Салтан тут решительно ни при чем.
Простите за спешку, но мне еще эвон сколько веков придется отмахать. Так что я позволю себе перескочить через несколько сот лет, идет? Во главе ООО «Британия» стоит ныне король Кнут, и большой популярностью пользуются палочные наказания. Все замечательно. И вот, не успели мистер и миссис Хайям поместить в «Персидских новостях» крошечное объявление о рождении маленького Омара, как в распоряжение музыкального мира уже поступила новая система, изобретенная человеком по имени Гвидон Аретинский. Именно он проложил путь для другого мистически одаренного музыканта — для уже упоминавшейся выше великой «Джулии из Эндрюса».
Как позволяет заключить его имя, Гвидон, или Гвидо, провел значительную часть жизни в итальянском городе Ареццо, стоящем примерно в 30 километрах к северу от Тразименского озера. Он был бенедиктинским монахом, перебравшимся сюда из родного Парижа.
Гвидо придумал слова, отвечавшие каждой из нот, или, как сказала об этом сама королева Джулия: «Начинать надлежит с начала, ибо лучшего почина измыслить не можно. Егда некий человек научается чтению книжному, то первым делом изначальные три знака уразумевает — аз-буки-веди, того для и ты, коегожды петь приступая, починай с „до-ре-ми“». Э-э, et cetera.
Хотя, если честно… примерно к этому все и сводится. Так что, когда будете в следующий раз беседовать с кем-то о «Звуках музыки», попробуйте-ка обронить: «Ах да, старая тоновая система сольмизации, которую ввел в одиннадцатом веке Гвидо д’Ареццо. Или это была все-таки группа „Степс“?»
На самом деле старина Гвидо много чего понаделал. В том же самом году, как раз когда китайцы окончательно довели до ума изобретенную ими симпатичную, пусть и смертоносную, смесь древесного угля, серы и нитрата калия, она же порох, а по всей Европе только и разговоров было, что о поэме с невразумительным названием «Беовульф» (ну, то есть, либо так, либо все они там перепились), наш человек в музыкальном мире придумал еще и маленькую штучку из пяти строк, на которой ныне вся музыка и пишется, — штучку, именуемую «нотоносцем», или «нотным станом». Вот она.
 Ни один музыкант, имея ее в руках, с дороги уже не собьется. Если, конечно, он не катает в это время в машине своих развеселых подружек. Как бы там ни было, происхождение нотоносца датируется 1000-м годом.
Удрученным студентам консерваторий потребовалось еще несколько сот лет, чтобы сочинить мнемонические фразы наподобие «Солдат-Сирота Ревет Фальцетом Лакримозу», «Милый Соловей Синице Рекомендует Фагот» или особенно мною любимой «Фатальное Решение: Сироп и Соль в Миксер»[♫] и запомнить с их помощью ноты. Вообще говоря, Гвидо не помешал бы хороший пиарщик, поскольку в большинстве своем люди о нем и слыхом не слыхивали. Возможно, ему стоило бы прибавить к своему имени какой-нибудь энергичный инициал… сейчас, постойте… Гвидо Г. д’Ареццо. Могло и сработать. Его бы сразу заметили. Нет сомнений, живи он в наши дни, ему присвоили бы прозвание вроде «Гвид-о-ктава» — просто для того, чтобы имя его пережило века.
Гвидо д’Ареццо умер в 1050-м. Ровно сорок восемь лет спустя появился еще один музыкант, подвизавшийся в том же примерно мире — проводя дни в молитвах и созерцании. И он тоже внес в музыку значительный вклад — может быть, и не такой осязаемый и долговечный, как у Гвидо с его пятью линейками, но тем не менее важный. Этот человек, родившийся в 1098-м, воистину поднял музыку на новые высоты, заставил всех обратить на нее внимание. Однако более поражает нас в этом композиторе, аранжировщике, поэте и мечтателе одно редкостное качество… он был женщиной!
Ни один музыкант, имея ее в руках, с дороги уже не собьется. Если, конечно, он не катает в это время в машине своих развеселых подружек. Как бы там ни было, происхождение нотоносца датируется 1000-м годом.
Удрученным студентам консерваторий потребовалось еще несколько сот лет, чтобы сочинить мнемонические фразы наподобие «Солдат-Сирота Ревет Фальцетом Лакримозу», «Милый Соловей Синице Рекомендует Фагот» или особенно мною любимой «Фатальное Решение: Сироп и Соль в Миксер»[♫] и запомнить с их помощью ноты. Вообще говоря, Гвидо не помешал бы хороший пиарщик, поскольку в большинстве своем люди о нем и слыхом не слыхивали. Возможно, ему стоило бы прибавить к своему имени какой-нибудь энергичный инициал… сейчас, постойте… Гвидо Г. д’Ареццо. Могло и сработать. Его бы сразу заметили. Нет сомнений, живи он в наши дни, ему присвоили бы прозвание вроде «Гвид-о-ктава» — просто для того, чтобы имя его пережило века.
Гвидо д’Ареццо умер в 1050-м. Ровно сорок восемь лет спустя появился еще один музыкант, подвизавшийся в том же примерно мире — проводя дни в молитвах и созерцании. И он тоже внес в музыку значительный вклад — может быть, и не такой осязаемый и долговечный, как у Гвидо с его пятью линейками, но тем не менее важный. Этот человек, родившийся в 1098-м, воистину поднял музыку на новые высоты, заставил всех обратить на нее внимание. Однако более поражает нас в этом композиторе, аранжировщике, поэте и мечтателе одно редкостное качество… он был женщиной!
ОТ НОТНОГО СТАНА К ЖЕНСКОМУ
Из всего, что имело отношение к аббатисе, композитору, «сновидице» и вообще всесторонне эксцентричной даме по имени Хильдегарда Бингенская, мне всегда казалось особенно удивительным одно, а именно — она вовсе таковой не была. Это я насчет «Бингенская». Она и не родилась в Бингене, и не жила в Бингене, и не в Бингене умерла. Если, узнав об этом, вы решите, что можете с не меньшими основаниями именовать ее Хильдегардой Бэйсингстокской или Хильдегардой фон Симондс-Иейт, что ж, дело ваше. Нет, все-таки родилась она в Рейнгессене, а скончалась в Рупертсберге, и по крайней мере Рупертсберг, стоящий в шестидесяти примерно километрах к юго-западу от Штутгарта, расположен рядом с Бингеном. И отлично. Рад, что так понятно все объяснил. Хильдегарда была женщиной безусловно замечательной, женщиной, с таким же удовольствием помогавшей советами епископам — и даже папам, — с каким она готовила припарку из травяных настоев, смешанных по ее собственному рецепту. С самых юных лет Хильдегарду посещали видения, и из-за них ее, совсем еще молодой женщиной, определили в анахоретки. Анахоретки представляли собой что-то вроде гибрида монахини с инструктором спецназа по выживанию — так что Хильдегарда, приняв постриг, тут же попала в одиночное заключение. В возрасте сорока двух лет ее посетило видение, давшее ей, по ее же словам, полное понимание религиозных текстов, и начиная с этого времени она стала записывать все свои сны и наития. Ныне главными ее достижениями почитаются музыкальные. Она оставила большое число хоралов, слова для которых нередко сочиняла сама — вместо того чтобы перелагать на музыку распространенные в то время тексты. Мне и теперь представляется печальным, что Хильдегарда известна ныне не только потому, что она была одним из первых значительных композиторов, оставивших нам музыкальные записи, но и потому, что она была среди них ЕДИНСТВЕННОЙ женщиной. Ну что же. Как сказал мистер Браун[*], это мужской мир.
Ах, если б этот шарик был лишь нашим.
Но он, увы, не значит ничего,
Нет, ничего… без женщин и монашек.
ПЕРВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШУТКА (ПРАВДА, НЕ МОЦАРТОВСКАЯ)
Итак. 1179-й, год кончины Хильдегарды Бингенской, или Рупертсбергской, — зависит от того, насколько вы помешаны на точности. Фактически именно в этом году по миру начала бродить самая первая музыкальная шутка. До наших времен она дошла в виде анекдота про Бинга Кросби и Уолтера Диснея, однако в оригинале, как вы увидите из приведенного ниже текста, относилась именно к Хильдегарде. Выглядела она примерно так (произносится с шотландским акцентом):
lnterrogatio: Quod differentum est trans
Hildegard von Bingen et Waltus Disnius?
Repondatum: Bingen singen, sed Waltus
Disnius![*]
1. В. Как узнать барабанщика по стуку в дверь? О. Он стучит быстрее всех прочих. 2. В. Как вы назвали бы человека, который вечно ошивается рядом с музыкантами? О. Барабанщиком. 3. Эта шутка для печати не пригодна.Так или иначе, пошли дальше. Нам еще нужно добраться до 1225-го, до, как это принято теперь называть, «следующей большой сенсации» в истории музыки. А по пути позвольте мне попытаться пересказать все то, что вам следует знать. В 1184-м в Модене был освящен собор, остававшийся непревзойденным до тех пор, пока три года спустя достойные горожане Вероны не построили свой собственный. По сути дела соборы — это такие большие надгробные памятники. И не в одном лишь буквальном смысле. Каждому хочется иметь свой. В Бамберге заложили один, в Шартре другой, да и светившиеся охряными крышами дома Сиены с нетерпением ожидали, когда на них падет теплая тень их собственного собора. Понятное дело, я говорю вам об этом не просто для того, чтобы скоротать время, у меня на то есть причина. Однако о ней — чуть дальше.
КАРМА-КАРМА-КАРМА-КАРМА-КАРМИНА БУРАНА… ТО ЯВИШЬСЯ ТЫ, ТО РАСТВОРИШЬСЯ…
Напомните мне, чтобы я рассказал вам о carmina burana, и лучше прямо сейчас. Составлена она была году примерно в 1200-м. И представляла собой сборник монастырских песенок, из которых многие имели основой довольно смачные латинские и немецкие стихи, найденные в Бенедиктбейрне, что расположен в той части нынешней Баварии, которая в ту пору именовалась Богемией. Несмотря на монастырское их происхождение, — а скорее всего, по причине монастырского их происхождения, — стихи эти трактуют темы любви, и… пьянства, и… как бы это сказать… любострастия! Эти похабные баллады сочинялись примерно в то же время, когда был основан Кембриджский университет, однако оставались относительно малоизвестными добрых восемь столетий с лишком, пока родившийся в Мюнхене композитор и педагог Карл Орф не использовал их в своем сочинении 1937 года, которое назвал просто: «Кармина Бурана». Я тут записал себе для памяти, что надо будет упомянуть о нем, когда мы доберемся до того времени, а пока — двигаемся дальше. Эстрадные комики. Они тоже появились примерно в это время. Скорее всего, назначение их состояло в том, чтобы дать музыкантам передышку, позволить им принять по рюмочке в баре, что-то в этом роде. Разумеется, называли их тогда придворными шутами, а популярность они начали приобретать где-то в начале тринадцатого столетия. Кроме того, подрастало многое множество кафедральных соборов[♫]: работы велись в Реймсе, Солсбери, Толедо, Брюсселе и Бургосе, а заодно сооружались новый собор в Амьене (старый сгорел — небрежное обращение с огнем!) и фасад Нотр-Дама. В общем и целом, если на твоей визитной карточке значилось: «Кит Дешевка — строитель кафедральных соборов», ты, сколько я могу судить, даже при столь неказистой фамилии зарабатывал приличные деньги. Что и приводит меня, пусть мне того и не хочется, к 1225-му, к «следующей большой сенсации».
ОСТРИЕ ВДОХНОВЕНИЯ
Первым делом попробуем помедлить немного в 1225-м и на скорую руку оглядеться. Так вот, Великая хартия выходит третьим изданием. Совсем неплохо для сочинения с таким унылым концом и без стоящей интриги. Что касается знаменитостей этого времени, то, с одной стороны, у нас имеется Франциск Ассизский, которому осталось прожить один год. С другой стороны — что с другой, то с другой, — наличествует мистер Хан, друзья называют его Чингисом. Это время последних крестовых походов, монгольского покорения Руси и сыплющихся дождем папских отлучений. Собственно, шагу невозможно было ступить, чтобы вас не отлучили. Стоило вам, скажем, всего-навсего вторгнуться в Шотландию, и тут же — ХРЯСЬ! — отлучение. Все это лишь кое-какие подробности, касающиеся 1225-го, ну, мы словно бы забрались на самую высокую гору и поозирались по сторонам. А как же само «время»? Каково оно на вкус, на запах? — если вы понимаете, о чем я. И каким оно было в отношении музыкальном? Так ведь я потому и распространялся о том, что куда ни глянь, везде подрастают кафедральные соборы. Давайте-ка на минутку влезем в шкуру человека Средневековья. Соборы — о соборах необходимо знать две вещи. Они далеко не дешевы, а возведение их отнимает чертову пропасть времени. Их не продают в разобранном виде — уложенными в плоскую коробку, вместе с написанной какой-то бестолочью инструкцией и неполным комплектом шурупов. Возведение соборов растягивалось на сроки жизни нескольких поколений. И это позволяет нам понять, в чьих руках находились в 1225-м все деньги. А также — в каком состоянии пребывал музыкальный бизнес в 1224-м. Дело, видите ли, в том, что для заполнения соборов требуются не только люди, но и музыка. В 1225-м слово МУЗЫКА состояло по преимуществу из девяти букв и писалось так: ЦЕРКОВНАЯ музыка. Хотя для уличных охламонов музыка была также и изустной, не лишенной сходства с герпесом, — в том смысле, что и она передавалась из уст в уста. Ладно, ладно, сходство не шибко полное, но вы же меня поняли. Разумеется, существовали места, в которых вы могли получить музыку и в записанном виде — если были человеком достаточно состоятельным. Но вообще говоря, норму составляла в то время компания темных личностей с физиономиями, сильно смахивавшими на коровье вымя, распевающих в продуваемых всеми ветрами зданиях нечто однотональное. Немного похоже на нынешнюю фолк-музыку. Ну вот, а теперь «следующая большая сенсация». Опять-таки, если вы были человеком достаточно состоятельным, вы, пожалуй, сказали бы, что следующей большой сенсацией стала «бумажная ткань», которую как раз в этом году и начали производить испанцы. Но если вы достаточно состоятельным не были — чем, надо признать, отличалось подавляющее большинство населения, — для вас «следующей большой сенсацией»[♫] почти наверняка стало музыкальное произведение, которое называлось «Sumer is icumen in».
SUMER L'UV IN
Прочтите-ка вот это:Sumer is icumen in,
Lhude sing, cuccu
Groweth sed and bloweth med
And springeth the wude nu
Sing cuccu[♫]
Весна пришла,
Громче, кукушка, кукуй,
Семена проросли, и луга зацвели,
И в лесах распустились листочки,
Кукуй, кукушка.
«ARS» — ОН «ARS» И ЕСТЬ, А ПОЧЕМУ — НЕ СПРАШИВАЙ
В следующие семьдесят примерно лет в музыкальном мире набирали все большую силу кое-какие немаловажные вещи. То был период, когда явление, известное как «ars antiqua», все еще оставалось в моде. Название это означает, собственно, «старое искусство» — термин, используемый применительно к тому, что воспринимается ныне лишь ретроспективно. Собственно, и название-то свое оно получило только после того, как кто-то выдумал термин «ars nova» — новое искусство, — означавший, по существу, освобождение от всех стилей и некоторых норм «ars antiqua». Большую тройку мира «ars antiqua» составляли Леонин, Перотин и Роберт де Сэбилон. Леонина часто именуют «optimus organista»[*], то есть «отменным сочинителем прелестных средневековых на слух благозвучий», — многое из написанного им дожило и до наших дней. Перотин был одно время заправилой парижского собора Нотр-Дам. Де Сэбилон тоже подвизался в Париже, вытворяя с независимыми мелодиями такое, что и поверить нельзя. По сути дела, Париж стал к этому времени городом далеко не маленьким, а собор Нотр-Дам — так и вовсе большим. В Париж стекалось множество трубадуров и менестрелей, а заодно с ними — монахов и ученых мужей. Поразительным представляется мне его сходство с Парижем начала двадцатого века, городом, в который опять-таки стекались художники, музыканты и мыслители, создавая эротичную, богемистую «культуру кафе». Все это привело к тому, что город наложил свой отпечаток на искусство вообще — и в те времена, и в эти. Впрочем, одно можно сказать с определенностью: и в те времена, и в эти капуччино там почти наверняка стоил дешевле.
ФРАНКО — В ГЕНЕРАЛЬНОМ СМЫСЛЕ
Другими светилами, которые отбрасывали затухающий свет на «ars antiqua», были люди наподобие Франко Кёльнского[♫]. Франко Кёльнский — я понимаю, звучит это так себе, но хорошо уж и то, что он устоял перед искушением записаться в генералиссимусы, — был человеком, которому приписывают заслугу установления длительности нот. Сейчас об этом и говорить-то, пожалуй, странно, но ведь кто-то же должен был этим заняться. Подобно тому как Григорий Грандиозный навел порядок в ровном пении, Франко, всерьез взявшись за ноты, постановил, каким образом надлежит указывать длительность каждой. И разложил все это дело по полочкам — в небольшой книжке, названной «De musica mensurabilis», или, если угодно, «О музыке и мерках»: похоже на заглавие утраченной рукописи Джона Стейнбека, не правда ли? До той поры принятая повсеместно система указания длительности нот отсутствовала. Франко же стандартизировал «бревне» как единицу музыкальных измерений. Полубревис выглядит так:
 — и длится четыре доли.
А вот это
— и длится четыре доли.
А вот это  — минима, она длится две доли.
Ну и так далее, вплоть до
— минима, она длится две доли.
Ну и так далее, вплоть до  , крючок (одна доля), и миловидной, хоть и получившей странное название «полу-деми-семитрель»
, крючок (одна доля), и миловидной, хоть и получившей странное название «полу-деми-семитрель»  — своего рода феи Тинк среди нот: хотите верьте, что она существует, хотите нет.
— своего рода феи Тинк среди нот: хотите верьте, что она существует, хотите нет.
МАШО — ЭТО ХОРОШО
Теперь о трех главных именах в музыке, какой она была после 1300 года. Машо, Данстейбл и Дюфаи. Первый — носивший романтическое имя француз, поэт и композитор: Гийом де Машо. Опять же прошу простить за очередное отступление, но какое все-таки прекрасное имя. Вот произнесите его сами — Гийом де Машо. Великолепное имя. Машо родился в 1300-м и довольно быстро понял, что обладает дарованиями не только поэтическими, но и музыкальными. К году 1364-му, когда у него впереди было еще добрых четырнадцать лет жизни, его уже вполне можно было простить за то, что он жил себе спокойненько, мирно занимался своим «ars nova» и вообще получал от жизни удовольствие. Я что хочу сказать: если честно, в те времена дожить до шестидесяти четырех — это уже было своего рода достижение, особенно если учесть тогдашнюю новую чернуху… или, как ее, «черную смерть». («Ух ты, дорогуша, роскошно выглядишь, сдохнуть можно… А… так ты уже сдохла».) Машо был одним из последних великих композиторов, успевших пожить в веке труверов и трубадуров, то есть французского варианта того, что у нас в Англии именовали «менестрелями», а у немцев «миннезингерами», сиречь «певцами любви». Менестрели были хорошо оплачиваемыми свободными музыкантами, ведшими свое родословие от «мимов» Древней Греции и Рима, разогнанных во время вторжения варваров. Изначально они были актерами, бравшимися за музыкальные инструменты лишь для того, чтобы свести концы с концами, даром что в те времена это занятие почиталось довольно сомнительным (впрочем, в этом отношении и сейчас мало что изменилось). Если бы эта книга была Библией, в ней, скорее всего, значилось бы примерно следующее: Мимы родили шутов; шуты родили жонглеров; жонглеры родили трубадуров; трубадуры родили труверов; труверы родили деревенских скрипачей, а деревенские скрипачи родили менестрелей. Если у вас возникало — в этом мире трубадуров, труверов и деревенских скрипачей — желание обнаружить в людской толпе менестреля, вы могли воспользоваться одним полезным правилом: трубадуры поют и читают стихи, деревенские скрипачи играют на танцах, а менестрели тают у вас во рту, но не в руках. Что касается Машо, то он, в соответствии с традицией труверов, прославился при жизни своей и стихами, и музыкой. Бывший в буквальном, более-менее, смысле современником «Декамерона», он родился в Арденнах, однако, ставши и ученым мужем, и священником сразу — а такое, я уверен, возможно, — подолгу и с удовольствием жил при дворах Иоанна Люксембургского и герцогини Нормандской. Но лишь в наваррские свои времена он положил все силы на то, чтобы достичь еще не достигнутого, осуществить еще не осуществленное, сотворить пока еще… не сотворенное. Четырехголосную мессу. Никто до него не создавал мессы, которая разворачивалась бы, следуя «законам» гармонии, а эта еще и звучала как… в общем, хорошо звучала. Для того чтобы создать «правильную» четырехголосную мессу, можно, конечно, в точности следовать принятым правилам, а вот добиться того, чтобы она еще и радовала слух, — это совсем другая история.
МЕССОВАЯ ИСТЕРИЯ
Итак, займемся четырехголосной мессой. Может ли композитор добиться того, чтобы четыре разных голоса (т. е. сопрано, альт, тенор и бас, к примеру) пели разные мелодии каждый, создавая при этом совершенную гармонию звучания? Попробуйте, если получится, представить себе это так. В Реймсе стоит тихий, сырой и теплый вечер — великий миг, в который Машо взойдет на свой Эверест, уже близок. Он и его команда соперничают с итальянцами за звание первооткрывателей музыкального святого Грааля тех времен — четырехголосицы, — однако путешествие это оказалось опасным. То, что представлялось достижениями более ранними, быстренько повторялось другими — и лишь для того, чтобы в них обнаруживалось несколько больших кусков, никакого отношения к четырем голосам не имевших: одни содержали по три, другие по два. Существовал даже ранний прототип, нотная запись там являла все признаки четырехголосной мессы, однако при ее исполнении она оказывалась почти целиком монотонной и распеваемой в унисон[♫*]. Они и так уже отставали, понеся тяжелый урон, и не только в том, что касалось боевого духа, — два члена команды покинули ее, повредив гортань, еще один решил добиться цели в одиночку, а четвертого Машо потерял по причине трагического инцидента с языком, приключившегося при исполнении особенно быстрого, построенного сплошь на полу-деми-семитрелях такта. Однако Машо не сдавался. Он знал, что сможет сделать это. Ни один известный истории композитор пока не смог, и, стало быть, победителя ждут великие почести. Ну что же, наш выход! И в миг, которому предстояло навсегда войти в анналы истории как «то время, когда Гийом де Машо закончил свою мессу», он, явив себя во всем блеске, единым взмахом пера добавил к своему шедевру последнюю тактовую линию. Дело сделано, он знал это. Ему не требовались репетиции. Не требовалось напевать все сочинение маме. Он ЗНАЛ. То была первая в истории четырехголосная месса! Легенда гласит, что Машо, наклонившись к своему начальнику отдела кадров, произнес ставшие ныне бессмертными слова: «Bof! J’ai besoin d’une tasse de thé. Ou peut-être quelque-chose plus fort. Allons! Au tête du cheval». Или в переводе: «Уф! Я не отказался бы от чашечки чая. Или от чего покрепче. Не завалиться ли нам в „Конскую голову“?» Великий миг. Действительно великий. «Ars nova» в лучшем виде. А сама месса? Ну что же, романтически настроенные хроникеры могли бы заверить вас, что ее в ту же ночь исполнили на коронации Карла V и что тем самым она положила начало недолгому, но обладающему прекрасными формами золотому веку французской музыки[♫]. Карл был одним из тех не часто встречающихся монархов, которые любят музыку. При его правлении Франция приобрела положение светоча музыкального мира. С первого же года воцарения Карла и до истечения первых двадцати с чем-то годов пятнадцатого столетия Франция оставалась центром музыкальной вселенной — ее столичным городом, если угодно, блеск которого отражался в раздельных, но соотнесенных мирах французской готической архитектуры и учености, символом коей стал Парижский университет. Ну хорошо, с Францией все понятно, а как же добрая старая Англия? Кто создавал стандарты создания стандартов в мире музыки? Чтобы ответить на этот вопрос, нам следует обратиться к Данстейблу — городу и человеку.
ПЕРВЫЙ РИТМИЧЕСКИЙ МЕТОД
Джон Данстейбл почти наверняка родился в Данстейбле, и само имя его является, скорее всего, переделкой Иоанна Данстейблского. Ему принадлежат некоторые из прекраснейших сочинений той поры, пусть даже не все они были созданы в Англии. Многие его произведения отыскались со временем в таких городах, как Тренто, Модена, Болонья, и это наводит на мысль, что присутствие англичан в итальянской музыке было в то время весьма реальным. Впрочем, умер Данстейбл все-таки в Лондоне, успев, однако же, посвятить большую часть жизни пропаганде своего пожизненного causes célèbres[*] — естественным ритмам. До того времени было по преимуществу принято подбирать слова под музыку. Я что хочу сказать — слова считались не такими уж и важными, поэтому вы просто находили хорошую мелодию и приделывали к ней текст. В результате естественное произношение слов полностью утрачивалось, заодно с большей частью их значения. Чтобы понять, о чем я толкую, представьте, что вы разговариваете, прилаживаясь к играющему граммофону. Все ваши слова искажаются, растягиваются и произносятся в конечном счете такмедленно и вычурно, что исконное их значение попросту утрачивается. Так вот, Данстейблу это не нравилось. У него от этого с души воротило. И он посвятил кучу времени борьбе за «естественные ритмы», за музыку, в которой слова выпеваются в обычном их ритме — так, как они произносятся. Да, можно, конечно, сказать, что он мог бы приобрести и большую известность. Но если честно, именно люди, подобные ему, и были, как мы еще увидим, теми важнейшими винтиками, без которых колеса музыки вращаться попросту не могли. Помимо прочего, Данстейбл сыграл приметную роль в сфере контрапункта. Н-да, вот тут мы попадаем в щекотливую ситуацию. Нынче контрапункт может для вас никакого особого значения не иметь, однако в те времена он был в музыке одной из наиболее спорных тем. И не забывайте, раз он был спорным в музыке, значит, был — во всяком случае, тогда — спорным и для Церкви, а такое положение могло выйти боком всякому, кто лез в возмутители спокойствия. Еще в 1309 году некий Маркетто Падуанский обратился к властям предержащим с просьбой допустить контрапункт в музыке и в 1322-м — с быстротой, поспорить с которой способна лишь телефонная справочная, — получил в виде ответа запрет папы Иоанна XXII. Ну, с другой стороны, не скажешь ведь, что у папы не было времени, чтобы как следует все обдумать. Однако чем уж так нехорош контрапункт? Почему Церковь так его невзлюбила? И еще интереснее — что за зверь, собственно говоря, этот контрапункт? Ладно, хорошо. Займемся контрапунктом.
ЧТО ТАКОЕ КОНТРАПУНКТ?
Начнем с конца. Контрапункт появляется, когда композитору надоедает сочинять всего-навсего одну мелодию и он начинает записывать сразу несколько. Что ж, ему-то хорошо — он, скорее всего, сочиняет их в разное время: одну утром, другую после обеда, а с третьей управляется перед тем, как чайку попить, ну и так далее. Замечательно, классно. Сложности начинаются, когда композитор эти мелодии соединяет, потому что нам-то приходится слушать их все сразу. Слушать, как множество совершенно разных голосов поют разные мелодии — И ВСЕ В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ. Это немного похоже на джаз, но только без мучимого газами тромбона. Что и может объяснить нам, почему папа Иоанн XXII так гневался в своей «Docta Sanctorium» на композиторов: «Они рассекают мелодии долгими цезурами[♫], затусовывая оные дискантами, а порою втискивая в них вульгарные триплумы и мотеты…» Ну-с, если в сказанном им и присутствовал некоторый резон, его отчасти подпортило неграмотное написание слова «затушевывая». И кстати, «триплум» и «мотет» следует, в этом случае, понимать как сопрано и альт соответственно — полное четырехголосие состояло в то время «из триплума, мотета, тенора и контратенора». И не говорите потом, будто я ничего вам не объяснял. Впрочем, Иоанн XXII с его «доктами» на Джона Данстейблского большого впечатления не произвел. До самой его кончины в 1453 году контрапункт оставался, если правду сказать, любимым занятием Джона. Он продолжал писать свои мессы и изоритмические мотеты — те, в которых даже при изменениях в самой музыке повторялся все тот же ритмический рисунок, — и возможно даже, был первым, кто написал для церковной мессы инструментальное сопровождение. Эпоха Данстейбла была в Италии эпохой Донателло, а заодно и Фра Анджелико с Медичи. Португалия могла похвастаться великими путешественниками Гонцало Кабралом и Хуаном Диасом. А что же Англия? Ну что, в Англии опять свирепствовала моровая язва, принесшая с собой малоприятный, распространившийся на всю страну карантин. Что касается Данстейбла, его влияние признавалось и два-три столетия спустя. Говорят даже, что человеком, на которого он повлиял в наибольшей степени, был еще один Гийом. Гийом Дюфаи был родом из Геннегау, провинции, входившей тогда в состав Низинных Земель, ныне Нидерландов, однако долгое время прослужил в папской капелле. В то время это было интересной работой, главным образом потому, что двор папы то и дело переезжал, и в итоге Дюфаи удалось повидать не один только Рим, но и множество иных городов. Он даже провел некоторое время в Камбре, это недалеко от Лилля, что во Франции, — городе, в котором папе, как говорят, очень понравился хор — не меньше, чем потом и Нидерланды. Последние понравились папе настолько, что, вернувшись с двором в Рим, он разработал программу импортирования даровитых людей из Нидерландов. Собственно, какое-то время почти всю папскую капеллу составляли певцы из Низинных Земель (интересно, не называли ль они себя «донцами»?), итальянец в ней насчитывался только один. В свое время Дюфаи почитался крупнейшим нидерландским композитором, и одно из его достижений, которым была уготована долгая жизнь, состояло в том, что он оказался предтечей современной организации хора, то есть его разбиения на сопрано, альты, тенора и басы, причем басу у Дюфаи отводилось второстепенное, по сравнению с тенором и контратенором, место. Попробуйте на скорую руку прослушать что-нибудь вроде «Ессе ancilla domini», это одна из его последних месс, и вы поймете, насколько блестящей была осенившая Дюфаи идея. По существу, фигура Дюфаи ознаменовала собой и завершение периода, известного под названием Средневековье, и первые, робкие шаги эпохи совершенно новой — ну ладно, почти, — вечно поющего и вечно танцующего Ренессанса. Родившийся в тот самый год, когда умер Чосер, в 1400-й, Дюфаи принадлежал к поколению, ставшему свидетелем битвы при Азенкуре, появления первых печатных книг и сожжения в Руане Жанны д’Арк. С ходом времени он окончательно обосновался в Камбре, который помог обратить в одну из главных — с тех пор как руанский палач произнес незабываемые слова: «Zut! J’ai perdu mes alumettes!»[*] — тем для разговоров. Ко времени, когда Дюфаи возвратился в городок Камбре, Данстейбл уже скончался, как и Константин XI, вместе с которым прекратила существование Византийская империя. Довольно интересным, а для кофеманов всего мира, возможно, и более важным является то обстоятельство, что расположенный в Юго-Западной Аравии порт Мокка обратился к тому же времени в главный центр мирового кофейного экспорта. А теперь закройте глаза и представьте себе: голоса играющих детей, плеск воды, невнятное рявканье мегафона. «Так, ладно, всем слушать, сейчас 1450-й. Мне нужна новая эра. Прошу всех, у кого есть на рукавах средневековые красные повязки, покинуть генофонд. Повторяю, сейчас 1450-й, просьба ко всем, у кого есть на рукавах средневековые красные повязки, покинуть генофонд. Наступает эпоха Ренессанса». И затем в сторону, к помощнику режиссера: «Хорошо, впускайте ренессансную массовку». Да-да, я понимаю, все произошло не так, но по крайней мере у нас теперь имеются стартовые колодки.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
 Примерно за десять лет до 1450 года, в который людей Средневековья выбросили из генофонда, газета города Конде, провинция Геннегау, вполне могла сообщить о рождении некоего Жоскена де Пре. ЖДП был, возможно, величайшим талантом своего времени, и в эпоху, когда совсем немногие из таковых обретали почести еще при жизни, его превозносили как своего рода гения — даже Мартин Лютер счел должным отметить: «Он — господин нот; все прочие… их слуги». Сказано немного напыщенно, Мартин, однако я вас понял. В ту пору Жоскена нередко называли не полным именем, а говорили просто: Жози или даже Джозеф. Нечего и сомневаться — живи ЖДП в наши дни, он мог бы пойти чуть дальше и вообще начать обходиться без имени, заменив его какой-нибудь чудной закорючкой. Чем-нибудь вроде
Примерно за десять лет до 1450 года, в который людей Средневековья выбросили из генофонда, газета города Конде, провинция Геннегау, вполне могла сообщить о рождении некоего Жоскена де Пре. ЖДП был, возможно, величайшим талантом своего времени, и в эпоху, когда совсем немногие из таковых обретали почести еще при жизни, его превозносили как своего рода гения — даже Мартин Лютер счел должным отметить: «Он — господин нот; все прочие… их слуги». Сказано немного напыщенно, Мартин, однако я вас понял. В ту пору Жоскена нередко называли не полным именем, а говорили просто: Жози или даже Джозеф. Нечего и сомневаться — живи ЖДП в наши дни, он мог бы пойти чуть дальше и вообще начать обходиться без имени, заменив его какой-нибудь чудной закорючкой. Чем-нибудь вроде
ξ — деятель искусства, официально известный под именем Жоскен.Вот так. Глупость какая-то, правда? И опять-таки не приходится сомневаться в том, что она привилась бы. Хочется верить, впрочем, что во времена Жоскена на нее смотрели бы косо. Хорошо, теперь контекст: он родился двенадцатью годами позже Леонардо да Винчи и пользовался, по всем вероятиям, большей популярностью, чем «Мона Лиза». И уж определенно можно сказать, что умер он человеком в десять раз более счастливым, причем во всех отношениях, чем Леонардо, скопив немалое состояние и став каноником в Конде. Умер же он через десять лет после того, как Магеллан покинул свой дом в Севилье, сказав на прощанье: «Мне только в лавочку сбегать». Еще при жизни Жоскена Микеланджело начал работы в Сикстинской капелле, между тем как в Англии к власти пришли Тюдоры, а в новеньком дворце Хэмптон-Корт устранялись последние недоделки. В связи с Жоскеном меня всегда донимало одно обстоятельство. Или мне следовало сказать — в связи с Жоскеном де Пре? Или — господином Пре? Или — господином Депре? Обстоятельство это… да я, собственно, только что его описал. Какое место следует отвести этому человеку в музыкальном словаре? Знаю, знаю, вам это может показаться мелочью, но я действительно выхожу из себя, когда добираюсь в каком-нибудь справочнике до «Пре» лишь для того, чтобы увидеть отрывистое «См. Жоскен». Но почему, господи боже ты мой? Отыскивая Бетховена, вы же не натыкаетесь на слова «Пшел вон, см. Людвиг»? В другом справочнике — суешься в Ж, а там тебе говорят: «См. Депре». А на месте «Депре» стоит: «См. Пре». Ну просто на стену хочется лезть. Я понимаю, что это ерунда, однако, как было сказано, когда Вельзевула призвали в армию, диавол кроется в деталях. ЖДП, мистер де Пре, Жоскен, ξ — называйте его как хотите — производит лично на меня впечатление человека избранного. Еще в молодости он много странствовал и со временем, году примерно в 1499-м, поступил на папскую службу, где и провел около тринадцати лет. Во весь срок этой службы, а также в следующие двадцать с чем-то лет — до самой его смерти в 1521-м — он оказывал огромное влияние на музыку вообще. Его мессы значительны тем, что с них началось освобождение от неукоснительно строгого соблюдения правил. Мессы стали выражать дух слова. Сейчас это может представляться ничего не значащим пустяком, однако в то время музыка была в такой же мере научной дисциплиной, в какой и развлечением. ЖДП отказался от почти педантичного подчинения правилам и… как бы это сказать… ну, в общем, позволил себе отпустить волосы чуть подлиннее, чем у других. Что же касается оказанного им огромного влияния, то ему повезло и тут: он попал в самое что ни на есть живое и трепетное сердце музыки своего времени. Коим был не двор Людовика XII во Франции, хотя ЖДП пожил и при нем. Как не был им и двор императора Максимилиана I, где ЖДП также провел некоторое время. Как не была им и епархия Конде, каноником которой ЖДП состоял в свои последние годы. Живым и трепетным сердцем музыки того времени была — все очень просто — Церковь.
ТЫ НАЧАЛЬНИК, Я ДУРАК
Позвольте мне перескочить несколько лет, прошедших после кончины Жоскена в 1521 году. Я лягу на дно, как подводная лодка, и всплыву в 1551-м. И позвольте заодно проинформировать вас о том, что происходило тем временем на уровне моря. Генрих VIII перебрал всех шестерых своих жен и, наконец, оставил сей мир. Если верить его рекламному агенту, он также оставил нам песню «Зеленые рукава», однако на этот счет существуют большие сомнения. Теперь у нас начальствует Эдуард VI. Во Франции Нострадамус выпустил в свет первый сборник своих предсказаний. Еще при жизни его поговаривали, будто он предрек приход Гитлера к власти, назвал Рональда Рейгана дьяволом, а также предсказал — я сам обнаружил это только вчера, перелистывая его книжку, — что прямо перед чемпионатом мира 2002 года Дэвид Бекхэм сломает плюсну[♫]. Ну что еще? Да, по всей Европе плодятся придворные шуты — распространенный в шестнадцатом столетии вариант эстрадного комика[♫]. Тициан становится у тех, кто понимает, любимым художником, и — что, быть может, гораздо важнее — широкое применение находят карманные носовые платки. Вошли ли уже в моду шезлонги и брюки с закатываемыми вверх штанинами, мне покамест выяснить не удалось. Обратимся, однако, к 1551-му, нас ждут там большие новости. Некто по имени Палестрина назначен музыкальным директором римского собора Св. Петра. Для двадцатипятилетнего композитора поворот событий более чем счастливый. Последние семь лет Палестрина работал хормейстером и органистом в кафедральном соборе своего города. А в 1551-м епископ, которому он каждую неделю поставлял по симпатичной маленькой мессе, внезапно лишился места епископа. И получил место папы. Совсем другой коленкор. Через несколько дней новый папа, Юлий III, произвел молодого человека в хормейстеры Юлианской капеллы Ватикана, и Палестрина не уставал повторять всем и каждому: «Мы с ним еще с детства дружили». Конечно, теперь эта должность может казаться не такой уж и важной. В конце концов, в послужном списке Палестрины всего-то и значилось: «служба в церкви». Однако в 1551-м музыка и была Церковью, и практически вся она сочинялась не просто для Церкви, но по ее заказу. Множество композиторов — мужей многоумных и хорошо образованных (а почти все они были мужами) — почитали служение Церкви своей обязанностью, решив, что раз Бог наделил их музыкальными способностями, им следует, дабы не остаться в долгу, посвятить ему свои труды, а то и всю жизнь. Добавьте к этому то обстоятельство, что в те времена девизом Церкви было нечто вроде «Scium Quo Habitas» — «Мы знаем, где Ты живешь», — и вы перестанете удивляться тому, что на многих титульных листах стояло «ad majorem dei gloriam»[*]. И еще одно. В ту пору истинным было не только тождество МУЗЫКА = ЦЕРКОВЬ, но и МУЗЫКА = ПЕНИЕ. А почему? Почему вся более-менее музыка, какую сочиняли преданные Церкви композиторы тех времен, была вокальной? Рад, как любят говорить политики, что вы задали мне этот вопрос, — потому как отвечать на него я не собираюсь. Я лучше ненадолго вернусь к Палестрине.
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТЫ
На беду Палестрины, после того как он несколько лет проработал в Риме на одной из высших должностей, его вывели оттуда за ухо, а вернее сказать, новый верховный дож, папа Павел IV, которому сильно не нравился покрой Палестриновой рясы, прогнал беднягу, да еще и с позором. На счастье же Палестрины, всего через несколько лет время его пришло снова, и уже другой, но опять-таки новый папа вернул его на прежнее место. Вот тут я совсем ничего не понимаю. Как они тогда мирились с подобной суетней? Хотя, возможно, то была просто-напросто ранняя модель политической жизни Италии. Так или иначе, Палестрина снова попал в милость и тут же занялся тем, чем занимались все прочие. Тем, чем занимался Лacco[♫] Чем занимался в Англии Бёрд. Да все этим занимались, а именно писали музыку для невероятно просторных, огромных кафедральных соборов. Да, я понимаю, это может показаться очевидным, но все-таки скажу. Кафедральные соборы по-своему меняли облик музыки того времени, поскольку вся она писалась так, чтобы давать хороший звук именно в них. А даже скудные познания в акустике позволят вам сообразить, что писать музыку для, скажем, концерта в вашей родной деревне и писать ее для огромной каверны римского собора Св. Петра — это два совершенно разных занятия. Соборы возводились как огромные — не проглядишь — символы величия, сопряженного со званием христианина, и Церковь тратила немалые деньги, приваживая самых лучших людей, способных заполнить соборы самыми лучшими звуками. Палестрина, несомненно, чувствовал себя точно кошка, дорвавшаяся до сливок, причем сливками был собор Св. Петра. И это существенно, поскольку Палестрина (кстати сказать, никакой он был не Палестрина: Палестрина — это итальянский городок, в котором он родился; звали же его, как всем нам хорошо известно, Джованни Пьерлуиджи) НЕ был новатором. Он НЕ был первопроходцем. Будьте благонадежны, мы еще воспоем в этой книге многих, кто был новатором и первопроходцем, однако Палестрина к их числу не принадлежит. Его заботило только одно — чистая, прекрасная музыка, которая позволяла создать в собственной церкви папы фантастическое звучание. Сочинения, подобные его великолепной «Missa Рарае Магсеlli» — «Мессе паны Марчелло», — писались не для того, чтобы продвинуть музыку в следующее столетие или потрясти людей следующей эпохи, но лишь для создания звуков, обретающих невыразимую красоту, отражаясь от стен Ватикана, — отражаясь так, что стихали они лишь через несколько минут. Божественно. А теперь вперед, к Леннону и Маккартни шестнадцатого столетия. Кто это были такие? Как удалось им создать музыкальную монополию — крупнейшую с той поры, как научился свистеть последний додо? Ну что же, углубимся в Ренессанс — я пойду первым, а вы прикройте меня сзади.
ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Вообразите, если вы не против, что сейчас 1572-й — прошло чуть больше двадцати лет с тех пор, как Палестрина занял в Ватикане руководящий пост. На троне Inghilterra[*] вот уже тринадцать лет восседает Елизавета I. На самом деле — если позволите мне высказаться о двух важных персонах на одном, более-менее, дыхании — всего пару лет назад папа Пий V обнародовал занятную маленькую «булду», как их тогда называли, посвященную очередному отлучению и носившую симпатичное название «Regnans in Excelsis»[*]. Это довольно длинный документ, однако, если резюмировать его содержание, весь он сводился к фразе: «Мы с вами больше не разговариваем». Папа, то есть, решил больше не разговаривать с Елизаветой. Прискорбная, вообще говоря, история. Представляю, до чего Елизавете не хватало их уютных бесед. Зато для других разновидностей коммуникации тот год оказался вполне удачным. В литературе мы становимся свидетелями рождения Джона Донна и Бена Джонсона, в голубиной почте — а она в ту пору числилась по разряду высоких технологий — первого использования любимых птиц Нельсона для передачи сообщений. Сообщения передавались из голландского города Гарлема, осажденного в то время испанцами. Ну что — вы уже здесь? Это я насчет шестнадцатого века. Дело в том, что именно на этом историческом фоне и начала завариваться некая каша. В Италии, которую мы только что покинули, уже наделало немало шума семейство Габриели. Андреа Габриели, композитор, прослуживший последние шесть лет органистом в венецианском соборе Св. Марка, хлопотливо вводил в свою вокальную музыку партии разного рода медных духовых инструментов. Но возможно, еще более важную роль сыграл его племянник, Джованни, сменивший дядю в соборе Св. Марка и, можно сказать, опередивший Долби примерно на 400 лет. Джованни Габриели был органистом и композитором (думаю, в наше время его назвали бы «автором и исполнителем»), поставившим первые эксперименты
 в области, по сути дела, стереозвука, сочиняя музыку, в которой хор и солисты противостояли друг другу, располагаясь по разные стороны огромного собора Св. Марка и создавая великолепные антифонные эффекты, которые должны были по-настоящему изумлять публику того времени. Надо полагать, это походило не столько на концерт, сколько на теннисный матч.
Не исключено, что у многих, кто заходил в собор Св. Марка, сводило судорогой шею.
Однако возвратимся в добрую старую Англию, к Леннону и Маккартни тех дней. Именно в 1572 году Уильяма Бёрда определили в помощники к Томасу Таллису, который был старше его лет на сорок и уже давно и прочно сидел в Королевской капелле. Таллис провел в ней лет тридцать, прежде чем эти двое, объединив усилия, заставили музыку шагнуть так далеко, как она не шагала с того самого дня, когда папа Григорий впервые начал напевать себе что-то под нос, принимая ванну.
в области, по сути дела, стереозвука, сочиняя музыку, в которой хор и солисты противостояли друг другу, располагаясь по разные стороны огромного собора Св. Марка и создавая великолепные антифонные эффекты, которые должны были по-настоящему изумлять публику того времени. Надо полагать, это походило не столько на концерт, сколько на теннисный матч.
Не исключено, что у многих, кто заходил в собор Св. Марка, сводило судорогой шею.
Однако возвратимся в добрую старую Англию, к Леннону и Маккартни тех дней. Именно в 1572 году Уильяма Бёрда определили в помощники к Томасу Таллису, который был старше его лет на сорок и уже давно и прочно сидел в Королевской капелле. Таллис провел в ней лет тридцать, прежде чем эти двое, объединив усилия, заставили музыку шагнуть так далеко, как она не шагала с того самого дня, когда папа Григорий впервые начал напевать себе что-то под нос, принимая ванну.
ДЖОН, ПОЛ, ДЖОРДЖ, РИНГО, УИЛЛ и ТОМ
Бёрд родился в Линкольне; Таллис, скорее всего, в Уолтем-Эбби. Каждый из них был известным в своей области музыкантом — Таллиса, в частности, весьма уважали как одного из великих старцев английской музыки. Однако имена их стали легендарными и остаются такими поныне благодаря королеве Елизавете. Это Елизавета, через три примерно года после того, как они объединили усилия, дала им единоличное право печатать в Англии музыку. Вообразите. Каждая публикуемая в стране нота принадлежала этим двоим. Разве тут прогоришь? Первым их изданием стал выпущенный в 1575 году «Cantiones Sасгае»[*], сборник мотетов[♫], написанных самими этими композиторами. Я, разумеется, не пытаюсь внушить вам мысль, будто они использовали возможность монополизировать рынок печатной музыкальной продукции для того, чтобы выпускать только собственные сочинения. Нет-нет-нет! Строго говоря, именно этим они и занимались, просто мне не хочется, чтобы вы так о них думали. Впрочем, хорошо уж и то, что дело это попало в руки настоящих мастеров. Я к тому, что сборник «Cantiones Sacrae» был одним из самых изысканных музыкальных изданий 1575 года, хотя, если честно, и единственным из выпущенных в том году музыкальных изданий. И что же должно было произойти после этого? Я хочу сказать, после того, как началась регулярная публикация музыкальных произведений? Ну, оставаясь пока что дорогостоящей редкостью, они, по крайности, выходили в свет. Люди со средствами могли почитать их, собраться, попеть, потому что, в конце концов, почти вся эта музыка была, как вы помните, вокальной. Вот тут-то и произошло восхитительное и счастливое лобовое столкновение определенных событий и новомодных течений.
ДЕЛО ПОШЛО
Печатные издания. Сейчас мы воспринимаем их как нечто само собой разумеющееся. Мы воспринимаем возможность являться на работу с перепачканными черной типографской краской большими пальцами и с глазами, точно у бамбукового медведя из Лондонского зоопарка, как наше неотъемлемое право. Но вообразите, что эти издания сделали с музыкой. Музыка неожиданно стала… доступной. Она «вышла в свет». Партитуры стали доступными. Доступными стали музыканты и певцы. И новые «веянья моды», коим предстояло возникнуть в такой атмосфере, наверняка столкнулись бы с тем, что все теперь обстоит иначе. Все изменилось. Играй что хочешь. Так что же стало следующей большой сенсацией? СЛЕДУЮЩЕЙ БОЛЬШОЙ СЕНСАЦИЕЙ стало освоение греческого и римского стилей и культуры. И не просто стилей, но также форм и особенностей. Кое-кто, все больше интеллектуалы, снова всерьез увлеклись греческой драмой. Однако теперь, поскольку для аккомпанемента имелись под рукой не одни только трещотки и барабаны, музыка начала играть роль куда более важную. А сама музыка? Что ж, музыка опиралась, как это было всегда, на современную ей технику — на инструменты, бывшие, когда греки впервые взяли их в руки, довольно примитивными. В новых постановках греческих драм музыке уделялось гораздо больше внимания — «dramma per musica», «драма на музыку», так это теперь называлось, — и драмы эти стали большими хитами. Там, где поначалу перед вами была просто драма, теперь объявилось нечто совсем иное. По сути дела, требовался лишь человек, которому пришла бы в голову — в нужное время и в нужном месте — такая вот мысль: «Минутку, минутку… а могло бы получиться совсем недурно» — и ХЛОП! У вас появилась бы ОПЕРА! Кто же был первым? Кем был тот, кто написал самую первую оперу? Кому предстояло войти в анналы истории бок о бок с человеком в железной маске, с тем, кто впервые сорвал банк в Монте-Карло, и с Ковбоем Мальборо? Кем был…
 Кем бы он ни был, имени его наверняка предстояло стать притчей во языцех. Самая первая опера. Представьте себя на его месте:
Вы прославились на весь мир.
Вас восхваляют во все будущие времена.
У вас завелся собственный банковский счет.
Люди называют в вашу честь детей.
Вас пускают в бизнес-класс даже без галстука и пиджака.
История никогда вас не забудет.
И как же в таком случае получилось, что человеком этим оказался…
…Якопо Пери?
Кем бы он ни был, имени его наверняка предстояло стать притчей во языцех. Самая первая опера. Представьте себя на его месте:
Вы прославились на весь мир.
Вас восхваляют во все будущие времена.
У вас завелся собственный банковский счет.
Люди называют в вашу честь детей.
Вас пускают в бизнес-класс даже без галстука и пиджака.
История никогда вас не забудет.
И как же в таком случае получилось, что человеком этим оказался…
…Якопо Пери?
САМАЯ ПЕРВАЯ ИЗ КОГДА-ЛИБО НАПИСАННЫХ ОПЕР (НЕ СЧИТАЯ ЕЩЕ ОДНОЙ)
М-да. Я знаю, что вы думаете. (А кто это? — Ред.) Вот то-то и оно. Понимаете, весь мир невесть почему решил, будто первая из когда-либо написанных опер — это «Орфей» Монтеверди, что было бы, в общем, и верно, если бы… ну, если бы не было неверно. Дело в том, что «Орфей» Монтеверди был второй из когда-либо написанных опер. А первой была «Дафна» Пери. Но по какой же причине у Пери все так не заладилось? Ведь это же все равно что… Ну вот представьте, Нил Армстронг ступает на поверхность Луны первым из всех людей, а весь мир решает, что будет чествовать как героя База Олдрина[*]. Итак, по какой причине у Пери все так не заладилось? Похоже, всему виной немыслимая непоследовательность, с которой крутит свое колесо ветреная фортуна. Конечно, Монтеверди был, по всему судя, композитором более искусным, его сочинение богаче по части и мелодий, и гармонической изобретательности. Так ведь и Пери был более-менее его современником, родившимся в Риме и причислявшимся в свое время к великим композиторам, к тому же он еще и с семьей Медичи дружил. Пери входил также в обойму модных, что называется, сочинителей и при возвращении dramma per musica оказался одним из первых, кто ее, так сказать, встретил. Да, он и некоторые из его друзей-сочинителей немало сделали для ее расцвета. Однако фортуна отдала предпочтение Монтеверди — в том, что касается долговечности. Партитура его «Орфея» уцелела, а партитура «Дафны» Пери — нет. При этом к несправедливости добавилось еще и оскорбление: вторая опера Пери, «Эвридика», была написана за семь лет до первого представления монтевердиевского «Орфея» и является, строго говоря, — поскольку ее-то партитура уцелела тоже и т. д. — первой из опер существующих. И все же, несмотря на все это, новаторский характер оперы Монтеверди по-прежнему заставляет многих говорить о ней сегодня как о первой из когда-либо написанных «настоящих» опер. Ну что тут можно поделать? Это напоминает мне историю с Эдисоном и телефоном — разнообразные плутни, вследствие коих аппарат, предложенный его соперником, потерпел неудачу. И все-таки. Что сделано, то сделано: Монтеверди помнят и спустя 450 лет после его рождения, а Пери стал не более чем проходным именем в посвященных классической музыке викторинах. Ну и не сволочь ли после этого жизнь?
НУ УЖ ЕСЛИ ЭТО НЕ БАРОККО…
 Значит, так: простите, что я вас то и дело дергаю, но не могли бы вы мне немного помочь? Закройте еще раз глаза и вообразите, что находитесь посреди огромной английской фабрики 1950-х.
Вообразили?
Черт. Если вы закрыли глаза, вы же дальше читать не сможете. Ладно, открывайте, а воображать буду я.
Передо мной фабрика пятидесятых — цех размером с самолетный ангар. Множество людей занимается здесь своим делом, — правда, к каким-либо механизмам оно ни малейшего отношения не имеет. Люди пишут… гусиными перьями, да еще и на пергаменте. Внезапно раздается страшенный звук, смахивающий на сигнал воздушной тревоги, — многие тут же откладывают перья. Затем из громкоговорителя исходит бухающий голос: «Дамы и господа, наступил 1600-й. Наступил 1600-й. Ренессансная смена закончилась. Прошу композиторов собрать перед уходом свои принадлежности, чтобы барочная смена могла немедленно приступить к работе, в дальнейшем никакие претензии по поводу забытых вещей приниматься не будут. Повторяю, ренессансная смена закончилась. Всем, кто работает в две смены и потому остается в барочной, дается пять минут на то, чтобы размять ноги. Благодарю вас». БУМ, БУМ.
Ладно, ладно, знаю, все происходило иначе. Как вы думаете, почему я разыграл эту сценку? Потому что она показывает, на свой манер, насколько бесполезны любые ярлыки… Ренессанс, барокко и т. д. Люди просто… ну, сочиняли музыку. Разумеется, она претерпела развитие, но ведь не за один же год. Может быть, поэтому ученым и трудно прийти к согласию насчет того, когда именно завершился один период и начался другой. Большинство их проголосовало за то, что эпоха барокко началась где-то около 1600-го, однако это начинает казаться бессмысленным, когда обнаруживаешь, что такие композиторы, как Доуленд, Гиббонс и Монтеверди — а их вряд ли можно назвать претендентами на титул «Мистер барокко залива Моркам, 2004», — трудились себе и трудились и в семнадцатом веке тоже. И все же: где — как любят выражаться политики — нам следует провести черту? Ну так вот, ее провели здесь, и, полагаю, нам придется с этим смириться.
Что ж, позвольте взять вас за руку и провести по улицам начала семнадцатого века — вот увидите, без сменной пары штанов вам обойтись не удастся.
1607-й. Хороший год? Плохой? Ну, если вас зовут Гаем Фоксом, то пожалуй что и плохой. В том смысле, что вы уже умерли, а голову вашу выварили в арахисовом масле — всего год назад, после того как вас застукали в палате лордов пятящимся с мешком на спине — а мешок дырявый, и из дыры в нем сыплется порох. 1607-й отмечен также появлением новой пьесы всеми любимого барда, Уильяма Шекспира, а именно «Антония и Клеопатры». Отмечен он и созданной Галилеем технической новинкой, компасом, благодаря которому вы можете теперь с большей легкостью отыскивать путь по вонючим и мглистым улицам Южного Лондона, направляясь в театр, где дают пьесу мистера Шекспира. Что у нас есть помимо этого? Дайте подумать… Ах да, как я уже сказал, у нас есть опера. Опера. Чего ж вам еще?
Да вообще-то, неплохо бы, я полагаю, обзавестись и оперными певцами. Собственно говоря, певцы у нас есть. Певцы есть, а певиц нету. Во всяком случае, пока. Пока у нас все партии поют мужчины. Еще с того времени, как сам святой Павел, ни больше ни меньше, объявил, что женщинам в церкви лучше помалкивать, певицы обратились примерно в такую же редкость, как ведьма за утренней чашкой кофе в доме епископа. Да, но если нет женщин, то кому же брать высокие ноты? Кто возьмет верхнее до? Похоже, без посторонней помощи в этом деле не обойтись. Если вы понимаете, к чему я клоню. Посторонняя помощь требуется, но выясняется, правда, что это помощь вашего личного хирурга — будьте любезны, снимите штаны! Именно так: вместе с оперой мы получили самых злющих мужчин Италии — и нельзя отрицать, что причин для озлобления у них хватало, — КАСТРАТОВ. Вообще говоря, какой-нибудь канал «Культура» мог бы снять о них неплохой познавательный сериал — на деньги Министерства здравоохранения.
Нет, честное слово, я бы с удовольствием послушал хорошего кастрата — просто чтобы понять, чем они отличаются от нынешних контра-теноров. Идея, очень популярная в тогдашней Италии, состояла в том, чтобы оскоплять обладающего сопрано мальчика, тем самым сохраняя его голос, к которому прибавлялись грудная клетка, легкие и, следовательно, голосовой диапазон взрослого мужчины. Одним из самых прославленных кастратов был Фаринелли (1705–1782), которого, сказывают, сам Филипп V Испанский подрядил на предмет ежевечернего исполнения одних и тех же четырех песен. О нем даже фильм сняли — посмотрите, очень хороший.
Значит, так: простите, что я вас то и дело дергаю, но не могли бы вы мне немного помочь? Закройте еще раз глаза и вообразите, что находитесь посреди огромной английской фабрики 1950-х.
Вообразили?
Черт. Если вы закрыли глаза, вы же дальше читать не сможете. Ладно, открывайте, а воображать буду я.
Передо мной фабрика пятидесятых — цех размером с самолетный ангар. Множество людей занимается здесь своим делом, — правда, к каким-либо механизмам оно ни малейшего отношения не имеет. Люди пишут… гусиными перьями, да еще и на пергаменте. Внезапно раздается страшенный звук, смахивающий на сигнал воздушной тревоги, — многие тут же откладывают перья. Затем из громкоговорителя исходит бухающий голос: «Дамы и господа, наступил 1600-й. Наступил 1600-й. Ренессансная смена закончилась. Прошу композиторов собрать перед уходом свои принадлежности, чтобы барочная смена могла немедленно приступить к работе, в дальнейшем никакие претензии по поводу забытых вещей приниматься не будут. Повторяю, ренессансная смена закончилась. Всем, кто работает в две смены и потому остается в барочной, дается пять минут на то, чтобы размять ноги. Благодарю вас». БУМ, БУМ.
Ладно, ладно, знаю, все происходило иначе. Как вы думаете, почему я разыграл эту сценку? Потому что она показывает, на свой манер, насколько бесполезны любые ярлыки… Ренессанс, барокко и т. д. Люди просто… ну, сочиняли музыку. Разумеется, она претерпела развитие, но ведь не за один же год. Может быть, поэтому ученым и трудно прийти к согласию насчет того, когда именно завершился один период и начался другой. Большинство их проголосовало за то, что эпоха барокко началась где-то около 1600-го, однако это начинает казаться бессмысленным, когда обнаруживаешь, что такие композиторы, как Доуленд, Гиббонс и Монтеверди — а их вряд ли можно назвать претендентами на титул «Мистер барокко залива Моркам, 2004», — трудились себе и трудились и в семнадцатом веке тоже. И все же: где — как любят выражаться политики — нам следует провести черту? Ну так вот, ее провели здесь, и, полагаю, нам придется с этим смириться.
Что ж, позвольте взять вас за руку и провести по улицам начала семнадцатого века — вот увидите, без сменной пары штанов вам обойтись не удастся.
1607-й. Хороший год? Плохой? Ну, если вас зовут Гаем Фоксом, то пожалуй что и плохой. В том смысле, что вы уже умерли, а голову вашу выварили в арахисовом масле — всего год назад, после того как вас застукали в палате лордов пятящимся с мешком на спине — а мешок дырявый, и из дыры в нем сыплется порох. 1607-й отмечен также появлением новой пьесы всеми любимого барда, Уильяма Шекспира, а именно «Антония и Клеопатры». Отмечен он и созданной Галилеем технической новинкой, компасом, благодаря которому вы можете теперь с большей легкостью отыскивать путь по вонючим и мглистым улицам Южного Лондона, направляясь в театр, где дают пьесу мистера Шекспира. Что у нас есть помимо этого? Дайте подумать… Ах да, как я уже сказал, у нас есть опера. Опера. Чего ж вам еще?
Да вообще-то, неплохо бы, я полагаю, обзавестись и оперными певцами. Собственно говоря, певцы у нас есть. Певцы есть, а певиц нету. Во всяком случае, пока. Пока у нас все партии поют мужчины. Еще с того времени, как сам святой Павел, ни больше ни меньше, объявил, что женщинам в церкви лучше помалкивать, певицы обратились примерно в такую же редкость, как ведьма за утренней чашкой кофе в доме епископа. Да, но если нет женщин, то кому же брать высокие ноты? Кто возьмет верхнее до? Похоже, без посторонней помощи в этом деле не обойтись. Если вы понимаете, к чему я клоню. Посторонняя помощь требуется, но выясняется, правда, что это помощь вашего личного хирурга — будьте любезны, снимите штаны! Именно так: вместе с оперой мы получили самых злющих мужчин Италии — и нельзя отрицать, что причин для озлобления у них хватало, — КАСТРАТОВ. Вообще говоря, какой-нибудь канал «Культура» мог бы снять о них неплохой познавательный сериал — на деньги Министерства здравоохранения.
Нет, честное слово, я бы с удовольствием послушал хорошего кастрата — просто чтобы понять, чем они отличаются от нынешних контра-теноров. Идея, очень популярная в тогдашней Италии, состояла в том, чтобы оскоплять обладающего сопрано мальчика, тем самым сохраняя его голос, к которому прибавлялись грудная клетка, легкие и, следовательно, голосовой диапазон взрослого мужчины. Одним из самых прославленных кастратов был Фаринелли (1705–1782), которого, сказывают, сам Филипп V Испанский подрядил на предмет ежевечернего исполнения одних и тех же четырех песен. О нем даже фильм сняли — посмотрите, очень хороший.
ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ. ПРИВЕТ, ЖЕМАНСТВО!
Да, правильно, я все понимаю. Но я тут ни при чем. Меня винить не за что. Итак, у нас имеется опера. Этакий хит из хитов, почти для каждого, кто ее хоть раз слышал. Да оно и понятно — уж больно отличается опера от всего, что существовало до нее. Она так же красива, как четырехголосная месса — даже та, что исполняется в богатых декорациях завораживающего взгляд собора, однако подумайте о том, насколько ЖИВОЙ выглядит опера в сравнении с мессой. Впечатление она должна была производить примерно такое же, как первые спецэффекты в кино. Публика просто-напросто не видела прежде ничего подобного. Вот то же и с оперой — она отличалась от всего, виданного до нее. Простите, но как же удалось соорудить оперу, не имея ни одного приличного сопрано? Удивительное, если вдуматься, дело. И тем не менее опера появилась и даже укоренилась, а вместе с нею появились и самовлюбленные примадонны. Правда, как уже было сказано, не женского пола. На деле они были, что вполне объяснимо, еще и похуже нынешних: самовлюбленные примадонны с постоянным поводом для недовольства. Повод для недовольства у них был, а яиц не было. Жуткое сочетание. Впрочем, самое поразительное в совершённой оперой революции состоит в том, что она, годами и даже столетиями оставаясь самой большой сенсацией в вокальной музыке, привела к решительным переменам в области, на первый взгляд от нее совершенно отличной, а именно в музыке инструментальной. Почему? Да потому, что сидевшему в своей яме оркестру приходилось играть музыку все более и более театральную. И очень часто эта театральность требовала новых приемов, новых созвучий, о которых никто и не думал в те времена, когда инструменты использовались всего лишь для аккомпанемента. Теперь же, когда появилась нужда в новых звуках, в новой музыкальной ткани, композиторам понадобились и новые исполнители, способные играть сочиняемую для опер технически более сложную музыку. А это в конечном итоге привело к тому, что оркестр и вовсе покинул яму — выбрался на сцену и обрел самостоятельность, — к большому недовольству Церкви. Тут видите, какая штука: Церковь инструментальную музыку НА ДУХ НЕ ПЕРЕНОСИЛА. А почему? А просто потому, что она — инструментальная и, стало быть, НЕ ВОКАЛЬНАЯ. Если нет голосов, значит, не будет и слов, а если не будет слов, то как же хвалить Господа? Ну да и ладно, у нас теперь период постреформационный и влияние Церкви здорово ослабло. Даже ей не по силам помешать укорениться явлению столь фундаментальному, как инструментальная музыка. Так что музыка эта растет и развивается. Мы за ней еще последим, а пока — давайте-ка ко двору[♫] Людовика XIV. Так-так, что там у нас со временем? Можете вы поднять обе руки и ответить мне, какое сейчас время? 1656-й, говорите? Да, я проверил, мои часы тоже показывают 1656-й. Время обновления. Что мы имеем? Ну-с, вот уже тридцать шесть лет, как Майлс Стендиш[*] и отцы-пилигримы высадились в Новом Плимуте — поразительное, если вдуматься, совпадение: обогнуть немалую часть земного шара в списанной в утиль, хоть и быстроходной посудине и высадиться на берег в месте, носящем почти такое же название, как то, из которого вы отплыли. А кроме того, в Англии началась и закончилась Гражданская (далеко не цивильная) война и остриженные под Битлов мужички — Кромвель и компания, — прибегнув к довольно крутым мерам, навсегда избавили Карла I от головной боли.
ВЗМАХ ЖЕЗЛА
С другой стороны, король Франции проводил это время в Париже с куда как большей приятностью. Собственно, если бы вам случилось заглянуть к нему в любой из дней 1656 года — или около того, — вы могли бы попасть на замечательное в своем роде представление. Замечательное не только тем, что правящий французский монарх переодевался «солнцем» и отплясывал как последний дурак, но также и тем, что, когда он наконец отплясал, оркестр шагнул в своем развитии словно на другую планету. И все благодаря небольшому балету, сочиненному придворным композитором по фамилии Люлли. Жан Батист Люлли был подвизавшимся в Париже итальянцем, который появился на свет не только с музыкальным слухом, но и с пританцовывающими ногами. На пару с королем надумали они станцевать дуэт — Луи Каторз переоделся для такого случая Солнцем, откуда и взялся приставший к нему титул «Король-Солнце». На мой взгляд, «Король-Солнце» — далеко не худший из титулов, какой мог бы прилипнуть к отплясывающему, на совершенно идиотский манер, человеку. Наверное, объяснить приходскому священнику, что такое значит «Король-Уран», было бы намного труднее. Успех балета был таков, что Люлли продвинули из рядовых «виолонистов» в управляющие «королевской музыкой», а вслед за тем он создал совершенно революционный оркестр, в который входили двадцать четыре скрипки, а с ними флейты, гобои, фаготы, трубы и литавры. Собственно, если вам выпадет случай послушать какое-то из сочинений Люлли в живом исполнении, постарайтесь не забыть, что половина инструментов, которые вы слышите, были в то время совершенно и чрезвычайно НОВЫМИ. Они были только что выдуманными техническими новинками, чудными штуковинами, свежеиспеченными игрушками. Люлли, видите ли, экспериментировал с музыкой и звучанием оркестра. И, что еще важнее, делал это толково. И облик, и звучание оркестра он изменил навсегда.
ЛЮЛЛИ, ИЛИ ЛОЖНОЕ ЧУВСТВО НАДЕЖНОСТИ
Как это ни печально, в наши дни Люлли почти не слушают и не исполняют. Если честно, Люлли помнят ныне скорее в связи с обстоятельствами его смерти, каковые, хоть они и хорошо документированы, заслуживают повторного описания. Говорят, что все произошло в самый разгар исполнения его «Те Deum»[*] — сочинения, написанного, о ирония ироний, по случаю выздоровления любимого короля от некой хвори. То была, понятное дело, какая-то из особенно неприятных болезней семнадцатого столетия. Э-э, не исключено, что и сифилис. Да что угодно. Как бы там ни было, в ту пору вы, дирижируя оркестром, не размахивали перед ним палочкой. О нет, в ту пору вам приходилось зарабатывать ваши деньги тяжелым физическим трудом. Вам выдавали здоровенный кол — размером так примерно с ручку от метлы; иногда к нему подвешивались колокольчики, иногда не подвешивались, — вы держали его вертикально и ударяли им в пол в начале каждого такта или когда вам хотелось. На том трагическом исполнении «Те Deum» Люлли, с веселой беспечностью колотя по полу, вдруг взял да и продырявил собственную ступню, — не знаю, может, мимо как раз проходила какая-нибудь на редкость привлекательная «вертипопка»[♫]. Как бы там ни было, через несколько дней на ноге его, как уверяют, образовался гнойник, потом началась гангрена, а вскоре после этого Люлли умер. Умер пятидесятипятилетним, навеки занесенным — вместе с Алкэном[♫] — в тот раздел посвященных музыке книг, что носит название «Дурно кончившие композиторы». Несчастный сукин сын.
А ПОДАТЬ СЮДА ПЁРСЕЛЛА-МЁРСЕЛЛА!
Англия. 1689-й. (Вступает волнующая, определяющая все настроение следующего эпизода музыка из тех, что мы слышали воскресными вечерами в классических черно-белых фильмах. Музыка стихает.) У нас тут произошли кое-какие, так сказать, перестановки. Кромвель, дослужившийся до звания лорда-протектора, давно похоронен. Будем надеяться, что замертво. В общем-то, и слава богу, — я к тому, что стрижка у него была все-таки кошмарная. Объявился и откланялся Карл II. Произошло что-то вроде нашего перехода из 1960-х в 1970-е — круглоголовые исчезли, а на смену им пришли люди с длинными, ниспадающими локонами. (Интересно, клёши тогда уже носили?) Столица обустроилась более-менее полностью, пережив и Великую чуму — погубившую около 70 000 человек (я привожу лишь порядок величины), — и Великий лондонский пожар. То же можно сказать и о музыке, в которой присутствует ныне целая компания великих композиторов, превосходно работающих в рамках нынешней большой сенсации, оперы, — и никто не справляется с этой работой лучше, чем первейший из композиторов Англии, Генри Пёрселл. Примерно как Люлли во Франции, Пёрселл состоял в композиторах личного оркестра короля — а также в органистах Вестминстерского аббатства. С точки зрения исторической Пёрселл был человеком отчасти загадочным. Уж очень мало о нем известно. На самом деле, так мало, что мне пришлось выдумать кое-что из приведенного ниже, посмотрим, удастся ли вам понять, что именно. Сейчас ему около тридцати, его восхождение на музыкальный небосклон было вполне ослепительным. В пятнадцать он всего-навсего подкачивал воздух в трубы органа, а уже в восемнадцать стал придворным композитором. К двадцати же годам Пёрселл обратился в самого известного композитора Англии. Любимым цветом его был лиловый. ☺ Прошу прощения, но похоже, это почти и все, что мы о нем знаем. Давайте посмотрим еще раз. Пёрселл написал кучу самой разной музыки — от похабных школьных песенок до музыки для королевских торжеств. (Что, между прочим, почти правда.) Что еще? Ну, еще он писал музыку для разных монархов: Карла II, Якова II и королевы Марии. М-м… да, верно, однажды он написал фантазию, основанную на одной-единственной ноте. А еще у него был ручной кролик по кличке Кит. ☺ Черт, извините. В общем, как я уже говорил, о настоящей его жизни мы знаем очень мало. Вернемся в 1689-й. Пёрселл, ему сейчас тридцать один год, представляет на суд публики последнее свое творение — оперу «Дидона и Эней». Великолепное добавление к процветающему оперному жанру, показывающее непревзойденную способность Пёрселла перелагать слова на музыку. Есть там скорбная песнь, которая не только составляет одно из совершеннейших достижений оперы — и музыкальных, и эмоциональных, — но и построена на одном и том же повторяющемся в нижних голосах чередовании нот. Это называется «бассо остинато», его назначение — воспроизводиться снова и снова, образуя фон для меняющейся в верхних голосах мелодии, а иногда и гармонии. Пёрселл использовал его божественно. Звучит великолепная, мучительно печальная ария героини оперы, Дидоны. Дидона поет что-то вроде: «Помни обо мне, но забудь о моей участи». Вот это я и называю примером повторяющейся дважды истории. Если вам когда-нибудь попадется на глаза афиша, извещающая о постановке этой оперы, сходите, послушайте. Что я могу сказать? Она попросту баснословна. Может, ее и написали примерно 313 лет назад, но она и сейчас остается одним из самых трогательных сочинений во всей музыке. И разумеется, из самых любимых, особенно школьниками, потому что Пёрселл расположил слова так, что образовалась пауза, во время которой как раз можно успеть вогнать учителя музыки в краску: «Когда я лягу… лягу в землю». Взрыв смешков и хихиканья в заднем ряду хора. «А ну-ка, прекратить, не то всех после уроков оставлю». Ну ладно, я не могу надолго задерживаться на «Дидоне и Энее» Пёрселла. У меня сегодня назначено несколько встреч, а потом еще музыку надо послушать, посмотреть репортажи с полей сражений — как там людям отрывают руки и ноги. Да, и вот еще живительная мысль. Хоть мы и миновали только что Пёрселла с его «Когда я лягу в землю», позвольте сказать вам следующее: Баху уже исполнилось четыре года — и Генделю тоже. Впрочем, при всей их гениальности мы их музыки долго еще не услышим. Люлли к этому времени свое отплясал — и в буквальном смысле тоже, очень жаль. Однако какой у нас нынче «век»? «Век»чего?
КреМ
Ладно, как вы насчет «Века Рена»? Кристофер Рен все еще с нами и все еще строит. Не забывайте, со времени Великого пожара прошло немногим больше двадцати лет, и хоть власти предержащие не одобрили его план полной перестройки города, Рен тем не менее пережил своего рода строительный бум. Все его, так сказать, наследие было возведено в последующие тридцать с чем-то лет — Сент-Майклз, Корнхилл, Сент-Брайдз, Флит-стрит, театр Шелдона, Музей Ашмола и, разумеется, самая большая постройка, до завершения которой остается, впрочем, всего лишь… двадцать один год: сам собор Святого Павла. В стране правят сейчас Вильгельм и Мария, а полный список их подданных содержит около 5 миллионов имен — сравните с нынешними примерно 58 миллионами. Ладно, если хотите, можно взглянуть и иначе. Это еще и век человека по имени Иоганн Пахельбель. Несмотря на то что фамилия его смахивает на название сыра, который кладут в коробки для завтрака, этот самый Пахельбель был нюрнбергским композитором. Ему случалось занимать несколько незначительных мест… ну, там, органиста в венском соборе Св. Стефана, придворного композитора герцогства Жиганского ☺, в этом примерно роде. Однако место в исторических трудах он получил по трем причинам. Во-первых, он нравился Баху. Ну, то есть, если совсем честно, мог нравиться, ведь так? Сейчас-то Баху всего четыре года, и наверняка он, глядя на Пахельбеля, только и способен, что улыбаться да слюни пускать. Однако дайте Баху время — и он испытает значительное влияние мистера Пахельбеля. Во-вторых, Пахельбель первым начал использовать в музыке кое-какие штуки, которые мы теперь воспринимаем как данность. Символизм, к примеру. Именно Пахельбель его и придумал. Правильнее сказать — он просто раньше прочих учуял, куда ветер дует, и у него минорная тональность начала означать нечто печальное. (Если вам нужен пример чего-нибудь, написанного в минорной тональности, вспомните хоть главную тему из «Списка Шиндлера».) И в таком случае получается, что музыка, написанная в мажорной тональности (попробуйте, скажем, тему Пети из «Пети и волка»), знаменует собой радость. Кажется более-менее очевидным, но ведь тут дела обстоят примерно как с Эверестом — кто-то же должен был забраться на него первым. Мало того, Пахельбель проложил путь для Винсента Прайса[*], постановив, что уменьшенный септаккорд (нет, вы только подумайте, Винсент Прайс, это ж надо) изображает зло. Так что когда станете в следующий раз смотреть классическую «Маску красной смерти», попробуйте прихлопнуть ступней по пульту, по кнопке отключения звука, и любовно прошептать вашей возлюбленной на ухо: «Ну конечно, арпеджио по уменьшенному септаккорду, впервые введенное в тевтонскую музыку семнадцатого столетия великим Иоганном Пахельбелем. Передай мне кукурузные хлопья, милая, ладно?» Однако я сказал, что в исторические труды он попал по трем причинам, и вот теперь дошел черед и до третьей. Бог весть почему, несмотря на несомненные сотни написанных им хоралов, фуг и мотетов, Пахельбель, как это ни грустно, оказался автором лишь одного безусловного хита. Нюрнбергским Джо Дольче[*] с его «Да что с тобой, ЭЙ!» или занесенным в семнадцатый век хором школы Св. Уинфрида. И хит этот принял обличье канона ре мажор. После многолетних исследований ученым удалось доказать также, что именно по этой причине Пахельбель и назвал его «Каноном ре мажор». Любимый всеми и поныне, канон этот нередко обретает второе рождение в той или иной телевизионной рекламе, так что его создание вполне можно считать важнейшим событием, случившимся в Нюрнберге за многие годы, — собственно, до 1938 года, когда в собравшейся на митинг толпе кто-то крикнул: «Валяй, высказывайся!» А теперь я, с вашего дозволения, немного покатаюсь. ТАКСИ!
Б & Г
Конечно, о том, чтобы поймать машину, в те времена нечего было и думать, но, если честно, портшезов уже хватало. На Южный берег они вас все равно не повезли бы, зато делали вас немного более мобильными, да и стоили не так дорого. Собственно, я бы от портшеза и сейчас не отказался, прокатился бы на нем до… до С18. Так, погодите… где у меня на карте это самое С18? Ага. Вот. С18… восемнадцатое столетие, это сразу за Фулемом. Что еще пользуется популярностью в новехоньком, с иголочки, «забывшем старую любовь», похрустывающем и поблескивающем восемнадцатом столетии? Что ж, горько об этом говорить, однако война из моды так и не вышла. Думаю, и никогда не выйдет. Сейчас у нас тут идет Война за испанское наследство. Полагаю, вопрос о том, кто унаследует Испанию, действительно считался важным, поскольку привел к боям очень серьезных тяжеловесов. В синем углу находились Британия, Австрия, Нидерланды и Дания. В красном — Франция, Бавария и, тут удивляться нечему, Испания. А начал все Людовик XIV, которому потребовался рождественский подарок для внука. Надо думать, оловянных солдатиков уже распродали, вот Людовик и решил подарить внуку Испанию. Честно говоря, может, тут не один лишь Людовик виноват, может, ее выставили у кассы на слишком уж видном месте, вот его и заело — вынь ему да положь Испанию. Никто же не знает. Так или иначе, шуму было немало, можете мне поверить, — сначала они там обзывались по-всякому, потом начали руками махать, в общем передрались. Под конец всеобщей свалки — это когда же было-то? В 1714-м, вот когда — Британия получила порядочный куш в виде Гибралтара, Менорки и Новой Шотландии, а Австрии достались Бельгия, Милан и Неаполь. Уж и не знаю — стоило ли оно такой возни? Я бы на их месте просто кинул на пальцах или в считалку все разыграл. Знаете, как это… «Раз-два-три-четыре-пять-вышел-зайчик-погулять. Готово… Испания моя!» Что еще интересного у них там случилось? Ну вот, капитана Кидда повесили за пиратство, это в 1701-м было. Что еще? Ах да, НАЛОГИ! Налоги, да. Если вы думаете, что это нас донимают налогами, советую вам заглянуть в те времена. Налоги были тогда последним писком моды. Таким популярным, что можно было подумать, будто тому, кто введет самый глупый и ему сойдет это с рук, особую премию выдавали. В Англии, понятное дело, существовал соляной налог, равно как и по-оконный — его бы я ввел снова, но лишь для «современных» архитекторов. В Берлине додумались до налога на незамужних женщин. Мило! Однако победительницей следовало назвать моего личного фаворита, Россию, которая в 1689 году ввела налог на бороду. Вот это мысль! Никогда не любил и близко-то подходить к бородатому человеку. Разве что борода у него длинная, белая, а сам он такой весь из себя краснокожий, в черных сапогах до колен и в руках держит какой-нибудь «Геймбой» или «Экшн Мэн». Впрочем, здесь не место распространяться о моих любимых игровых приставках. О других новостях. Мария — та, что «Вильгельм и Мария», — уже скончалась, так что у нас остался один лишь Вильгельм, переживший, вне всяких сомнений, не только период скорби, но и период, в который ему приходилось зачеркивать на визитных карточках «и Мария» — пока из типографии не принесли новые. Воцарилась и почила королева Анна, та, у которой были столь неудачные ноги, так что теперь нами распоряжается Георг I. У недавно основанного Английского банка дела, похоже, идут хорошо, как и у герцога Мальборо, или… «Мясника», так его все называют. Симпатичное, должен сказать, прозвище. Однако давайте все же займемся кое-кем из музыкантов этого времени, — собственно говоря, двумя самыми крупными, теми, что по-настоящему царствовали в том веке. Бахом и Генделем. Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель родились, оба, в 1685-м — в год, когда судья Джеффрис своими «кровавыми ассизами» добивал от имени Якова II еще уцелевших участников восстания Монмута. Бах родился в городке под названием Эйзенах, расположенном километрах в двухстах на северо-восток от Франкфурта. Он происходил из семьи музыкантов и еще в раннем возрасте, дабы набраться знаний, переписывал как одержимый чужие партитуры. Проведя некоторое время в хоре мальчиков, Бах получил первое из многих занимавшихся им впоследствии место органиста в Арнштадте. Так началась его карьера, которую он завершил в возрасте шестидесяти пяти лет и в ходе которой успел поработать в Мюльхаузене, Веймаре и Лейпциге, исписав целые акры нотной бумаги великолепной музыкой. Большая часть ее была посвящена утверждению вящей славы Господней, однако в ней отразились и кое-какие маленькие слабости Баха. Одной из них был кофе. В те времена кофе считали едва ли не опасным наркотиком, однако страсть Баха к кофеину была настолько сильна, что он даже написал о нем целое музыкальное произведение[♫]. Другой его страстью была наука о магических числах. Бах был уверен в том, что определенные числа имеют особый смысл. Если приписать каждой букве числовое значение — в соответствии с местом, занимаемым ею в латинском алфавите (т. е. А = 1, В = 2 и т. д.), — то фамилия Баха даст в сумме 14 (т. е. В2 + А1 + СЗ + Н8 = 14). Поэтому число 14 стало для него очень значимым — в некоторых его кантатах основные мелодии состояли ровно из четырнадцати нот. А одна из его кантат, «Wenn wir in hochsten Nõten sein», насчитывает 166 нот[♥], что, если вы не поленитесь произвести подсчет, представляет собой числовое значение его полного имени. Вот посмотрите:
 Гендель родился не так чтобы в миллионе миль от Баха — в 60 километрах от Лейпцига. Его семья занималась совершенно иными делами. Папа Генделя был цирюльником-хирургом — лично меня передергивает от одних только этих слов: судя по всему, «цирюльник-хирург» — это такой мастер на все руки, мини-доктор, который, едва успев вырвать у вас зуб, тут же приступает к ампутации вашей руки (даром что вы к нему всего-то поздороваться и зашли). Генделю пришлось воспротивиться воле отца, желавшего, чтобы сын перенял у него это жутковатое семейное ремесло. Забавно, но он даже поступил в университет, изучать право, однако при этом отыскал для себя левый заработок органиста — в Домкирхе города Галле, — а там и вовсе перебрался в Гамбург, получив в Гамбургской опере место скрипача и клавесиниста. Со временем театры начали ставить все больше его опер, и Гендель отправился в турне по Европе как исполнитель и композитор, ну и кроме того, эта поездка позволила ему познакомиться с музыкой лучших из живших в ту пору композиторов континента.
Думаю, правильно будет сказать, что эти двое, владычествуя в музыке своего века, то есть века барокко, делали это совершенно по-разному. При том, что жили они точно в одно и то же время, сходства между ними не было никакого. Заядлый бродяга Гендель объехал всю Европу. Бах сидел дома. Может, он любил голову мыть почаще. Гендель был без ума от опер — собственно, он и Королевскую академию музыки основал для того, чтобы пропагандировать оперу, — и насочинял их столько, что хоть ложкой ешь. Бах не написал ни одной.
Генделю, когда речь заходила об очередном заказе, серии концертов или денежной работенке, пальца в рот лучше было не класть, он отлично понимал, с какой стороны на хлеб намазывают масло, — деляга был из тех, что на ходу подметки рвут. А Бах? Ну, Бах во всем, что касается денег, был почти безнадежен. Он никогда порядком не умел, что называется, «подать себя» и даже сел однажды в тюрьму — только из-за того, что не смог прикусить язык, когда некий государственный служащий принялся тыкать ему в нос своим положением. Да и семья размером с население Борнмута тоже особенно богатеть ему не позволяла. Мне всегда казалось, что семейная жизнь Баха была отчасти сродни той, какую мы видим в фильме «Смысл жизни» труппы «Монти Пайтон», — помните, как там дети выскакивают из шкафов с воплями: «Наддай, Дейдри, сляпай нам еще одного!» — это они так радуются появлению на свет нового братика.
Кроме того, по-моему (правда, это всего лишь плод моего воображения), Гендель был в своем роде «ходок» — любил званые обеды, чувствовал себя как дома и в Англии, и в Германии и вообще не дурак был пожить в свое удовольствие. Бах же был человеком более благочестивым, набожным, строго лютеранским художником, который выражал переполнявшие его глубокие музыкальные идеи в стараниях прославить Господа. Говорят, что однажды он отшагал 426 миль и сносил при этом не одну пару сапог — и все лишь для того, чтобы послушать концерт коллеги-композитора Букстехуде. Если честно, в этом можно, разумеется, усмотреть преданность искусству, однако не исключено, что тут перед нами предстает просто-напросто очередной экземпляр «чокнутого органиста». Ну органисты, что с них возьмешь! Верьте слову — психопаты, все до единого.
При всем беспорядке, царившем в жизни Баха, объем написанного им производит впечатление пугающее. Только на то, чтобы собрать и издать все его сочинения, ушло около сорока шести лет.
Если хотите получить некоторое представление насчет сходства Баха с Генделем и в то же самое время — их поразительного различия, вам, пожалуй, лучше всего послушать «Музыку на воде», а сразу за ней — Бранденбургские концерты. Бранденбургские концерты Баха попросту БОЖЕСТВЕННЫ, совершенная фантастика — у меня не хватит слов, чтобы выразить восторг, который они во мне пробуждают. И при этом им присуща некая общая… серьезность, что ли. Генделевская «Музыка на воде» в сравнении с ними выглядит ошеломляюще радостной и, смею сказать, почти «легкой». Даже происхождение этих двух сочинений типично для обоих композиторов. Баховское было порожденным безысходностью подарком маркграфу бранденбургскому, сделанным в надежде разжиться деньгами, в которых композитор отчаянно нуждался, — денег этих он, увы, так и не получил. С другой стороны, сочинение Генделя отличается легкостью и весельем — это двадцать коротких пьес, под которые Георгу I предстояло плавать в барке по Темзе. Собственно, первое их исполнение как раз и состоялось на барке — да еще и раскачивавшейся как черт знает что, — у музыкантов чуть ли не все силы уходили на старания удержать ноты на пюпитрах[♫]. Вот как-то не представляю я себе Баха в подобной роли. При всем при том оба эти сочинения блестящи и великолепны — я ни без того, ни без другого и прожить бы не смог.
Гендель родился не так чтобы в миллионе миль от Баха — в 60 километрах от Лейпцига. Его семья занималась совершенно иными делами. Папа Генделя был цирюльником-хирургом — лично меня передергивает от одних только этих слов: судя по всему, «цирюльник-хирург» — это такой мастер на все руки, мини-доктор, который, едва успев вырвать у вас зуб, тут же приступает к ампутации вашей руки (даром что вы к нему всего-то поздороваться и зашли). Генделю пришлось воспротивиться воле отца, желавшего, чтобы сын перенял у него это жутковатое семейное ремесло. Забавно, но он даже поступил в университет, изучать право, однако при этом отыскал для себя левый заработок органиста — в Домкирхе города Галле, — а там и вовсе перебрался в Гамбург, получив в Гамбургской опере место скрипача и клавесиниста. Со временем театры начали ставить все больше его опер, и Гендель отправился в турне по Европе как исполнитель и композитор, ну и кроме того, эта поездка позволила ему познакомиться с музыкой лучших из живших в ту пору композиторов континента.
Думаю, правильно будет сказать, что эти двое, владычествуя в музыке своего века, то есть века барокко, делали это совершенно по-разному. При том, что жили они точно в одно и то же время, сходства между ними не было никакого. Заядлый бродяга Гендель объехал всю Европу. Бах сидел дома. Может, он любил голову мыть почаще. Гендель был без ума от опер — собственно, он и Королевскую академию музыки основал для того, чтобы пропагандировать оперу, — и насочинял их столько, что хоть ложкой ешь. Бах не написал ни одной.
Генделю, когда речь заходила об очередном заказе, серии концертов или денежной работенке, пальца в рот лучше было не класть, он отлично понимал, с какой стороны на хлеб намазывают масло, — деляга был из тех, что на ходу подметки рвут. А Бах? Ну, Бах во всем, что касается денег, был почти безнадежен. Он никогда порядком не умел, что называется, «подать себя» и даже сел однажды в тюрьму — только из-за того, что не смог прикусить язык, когда некий государственный служащий принялся тыкать ему в нос своим положением. Да и семья размером с население Борнмута тоже особенно богатеть ему не позволяла. Мне всегда казалось, что семейная жизнь Баха была отчасти сродни той, какую мы видим в фильме «Смысл жизни» труппы «Монти Пайтон», — помните, как там дети выскакивают из шкафов с воплями: «Наддай, Дейдри, сляпай нам еще одного!» — это они так радуются появлению на свет нового братика.
Кроме того, по-моему (правда, это всего лишь плод моего воображения), Гендель был в своем роде «ходок» — любил званые обеды, чувствовал себя как дома и в Англии, и в Германии и вообще не дурак был пожить в свое удовольствие. Бах же был человеком более благочестивым, набожным, строго лютеранским художником, который выражал переполнявшие его глубокие музыкальные идеи в стараниях прославить Господа. Говорят, что однажды он отшагал 426 миль и сносил при этом не одну пару сапог — и все лишь для того, чтобы послушать концерт коллеги-композитора Букстехуде. Если честно, в этом можно, разумеется, усмотреть преданность искусству, однако не исключено, что тут перед нами предстает просто-напросто очередной экземпляр «чокнутого органиста». Ну органисты, что с них возьмешь! Верьте слову — психопаты, все до единого.
При всем беспорядке, царившем в жизни Баха, объем написанного им производит впечатление пугающее. Только на то, чтобы собрать и издать все его сочинения, ушло около сорока шести лет.
Если хотите получить некоторое представление насчет сходства Баха с Генделем и в то же самое время — их поразительного различия, вам, пожалуй, лучше всего послушать «Музыку на воде», а сразу за ней — Бранденбургские концерты. Бранденбургские концерты Баха попросту БОЖЕСТВЕННЫ, совершенная фантастика — у меня не хватит слов, чтобы выразить восторг, который они во мне пробуждают. И при этом им присуща некая общая… серьезность, что ли. Генделевская «Музыка на воде» в сравнении с ними выглядит ошеломляюще радостной и, смею сказать, почти «легкой». Даже происхождение этих двух сочинений типично для обоих композиторов. Баховское было порожденным безысходностью подарком маркграфу бранденбургскому, сделанным в надежде разжиться деньгами, в которых композитор отчаянно нуждался, — денег этих он, увы, так и не получил. С другой стороны, сочинение Генделя отличается легкостью и весельем — это двадцать коротких пьес, под которые Георгу I предстояло плавать в барке по Темзе. Собственно, первое их исполнение как раз и состоялось на барке — да еще и раскачивавшейся как черт знает что, — у музыкантов чуть ли не все силы уходили на старания удержать ноты на пюпитрах[♫]. Вот как-то не представляю я себе Баха в подобной роли. При всем при том оба эти сочинения блестящи и великолепны — я ни без того, ни без другого и прожить бы не смог.
АНТИ И ЕГО СЕСТРИЧКИ
Если вы не против, я быстренько перечислю свежие новости. Сначала о технике. Техника развивается буквально скачками. К примеру, некий человек норовит заручиться навечным местом в истории музыки и изобретает фортепиано. Зовут его Кристофори. Повторяю… Кристофори. Видите ли, мне все кажется, что он, вообще-то, дал промашку — об «истории» как следует и не подумав. Ему нужно было последовать примеру Биро или Гувера[*] и назвать свое изобретение «Кристофори». И мы бы сейчас, играя гаммы, колотили по клавишам кристофори или слушали кристофорные концерты. А Кристофори назвал свое изобретение «фортепиано», и никто теперь его имени не помнит. Что еще? Ну-с, Гендель и один из уже прославившихся молодых композиторов, Доменико Скарлатти, устроили фортепьянную дуэль. Такая дуэль расходится с обычной только в одном: от соперников ожидают, что один из них пришибет другого, метко метнув в него фортепиано. Не удивительно, что Генделю и Скарлатти была зачтена ничья и оба они уцелели[♫]. А еще в одном месте состоялся первый крикетный матч — лондонцы против жителей графства Кент, — кроме того, в Англии были пущены в оборот бумажные деньги. Ну, этого, я полагаю, было никак не избежать, они ходили по рукам года примерно с 1558-го, а рано или поздно бумажка оказывается потребна каждому, верно? Вдобавок ко всему этому прусская армия ввела в качестве элемента форменной прически косички, тем самым обскакав корпоративную Британию 1980-х примерно лет на 270. Ну-с, а теперь позвольте познакомить вас с Антонио Вивальди, человеком, написавшим 400 концертов. Или, как сказал Стравинский, один концерт, который он затем повторил 399 раз. (Налейте этому русскому рюмочку — его мнение разделяет немалое число людей; и то сказать, многие концерты Вивальди звучат несколько, ну… одинаково. По крайней мере последние 200.) Вивальди родился в Венеции всего тремя годами позже Б & Г и имел, на его счастье, музыкально одаренного папочку — скрипача из собора Св. Марка. В пятнадцать лет он подался в священнослужители, а лет через десять был рукоположен в священники. Сочетание духовного сана с копной рыжих, как у Криса Эванса, волос заслужило ему прозвище «il prete rosso», «красный священник», хотя каким уж он, получивший особое разрешение не служить мессу, был священником, я себе представляю плохо. Это все равно что быть регбистом, но ни в каких матчах не участвовать. (С другой стороны, Джонни Уилкинсон именно так себя сейчас и ведет.) Большую часть своей профессиональной жизни Вивальди провел на посту музыкального директора венецианского приюта для девочек-сирот — «Conservatorio dell’Ospedale della Pietà», или, для краткости, просто «Пьета». Духовный сан его снова вызвал сомнения, когда поползли слухи, будто Вивальди связывают — да не с одной, а сразу с двумя сопрано, сестрами Анной и Паолиной, — отношения далеко не дружеские. Подобно Генделю, Вивальди много разъезжал по Европе, однако о том, чем он там занимался, почти ничего не известно. Последнюю пару лет жизни он провел в Вене, где блестяще сыграл заглавную роль в скетче под названием «Композиторская кончина № 207», известном также как «Смерть в нищете». В ту пору ему было шестьдесят три года. По счастью, он оставил нам около пятидесяти опер и 400 с чем-то концертов (или только один, если вы согласны со Стравинским), из которых ныне наиболее известны — почти до умопомрачения — те, что входят в состав «Il cimento dell’Armonia е dell’inventione», опус 8. Это «Времена года»: не просто ряд превосходных концертов, но еще и дурные отели и довольно вкусная пицца.
КОМПЛЕКСНЫЙ ТУРИЗМ
Нет, вы только подумайте, уже 1725-й. Как все-таки летит время, особенно если слепить из него снежок и запустить им в кого-нибудь. 1725-й. Год «Времен года». Год, в который Петр Великий утратил часть своего величия — просто потому, что умер. Год, в который Бах, в порыве занимающего дух пророческого вдохновения, сочинил музыку для мобильных телефонов — для сигнала о поступлении входящего вызова, — назвав ее, впрочем, «Нотной тетрадью Анны Магдалены». В этом году родился итальянский авантюрист и писатель Казанова, очень скоро ставший следующей большой сенсацией. Но мы-то теперь ГДЕ? Какой у нас нынче век? Кто пришел, кто ушел, кто наверху, кто внизу? И почему при всяком ТВОЕМ приближении вдруг ПОЯВЛЯЮТСЯ птицы[*]? Что ж, позвольте мне ответить на некоторые из этих вопросов, начиная с самого легкого. Век Рена в прошлом — сэр Кристофер вот уж два года как обратился в главную туристическую приманку столь любимого им собора Святого Павла. Хотя в науке все еще стоит век одной из величайших ученых пар — Исаака («гравитация») Ньютона и Эдмунда («комета») Галлея. Пожалуй, можно также сказать, что наступило время Конгрива, человека, который, мастерски владея диалогом и искусством построения интриги, ввел «дискурс» в «комедию Реставрации». То был также век Большого Турне по Европе. Что ж, от такого я, пожалуй, и сам бы не отказался. Еще с той поры, как носивший совершенно прелестное имя французский живописец Гиацинт Риго написал короткий, пригодный лишь для восемнадцатого столетия вариант «примерного путеводителя», все, кому было не лень, принялись совершать Большие Турне. Композиторы, художники, даже цари: тот же Петр Великий попробовал выяснить, что это такое, — прежде, чем помереть, — правда, инкогнито[♫]. Так или иначе. Большое Турне оставляло, что только естественно, большие и скучные воспоминания. Выросла целая школа живописцев — они назывались «vedutisti», или «панорамисты», — удовлетворявших в Италии спрос на сувениры: живописцы эти селились на больших курортах и писали огромные, горизонтальные горизонты Венеции и иных городов. Каждое их полотно, тут и сомневаться нечего, снабжалось подписью: «Mia Mamma е andata a Veneziana, е tutto questo que mia apportato e questa bruta maglietta!»[♫] Сейчас, говоря о такого рода творениях, чаще всего поминают Каналетто, хотя в то время большей, возможно, популярностью пользовался Франческо Гварди. Итак, то был век Большого Турне, — но какая же музыка помогала вам коротать время, если вы решались заехать в Италию? Ну, если вам удавалось получить приличный номер с приличным видом из окон, то одним из тех, кого вы могли углядеть на улице, был некто Альбинони.
А ВОТ И СТАРИНА АДАЖИО
При множестве его более чем достойных творений венецианец Томазо Альбинони был обречен на то, чтобы оказаться не вполне даже автором одного-единственного чудо-хита. Подобно многим иным композиторам, он нередко работал над несколькими сочинениями сразу — операми на либретто Метастазио, Тима Райса тех дней, или симфониями, форму которых он, как считают, основательно продвинул вперед. Иногда Альбинони просто записывал идею, или часть идеи, или, быть может, какой-то фрагмент, на время откладывая его, чтобы вернуться к нему когда-нибудь позже. Один из таких «набросков», просто кусочек рукописи, был в 1945 году найден итальянским ученым Ремо Джацото в собственной мусорной корзине. Фрагмент содержал лишь пригоршню нот, написанных для партии скрипки, и партию басовую, далеко не полную. Немного поломав голову и прикинув, куда дует ветер, Джацото соорудил то, что известно ныне как «адажио Альбинони» — даром что сам Альбинони ничего такого и не написал. Будучи «адажио» — что по-итальянски значит «медленный теми», — оно представляет собой неспешную, простую мелодию, исполняемую струнными в пунктирном сопровождении негромких, порою щемящих звуков органа. А будучи сочинением гибридным, оно оказалось куда романтичнее большинства барочных произведений этого рода. Так что, когда станете снова слушать его, вспомните об Альбинони и его набросках, вспомните о Ремо Джацотто, которого никто почти и не помнит; но прежде всего вспомните о Каналетто, пишущем венецианский закат, о тихом плеске заросших травой каналов, о глухих ударах покрытых облупившейся краской гондол о причалы. Прекрасно. Упоительно. И прежде чем мы двинемся дальше, позвольте мне ответить на вопрос, заданный мною раньше, на странице 123. Очень просто. Они — совсем как я — давно уж… близки к тебе. Вот. По-моему, я все объяснил.
ДА, И НЕ ЗАБУДЬТЕ О НАФАНЕ-ПРОРОКЕ!
Хорошо. А куда же подевались Бах с Генделем? Ну, если честно, оба по-прежнему царствуют. Бах пишет такие вещи, как «Страсти по Иоанну» и «Страсти по Матфею» — о них я еще скажу, — а Гендель, ну что Гендель? Гендель сочиняет оперу «Роделинда» (давшую нам роскошную арию «Dove sei»[*]), а также «Священника Садока» (не забудьте о Нафане-пророке — про него я тоже еще скажу). Каждый из них — это подобие отдельной ноги… колосса композиции, стоящего, расставив… опять-таки, ноги… над гаванью, которая… ну, в общем, над музыкой. Так сказать. Я понимаю, над этим предложением придется еще поработать. Да, но к чему, как говаривали в 70-х, клонится музыка? К чему клонится все вообще? К чему оно все идет? Собственно говоря, оно идет, в общем и целом, туда же, куда и все прочие, — совершает Большое Турне. Давайте я попробую все объяснить — пока вы не приставили ко мне санитаров. Я вот что имел в виду. Представьте себе, что вы — музыка как таковая, хорошо? Так вот, за спиной у вас… дом — сиречь церковная музыка. Как и всякий дом, он неизменно стоит на одном месте, но только теперь… в общем, в нем теперь никто не живет. Все ушли в оперу, а опера миновала первый вершинный пик своего развития, и теперь она на спаде. Она еще возьмет свое, однако этого придется ждать не один год. Пока же наш царь — музыка инструментальная, а царство ее — Италия. Первыми в инструментальной музыке появились увертюры — оркестр играл как один человек. Потом он разделился — две части одного и того же оркестра, примерно как две команды, играли друг против друга. Такое «двухкомандное» образование называлось концертом. Затем одна группа сократилась в размерах. И теперь небольшая группа солистов играла против всего остального оркестра — получился «кончерто гроссо», или большой концерт. Попробуем взглянуть на это так. Представьте, что каждый
 — это музыкант в составе оркестра.
В случае увертюры оркестр выглядит следующим образом:
— это музыкант в составе оркестра.
В случае увертюры оркестр выглядит следующим образом:
 Все играют вместе, понимаете?
Потом оркестр разделяется:
Все играют вместе, понимаете?
Потом оркестр разделяется:
 …чтобы играть концерт.
А потом одна сторона становится меньше другой:
…чтобы играть концерт.
А потом одна сторона становится меньше другой:
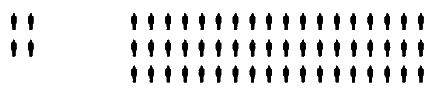 …и играет «кончерто гроссо».
Большим энтузиастом этих «кончерто гроссо» был итальянец Корелли — как и композиторы менее известные, вроде Джеминиани и Торелли, да собственно, как и сам Гендель. А отсюда уже и до «сольного концерта» рукой подать:
…и играет «кончерто гроссо».
Большим энтузиастом этих «кончерто гроссо» был итальянец Корелли — как и композиторы менее известные, вроде Джеминиани и Торелли, да собственно, как и сам Гендель. А отсюда уже и до «сольного концерта» рукой подать:
 …один музыкант играет против всех прочих — это и поныне остается вариантом наиболее распространенным. Честно говоря, сейчас он — один из самых привычных. Вивальди выжал из этого «формата» практически все, что мог, — один раз или 400, это зависит от того, согласны вы со Стравинским или нет.
А вместе с концертом появляется и — оно, разумеется, довольно очевидно, однако сказать об этом следует — Солист. А вместе с солистом — что?… ну что, припадки жеманничанья и несусветные требования по части артистической уборной. Замечательно. Именно этого нам и не хватало. «Мне нужна ваза с „М&М“ только уберите все синенькие… ах да, и пюпитр для нот».
Что касается стороны технической, орган — штука, конечно, важная, однако то и дело появлялись и инструменты новые — не только фортепиано, о котором я уже упоминал, но и пикколо (забавная разновидность флейты для карлика-кастрата, так сказать), и кларнет, и, как это ни странно, камертон[♫].
…один музыкант играет против всех прочих — это и поныне остается вариантом наиболее распространенным. Честно говоря, сейчас он — один из самых привычных. Вивальди выжал из этого «формата» практически все, что мог, — один раз или 400, это зависит от того, согласны вы со Стравинским или нет.
А вместе с концертом появляется и — оно, разумеется, довольно очевидно, однако сказать об этом следует — Солист. А вместе с солистом — что?… ну что, припадки жеманничанья и несусветные требования по части артистической уборной. Замечательно. Именно этого нам и не хватало. «Мне нужна ваза с „М&М“ только уберите все синенькие… ах да, и пюпитр для нот».
Что касается стороны технической, орган — штука, конечно, важная, однако то и дело появлялись и инструменты новые — не только фортепиано, о котором я уже упоминал, но и пикколо (забавная разновидность флейты для карлика-кастрата, так сказать), и кларнет, и, как это ни странно, камертон[♫].
ТОККАТА И ФИГА
Так о чем там шумят в 1729-м? Кого клянут? Кого нахваливают? «Компания Южных морей» благополучно лопнула, Екатерина Великая сменила на троне Петра Великого — приятно видеть, что она взяла его фамилию; а «Молль Флендерс» по-прежнему остается любимой книгой читающей публики, и это через семь лет после первого ее издания. И пожалуй, публику можно понять. Гендель по собственной воле отказался от права первым получать палубный шезлонг — принял британское гражданство. Бах, разумеется, Германию так и не покинул, хоть и переехал, проделав довольно длинный для него путь: в Лейпциг. У Иоганна Себастьяна происходила своего рода разборка с церковным начальством, и ее, разумеется, не облегчало то обстоятельство, что он был последним, кого включили в список кандидатов на все-таки доставшееся ему место в Лейпциге. Баха считали менее предпочтительным, чем на редкость скучный Телеман, — менее предпочтительным даже, чем на редкость малоизвестный Групнер. А кто это? — Ред. (А собственно, сам-то этот Ред кто таков?) Нелады с работодателями у Баха случались далеко не один раз, и, думаю, если взглянуть на них непредвзято, окажется, что и правые, и виноватые найдутся с обеих сторон. Работа у Баха была на редкость тяжелая — ему приходилось сочинять и аранжировать музыку для столь многих городов и событий. Однако и с ним, по некоторым сведениям, ужиться тоже бывало не просто. Был случай, когда он, претендуя на некую должность, призабыл сообщить своему новому нанимателю об одном существенном обстоятельстве — о том, что должность у него уже имелась и отказываться от нее он не собирался. Кончилось все тем, что Баха посадили под домашний арест — дабы он не улепетнул к новому антрепренеру. Впрочем, хорошо уж и то, что свары Баха с властями предержащими никак, похоже, не сказывались на его творчестве. Великие произведения искусства попросту изливались из него, как изливается из пор простого смертного пот. Одно из них — чудесные «Страсти по Матфею», в которых Бах использовал не только данное евангелистом Матфеем описание страстей Господних, но и кое-какие дополнительные стихи, сочиненные человеком, который писал под псевдонимом Пикандер. Как нетрудно себе представить, Бах, человек, преданный Церкви, создавая драматическое изображение распятия Христа, сил не пожалел. «Ораториальные Страсти» были выдумкой по преимуществу немецкой, произросшей из литургических лютеранских музыкальных «Страстей», зачинателями коих стали первые музыкальные поселенцы, такие, как Шютц[♫]. Бах, однако же, приспособил «Страсти» к собственным нуждам. Он увеличил объем небиблейских текстов, повысил требования к поэтам вроде Пикандера — поэтам, от которых он хотел получить оригинальные, но не менее уместные в такого рода сочинении слова. В «Страстях по Матфею», или, если прибегнуть к названию, которое дал им сам Бах, в «Passio Domini nostri J.C. secundum Evangelistam Matthaeum», великий человек использовал двадцать семь — вместо двенадцати — библейских фрагментов. То были последние из его великих «Страстей», исполненные в Великую же пятницу 1729 года в лейпцигской церкви Святого Фомы. Я говорю о первом исполнении. Увы, второго пришлось дожидаться целых сто лет, его осуществил в Берлине некто Феликс Мендельсон, но это уже совсем другая история. Если вам вдруг захочется послушать «Страсти», имейте в виду, что сочинение это очень длинное, однако почти каждый фрагмент его великолепен — так, во всяком случае, считают запойные слушатели Баха, — а великолепнее всех прочих хорал «О Haupt voll Blut und Wunden» («О священная глава, вся покрытая ранами»). Что касается Георга Фридриха, он сочинил за год до этого небольшую оперу «Птоломей» — содержащую приятнейшее «Безмолвное поклонение», — однако, по всей вероятности, все еще продолжал купаться в лучах славы, которую принесли ему четыре гимна, написанные за два года до того для коронации Георга II. Собственно говоря, купаться в лучах славы, которую принес ему один из них, первый, известный ныне всем под обратившимся едва ли не в поговорку названием «Священник Садок» (и не забудьте о Нафане-пророке![♫]). Все они стали популярными настолько, что исполняются с тех пор во время каждой коронации. Если, конечно, на нее удается зазвать нужное число членов королевской семьи[♫].
ВОЙНА И МИР СНОВА ВОЙНА
 Итак, это был 1729-й. Плюс-минус пара лет. Чтобы добраться до следующей важной вехи, вам придется миновать открытие оперного театра «Ковент-Гарден», рождение Гайдна и основание Академии старинной музыки. Это что касается собственно музыки. Что же до прочего, имеется также дом № 10 по Даунинг-стрит; рекомендация доктора Джона Арбатнота следить за тем, что мы едим; зарождение игры в кегли; основание Конрадом Бейсселем секты «субботников»; коронация Христиана VI Датского; вступление на трон дочери царя Иоанна V Анны — наверняка получившей недурственное содержание и корпоративную карету в личное пользование (ах нет, это было годом позже); основание виконтом Таунсендом по прозвищу Турнепс четырехпольной системы земледелия — нет, меня ни о чем больше не спрашивайте; смерть трех великих английских литераторов — Даниеля Дефо, Илии Фентона и Джона Гея; рождение Станислава II, последнего короля независимой Полыни, и создание в Филадельфии — Бенджамином Франклином — первой в истории публичной библиотеки. Слава богу, с этим покончено.
А в добавление ко всему велась война. Ну, если честно, война ведется всегда, не в одном месте, так в другом. Нет, я вовсе не хочу как-то умалять значение подобного рода событий, и все же мне часто кажется, что все тут делается по принципу «А ну, чья у нас нынче очередь?». Немного похоже на распределение отпусков в какой-нибудь конторе:
Итак, это был 1729-й. Плюс-минус пара лет. Чтобы добраться до следующей важной вехи, вам придется миновать открытие оперного театра «Ковент-Гарден», рождение Гайдна и основание Академии старинной музыки. Это что касается собственно музыки. Что же до прочего, имеется также дом № 10 по Даунинг-стрит; рекомендация доктора Джона Арбатнота следить за тем, что мы едим; зарождение игры в кегли; основание Конрадом Бейсселем секты «субботников»; коронация Христиана VI Датского; вступление на трон дочери царя Иоанна V Анны — наверняка получившей недурственное содержание и корпоративную карету в личное пользование (ах нет, это было годом позже); основание виконтом Таунсендом по прозвищу Турнепс четырехпольной системы земледелия — нет, меня ни о чем больше не спрашивайте; смерть трех великих английских литераторов — Даниеля Дефо, Илии Фентона и Джона Гея; рождение Станислава II, последнего короля независимой Полыни, и создание в Филадельфии — Бенджамином Франклином — первой в истории публичной библиотеки. Слава богу, с этим покончено.
А в добавление ко всему велась война. Ну, если честно, война ведется всегда, не в одном месте, так в другом. Нет, я вовсе не хочу как-то умалять значение подобного рода событий, и все же мне часто кажется, что все тут делается по принципу «А ну, чья у нас нынче очередь?». Немного похоже на распределение отпусков в какой-нибудь конторе:
— Угу, ну ладно, ребятам, которые отвечают у нас за Испанское наследство, можно выделить две последние недели августа. Тогда они смогут нарушить в июле Договор о разделе. Фиона, голубушка, принесите мне кофе, хорошо? Так, значит, Тридцатилетняя у нас приходится на июнь, Столетняя — на первую половину июля, и… Минутку, а вы кто такие? — Мы — Семилетняя! — Черт, совсем забыл. Угу… ну да, Семилетняя… Семилетняя… о, гляньте-ка! Вы можете взять первую половину июля, как раз и в школах каникулы начнутся. Ну что, все довольны? Ладно, теперь посмотрим, что у нас там с заказом канцелярских принадлежностей…Ну в общем… может, так все и было. А может, не так. На самом деле война, которая как раз сейчас начинается, это Война за польское наследство. Удачное название. В самый раз для рекламной кампании. В следующем году состоится еще война Турции с Персией, однако она протянется всего месяцев двенадцать или около того. Пф! ВСЕГО-ТО! А через год после нее с Турцией повоюет Россия, потом Пруссия встретится с Австрией в четвертьфинале 1740-го, потом на поле боя снова выйдут Турция и Персия, у них назначен повторный матч. Результат: Турция побеждает за неявкой противника. Ну, не знаю. Миллионы жизней, миллионы фунтов стерлингов, и все это — из-за спорных границ и сомнительных браков? Да в наше время головной офис правительства попросту изменил бы границы и никто бы этого не заметил. Что и напоминает мне: БАХ! Что именно напоминает? Ну видите ли, в 1733-м Бах и сам вел небольшую войну. Далеко не такую масштабную, что верно, то верно, однако это была война, никак не меньше. Войну ИСБ вел с церковным начальством — опять! — на сей раз с начальством лейпцигской церкви Св. Фомы, и разумеется, из-за денег. Вернее, согласно Баху, из-за отсутствия таковых. Занимаемое им место кантора подразумевает, что он должен играть на органе, писать новую музыку — каждую неделю, заметьте! — для двух церквей и всех исполняемых в них служб. Он проводит репетиции, руководит хорами (и обучает их) еще в двух церквах, а также обязан в свое — обратите внимание! — свободное время преподавать латынь и музыку в местной школе. Добавьте к этому то обстоятельство, что жилье, полученное им от работодателей, довольно убого, а платят ему сущие гроши. Так что, сами понимаете, воевать ему приходится практически непрестанно. Но как это сказывается на его, что называется, «музе»? Не иссяк ли для Баха кастальский ключ? Не обратился ли он в сочинителя, не способного за множеством забот написать ни единой ноты? Да в общем-то, нет. Как это ни странно, совсем наоборот. Годы, проведенные в Лейпциге, оказались для Баха наиболее плодоносными. Это время отмечено созданием великих произведений. «Искусство фуги», пусть и не завершенное, представляло собой колоссальный замысел, при осуществлении которого использовались практически все мыслимые музыкальные средства той эпохи. На самом-то деле оно представляло собой КОЛОССАЛЬНЫЙ выпендреж. Бах сочинил для него одну-единственную мелодию. И затем решил показать, сколько раз и сколь различными средствами можно изменять, варьировать и по-новому представлять эту мелодию. Немного похоже на джазиста, которому дают короткую тему, и он, опираясь на нее, часами импровизирует — просто чтобы показать, какой он у нас умный. А кроме того, были еще «Гольдберг-вариации», «Музыкальное приношение» и, разумеется, начатый как раз в пом году, в 1733-м, простенький пустячок… Месса си минор.
КРИТИЧЕСКАЯ МЕССА
«Месса си минор» — или, по-немецки, «Die Messe in h-moll» — считается многими величайшим творением великого мастера. Она массивна. Полная латинская месса, состоящая из двадцати четырех эпизодов, содержащая монументальные версии «Глории», «Распятия» и «Кредо». И — это еще интереснее — месса католическая, что несколько странно для Баха, первейшего протестантского композитора своего времени. Не исключено, что Бах намеревался расширить свой бизнес: он вполне мог послать «Кирие» и «Глорию» католическому курфюрсту Саксонии — а ну как тот возьмет да и предложит ему место придворного композитора. И опять-таки, знаю, я уже говорил это прежде — и все же постарайтесь послушать ее в живом исполнении. Произведение КРУПНОЕ, и даже лучшие записи на компакт-дисках не способны передать его во всей полноте. В 1736-м муза Евтерпа по-прежнему ставила все на две карты, а именно на Б & Г. Да, оба они достигли своих вершин, но в какой обстановке? Я хочу сказать, чем там веяло в 1736-м? Каков он был на вкус? Что ж, позвольте мне взять вас за пальчик, за указательный, и провести им по ткани этого года, чтобы вы ощутили его текстуру. Итак, перед нами истинный, неполный, но окончательный властелин той эпохи — барокко. Если вы звезда барокко, лучшего времени вам не найти, наслаждайтесь им, пока можете. Классический период уже близок, рукой подать. Вот, правда, опера свой первый пик миновала. Оперы еще пишут, — собственно говоря, пишут как угорелые. Да и возведение оперного театра «Ковент-Гарден» завершилось всего лишь в 1732-м — четыре года назад, — стало быть, кто-то же верит в будущее оперы, и вериг достаточно крепко для того, чтобы потратить на этот театр уйму денег. Однако лучшие дни оперы — какой ее знала тогдашняя публика — позади. На пятки ей наступает оратория, и прежде, чем все устаканится, опере придется-таки повертеться, чтобы сохранить былую популярность. Если честно, затейливая, витиеватая музыка, именуемая «барочной», хоть и переживает лучшее свое время, однако на стене уже появились зловещие письмена, предзнаменующие ее кончину. Впрочем, сроки ее еще не настали. Пока. Пока продолжают царствовать Бах и Гендель. Хотя стоит присмотреться и кое к кому еще.
ЗВЕЗДЫ БАРОККО
К Жану Филиппу Рамо, например, человеку из Дижона. В свое время, а у нас, собственно, как раз об этом времени и речь, Рамо был популярен до невероятия. Он сварганил тридцать с чем-то опер и балетов, да и вообще много способствовал развитию своего ремесла, в частности той же оперы. Всего только в прошлом — 1735-м — году его «Галантная Индия», самый нашумевший из балетов сезона, пользовалась огромным успехом. При этом он не просто старался ублажить публику. Рамо раздвигал границы того, что считалось вполне устоявшимся. Именно он приложил немалые усилия, привнося в музыку описательные элементы. До этого времени музыка была по преимуществу… ну, в общем, музыкой — сочиняемой либо ради нее самой, либо для прославления Господа. Рамо же решил, что ей не помешает и описание вещей вполне земных. И в сочинениях наподобие «Галантной Индии» появились музыкальные землетрясения, бури, извержения вулканов, стрельба по тарелочкам ☺ — все это Рамо изображал в своей музыке. А был еще Перголези. И, прошу прощения еще раз, я немного задержусь на его имени. Оно всегда казалось мне прекрасным — Джованни Баттиста Перголези. Из Йези, что в Италии. М-м-м. Прекрасно. В общем, как я уже сказал, Перголези родился в итальянском городе Йези. Жизнь он прожил трагически краткую, скончался в двадцать шесть лет, однако успел написать за это время примерно пятнадцать опер и двенадцать кантат. Одна из этих опер, «La Serva Padrona» — «Служанка-госпожа», — была для своего времени явлением очень значительным, особенно для того, в которое ее исполнили в Париже: говорят, она оказала большое влияние на все развитие французской музыки. У Перголези нашлось время и на сочинение музыки духовной, одно из этих его произведений часто исполняется и поныне, причем по одной-единственной причине: оно прекрасно. Это музыкальное переложение «Stabat Mater» — латинского текста, сочиненного для Страстной недели и описывающего мать Иисуса, стоящую у подножия креста. Ну-с, если я скажу вам, что 1736-й — это всего лишь воспоминание, смутное и далекое, вы мне поверите? Да, скорее всего, поверите, поскольку нас отделяют от этого времени сотни лет. Я, собственно, что хотел предложить — давайте переберемся на шесть лет вперед, в 1742-й. Многое изменилось. Изменилась музыка. Изменился мир. Даже я успел поменять нижнее белье. Вивальди, господин, в распоряжении коего имелось 400 концертов и Две Женщины, уже умер. Умер, можно предположить, счастливым. Однако, как говорят в шоу-бизнесе, когда закрывается одна дверь, тут же распахивается другая. Или открывается, если вам так больше нравится. Как открылась она в нашем случае. Музыкальный мир обрел композитора, который вполне мог претендовать на звание «Обладатель лучшего имени не только в музыке, но и во всей истории». Имя у него было такое:
 Уж и не знаю, почему его родители не сэкономили на дорогостоящих чернилах и не назвали его, скажем:
Уж и не знаю, почему его родители не сэкономили на дорогостоящих чернилах и не назвали его, скажем:
 На самом-то деле много они не сэкономили бы, верно? — но, полагаю, намек мой вы поняли. Карл был родом из Вены, начинал там как скрипач, а после объехал, покоряя публику, всю Италию и дожил до величавой старости, до шестидесяти лет. Собственно, сейчас его именуют второстепенным современником Гайдна и Моцарта. Думаю, в том, чтобы заполнять, имея такое прозвание, анкету перед прохождением через Жемчужные Врата, приятного мало. Имя: Карл Диттерс фон Диттерсдорф (хохотки в очереди). Род занятий: э-э, второстепенный современник Гайдна и Моцарта. Любимый цвет: ну, не знаю, их так много.
Кто еще сорвал, так сказать, банк в музыкальном мире? Ну что же, младенец Гайдн теперь уже поет в хоре мальчиков венского собора Св. Стефана. Он — несомненная восходящая звезда, и если ему удастся избавиться от репутации миляги, его безусловно ждет большое будущее. Что еще? Еще есть музыка для Последней ночи променадных концертов[*], примерно в это время и написанная, — «Правь, Британия!» — любимая песня ура-патриотов (впрочем, как бы вы к ней ни относились, она все-таки поживее, чем «Боже, храни королеву»).
На самом-то деле много они не сэкономили бы, верно? — но, полагаю, намек мой вы поняли. Карл был родом из Вены, начинал там как скрипач, а после объехал, покоряя публику, всю Италию и дожил до величавой старости, до шестидесяти лет. Собственно, сейчас его именуют второстепенным современником Гайдна и Моцарта. Думаю, в том, чтобы заполнять, имея такое прозвание, анкету перед прохождением через Жемчужные Врата, приятного мало. Имя: Карл Диттерс фон Диттерсдорф (хохотки в очереди). Род занятий: э-э, второстепенный современник Гайдна и Моцарта. Любимый цвет: ну, не знаю, их так много.
Кто еще сорвал, так сказать, банк в музыкальном мире? Ну что же, младенец Гайдн теперь уже поет в хоре мальчиков венского собора Св. Стефана. Он — несомненная восходящая звезда, и если ему удастся избавиться от репутации миляги, его безусловно ждет большое будущее. Что еще? Еще есть музыка для Последней ночи променадных концертов[*], примерно в это время и написанная, — «Правь, Британия!» — любимая песня ура-патриотов (впрочем, как бы вы к ней ни относились, она все-таки поживее, чем «Боже, храни королеву»).
АРН ИДЕТ!
Когда Томас Арн сочинил мелодию, составляющую ровно половину того, за что его ныне помнят, ему было всего тридцать лет. Этому выпускнику Итона, будущему стряпчему, приходилось, скрывая от папы свою увлеченность музыкой, упражняться на приглушенном до беззвучия клавесине. Впрочем, со временем ему удалось выбраться из своей музыкальной клетушки — господи, как же в ней, наверное, было тесно — и, получив благословение отца, стать преуспевающим композитором. И в 1740-м он сочинил «музыкальное представление», называвшееся «Альфред», из коего и происходит неувядающая «Правь, Британия!». Другая половина его притязаний на вечную славу образуется тем, что он, вместе с Эдуардом Элгаром, стал частью своего рода жаргонного присловья, к которому музыканты прибегают, говоря о человеке, ничего в их делене смыслящем… «Да он Арна от Элгара не отличит». «Правь, Б.» Томаса Арна была впервые исполнена в Кливдене, в присутствии принца Уэльского. И это приводит меня к полезному вопросу: так кто же правил, так сказать, волнами в 1742 году?
«В ПРЕКРАСНОМ ГОРОДЕ ДУБЛИНЕ ГЕНДЕЛЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ С КОМИТЕТОМ…»
Давайте подкрутим наши окуляры, чтобы увидеть общую картину, а после подкрутим их в другую сторону и займемся деталями. Сначала картина общая. Прусский король Фридрих Великий[♫] упивается первыми пятнадцатью минутами славы, которой хватит, если быть точным, еще на сорок шесть лет. И, прежде чем мы начнем крутить в другую сторону, что там произошло еще? Еще папа сильно выходил из себя по поводу франкмасонов. Не нравились они ему. Совсем не нравились. Он даже посвятил им папскую буллу, что-то наподобие: «Ну что, в самом деле, такое — вход только для своих? К чему эти дурацкие костюмы и странные ритуалы?» Короче говоря, сами видите, он их побаивался. Медленно наращивая увеличение, мы видим шведского астронома Андерса Цельсия, который как раз в этом году — всего через шесть лет после смерти Габриеля Фаренгейта[♫] — изобрел «стоградусный» термометр. Сдвигаемся поближе к дому — в Британии только что ввели театральную цензуру, так что все новые пьесы должны теперь получать одобрение лорда-гофмейстера. Что, впрочем, не помешало Дэвиду Гаррику с блеском дебютировать на лондонской сцене, исполнив роль Ричарда III. Объявился и исчез Дик Терпин[*], человек, бравший с путешественников непомерные деньги, — впрочем, в наше время многочисленные кафе, расположенные вдоль автострады А1, делают все посильное, чтобы имя его не было забыто. Теперь о музыке: Гендель направляется в Дублин, где вскорости предложит вниманию публики свой вариант фразы «Такого вы еще не видали», на сей раз в обличье оратории. Герцог Девонширский пригласил его в ирландскую столицу — дать несколько бенефисных концертов, — и Гендель приглашение с охотой принял. Некоторое время назад он потерял около десяти тысяч — вложил их в итальянскую оперную труппу, а та возьми да и лопни — и потому был очень не прочь покрасоваться перед ирландцами в качестве «континентальной звезды». Гендель приехал в Дублин, намереваясь дать несколько концертов, заработать хорошие деньги и благополучно откланяться. Однако принимали его так хорошо, что он остался на девять месяцев — снял дом на Эбби-стрит и вместо запланированных шести концертов дал двенадцать. Живя здесь, он проникался к местным музыкантам все большим уважением и в конечном итоге отказался от предвзятой идеи о том, что новой оратории, над которой он работал, им не потянуть. И потому 27 марта названного года Гендель поместил в «Даблин джорнал» следующее объявление:
Дабы облегчить участь заключенных нескольких тюрем, а также имея в виду оказать вспоможение Больнице Мерсера на Стефан-стрит и Благотворительной Лечебнице в Иннс-Ки, в понедельник, апреля 12, в Музыкальном Зале на Фишэмбл-стрит будет исполнена Большая Оратория мистера Генделя, называемая МЕССИЯ, в каковом исполнении примут участие Джентльмены из Хоров обеих Церквей, сопровождаемые Органом, на коем будет играть сам мистер Гендель.На премьеру в зал, предназначенный для 600 человек, набилось семьсот. Газетные рецензенты рассыпались в похвалах. «По мнению наилучших знатоков, творение сие намного превосходит все ему подобные, исполнявшиеся когда-либо в этом или ином другом королевстве». Так зародилась одна из великих легенд музыки. Некоторые говорят, будто Гендель написал свою ораторию за двадцать пять дней, другие дают еще меньше — восемнадцать. С определенностью можно сказать одно: в тот год, в Дублине, на руках у Генделя оказался потрясающий хит. В дальнейшем он не оставлял попыток повторить успех «Мессии», написав череду других ораторий: «Семела», «Иуда Маккавей», «Иисус», «Соломон», «Белоснежка и семь гномов» ☺ … виноват, перепутал заметки.
«ТАЙМ-АУТ», 1749
Придется вам заглянуть со мной и туда. Как по-вашему, если бы вы купили номер журнала «Тайм-аут» за 1749 год, что вы смогли бы в нем прочитать? Ну, очень может быть, что и ничего. В смысле «смогли». Предположим, однако, что читать вы все же умеете. Что тогда? Прежде всего вы увидели бы двухстраничное интервью с Генри Филдингом, нахваливающим свой новый роман «Том Джонс», кстати сказать, довольно игривый. Вы могли бы увидеть статью о бродячей театральной труппе, привезшей в страну новое сочинение итальянского комедиографа Гольдони, пьесу под названием «Лжец». Отличное название, вы не находите? Могли также увидеть рецензию, посвященную недавней итоговой выставке живописца Каналетто, который уже почти год как живет в Англии, или, может быть, рассуждения о садовой флоре и фауне и садовых ландшафтах, которые творит парковый архитектор по прозвищу Искусник Браун. Э-э, почти наверняка с рисунками Гейнсборо. Где-нибудь в отделе «Письма читателей» вам, вероятно, попалось бы на глаза послание «Что они выдумают следом?», трактующее о последнем изобретении Перейры, языке знаков для глухонемых. А в разделе новостей — заметка «И где они теперь?», о Красавце принце Чарли[*], плюс небольшой абзац насчет Филиппа № 5, которого сменил на испанском троне Фердинанд № 6. И может быть, даже объявление: «Император Священной Римской империи Франц № 1 приглашает нас мирно скоротать с ним время в Ахене». А вот что касается музыки, то тут «Тайм-аут» 1749-го наверняка сообщил бы, что мы дошли до самого края. Что-нибудь на манер Боба Дилана: «время, оно, понимаешь, идет». В этом роде. В архитектуре замысловатые, проработанные до мелочей элементы рококо и барокко свое уже отслужили, — вот так же и в музыке замысловатые, проработанные до мелочей элементы барокко с его контрапунктами того и гляди отойдут в прошлое. В архитектуре на замену им пришел неоклассицизм, вдохновленный трудами навроде «Классических древностей Афин» Стюарта и Реветта и ему подобными. В музыке появилось… да примерно то же самое. Правда, до сей поры ничего похожего в музыке не появлялось — во всяком случае, в записанном виде, — поэтому классицизмом его назвали просто так. Вернее сказать, назовут. Его пока нет. Но скоро будет. Музыку начнут, так сказать, причесывать, убирать из нее баховские контрапункты и фуги, все в меньшей и меньшей мере опираться на ее ученую, математическую сторону, направлять ее по другому пути. Впрочем, как я сказал, этого пока не случилось. Пока у нас только 1749 год, и барокко получило дополнительное время. Добрых… сейчас посмотрю… да, ровно двенадцать месяцев. Игру ведут: Доменико Скарлатти в Испании, Рамо во Франции и Гендель — более-менее повсеместно. На самом-то деле, если честно, кончится Бах, кончится и барокко. По-моему, справедливо. Но, пока пароход гудит, извещая о своем скором прибытии, Гендель продолжает выдавать шедевр за шедевром. И действительно, лайнер серии «Куин» уже подходит к причалу № 1: рейс 1749 из Савы с заходом в Каир и Аддис-Абебу. Мне это напоминает сцену из библии классической музыки, из Фраевой «Жизни классиков», снабженной подзаголовком «Период классицизма глазами свидетеля». Позвольте, я процитирую здесь одно очень важное место.
Покидая каретный двор, я невольно приметил рослого темноволосого джентльмена, поспешавшего в надежде попасть на дилижанс, именуемый «Классика». — Стойте, стойте, — восклицал он. Но тщетно. Кучер уже обмотал себе всякой ветошью голову, надеясь тем самым защитить ее от сулящего многоразличные недомогания ветра, да и дилижанс его набрал, вылетая с опрысканной дождем брусчатки двора, такую скорость, что истинной пулей пронесся мимо джентльмена, обдав плащ оного брызгами. — Проклятие, — возопил, провожая его гневным взглядом, незнакомец и тут же, поняв, что я мог услышать его, присовокупил: — Прошу прощения. Я кивнул — мысль о том, что мне не придется вытаскивать, дабы проучить его за неучтивость, руки мои, укрывшиеся в уютном тепле карманов, несла с собою немалое облегчение. Незнакомец приблизился. — Извините, милостивый государь, — произнес он, — не скажете ли, какой это дилижанс я упустил? Я немного нахмурился, давая понять, что новость его ожидает не из самых приятных. — 1750-й. «Период классицизма». Э-э, со сменой коней в Слау. — Проклятие, — вновь возопил он. И снова: — Прошу прощения. Джентльмен помолчал, затем спросил: — А когда будет следующий? Я извлек из кармана часы: — Следующий? Не ранее 1820-го… или около того. «Период романтизма». Услышав это, незнакомец совершенно пал духом: — Семьдесят лет? Семьдесят лет до следующего дилижанса? Сколько ни был я уверен в истинности сведений моих, однако ж потщился снабдить его хотя бы малой надеждой. — Дозвольте мне проверить, — сказал я, сознавая, впрочем, что проверка окажется бесплодной. — Да, 1820-й. Романтики. Есть еще один, он отправляется в 1800-м, но места в нем давно распроданы. Вы ведь места в нем не оплатили, не так ли? Он потупился, вперивши взгляд в свои галоши. — Э-э, нет. Не оплатил. — Тогда вам остается лишь дожидаться 1820-го. А знаете что, сударь, позвольте мне угостить вас горячим виски с горьким пивом. И пусть пары их развеют все ваши невзгоды. То было единственное утешение, какое я мог ему предложить. — Благодарю вас, сэр, — промолвил несостоявшийся путник, и мы с ним вошли в помещение станции.Прелестно, не правда ли? Подлинный, полученный из первых рук рассказ о человеке, пропустившем начало классического периода. Трогательный, пусть и отдающий слегка сюрреализмом. Пожалуйста, принесите мне кто-нибудь плед, я хочу ноги укутать.
…ТАК НЕ О ЧЕМ БОЛЬШЕ И ГОВОРИТЬ
 Итак, Джим, период классицизма, но не такой, каким мы его ныне знаем. Вернее, не совсем такой. Во всяком случае, пока. А почему? Да главным образом потому, что не всем известно: классицизм уже наступил, как не всем было известно насчет барокко, пока оно не свалилось им на голову. Вот и «1750, начало периода классицизма» — чушь примерно в этом же роде. Чушь. Очень удобный и очень распространенный ярлык, указывающий, что около этого времени начали создаваться первые произведения, которые мы теперь относим к классической музыке.
И все-таки «официально» классицизм начался. То есть период, давший название всей классической музыке. А это почему? Почему именно этот период, продлившийся с 1750-го по 1820-й, дал название ВСЕЙ музыке такого рода, сочиняемой с названного года и по настоящий день? Барочная, романтическая, даже современная музыка… почему мы называем всю ее «классической»? Как ответить на этот вопрос?
Понятия не имею. Если вам так уж нужен ответ, поищите его в какой-то другой книге[♫].
Сейчас у нас, разумеется, дни еще ранние. Все это смахивает на конец экзамена — раздается звонок, но, услышав его, перья откладывают лишь очень немногие. Вот примерно так же лишь очень немногие тут же и перестали сочинять барочную музыку. Нет, Бах перестал точно, но сделал это скорее по настоянию Старухи с косой, чем из желания перейти в классицисты. А многие так и продолжали ее писать, пока экзаменатор буквально не отобрал у них перья. Это, конечно, метафора. Впрочем, в творениях одного-двух композиторов начали проступать многочисленные признаки классического периода, — в частности, это относится к КФЭ Баху. Ну и многие из молодых, новички, прямиком в классический период и попавшие, находили, разумеется, естественным ничего иного и не сочинять. Был один баварец, быстро усвоивший суть новой «классики», — специалисты по маркетингу называют теперь таких людей «ранними восприемниками». И мало того, что ему предстояло вот-вот создать САМОЕ ЛУЧШЕЕ из своих творений, он еще и носил не лишенное забавности среднее имя. ФАН-ТАСТИЧЕСКОЕ! Шаг вперед, будьте любезны…
Итак, Джим, период классицизма, но не такой, каким мы его ныне знаем. Вернее, не совсем такой. Во всяком случае, пока. А почему? Да главным образом потому, что не всем известно: классицизм уже наступил, как не всем было известно насчет барокко, пока оно не свалилось им на голову. Вот и «1750, начало периода классицизма» — чушь примерно в этом же роде. Чушь. Очень удобный и очень распространенный ярлык, указывающий, что около этого времени начали создаваться первые произведения, которые мы теперь относим к классической музыке.
И все-таки «официально» классицизм начался. То есть период, давший название всей классической музыке. А это почему? Почему именно этот период, продлившийся с 1750-го по 1820-й, дал название ВСЕЙ музыке такого рода, сочиняемой с названного года и по настоящий день? Барочная, романтическая, даже современная музыка… почему мы называем всю ее «классической»? Как ответить на этот вопрос?
Понятия не имею. Если вам так уж нужен ответ, поищите его в какой-то другой книге[♫].
Сейчас у нас, разумеется, дни еще ранние. Все это смахивает на конец экзамена — раздается звонок, но, услышав его, перья откладывают лишь очень немногие. Вот примерно так же лишь очень немногие тут же и перестали сочинять барочную музыку. Нет, Бах перестал точно, но сделал это скорее по настоянию Старухи с косой, чем из желания перейти в классицисты. А многие так и продолжали ее писать, пока экзаменатор буквально не отобрал у них перья. Это, конечно, метафора. Впрочем, в творениях одного-двух композиторов начали проступать многочисленные признаки классического периода, — в частности, это относится к КФЭ Баху. Ну и многие из молодых, новички, прямиком в классический период и попавшие, находили, разумеется, естественным ничего иного и не сочинять. Был один баварец, быстро усвоивший суть новой «классики», — специалисты по маркетингу называют теперь таких людей «ранними восприемниками». И мало того, что ему предстояло вот-вот создать САМОЕ ЛУЧШЕЕ из своих творений, он еще и носил не лишенное забавности среднее имя. ФАН-ТАСТИЧЕСКОЕ! Шаг вперед, будьте любезны…
 Да, я понимаю. Как сказал бы Фрэнки Хауэрд[*]: «О нет, дорогая, не смейся… Смеяться еще рано». Ладно, прежде чем мы им займемся, позвольте быстренько обрисовать вам обстановку в целом. Представьте, что сейчас 1762 год. Да-да, я понимаю — tempus fugit[*], особенно когда собираешься объять на следующих десяти страницах целых тридцать два года. Ну да ладно. Все сразу получить невозможно.
Да, я понимаю. Как сказал бы Фрэнки Хауэрд[*]: «О нет, дорогая, не смейся… Смеяться еще рано». Ладно, прежде чем мы им займемся, позвольте быстренько обрисовать вам обстановку в целом. Представьте, что сейчас 1762 год. Да-да, я понимаю — tempus fugit[*], особенно когда собираешься объять на следующих десяти страницах целых тридцать два года. Ну да ладно. Все сразу получить невозможно.
ДЕНДИ
Итак, что произошло со времени нашей последней беседы? Давайте посмотрим. Семь лет назад появился «Словарь» Джонсона, стоящий теперь на полках всех добрых книгочеев — возможно, рядом с «Тристрамом Шенди» Лоренса Стерна, «Кандидом» Вольтера и напечатанным только в этом году «Об Общественном договоре» Руссо. Последнее на ночь читать не рекомендуется. В том же доме, где висит такая вот быстро заполняющаяся книжная полка, может также отыскаться шкафчик Томаса Чиппендейла — это уж новость самая «свежая», — а то и картина Джорджа Стаббса. Джордж Стаббс был в какой-то степени Дэмиеном Хёрстом своего времени, с той, правда, разницей, что оставлял в целости изображаемых им существ и предпочитал формальдегиду масляные краски. Джозайя Веджвуд лишь пару лет назад открыл в Этрурии, Стаффордшир, гончарную мастерскую; а уж совсем недавно Красавчик Нэш[*] был… ну, в общем, был сильно занят, изображая Красавчика Нэша, бонвивана и денди. Роскошное прозвище, вы не находите? Денди. Могу себе представить, как он выглядел в бюро по трудоустройству. Собственно, сколько я помню, в «Жизни классиков» упоминается один такой эпизод. Господи, до чего же все-таки полезная книга!
Мне и прежде доводилось пользоваться гостеприимством нашего правительства, тем более что я всегда находил еженедельные собрания в «Maison de Travail»[*] не лишенными приятности. На сей раз я оказался стоящим в очереди прямо за прославленным бонвиваном, краснобаем и денди мистером Красавчиком Нэшем. В какую-то из минут, когда его правая щека свела далеко не мимолетное знакомство с моим плечом, мне показалось, что прошедшей ночью он «по-виванил» несколько слишком «бон-но». Когда настал его черед поведать о том, какую пользу способен он принести правительству, я, пробудив его от дремоты, напомнил ему, что пора исполнить свою роль. Сославшись на приступ подагры, способный сделать поступь его менее твердой, нежели обычно, он попросил проводить его к столу чиновного мужа. Я с удовольствием помог ему, что и позволило мне стать свидетелем примерно такой беседы: — Имя? — Нэш, Красавчик. — Род занятий? — Денди. — Виноват? — Я сказал — денди. — Денди? — Да, сэр, денди. Я — денди. Я… я… я дендирую. И довольно часто. А теперь, добрый человек, прошу вас, скажите… я желал бы ходатайствовать о препоручении мне трудов и деяний, кои позволят, при дальнейшем их исполнении, претендовать на умеренные денежные — кое-кто мог бы назвать их финансовыми — достатки. Что вы на это ответите? Представитель доброго короля Георга воззрился на Нэша в явственном замешательстве. — Чего-чего? — переспросил он. Нэш, смерив его взглядом, презрительно фыркнул и ответил: — Работу давай!Прекрасное место. Как нам все-таки повезло — получить в свое распоряжение столь превосходное свидетельство о тех далеких временах. Благодарение небесам, удостоившим меня таких предков, — вот и все, что я могу сказать.
ПЕРЕРЫВ
Но возвратимся в 1762 год. Что у нас там со спортом? Ну-с, спорт, по всему судя, процветает. В Сент-Андрусе основан гольф-клуб, «Жокей-клуб» тоже уже работает, а помимо того кто-то даже взял на себя, хвала небесам, труд составить правила игры в вист. Что касается иных сфер человеческой деятельности — начали работать две важные фабрики, а именно первая в мире фарфоровая и первая в мире шоколадная. Одна из них, понятное дело, намного важнее другой. Говоря же о событиях в большей мере «мировых», можно отметить, что Георг II уже умер и теперь мы имеем Георга III. В Америке затеялось некое брожение, все вдруг заговорили о независимости, и, чтобы уж ничего не упустить, мы к настоящему времени отмотали шесть лет Семилетней войны. Более-менее все, по-моему. Хотя нет… кто-то еще додумался до губной гармоники. Сволочь безмозглая. Если же говорить о музыке, то в ней произошел определенный сдвиг. Сместился центр музыкальной вселенной. До сей поры он находился в Италии, куда попал из Голландии с Фландрией, а теперь переехал снова — в Вену, благодаря, в частности, Габсбургам, всесильному семейству, поставляющему ныне императоров Священной Римской империи. Гендель уже скончался, ровно три года назад, и мир лишился последнего из великих поборников искусства барокко. Классическая музыка, какой мы ее знаем, укрепляет свои позиции — главным образом потому, что практически все барочные композиторы перемерли. В такой вот обстановке человек, обладавший не лишенным забавности средним именем — Глюк, — и надумал сочинить новую оперу.
УМЕЛЕЦ СО СРЕДСТВАМИ
Так вот, если помнить о том, что многие считали оперу уже отжившей свой век, шаг, сделанный Глюком, представляется довольно рискованным. Правда, не самому Глюку. Если честно, Глюк имел перед другими одно преимущество: он много колесил по свету. Заезжал то туда, то сюда, увидит где-нибудь идею и прикарманит, услышит новый стиль — прикарманит и стиль. Кроме того, он женился на дочери одного из богатейших банкиров Вены — по любви, как вы понимаете, — и потому мог позволить себе побездельничать и посочинять на досуге то, что ему нравилось. А что ему нравилось? А нравился ему реализм. Он хотел, чтобы в музыке было побольше реализма — меньше «музыки для музыки» и больше «вот тут музыка должна звучать подобно тому-то и тому-то» или «эта часть произведения должна имитировать то-то и то-то». Глюк уже опробовал этот подход на балете, в основе которого — мольеровский «Дон Жуан», и ему, в общем, понравилось. Вот он и решил проделать то же самое снова, на сей раз в опере. Либретто он заказал приятелю, ведавшему местной лотереей[♫], и… словом, как тогда выражались, рука руку моет. Глюк выиграл. Публика ничего подобного прежде не видела. На сцене появились настоящие люди, настоящая правда. Да и звучало это сочинение намного драматичнее всего, что когда-либо слышала публика, — главным образом потому, что Глюк, используя оркестр, опробовал, если угодно, новые звуковые эффекты. Публике казалось, будто она и вправду слышит в музыке гром, ощущает ярость фурий и едва ли не видит красоту Элизиума. Неужели опера снова сможет обрести популярность? Да, Глюк с его не лишенным забавности средним именем как раз так и думал. И что же представляло собой произведение, столь изменившее отношение к опере? Ну-с, поверите ли? — оно представляло собой переработку истории, которая еще в 1607 году легла в основу первого, по сути, оперного хита. Истории Орфея и Эвридики.
ОРФЕЙ И ЭВРИКА
«Орфей и Эвридика» — Глюк. «La Favola d’Orfeo»[*] — Монтеверди. «Orphée aux Enfers»[*] — Оффенбах. И даже «Orpheus und Eurydyke» — Кшенек. Поразительно, с каким постоянством перерабатывалась эта история. В оперные либретто она попадала гораздо чаще других и по меньшей мере в двух случаях оказывалась на переднем крае музыкальных новаций. Поэтому нисколько не удивляешься, узнав, что история эта рассказывает — о ком бы вы думали? — об «изобретателе музыки», Орфее, который выводит свою возлюбленную Эвридику из Аида — и лишь затем, чтобы вновь утратить ее в миг воссоединения. Интересно, что Глюк приделал к этой истории счастливый конец — появляется Амур, возвращающий Эвридику к жизни, — совсем не то что у Монтеверди, там Орфей теряет Эвридику, но зато Аполлон — в виде компенсации — помещает его среди звезд. Классическая история, давшая, самое малое, три классические оперы, каждая из которых хороша по-своему. Ну ладно, раз уж разговор зашел об изобретателе музыки, давайте присядем и подведем кой-какие итоги.
ПРОСТИТЕ, ВАС СЛУЧАЙНО НЕ БАХОМ ЗОВУТ?
Бах уже получил место, которого ожидал в самом конце, — капельмейстера в оркестре Святого Духа — и теперь исполняет эту должность на пару с Генделем. Сколько я понимаю, Большой Георг более чем готов довольствоваться тем, что сидит на репетициях в зале, закусывая жареными цыплятами, — поесть наш Гендель любил всегда. Что же до тех, кто пришел этим двоим на смену, то Гайдн еще только начинает создавать себе имя[♫], а Глюк создает таковое для оперы. Но что же можно сказать о самом времени? Какой там нынче год? 1763-й! И что происходит? 1763-й — генералы Семилетней войны покивали боковому судье, и тот, поскольку дополнительное время назначено не было, дал свисток, впоследствии названный «Парижским миром». У нас в Англии уже имеется Питт Старший, а вот только что мы получили еще и Питта Младшего[*], хотя последним, кто попал в сводку новостей, оказался совсем другой Пит — пони. В 1763-м этих бедных животных впервые начали использовать в шахтах. Путешествующему музыканту Чарлзу Бёрни[♫], в сравнении с которым и Тур Хейердал выглядит лежебокой, уже исполнилось тридцать семь. Во Франции Рамо осталось прожить всего один год. В Австрии Моцарт дожил до семи — и несомненно уже подумывает о том, чтобы уйти на покой. Следует помнить, что Моцарту года начисляются примерно так же, как собаке, и, стало быть, его «семь» — это примерно то же, что двадцать один простого смертного. Вот он и спешит зашибить деньгу, гоняя по всей Европе с концертами — из опасения, что музыка того и гляди выйдет из моды. Что до прочего, то — как говаривают в довольно странных местах, в которые без хорошего блата не попадешь, — «Бах умер, да здравствует Бах!». Хорошо-хорошо, на самом деле никто этого не говорил. Я все выдумал. Я, собственно, хотел сказать вот что: «баховский» Бах — Иоганн Себастьян, великий, — уже умер. Однако парочка Бахов еще кружит по свету, поддерживая, так сказать, марку фирмы. Скажем, в Англии подвизается ИК Бах, известный, если быть точным, под довольно неожиданным прозвищем: «английский» Бах, а в Германии наличествует Карл Филипп Эмануэль, КФЭ Бах, известный как… ну, в общем, он и известен как КФЭ Бах. Говорят, что «английский» Бах заехал однажды в Лондон и до того ему там понравилось, что он взял да и остался. Подружился с Гейнсборо, начал мелькать на шикарных приемах и все такое. Раз уж я о нем заговорил, позвольте предложить вам полный список Бахов:
ИС Бах — папаша Бах. ИК Бах — «английский» Бах (младший сын вышеназванного). КФЭ Бах — Бах без прозвания (второй сын вышеназванного). ОРЗ Бах — «сморкающийся» Бах. ☺ ВДВ Бах — «отчаянный» Бах. ☺ ЖЭК Бах — Бах «света не будет». ☺ ГАИ Бах — Бах «здесь стоянка запрещена». ☺ ФАПСИ Бах — Бах «я вас внимательно слушаю». ☺Сами видите, 1763-й положительно кишит Бахами. А как же вся прочая классическая музыка — что я увидел бы, отвлекшись на минутку от Бахов? Ну-с, классическая музыка, какой мы ее знаем теперь, более или менее устаканилась. Барокко с рококо все еще с нами, однако долго они не протянут — год, если не неделю. Контрапунктическое «тра-ля-ля» уходит, уходит и почти уж ушло, и на смену ему является звучание более строгое и в то же время облеченное в более сложные формы. Разумеется, все произошло не так просто («Э-э… м-м-м… я бы, пожалуй, изобрел… э-э… симфонию». — «Как скажешь», — отвечает добрая фея, взмахивает палочкой — и готово), нет, тут шла эволюция, прямо по Дарвину. Библия описала бы это так: «Опера родила Оперную Увертюру, Оперная Увертюра родила Увертюру Отдельную, Отдельная Увертюра родила Симфониетту, а Симфониетта родила Симфонию». Дальнейшее отчасти походило на продвижение разрозненных исследовательских групп к полюсу Земли — композиторы работали в разных лагерях, один подправит что-то здесь, другой подбросит идею там. И это относится не только к симфонии, к музыке в целом. Итак, у вас имеется Бах в Англии, Бах в Германии, Гайдн в Австрии и, разумеется, Госсек в Бельгии. Да, вы не ослышались: «У вас имеется Госсек в Бельгии». Я вам вот что посоветую: залезьте в верхний ящик буфета, достаньте оттуда вечное перо — я знаю, оно толком не пишет да еще и подтекает, но вы же его все равно не выкидываете — и запишите имя: «Госсек». Держите листок под рукой, скажем, на кухне — прилепите к холодильнику одним из магнитиков, изображающих «Давида» Микеланджело. А потом, затеяв в следующий раз игру в «Десять знаменитых бельгийцев» и застряв на Клоде Ван Дамме, сбегайте к холодильнику, взгляните на это имя — да постарайтесь не забыть его, пока будете возвращаться в гостиную, — и спокойненько так врежьте другим игрокам: «Франсуа Жозеф Госсек». Увидите, получится очень мило.
ГОССЕКИ НАЙДУТСЯ?
Франсуа Жозеф Госсек был валлоном — превосходное слово: «ваааааллоооооон». Просто превосходное. Особенно если произносить его постепенно замирающим голосом. Еще точнее — Госсек был валлоном, который уехал из Антверпена, где мальчиком пел партии сопрано, и нашел работу во Франции. Если бы вы были в 1763-м «музыкальным бизнесом», Госсек стал бы «нашим человеком в Париже», развивавшим — на свой манер — жанры симфонии, струнного квартета и всякие прочие. По сути дела, он оказался первым во Франции настоящим симфонистом, написавшим сотни и сотни различных и важных, для того времени, сочинений. А теперь? Что ж, теперь его помнят главным образом за одно из них. Не за симфонию, что печально, поскольку он был в этом жанре первопроходцем, и не за струнный квартет. За маленькую, именуемую «Тамбурин», вещицу для флейты, любимую всеми начинающими флейтистами мира, поскольку она и не трудна для исполнения, и позволяет на несколько минут приобрести сходство скорее с Джеймсом Гэлуэйем, чем с саундтреком к мультику «Клангерсы». Несправедливо все это. Как можно относиться к тому, что композиторы сочиняют и сочиняют уймы самых разных замечательных вещей — по крайней мере, вещей очень приятных, — а история невесть по каким причинам помнит каждого только за одно его творение? Таких композиторов принято называть «авторами одного шедевра», но ведь это же нечестно. Автор одного шедевра — это, в буквальном смысле, человек, сочинивший или спевший один хит и больше ни разу своего успеха не повторивший. Вроде уже упомянутого Джо Дольче с его «Да что с тобой, ЭЙ!» или Рене и Ренато — тех двоих, что поют совершенно жуткое «Тощие люди, тощие собаки и коты». Но классические-то композиторы, они же насочиняли кучу всяких других шедевров. Просто жестокая судьба постановила, что эти самые другие и слушать не стоит. Ну и ладно, все-таки этих хоть за что-то да помнят. Были же и такие, кто создавал самые популярные мелодии своего времени, а их взяли и вычистили из книг по истории — полностью. Тот же Паизиелло, считавшийся при жизни великим человеком. Где он теперь? Нынче если какая-нибудь его ария попадает, в виде довеска, в новый альбом Чечилии Бартоли[*], так уж и это можно считать крупным везением. Уже 1764-й. Есть новости. Повсюду растут новые здания — растут так, точно завтра потоп. Еще только в прошлом году в Париже достроили церковь «Ла Мадлен», а в этом завершено лучшее творение Адама, Кенвуд-хаус в Хэмпстеде, — прекрасные там, должен сказать, гостиные. Кстати, о Лондоне. В болтливых слоях здешнего общества сейчас только и разговоров, что о последнем веянии — о номерах домов. Всякий, кто хоть что-то собой представляет, получил собственный номер, да и многие из тех, кто не представляет собой ничего, — тоже. В общем, идея была хорошая. Я к тому, что в Лондоне вот уж 120 лет как установлены почтовые ящики и вот уже восемьдесят, как действует система «дешевой почты», так почему бы не обзавестись и номерами домов? Хотя, погодите минутку, тут какая-то бессмыслица. Как же они завели почтовые ящики за сорок лет до появления дешевых почтовых услуг? Что они в эти ящики совали? Вы только представьте, сорок лет кто-то отпирает почтовые ящики — «Ишь ты, опять пусто… чудеса». Ну? Меня о причинах не спрашивайте. Как бы там ни было, теперь номера домов имеются и людям есть куда адресовать свои дешевые письма. А на следующий год еще и мостовые появятся, так что малый, доставляющий вам почтовые заказы, начнет походить на почтальона, а не на только что вылезшего из болота защитника дикой природы. Впрочем, я что-то отвлекся. В Америке дело дошло до пошлин на ввозимые товары, и если хотите знать мое мнение, так это они зря. Как сказал бы Доналд Дак: «У нас тут бе… я грю, беда на носу, мужики, и с каждой пар… я грю, с каждой паршивой минутой становится только фиговей». Виноват. Нет, спасибо, мне уже лучше.
ЧУДО-РЕБЕНОК
Если говорить о музыке, самое крупное событие 1764-го представляет собой сущий, как говорится, пустяк. Первое сочинение восьмилетнего Моцарта. Вы только представьте, каково ему было терпеть покровительство людей, даже не понимавших, что перед ними гений. «Ооо… Моцарт… детууленька… что, музичку доброму дяде принес?., ах, принес?., принес?.. Мама родная, да никак тут целая симфония? Э-э… в четырех частях? Ну ладно. Для полного оркестра. Правильно. Отлично. Так. Давай послушаем. — И шепотом: — Разумничался, сучий потрох». Не знаю, доводилось ли вам когда-либо слышать Первую симфонию Моцарта, написанную им в 1764-м, всего-навсего в восемь лет. По его меркам, вещица довольно простая, особенно в сравнении с величавостью «Юпитера», оригинальностью 40-й и коричневостью[♫] моей любимой 29-й. Но при всей ее простоте и даже малости формой она отличается совершенной. И ведь так легко разливаться в пустых словах насчет того, что она написана восьмилетним мальчишкой. ВОСЬМИЛЕТНИМ! Мамочки с папочками, вдумайтесь: ребенок учился всего-навсего во втором классе. Если ваш второклассник как-нибудь вернется из школы домой и притащит с собой картинку — небо, а на нем облака из наклеенной ваты — или слепленную из папье-маше маску для «Хэллоуина», а с ними еще и симфонию в четырех частях, прикиньте, какие вас обуяют чувства? Вот именно. Вы будете потрясены, не правда ли? И правильно — картинки из ваты клеят в детском саду, какого черта они отправили восьмилетку домой с такой дребеденью? Ну и разумеется, вас посетит еще одна мысль: «Господи ты мой боже, да оно еще и симфонию накатало!» Я потому так долго распространяюсь на эту тему, что нынешние представления о чудо-ребенке кажутся мне несколько размытыми. Всякие там Шарлотты Чёрч, Хейли Вестернра и даже, до некоторой степени, Рут Лоуренс[*] — все это «чудо-дети» не совсем в том смысле, в каком был «чудо-ребенком» Моцарт. Написать в восьмилетнем возрасте полную партитуру четырехчастной симфонии — это выглядело поразительным и тогда, в восемнадцатом веке, подлинном веке вундеркиндов. К Моцарту мы вскоре вернемся снова, а пока, прошу вас, забудьте о 1764-м. Этот год завершился. Отбыл в прошлое. Обратился в историю. Собственно, с этим никто и не спорит, но вы понимаете, о чем я. Он стал воспоминанием. И потому я хотел бы, чтобы вы теперь задумались не о нем, а о сезоне 1772/73 года. Ну как, задумались? Если у вас не получилось, давайте я вам помогу. Перед нами новое время, яркое и живое. Капитан Кук только что открыл Ботанический залив, виноват, Ботани-Бей, и, как показывает дневник, который он вел в то время, открыл не совсем то, что хотел.
День 13. Увидели землю. После того как мы встали на якорь, я возглавил первый отряд храбрецов, отплывших в гребном шлюпе, дабы попробовать сдружиться с туземцами. Высадившись на берег, мы преподнесли им дары — золото, серебро, флаг с гербом нашего доброго короля Георга III и несколько зеркал. Они в свой черед оделили нас свежей водой, некоторыми припасами, коих нам сильно недоставало, и решеткой для приготовления барбекю. (Не вполне понимаю, что мне делать с последней. Отдал ее мистеру Бэнксу[*].)Мало того, что Кук разобрался с Новой Зеландией, в том же году вышла первым изданием «Британская энциклопедия»; вообще, многим эти времена казались волнующими — новые земли, новые учения, лучшее понимание учений старых. И разумеется, старая гвардия умирала, а на смену ей приходила новая. Вот, скажем, не стало Каналетто — или лучше было сказать «гондол»?.. — нет, все правильно, Каналетто, а заодно уж и Гейнсборо. Игривый француз Фрагонар так и продолжает создавать то, что в восемнадцатом столетии собирали вместо непристойных открыток — у французских аристократов они идут нарасхват. Всего несколько лет назад он написал соблазнительную картинку под названием «Качели» и обнаружил, что напал на золотую жилу. Собственно, и всю Францию в 1773-м малость покачивало. Еще один ходок, Шодерло де Лакло, только что опубликовал «Опасные связи» — тоже штучка весьма откровенная. Сам я не в состоянии произнести два этих слова, не вспомнив Джона Малковича, пишущего на голой спине Мишель Пфайфер. Нет, лучше не продолжать. В конечном счете жизнь тогда во Франции была такая, что лучшей и желать не приходится, —
 вы вращались в правильных кругах. (А это очень немалое «если».) Да. Вот именно. Уверяю вас. Совершенное «Réveiller et sentir le café» — вы просыпаетесь и слышите запах кофе.
вы вращались в правильных кругах. (А это очень немалое «если».) Да. Вот именно. Уверяю вас. Совершенное «Réveiller et sentir le café» — вы просыпаетесь и слышите запах кофе.
ГАЙДН — РАБОТА ЭСТЕРГАЗИ?
Да и Гайдн тоже проводил это время неплохо. На самом деле, если честно, он зарабатывал очень приличные деньги! Голодающим художником его никто бы не назвал. Чердачная каморка, нищенская могилка — ну уж нет, большое спасибо. Ни-ни. Своей композиторской жизнью он распоряжался не столько как художник, сколько как страховая компания… или что-то в этом роде. Добыл себе неплохую должность придворного композитора князя Эстергази, поселился у него в Эйзенштадте, невдалеке от столицы Австрии, а потом, ну… просто-напросто служил в этой должности. Всю жизнь. Правда, он много работал, пек музыку как блины, да еще и со скоростью, которую только узлами и измерять. Но что касается хождения по краю, то таки нет… изображать из себя укротителя львов Гайдн никогда не стремился. Правда, как-то раз он написал симфонию с приложенной к ней инструкцией, согласно которой оркестранты, доиграв свои партии, один за другим покидали сцену. То есть сцена понемногу пустела прямо на глазах у публики, и под конец на ней оставался всего один музыкант. Гайдн сочинил для него особую «спотыкающуюся» тему, коей все и кончалось. А потом и этот последний тоже переставал играть и уходил со сцены. Задумано все было как шпилька в адрес хозяина, который вот уж лет сто не давал отпуска ни композитору, ни музыкантам. Гайдн назвал симфонию «Прощальной» — в смысле прощания с расходящимся оркестром, а не в том, что сам он никогда больше на ринг не выйдет. Н-да. Интересно задумано, правда? Не знаю, эти уж мне музыканты. Бока можно надорвать от смеха, не так ли? И ведь это была его 45-я симфония. 45-я! Вы можете в такое поверить? А к концу жизни он этот счет более чем удвоил. Ну, правда, Гайдн и написал ее в возрасте сорока одного года. Вольфгангу Амадею Теофилу Норту Дорофею Моцарту[♫] ☺, подельнику Гайдна по преступлениям, совершенным криминальным сообществом «Сони-Классика» ©, было в то время всего семнадцать лет. Впрочем, удержу Моцарт не знал ни в каком возрасте, и в 1773-м он выдал совершенно бесподобное, райское трехчастное сочинение «Exsultate, Jubilate»[*]. Для сопрано и оркестра — хотя это не совсем верно: первоначально оно предназначалось для кастрата и оркестра. Незадолго до того Моцарт свел знакомство с неким Венанцио Рауццини, знаменитым chanteur sans bals[*], исполнившим главную партию в ранней опере Моцарта «Луций Сулла». Моцарт, на которого он явно произвел сильное впечатление, уселся за сочинение новой вещи — с латинским текстом. Она содержит один из самых роскошных образчиков выпендрежа, какие свет видел с тех пор, как Хильдегарда Бингенская научилась играть на губной гармошке, одновременно крутя педали велосипеда. Моцарт решил построить всю последнюю часть на одном-единственном слове «Аллилуйя». Тот еще умник. Но вообще говоря, это дает нам возможность подвести очередные итоги и посмотреть, далеко ли мы с вами зашли — в смысле музыки. Дело в том, что если вы задумаетесь над последней частью сочинения Моцарта, написанной всего на одно слово, а после вспомните кого-нибудь вроде, ну, скажем, Иоганна Себастьяна Баха, коего тоже порой посещало желание повыкаблучиваться, вы поймете, как далеко они отстоят друг от друга. Бах выпендривался, а делал он это нередко и с большим размахом: обращал свое имя в музыкальную тему произведения; сооружал двухголосные и четырехголосные фуги, которые, добравшись до конца, шли назад[♫], — в общем, все это были упражнения по преимуществу «академические». Великолепно исполненные, точные до 78-го знака после десятичной запятой и все же несколько… ну, не очень… эмоциональные, что ли. Я понимаю, что вступаю на тонкий, во всяком случае для некоторых, лед, поскольку «бахофилы»[♫] любят своего любимого композитора со страстью — я это без всяких каламбуров говорю. Я тоже от него без ума. И все-таки от Моцарта, делающего свое дело всего через двадцать с чем-то лет после смерти великого человека, вы получаете радостную, повышающую настроение музыку, которая звучит как… звучит как свобода, если угодно. Звучит так, точно Моцарт просто-напросто импровизирует прямо на нотной бумаге. «О, сейчас можно было б пойти вон в ту сторону. Да знаю, знаю, вот покончу с этим и пойду» — примерно так, по нашим представлениям, работает мозг джазового музыканта, — а ведь всего лет двадцать с чем-то назад от музыки прямо-таки пахло кропотливыми вычислениями. Я понятно изъясняюсь? Надеюсь, что да. А если так, сказанное мной всего лишь доказывает, что все когда-нибудь случается в первый раз. Ну хорошо, в таком случае переходим к официальному заявлению. Теплые, округлые вмятины, оставленные на сдвоенном троне музыки Бахом и Генделем, заполняют теперь молодые и еще более молодые ягодицы Гайдна и Моцарта. Барокко давно скончалось, и классической музыкой является ныне новая классическая музыка.
ТАЙНЫ СТАРОГО ПЕРГАМЕНТА
«Time Team» — «Команда времени». Не знаю, как вы, а я большой их поклонник. Ну очень большой. Фил, Каренца, Тони и Майк в его странном пуловере, и каждый готов чуть ли не слезу пустить по поводу двухдюймового глиняного черепка или какой-нибудь отлично от прочих окрашенной почвенной прослойки в раскопе, которая, как показывает созданное компьютером изображение, является на самом-то деле остатками здания величиной с Линкольнский кафедральный собор. Нет, честно. Мне очень нравится. До чрезвычайности. Собственно, как раз из этой программы я впервые и узнал о существовании совершенно невероятного, разработанного при участии «Ай-Си-Ай»[*] прибора, способного извлекать из любой стены звуки, когда-то давно издававшиеся поблизости от нее. Я понимаю, это кажется поразительным, однако такое устройство — при правильном его применении — позволило бы нам воссоздавать какие угодно считавшиеся прежде потонувшими в прошлом события — во всяком случае, слышимую их часть. Концерты, речи великих ораторов, переговоры преступников — и так далее, до бесконечности ☺. Впрочем, сейчас я хотел бы воспользоваться им, чтобы дать вам возможность услышать то, что удалось вытянуть из обрывка пергамента, датируемого 1785 годом. Судя по всему, пергамент впитал звуки разговора двух обменивавшихся сплетнями людей. Разговор был отрывочный и вообще напоминал один большой поток сознания, и все же позвольте продемонстрировать вам расшифровку сказанного.
— Смотри-ка уже 1785-й да и кто бы мог подумать Америка мы э-э отменили для них все эти налоги ведь так? стекло бумага красители ну ладно на чай сохранили но знаете чай все-таки из рук выпускать нельзя не так ли ну вот тем более они там и чашки чая-то заварить как следует не умеют нет Я ЗНАЮ у них состоялось какое-то чаепитие ну да чаепитие в Бостоне я точно ЗНАЮ я ничего не выдумываю нет но ведь я же столько всего сделал для этой их независимости да дал бы я им независимость и никаких налогов правда без представительства я хочу сказать ну кто мог до такого додуматься а? ну кто? как будто оно прямо так вот и висит на кончике языка или скандируется хорошо или рифмуется или еще что ох а вы слышали Людовик-то Пятнадцатый УМЕР ей-ей это так же точно как то что я сейчас сижу перед вами Совершенно же был здоровый вот только что раздавал деньги старинным родам а через минуту раз и помер честное слово и Клайв тоже помер да ну что я и говорил что после той истории с Индией ему долго не протянуть та еще была катавасия не правда ли я говорил ему в смысле Клайву Индийскому так я его называл Клайв Индийский я ему говорил бросили бы вы это дело Пусть говорю сами во всем разбираются и потом уж больно вы много курите Ну так ведь до героина у него не дошло у Клайва-то А кстати вы не читали в газетах этот деятель Кук опять открыл где-то там что-то новое Я ЗНАЮ я об этом и говорю это всего лишь куча новых ртов которые придется кормить Лучше бы он сплавал еще разок вокруг света предоставив этой публике играть в пляжный волейбол или бы просто взял да и закрыл их обратно. — Так или иначе разве не грустная вышла история с мистером Питтом ведь правда о чудесный был человек чудесный я встречался с ним во время его избирательной кампании Столько раз сидел в моем шезлонге О да воспитанный был человек и все настаивал чтобы я звал его для краткости Старшим Вот и Голдсмита тоже не стало а как я любил ту его пьесу мы ее еще вместе смотрели верно? Как она там в каштаны играет о мне ужасно понравилось Правда никаких каштанов видно не было наверное какая-то современная постановка э-э а скажите вы вот этот номер «Ежедневного универсального регистра» видели это совсем новая газета очень неплохая объявления принимает и все прочее видите тут статья о новом усовершенствованном фортепиано мистера Бродвуда у него теперь педали есть и динамика гарантирована иначе можете получить ваши деньги назад хотя не знаю да а еще спортивные страницы смотрите вот тут про новые скаковыебега устроенные лордом Дерби Становятся все более популярными Я ЗНАЮ ЗНАЮ но мне все равно Сент-Леджер больше нравится хоть ради него и приходится в Донкастер таскаться А ВОТ СМОТРИТЕ СТРАНИЦА ТРИ отличная пара воздушных шаров гляньте тут сказано Жозеф и Жак Монгольфье у них там не в одном нагретом воздухе дело после первого испытания в Аннонэ эти французские проходимцы высоко залетели кто знает может в следующий раз они и до нового острова Кука доберутся вот уж действительно будет вперед на Гавайи эх жаль долго этой газете не протянуть…К сожалению, это все, что ученым удалось извлечь из пергамента, но, думаю, вы согласитесь — перед нами завораживающее и, возможно, наиболее точное освещение реальных событий 1785 года. Здесь, правда, нет ничего о том, что происходило в 1785-м с Моцартом, поэтому я, с вашего разрешения, кое-что добавлю.
МОЦАРТ, НАДЕЛАВШИЙ ШУМА
Жизнь Моцарт прожил феерическую. Он родился в уже музыкальной семье, его отец, Леопольд, служил капельмейстером у архиепископа Зальцбургского. Леопольд безусловно был востер, он быстро учуял возможности, скрытые в его сыне. Сестра Моцарта, Анна, — брат называл ее «Наннерль» — тоже неплохо справлялась с клавесином, однако Вольфганг, как довольно рано сообразил Леопольд, был одарен всесторонне. Леопольд научил сына всему, что знал сам, вышколив его по части гармонии, контрапункта и всех тонкостей композиции. А вскоре он, должно быть, решил, что сына стоит показать миру, — во всяком случае, ранние свои годы Вольфганг провел в пути, при этом он не столько смотрел мир, сколько сам выставлялся ему напоказ. Разъездная труппа семейства Моцартов стала почти всеевропейской сенсацией, дав концерты даже в Лондоне и Париже. Собственно, если вам случится попасть в Лондон и оказаться в очереди, которая тянется к джаз-клубу Ронни Скотта, приглядитесь к другой стороне улицы — там висит на стене дома табличка, напоминающая, что в нем останавливался Моцарт. В двадцать один год Моцарт предпринял уже единоличное турне, взяв с собой для компании маму. Дорогой он заехал в Мюнхен и, остановившись в семье переписчика нот Вебера, влюбился. Да еще как. Ее звали Алоизией, и Моцарт втюрился в нее по самые уши. Увы, она не ответила на его чувства взаимностью. Никакой. Вдобавок во время поездки скончалась мать, так что Париж Моцарт покидал с сердцем, разбитым вдвойне. Очень скоро, уже возвратившись в Зальцбург, он расплевался со своим работодателем, архиепископом, — если судить по письмам Моцарта, он успел хлопнуть дверью еще до того, как ему на нее указали, — уложил вещи и переехал в Вену, которая очень скоро стала городом его мечты. В Вене он не только сочиняет лучшие свои вещи, но и находит новую любовь — да там, где никто другой ее искать и не стал бы. Собственно, если у него и была какая-то общая с Гайдном черта, то такая, от которой оторопь берет: оба в конце концов женились на сестрах женщин, за которыми поначалу ухаживали. Для Гайдна это стало величайшей ошибкой его жизни. Жена его оказалась сущей стервой, и никакой решительно любви он к ней не питал. Да и она, со своей стороны, не любила его и раз за разом выстилала манускриптами любимейших его сочинений противни, на которых пекла печенье, или пускала эти бумаги на папильотки[♫]. Моцарт же попал в самую точку. Когда Алоизия подалась, лишь бы не выходить за него, в монахини, ☺ Моцарт женился на ее сестричке, Констанце, и они зажили душа в душу. Очень были счастливы, очень. Денег, правда, было то густо, то пусто, однако Моцарт сочинял как одержимый, создавая отличные вещи — симфонии, струнные квартеты, сонаты, серенады, — множество отличных вещей.
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ПРИХОДИТСЯ ВАЖНАЯ ДАТА
Мы снова встречаемся с Моцартом, когда ему уже стукнуло двадцать девять лет. Двадцать девять! Не забывайте, по меркам Моцарта это означает, что ему самое время заказывать билет в один конец. Автобус уже и двигатель прогревает. У Моцарта прекрасно получаются оперы — публика их любит, — хотя первая по-настоящему ударная его вещь, первая из тех, что навсегда останутся на сцене, еще впереди. Он уже сочинил «Хафнер-серенаду» — музыкальное сопровождение, если честно, предназначенное для свадьбы, которую играли во влиятельном семействе Хафнеров, — сочинил и «Похищение из сераля», «Идоменея» и Мессу до минор — последнюю всего два года назад. Впрочем, самое важное сейчас для Моцарта — это фортепианные концерты. Они исполняют для него роль своего рода визитных карточек — он играет их, навещая во время разъездов всякого рода герцогов, императоров и прочих. Это сочинения, позволяющие ему порождать великий звук — да, полагаю, и выглядеть великим человеком, — поскольку они зачастую очень сложны технически и при этом включают в себя медленные части, за которые не жалко и умереть. Одни только эти медленные части содержат потрясающие, надрывающие сердце мелодии, слушая которые благовоспитанная публика 1780-х роняла слезы в табакерки. В одном смысле они были, если угодно, чем-то вроде синглов-сорокапяток своего времени[♫], а в другом их можно назвать «становым хребтом» всего, что оставил нам Моцарт, — двадцать семь фортепианных концертов, и каждый из них образует главу в музыкальном дневнике его жизни. Каждый говорит вам чуть больше о том, что происходило с Моцартом, когда он сочинял этот концерт. Давайте сделаем один моментальный снимок. Возьмем сам 1785-й, Фортепианный концерт № 21. Превосходный ФК, содержащий лучшую, быть может, из баллад упомянутого типа. Или следует все же назвать ее медленной темой? Концерт написан всего через несколько недель после завершения предыдущего Фортепианного концерта ре минор — Моцарт и вправду писал их со страшной скоростью — и недолгое время спустя после женитьбы на Констанце. Внешние его части белы, пушисты и словно бы воспевают радости весны, а вот внутренняя, медленная, приобрела, и совершенно заслуженно, известность не только в концертных залах, но также в кино и рекламе. Собственно, за этим концертом закрепилось прозвище «Эльвира Мадиган» — лишь потому, что в 1967-м кто-то использовал его в шведском кинофильме с таким названием. Бедный Моцарт, вот что я вам скажу. Хотя, наверное, могло быть и хуже. Концерт «Болотная тварь» представляется мне несколько менее привлекательным, особенно если это «твоя» музыка.
ГЁТЕ В РАЮ
Спустя год Моцарт все еще оставался верховным главнокомандующим. В смысле общемировом 1786-й — время весьма любопытное. Лучшим парфюмом месяца мы обязаны литературе, и связан он с именем Робби Бёрнса и его «Стихотворениями, написанными преимущественно на шотландском диалекте». Да и вообще это год, в который все и каждый затевает что-нибудь, попахивающее Шотландией, — задает шотландские балы, устраивает тематические шотландские вечера, готовится, безуспешно впрочем, к кое-каким крупным спортивным состязаниям, ну и так далее. А вдали от Шотландии Гёте, украшение Германии, пытается в это же самое время стать украшением еще и Италии. Гёте приехал в нее на пару лет, намереваясь освоиться со здешней культурой, завести полезные знакомства, ну и так далее. В остальном ничего такого уж значительного 1786-й будущему не преподнес — не считая того, что кто-то открыл уран[*]. Моцарт же продолжал в этом году набирать все новую силу. Для него то был год, в котором начал плодоносить весь его прежний оперный опыт — в смысле «анналов истории», «грядущих поколений» и прочей ерунды в этом роде. (Помните, мы говорили о том, что опера свое еще возьмет?) Разумеется, оперы он сочинял уже лет сто, но тут вдруг предъявил публике нечто такое, в чем, казалось, все сплавилось воедино. Все как-то сумело… ну, в общем, сойтись вместе. Прямо вот тут. Отчасти это объясняется тем, что его «текстовик», либреттист по имени Да Понте, с которым он до той поры не работал, сочинил для оперы Моцарта отличную «книжечку». (Либретто оперы, как и мюзикла, очень часто именуют просто «книжечкой».) В результате опера оказалась итальянской — не первой для Моцарта в этом смысле, но некоторое время остававшейся первой во всех остальных, к тому же она понравилась венской публике, которая почему-то любила, чтобы на театре пели по-итальянски, ну и разумеется, комедийный характер ей тоже не повредил. Да Понте воспользовался написанной всего за пару лет до того пьесой Бомарше. Тогда она называлась «Женитьба Фигаро» — как, впрочем, называется и теперь. Первое представление оперы состоялось 1 мая 1786 года в Вене, и говорят, что премьера протянулась вдвое дольше обычного, потому что практически каждую арию приходилось, едва допев, исполнять на бис! В итоге популярность оперы привела к появлению императорского указа, запретившего оперным театрам слишком частые бисы, — повторили арию-другую, и будет с вас.
ЛЮБИМЕЦ БОГОВ — И МОЕЙ ЖЕНЫ ТОЖЕ
Раз уж мы принялись за Моцарта, должен сказать следующее: я ничуть не считаю нужным извиняться за то, что мы задержимся на нем подольше. Фактически, несмотря на тот факт, что нам предстоит объять — и всего на 348 страницах — еще почти 220 лет, я намереваюсь, отбросив какие-либо сомнения, посвятить следующие пятнадцать страниц всего-навсего… четырем годам. Четырем годам, дамы, господа и лица еще в этом смысле не определившиеся. Без какой-либо подстраховки. Впрочем, в том, что касается музыки, это не просто четыре года. Это последние четыре года жизни Моцарта! Чтобы отдать им должное, требуется страниц куда больше, чем имеется в моем распоряжении, однако я, по крайней мере, смогу чуть ближе поднести к этим сорока восьми месяцам увеличительное стекло и рассмотреть их особо. Если бы мы снимали фильм, у нас сейчас возникло бы замедленное движение. Однако первым делом позвольте мне поместить последние четыре года жизни Моцарта в контекст мировых событий. Как тому и быть надлежало, это время принесло большие перемены не одному только Вольфгангу. Катаклизмы, если можно так выразиться, происходили повсеместно. В 1787 году Америка уже вовсю пользуется независимостью, недавно здесь состоялся двойной дебют — доллара и конституции. Собственно говоря, такие штуки всегда, похоже, подваливают все сразу — как автобусы с новобрачными на бракосочетание, проводимое преподобным Муном. Франция, к примеру, явно начинает нервничать, ее parlement требует созыва трех сословий: дворянства, священнослужителей и простонародья. Людовик XVI упрямится как может. Да и что ему еще остается, верно? Теперь о войне. Турция вытащила счастливый билет — в том смысле, что подошла ее очередь воевать, так что она решила объявить войну… России, господи боже. Разумеется, если вернуться на землю Англии, так весь этот шум, Sturm und Drang[*] целого мира, бледнеет перед тем, что свершилось здесь, а именно перед созданием Марилебонского крикетного клуба. Все пожимают друг другу руки, подкручивают усы и незамедлительно отправляются на стадион «Лордз». Превосходный, я бы сказал, спектакль, обязательно посмотрите, ладно? Отлично сработано, Вольфганг. Ах да, Вольфганг. Давайте-ка нагоним его, идет? Он, видите ли, сидит сейчас в тряской, неудобной карете, которая ползет из Вены в Прагу. И какие только мысли не приходят ему в голову. Уже октябрь, а в мае он потерял отца. Что ж, смерть отца — это всегда большая потеря, однако не забывайте, то был отец, который сделал Амадея тем, кем тот стал, — если, конечно, оставить в стороне гениальность. Потерял Вольфганг — всего только год назад — и своего третьего ребенка, Иоганна Томаса Леопольда. И оттого Моцарта по пути в Прагу одолевают самые разные мысли и чувства. Он собирается поприсутствовать вместе с женой, Констанцей, в Национальном театре, на репетициях и премьере своей последней оперы. Для Моцарта это важно. Несмотря даже на то, что он, при его-то уме, должен был сознавать глобальное (то есть, в смысле места в истории) значение этой своей работы, — невзирая на это, она важна для него и в других отношениях, главным образом в денежном. Нельзя, конечно, сказать, что Моцартам грозит нищета, однако деньги им все же не помешают. Успешная премьера означает не только, что он сможет прилично заработать в Праге, но также и то, что перед ним откроются многие двери и в других городах. Собственно, и этот заказ стал прямым результатом успеха «Женитьбы Фигаро». Вскоре ему предстоит занять в Вене важный пост «Kammermusicus» — что в переводе означает «большой кусок хлеба с маслом», — однако по какой-то причине, только им и известной, власти предержащие[♫] решили выплачивать ему меньше даже половины того жалованья, какое получал прежний обладатель этой должности, Глюк, — помните, тот, с не лишенным забавности средним именем? Вот и попробуйте, хоть с минуту, побыть в шкуре Моцарта. Представьте себе толпу людей, рассевшихся в пражском Национальном театре за вашей спиной. Они еще не слышали оперу, которая вот уж несколько месяцев как не выходит у вас из головы. Они не сидели последние две недели на репетициях — среди криков, бесконечных повторений и даже руготни. Они не знают, что еще вчера у оперы не было увертюры, что это друзья напомнили о ней Моцарту и тот написал ее буквально за ночь[♫]. Они не знают, сколько сил и времени вложено в этот труд, какие за ним стоят личные трагедии. «Дон Жуан». Или, если воспользоваться изначальным названием, «Il Dissoluto Punito», «Наказанный распутник», — правда, оно теперь не в ходу. «Дон Жуан» считается многими одним из самых, если не самым, великих достижений классической музыки, и, несомненно, компания «Фраймобил» таковую точку зрения разделяет. Действие оперы разворачивается в Севилье, это одна из десятка опер, в которых использована история Дон Жуана, волокиты и плута, разгуливающего среди серьезных и комических персонажей, высмеивая и тех и других. Она наполнена великой музыкой, в которой не последнее место занимает написанная впопыхах увертюра, ария, посвященная перечислению соблазненных Дон Жуаном красавиц, «La ci darem la mano»[*] и ария с шампанским. Фантастическая вещь. По счастью, у добрых граждан Праги она имела громовой успех. Со временем ее показали и публике венской, куда более важной. Премьера состоялась в тот самый вечер, когда в британском парламенте начались затянувшиеся до утра дебаты насчет предложения Уильяма Уилберфорса об отмене рабства, после чего опера давалась в Национальном придворном театре еще раз пятнадцать. А ровно месяц спустя Моцарт потерял четвертого своего ребенка, дочь Терезию. Нечего и сомневаться, вся семья надеялась, что 1788-й обойдется без новых трагедий. По счастью для Моцарта, так оно и случилось. 1788-й. Если о каком-то из годов и можно сказать, что он представлял собой «затишье перед бурей», так, наверное, об этом. Людовик XVI сидит в глубокой попе — в du du, как выражаются на его родине. Французский parlement предъявил ему скучный список своих претензий, а поскольку улицы переполнены бесчинно требующими хлеба толпами, Людовик пообещал созвать совещание всех трех сословий в мае 89-го. Ой, успеет ли? В Англии Георг III впал в умопомешательство, впрочем, есть и хорошая новость: МКК составил кодекс правил игры в крикет. В общем и целом год выдался занятный, беспокойный, для Моцарта же вопрос стоял так: сможет ли он выбросить из головы мысли о полосе невезения и сочинить еще немного великой музыки? Ну разумеется, сможет. Бросьте, мы же говорим не о ком-нибудь, о Моцарте! Сочинил, и немало. Создается впечатление, что чем большую мрачность обретает жизнь Моцарта, тем богаче и разнообразнее становятся его произведения. Сороковая симфония, Маленькая ночная серенада, симфония «Юпитер». Сороковая на миллион миль отстоит от того, что знает о ней ныне большинство людей. Я, может быть, и заблуждаюсь, однако, по моим представлениям, большая, статистически говоря, часть людей знает Сороковую Моцарта по одной из самых популярных у владельцев мобильных телефонов мелодий. Однако визгливое электронное зудение мобильника отделяет от печального, почти мрачного шедевра 1788-го расстояние в несколько световых лет. А противостоит ему шутливое, почти раскованное настроение Маленькой ночной серенады[♥] — еще одного «музыкального сопровождения», сочиненного, строго говоря, не для того, чтобы его слушать. В сущности, это очередное подтверждение гениальности Моцарта — легкое и воздушное сочинение, переполненное, однако же, мелодическими изобретениями. А последняя его симфония, «Юпитер»! К сожалению, назвал ее так не сам Моцарт, но — лет сорок спустя — кто-то другой, потрясенный ее радостным настроением: Юпитер, не забывайте этого, есть податель радости. Многие считают ее вершиной классической симфонии — ее звездным часом. Не лишено при этом иронии то обстоятельство, что в последней ее части Моцарт играет со множеством приемов, сплетая не меньше шести самостоятельных тем. Он словно бы говорит: «Смотрите, что я умею. Бах переплетал множество тем, обращал их и „канонизировал“, ну так вот, я это тоже могу!» Таков 1788-й. Помимо трех уже названных произведений с их чистой воды недоперевеликолепием мы получили еще и Кларнетный квинтет ля мажор, написанный Моцартом для своего друга Антона Штадлера, первого кларнета Императорского придворного оркестра Вены. Несмотря на то что Штадлер был своего рода самонадеянным обормотом, нередко ввергавшим Моцарта, и без того не богатого, в денежные затруднения, Амадей преподнес ему одну из величайших медленных тем, какие когда-либо писались для кларнета. И конечно, этого достижения он — в том, что касается кларнета, — превзойти уже не сможет? Ну-ну, не спешите с выводами. В конечном итоге это неоспоримо прекрасное произведение окажется всего лишь пробным выстрелом.
УЖ ПРОБИЛ ЧАС
1791-й. Где мы? Где мир? Где любовь? Попытаемся ответить хотя бы на два из трех поставленных нами вопросов. Думаю, правильно будет сказать, что ударяющий в голову дым революции все еще висит в воздухе, подобно ударяющему в голову дыму революции. Америка революцию учинила — там второй год президентствует Джордж Вашингтон. Франция революцию учинила — Людовику XVI причесывать, увы, больше нечего. Даже Австрийские Нидерланды учинили ее — всего только год назад они взяли да и обзавелись независимостью, переименовав себя… переименовав себя в… минутку, у меня это было где-то записано. Вот. В Бельгию. Бельгию? А что, в общем, правильно. Страны всякие нужны. Что еще? Главной книгой года оказалась написанная Босуэллом «Жизнь Джонсона», вставшая в ряд с прошлогодним бестселлером «Тэм О’Шентер», сочинение шотландского еврея Равви Бернса. В музыкальном же отношении мир все еще принадлежит Моцарту. В настоящий момент он и есть большая сенсация. Уж сколько лет ею пробыл — и ничего, пока держится. Миновали те дни, когда ему приходилось мотаться по всей Европе. Ужасные дни, описанные им в дневнике:

Нынче пятница, необходимо заглянуть к Габсбургам, у них будут подавать вино и сыр. Завтра ежегодная благотворительная распродажа в Версальском дамском бридж-клубе. Потом, в понедельник, придется заехать к князю Эстергази, в его дворце состоится сидячая демонстрация протеста. Боже, как я устал!Да, все это в прошлом. Ныне Моцарт — величайшее из всего, что случилось в музыке с того дня, как кто-то спалил первый проектный набросок банджо. Однако конец его близок. Пятый ребенок Моцарта, дочь Анна Мария, родившаяся в этом году, прожила всего один час, — не понимаю, как люди существовали год за годом на таком трагедийном уровне. И ведь не только Моцарт, все. Просто не понимаю. У Моцарта была хотя бы возможность топить горе в музыке. Он и топил. То, что я сейчас скажу, немного шаблонно, но все же верно, — погружаясь в подлинные бездны отчаяния, композиторы по-настоящему великие создают лучшие свои вещи. Для начала, имеет место «Волшебная флейта», замечательная опера, с какой стороны ее ни разглядывай, — и еще более замечательная, если взглянуть на нее в свете последнего года Моцарта. Он нездоров, пребывает далеко не в лучшем финансовом положении, дети его умирают один за другим, и что же он делает? Пишет пантомиму. (О нет, не может быть!) «Die Zauberflöte», если оставить ее при родном немецком названии, опера причудливая, в духе фарсов Брайана Рикса[*], смесь фривольной комедии, сказки и масонской символики — Моцарт давно уже состоял в местной масонской ложе и даже своего покойного ныне отца уговаривал в нее вступить. Впрочем, в опере присутствуют и прелестные музыкальные эпизоды — ария Птицелова, фантастическая теноровая ария «Dies Bildnis ist bezaubernd schön» («Какой чарующий портрет») — и поразительный во всех отношениях драматический персонаж, Царица ночи, партию которой Моцарт написал для своей свояченицы, бравшей блистательное верхнее фа, от которого лопались стекла. Увы, сейчас ее арию «О zittre nicht» («О не дрожи») нередко берутся петь люди куда как меньших способностей, недобирающие нескольких дополнительных линеек нотного стана. «Волшебная флейта» завершает оперную «фантастическую четверку» Моцарта. В состав ее входят: «Женитьба Фигаро» (мистер Фантастик), комическая опера с одной из лучших из КОГДА-ЛИБО НАПИСАННЫХ увертюр и прекрасной арией «Dove sono»; «Дон Жуан» (Человек-Факел), смесь шутливости со зловещей трагедией, под конец которой антигероя пожирает адское пламя — не раньше, впрочем, чем он успевает спеть довольно игривое «La ci darem la mano»; «Так поступают все женщины» (Женщина-Невидимка), романтическая комедия, в которой, появись она на свет сегодня, играл бы Хью Грант, и, разумеется, «Волшебная флейта» (СУЩЕСТВО). «Истинный» ин «волшебного» янь 1791-го — это законченное Моцартом в июне возвышенное миниатюрное хоровое сочинение «Ave Verum Corpus». Оно длится всего несколько минут, однако каждая его секунда божественна. Без какой-либо непочтительности скажу, что эти произведения составляют два полюса последнего года Моцарта — полюс смешного и полюс возвышенного. И, как будто этого мало, существует еще — нет слов, чтобы сказать, до чего он хорош, — Концерт для кларнета, написанный опять-таки для друга Антона. Две ошеломительные внешние части концерта трудны для исполнения и на современном-то кларнете, что уж говорить о тогдашнем, у которого было всего-навсего шесть клапанов. Между этими двумя угнездилась божественная музыкальная экстраполяция фразы «чем меньше, тем больше» — часть медленная, словно сошедшая к нам с небес. Общее место насчет того, что «самые лучшие мелодии — простые», приходится слышать нередко, однако оно нигде не доказывается с таким умом, как в медленной части моцартовского кларнетного концерта. Эта тема захватывает тем сильнее, чем чаще ты ее слышишь. Ну вот, год почти завершился, а с ним и век Моцарта. Такого композитора мир больше не увидит. Бетховену, которому исполнился двадцать один год, только еще предстоит сочинить свои первые большие вещи. Ну и Гайдн по-прежнему благоденствует. Он хоть и старше Моцарта на четверть века, однако переживет его на добрых восемнадцать лет. Не для него меланхолия, наполнившая в 1791 году музыку Моцарта, — главное его сочинение этого года, симфония «Сюрприз», — веселое маленькое сочинение, основная задача которого не дать слушателям из замка князей Эстергази заснуть, для чего на них и обрушивается громовой аккорд, причем в таком месте симфонии, где его меньше всего ждут. «Со смехотворными, — как выражаются в телевизионных программах новостей, — последствиями». Господи, Гайдн, ну ты и хохмач — мы чуть не уписались! А вот Моцарту, похоже, совсем не до смеха. Хорошо документированная история о незнакомце в черном, явившемся к нему, чтобы заказать Реквием, и перепугавшем Моцарта до смерти, совершенно правдива. Незнакомцем этим вполне могла быть, как многие и предполагали, сама Старуха с косой, однако то была не она. Что довольно странно. Как выяснилось, им был всего-навсего слуга-метельщик графа Вальзегга. Важная шишка, Вальзегг хотел заказать Реквием в память о своей жене. Моцарт послушно начал его сочинять. В разных других местах Людовик XVI пытается удрать от парижской толпы — неудачно, Гёте получает высокий пост в веймарском Придворном театре, а совсем новая газета «Обсервер» сообщает, что билль Уильяма Уилберфорса об отмене рабства прошел-таки через парламент.
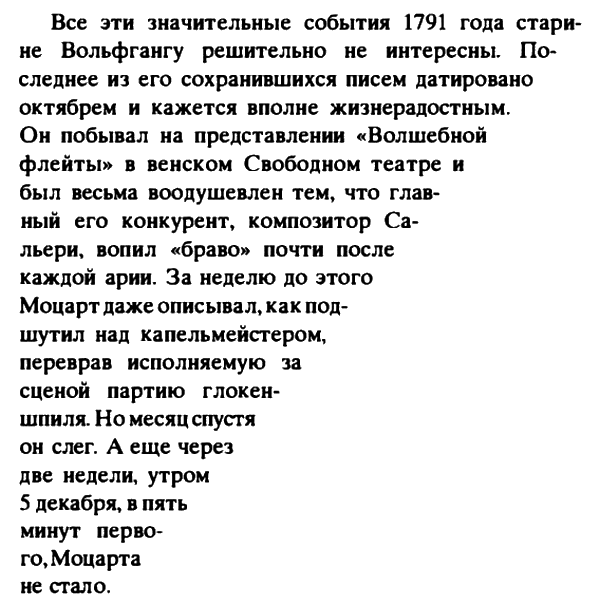 Все эти значительные события 1791 года старине Вольфгангу решительно не интересны. Последнее из его сохранившихся писем датировано октябрем и кажется вполне жизнерадостным. Он побывал на представлении «Волшебной флейты» в венском Свободном театре и был весьма воодушевлен тем, что главный его конкурент, композитор Сальери, вопил «браво» почти после каждой арии. За неделю до этого Моцарт даже описывал, как подшутил над капельмейстером, прервав исполняемую за сценой партию глокеншпиля. Но месяц спустя он слег. А еще через две недели, утром 5 декабря, в пять минут первого, Моцарта не стало.
Минуту молчания, пожалуйста. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60[♫].
Ну вот…
Моцарта не стало.
Так.
И с чем остались мы?
Что ж, если оглянуться назад, то прежде всего с Концертом для кларнета. Его можно слушать просто как прекрасное произведение искусства — упоительная медленная часть в окружении двух проворных аллегро, способных по-настоящему расшевелить кларнетистов. Однако, если поместить его в контекст, перед вами окажется сочинение совершенно иное, и это в особенности относится к медленной части. То, что представлялось прежде простой, элегантной и красивой мелодией, обратится в печаль, в жалобу, почти в плач, но при этом прежняя элегантность полностью сохранит чувство собственного достоинства.
Это вещь, написанная всего за два месяца до смерти, и теперь, когда мне известны все обстоятельства, я никогда уже не смогу слушать ее так, как слушал прежде.
Романтическая легенда уверяет, будто умер он нищим. Я всегда выводил из нее, что денег на приличные похороны у него не нашлось, что ему нечего было оставить жене и семье — что его просто-напросто сунули глухой полночью в безымянную могилу. Что ж, последнее очень похоже на правду — где покоится Моцарт, никому, по правде сказать, не известно. Пространство поисков удалось сузить до размеров кладбища Санкт-Маркс в Вене, — однако где именно покоятся останки величайшего, быть может, из виденных миром композиторов, не ведает никто. Что же до остального, так, судя по всему, Констанце не составило большого труда уплатить 4 флорина и 36 крон приходского сбора, так же как 4 флорина 20 крон церковного сбора — и даже 3 гульдена за то, чтобы тело композитора перевезли из кафедрального собора Св. Стефана на кладбище. Наверное, то были похороны, к которым в те времена относилось обозначение «по третьему классу», однако назвать их нищенскими значило бы ввести читателя в заблуждение, и не самое малое. И строго говоря, лучшее подтверждение сказанного дает список оставшегося после смерти Моцарта содержимого его платяного шкафа. На реестр оставленных скончавшимся нищим отрепьев он далеко не похож, скорее уж на данное телерепортером описание гостей, собравшихся на один из приемов Элтона Джона:
Все эти значительные события 1791 года старине Вольфгангу решительно не интересны. Последнее из его сохранившихся писем датировано октябрем и кажется вполне жизнерадостным. Он побывал на представлении «Волшебной флейты» в венском Свободном театре и был весьма воодушевлен тем, что главный его конкурент, композитор Сальери, вопил «браво» почти после каждой арии. За неделю до этого Моцарт даже описывал, как подшутил над капельмейстером, прервав исполняемую за сценой партию глокеншпиля. Но месяц спустя он слег. А еще через две недели, утром 5 декабря, в пять минут первого, Моцарта не стало.
Минуту молчания, пожалуйста. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60[♫].
Ну вот…
Моцарта не стало.
Так.
И с чем остались мы?
Что ж, если оглянуться назад, то прежде всего с Концертом для кларнета. Его можно слушать просто как прекрасное произведение искусства — упоительная медленная часть в окружении двух проворных аллегро, способных по-настоящему расшевелить кларнетистов. Однако, если поместить его в контекст, перед вами окажется сочинение совершенно иное, и это в особенности относится к медленной части. То, что представлялось прежде простой, элегантной и красивой мелодией, обратится в печаль, в жалобу, почти в плач, но при этом прежняя элегантность полностью сохранит чувство собственного достоинства.
Это вещь, написанная всего за два месяца до смерти, и теперь, когда мне известны все обстоятельства, я никогда уже не смогу слушать ее так, как слушал прежде.
Романтическая легенда уверяет, будто умер он нищим. Я всегда выводил из нее, что денег на приличные похороны у него не нашлось, что ему нечего было оставить жене и семье — что его просто-напросто сунули глухой полночью в безымянную могилу. Что ж, последнее очень похоже на правду — где покоится Моцарт, никому, по правде сказать, не известно. Пространство поисков удалось сузить до размеров кладбища Санкт-Маркс в Вене, — однако где именно покоятся останки величайшего, быть может, из виденных миром композиторов, не ведает никто. Что же до остального, так, судя по всему, Констанце не составило большого труда уплатить 4 флорина и 36 крон приходского сбора, так же как 4 флорина 20 крон церковного сбора — и даже 3 гульдена за то, чтобы тело композитора перевезли из кафедрального собора Св. Стефана на кладбище. Наверное, то были похороны, к которым в те времена относилось обозначение «по третьему классу», однако назвать их нищенскими значило бы ввести читателя в заблуждение, и не самое малое. И строго говоря, лучшее подтверждение сказанного дает список оставшегося после смерти Моцарта содержимого его платяного шкафа. На реестр оставленных скончавшимся нищим отрепьев он далеко не похож, скорее уж на данное телерепортером описание гостей, собравшихся на один из приемов Элтона Джона:
1 камзол выходной, суконный черный, с манчестерским жилетом 1 такой же синий 1 такой же красный 1 такой же желто-бежевый 1 такой же коричневого атласа, расшитого шелком, с панталонами 1 полный костюм черного сукна 1 пальто цвета мышиного 1 такое же из более легкого материала 1 камзол синий, отделанный мехом 1 такой же, с меховой оторочкой 4 жилета разных, 9 панталон разных, 2 шляпы простые, 3 пары сапог, 3 пары туфель 9 чулок шелковых 9 сорочек 4 шейных платка, 1 ночной колпак, 18 платков носовых 8 панталон нижних, 2 ночные сорочки и еще 5 пар чулокН-да. Ничего себе нищий. Думаю, целые поколения людей с куда большим удовольствием верили стилизованной романтической версии происшедшего, чем подлинной, правдивой картине. Да как бы там ни было, оно и неважно. Все кончено. Мы услышали последнюю симфонию Моцарта, его последнюю оперу и, конечно, его последний вздох. Великого человека не стало. Амадея — то есть, буквально, «любимца богов». И больше мир такого никогда не увидит. И что теперь? Где мы? Кто тут еще остался? Что происходит в этом довольно кровавом скопище войн, именуемом миром? Ладно, давайте посмотрим, удастся ли нам это выяснить.
ДОВОЛЬНО КРОВАВОЕ СКОПИЩЕ ВОЙН, ИМЕНУЕМОЕ МИРОМ: ГОД 1796-Й
Я хочу отступить от смерти Моцарта на пять лет — в 1796-й, — но перед этим заполнить, с нашего дозволения, образовавшуюся брешь. Жить в такие времена — значит хорошо понимать смысл слова «революция», хотя, может быть, и не всегда знать, как оно пишется. Революция повсюду, — Троцкому это, пожалуй, понравилось бы. То же и республики. Они теперь вроде новых черных. Каждому вынь да положь собственную. Если начало 1970-х было, согласно великому философу сэру Джеймсу Савилу[*], эрой поездов, то теперь у нас эра республик. Французская республика, Римская республика, Леманская республика, э-э… м-не… как ее… Гельветическая республика, Цизальпинская республика… все как одна… настоящие, на 100 процентов кошерные республики. Большой хит 1792-го, «Марсельеза» мсье Руже де Лиля еще продолжает пользоваться популярностью, даром что Парижская коммуна уже и явилась, и удалилась, а с нею вместе и кое-кто из видных деятелей революции особой, французской закваски: головы Дантона, Демулена, Робеспьера — всем им, заодно с головами Людовика XVI и Марии Антуанетты, пришлось познакомиться с ощущениями выбранной на ужин курицы. А войны — как у нас с войнами? Ну что же, Франция затеяла войну с Пруссией и Австрией… э-э, ах да, и Сардинией. А чего ж не повоевать? По-моему, так: если где чего еще шевелится, объяви ему войну, и дело с концом. Со своей стороны, Священная Римская империя объявила войну Франции, а Испания вот только сию минуту объявила войну Великобритании — и ведь перед самым концом тайма, впрочем, оно и понятно, Испания же! Вообще-то, к выходу на линию «объявления войны» она всегда малость опаздывает, Испания то есть. Ладно, еще увидимся. Стало быть, в этом году — 1796-м, не забывайте, — кубок Жюля Риме за военные заслуги достался Франции, которая победила в войнах с Италией, Австрией, Уортингом ☺ и Миланом. Насчет Уортинга, честно скажу, я не уверен, как-нибудь надо будет все-таки навести в моих записях порядок. В мире более-менее ненасильственном все, на что ни взгляни, развивается семимильными шагами. Мы получили новую книгу маркиза де Сада, названную довольно пикантно: «Философия спальни». Даже и представить себе не могу, о чем она. Кроме того, в Англии зажглись первые газовые фонари, а светоч Джошуа Рейнолдса[*], напротив, угас, и кто-то, проплывавший неподалеку от Новой Зеландии, ненароком открыл… минуточку, как же они называются-то?.. …острова Кермадек. М-да. Ну, словом, я думаю, это такая реакция на все, что тогда творилось. Странно, но воевать из-за них никто не стал. Идем дальше. Дженнер только что разработал первую вакцину от оспы, а кто-то еще отправил самую первую телеграмму — из Парижа в Лилль, собственно говоря. Свадьбой года стала свадьба Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне — той самой, вошедшей в историю благодаря фразе «только не в эту ночь». Ладно, а что с музыкой? Кто у нас нынче состоит в стареющих «Статус-кво», кто из игроков молодежной команды считается первым претендентом на место в основном составе? Что ж, очень серьезные деньги ставят на то, что двадцатишестилетний Бетховен покажет после его прошлогоднего, произведшего отличное впечатление опуса 1, Три фортепьянных трио, нечто фантастическое. Может быть, он-то и станет нынешним «Ю-Ty» или «Зиг Зиг Спутником»? А кроме того, с нами по-прежнему продолжающий, так сказать, продолжать учитель Бетховена — Гайдн. Старина Франц Йозеф, может, и выискивает по газетам рекламу лестничных подъемников, но все еще способен выдать мелодийку не хуже прочих. Когда мы его покинули, Гайдн жизнерадостно звенел монетами во дворце Эстергази, со страшной скоростью сочиняя музыку и готовя обеды. Но, аххх! Как все изменилось за последние двадцать лет! А как? Да, в общем-то, никак — если не считать того, что зарабатывает он сейчас даже больше прежнего. Он так и продолжает работать на «семью Эстергази», хотя самый первый его босс уже умер. Гайдн всю жизнь принадлежал к числу людей, которых принято называть «везучими чертями», — весь его оркестр и хор распустили и уволили, поскольку новый босс никакой нужды в них не испытывал, а сам Гайдн остался на месте, да еще и с прибавкой к жалованью. В итоге, имея зарплату и не имея работы, он решил посмотреть мир. Один предприимчивый типчик по имени Заломон организовал для Гайдна гастроли в Лондоне, там его чествовали как живую легенду, и это также позволило ему сколотить небольшое состояние. Если вам это поможет, вспомните о чудесном обороте, который приняла, и не так уж давно, карьера Тома Джонса, неожиданно обнаружившего, что он снова вошел в моду, что его имя появляется в самых «хиповых» альбомах, да еще и с прибавлением слова «с участием»: группа «Кататония» с участием Тома Джонса, группа «Уайт Страйпс» с участием Тома Джонса, группа «Питерс и Ли» ☺ с участием Тома Джонса. Вот и с Гайдном происходило примерно то же. Лондон показался ему фантастическим — публика слушала его и наслушаться не могла: бисы за бисами, специально написанные «Лондонские» симфонии, из зала на сцену дождем летят дамские трусики — ну чистый Том Джонс. Как бы там ни было, Гайдн, возвратившись, с небольшим состоянием в кармане, к исполнению своих придворных обязанностей, обнаружил, что в Эйзенштадте произошла новая смена руководства. Пауль Антон, предпочитавший музыке живопись, скончался, а место его занял новый князь, Николаус II. Князь восстановил придворный оркестр, — может быть, оркестр этот был и не так хорош, как прежний, созданный Николаусом I, однако и он позволял заработать кое-что, пользуясь новой модой на Гайдна. А кроме того, в этом оркестре играл симпатичный молодой трубач по имени Антон Вейдингер — не только фантастический виртуоз, но и своего рода Эдисон. Вейдингер изобрел специально для себя самого инструмент, именуемый «трубой с клапанами», — слишком сложный, чтобы нам стоило вдаваться в подробности, довольно сказать, что играть на нем можно было намного быстрее, чем когда-либо прежде. И потому Гайдн в год Господа нашего 1796-й сочинил музыку, наполненную блестящими новизнами, сыграть которые можно было лишь на этой самой трубе Вейдингера. К несчастью для Вейдингера, его «труба с клапанами» стала в мире трубачей, очарованных клапанной системой, чем-то вроде «Бетамакса». Однако гайдновский Концерт ми-бемоль мажор для трубы пережил все бури и натиски и все еще считается хорошим испытанием даже для нынешнего трубача, в особенности последняя его часть, доказывающая, что и Вейдингер, если он с нею справлялся, был, надо думать, горнистом просто блестящим. Версий этого произведения существует ныне многое множество — для старых труб, для новых труб, для труб «натуральных»[♫], версии медленные, версии быстрые, версии подводные ☺; записи, в которых используются гайдновские соло, записи с соло, написанными самими исполнителями, — думаю, правильно будет сказать, что у каждого трубача имеется своя особая запись. Лично мне более всего по душе современный, в духе «пленных не берем», звук Уинтона Марсалиса[*]. Всякий раз, слушая этот концерт в его исполнении, я понимаю, что такую музыку просто не могли написать раньше, чем написали. Хотя нет, неверно, — написать-то ее могли, а вот сыграть никто не сумел бы, так что не было смысла и связываться.
ВИРТУОЗНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Наш разговор о виртуозах приводит меня к новой теме — теме виртуозов. М-да, пожалуй, это предложение мне придется переделать. Теперь их, если честно, не так уж и много, по крайней мере таких, как в прежние времена. Разумеется, концерты играются уже не одно столетие, однако в них не просматривается потребность довести исполнение музыки до последней точки, желание показать «все, на что ты способен». А почему? Да главным образом потому, что прежде это было попросту невозможно. Возьмите ту же «Сони Плэйстейшн-2» и сравните ее… ну хоть с «Астероидами». Что значит «Какое это имеет отношение к делу»? Какое ни возьмите, такое и имеет. Техника развивалась, возможностей становилось все больше. Приемы, которых композиторы и опробовать-то прежде не могли, быстро обращались в норму. А вместе с этим появлялась на свет новая порода «виртуозных» инструментов… ну ладно, ладно, виртуозных исполнителей. Не забывайте, мы все еще пребываем в КЛАССИЧЕСКОМ периоде, хоть и висим, так сказать, на волоске, изображаемом шестнадцатой нотой. Если честно, эти новые виртуозные исполнители уже здесь, среди нас, и, боже ты мой, скоро мы их хорошо узнаем. 1798-й: год Вордсворта и Колриджа; год, в который французы приступом взяли Рим и провозгласили Римскую республику; год, в который Британия установила новый 10-процентный подоходный налог, дабы оплачивать военные расходы; год, в который умер, дожив до семидесяти трех лет и девяти дюймов, Казанова. 1798-й: шестидесятишестилетний Гайдн принялся за сочинение еще одной своей «лебединой песни» — «Сотворения мира». 1798-й: виртуозу Никколо Паганини исполнилось одиннадцать лет. В одиннадцать лет Паганини, которого отец обучал игре на мандолине и скрипке, уже готов был впервые предстать перед публикой. Впрочем, ярчайший его час еще впереди, пока же позвольте показать вам то, что я нашел, роясь в архивах венской Библиотеки классической музыки имени не помню кого:

ВАС УТОМИЛО СТАРЬЕ? УТОМИЛИ ОДНИ И ТЕ ЖЕ СТАРЫЕ СИМФОНИИ?Прелестно, не правда ли? Одно из самых ранних объявлений РАННИХ РОМАНТИКОВ из коллекции рекламных пергаментов, пожертвованной библиотеке Форсайта после того, как их впервые обнаружили за диваном в кабинете декана Боннского университета. А теперь уже 1800-й. Год, который официально назван началом периода ранних романтиков, несмотря на то что классический период, как повсеместно считается, продолжался до 1820-го. Сами понимаете, старого учить, что мертвого лечить. Тут, видите ли, какая штука, романтическая музыка… это просто ярлык, только и всего. Одни пишут музыку, которая звучит совершенно как классическая, другие — музыку скорее романтическую, и все в один и тот же год. Был, правда, человек, одной ногой стоявший в одном периоде, а другой — в другом. Он творил на закате классической музыки и более-менее в одиночку дал первоначальный толчок романтической. Такое случалось и раньше — музыка КФЭ Баха стала завершением барокко и началом классицизма. Однако если КФЭ Бах имеет нынче значение все больше для «музыковедов», то человек, ставший и завершением классицизма, и краеугольным камнем романтизма, обратился в конечном счете не просто в носителя смутно знакомого всем имени. И это потому, что имя его, всем, так сказать, смутно знакомое, было… Бетховен. Ну слава богу. Добрались наконец и до него. 1800-й: год Первой симфонии Бетховена. Наполеон уже стал Первым консулом, Италия захвачена, начался век Бетховена. Первая попытка сочинить симфонию предпринята им в возрасте тридцати лет. По композиторским меркам, ждал он что-то слишком уж долго — вспомните, Моцарт сочинил свою Первую восьмилетним. Собственно, когда Моцарту было тридцать, ему оставалось прожить всего пять лет. Бетховен же принадлежал к совершенно другой породе людей, хотя — это можете цитировать — ничего другого ему и не оставалось. Он родился в совершенно другом мире. Алессандро Вольта только что соорудил из цинка и медных пластин первую электрическую батарейку. Был основан Королевский хирургический колледж — вы понимаете, что это значит? И дело не только в том, что мир становился все более научным, — мало того, ну, в общем… и на полях для гольфа теперь каждый день было не протолкнуться. Но довольно об этом. Будем считать, что мы с Бетховеном «вошли в систему». Мы к нему еще скоро вернемся. А пока самое время проверить, как там наш старый знакомый, человек, написавший симфоний больше, чем… попросту говоря, больше, чем нам на самом-то деле нужно, — единственный и неповторимый — вы небось думали, что он уже умер, — Франц Йозеф «Не Называйте Меня Занудой» Гайдн. Период капельмейстерства у Эстергази завершился. Всего пару лет назад Гайдн набросал — ко дню рождения императора — государственный гимн Австрии. Он назвал его так: «Gott erhalt Franz der Kaiser». Разумеется, впоследствии этот гимн несколько изменился по настроению — это когда слова его заменили на «Deutschland, Deutschland, über alles». Собственно, отставки от Гайдна ожидали. Чувствовал он себя не очень хорошо, лет ему было под семьдесят, и многие полагали, что лучшие свои вещи он уже создал. Гайдн же ни с чем из этого согласен не был. Как раз когда над мечтой Эстергази заходило солнце, наш Франц создал одно из своих самых юношеских по звучанию произведений, коему предстояло стать и одним из самых популярных сочинений, написанных им для хора, — «Времена года». И лишь через год после этого Гайдн подал в отставку, получив полную пенсию и оставшись человеком, почитаемым всемиодним из великих мастеров классической музыки.
Одни и те же старые унылые куцые соло и учтивые куцые «престо»? Утомили? Тогда почему бы вам не стать «ранним романтиком»?
Всего за 39,99 фунта плюс 10 флоринов за упаковку и почтовые расходы вы ТОЖЕ можете стать сразу и РАННИМ, и РОМАНТИКОМ.
Членство с союзе РАННИХ РОМАНТИКОВ дает вам возможность сочинять по три в высшей степени сносных виртуозных концерта в год, хамить публике, жить не по средствам, а также носить нелепую челку, быть может даже спадающую на разбитые круглые очки. И помните: если существование РАННЕГО РОМАНТИКА вас не удовлетворит, вы… не сможете получить ваши деньги обратно, зато сможете разодрать все ваши сочинения в клочья и забиться в припадке…
Не забывайте, вся музыка должна соответствовать вашему положению в обществе. Деятельность РАННИХ РОМАНТИКОВ контролируется компанией «Лаутро, Имро[*], Рубато, Либретто и Стаккато».
БЕТХОВЕН НА СТАРТЕ
1803-й. Позвольте быстренько рассказать вам, что там к чему. 1803-й — у Наполеона дела идут хорошо. Вернее, скоро пойдут хорошо, ведь так? Не будем его пока трогать. Скульптор Канова изваял небольшую, но отличающуюся красотою форм статую тезки знаменитого коньяка. Кстати, Франция и Британия опять воюют… Как выражаются в Лидсе, Ici nous allons, encore[*]. Идем дальше. На ипподроме «Гудвуд» состоялись первые скачки, а Тёрнер, чей «Миллбанк при лунном свете» был хорошо принят публикой, представил ей «Порт Кале». Думаю, если бы он сегодня отправился с мольбертом в те же места, картины эти назывались бы «Миллбанкские борзописцы» и «Бунт в сумасшедшем доме Кале». Можете, если хотите, назвать меня реакционером. Однако вернемся к рассерженному молодому человеку по имени Людвиг ван Бетховен. Он родился в Бонне в декабре 1770-го. Детство провел печальное — буйный, здорово пьющий отец побоями принуждал сына к занятиям. Впрочем, в отношении музыкальном эта неразумная метода себя оправдала — на Бетховена обратил внимание брат Марии Антуанетты, кёльнский курфюрст Максимилиан Франц, назначивший его вторым придворным органистом. Когда же отец по причине пьянства лишился места, Бетховену пришлось зарабатывать на жизнь, играя на альте в низкопробном театрике. Какое унижение! Это я не о низкопробном театрике, а об игре на альте[♫]. В 1792 году Бетховен отправился в Вену, чтобы поучиться у Гайдна, и в итоге в Бонн никогда уже не вернулся. Три года спустя он начал деятельность концертирующего пианиста, исполняя собственный фортепианный концерт (почти наверняка первый), и вскоре приобрел серьезную репутацию и пианиста, и композитора. Однако, как вы легко можете себе представить, судьба вовсе не собиралась осчастливить Бетховена хорошим концом из книжки — «и с тех пор он жил без забот». Всего год спустя у него обнаружились признаки глухоты, которая со временем стала полной. В 1803-м Бетховену исполнилось тридцать три, и он уже начал понимать, что ему предстоит оглохнуть. В найденном через много лет после его смерти письме 1802 года Бетховен ясно дает понять: он знает, что его ждет. Быть может, что-то вроде негодования на ускользающее время и породило в нем столь могучий всплеск творческой активности. В следующие шесть лет ему предстояло написать такие сонаты, как «Крейцерова», «Вальдштейновская» и «Аппассионата», не говоря уж о ставшей навеки популярной «Лунной», написанной, впрочем, двумя годами раньше, — название это, должен добавить, дано не им, а одним из музыкальных издателей. Он сочинил также ораторию «Христос на Масличной горе» и Третий фортепианный концерт. Однако в 1803-м Бетховен создал и то, что было названо «величайшим шагом вперед, сделанным композитором за всю историю симфонизма и музыки в целом». Сильно сказано, маленький братец, — как выразился бы Балу. Впрочем, сказано справедливо, поскольку Третья симфония не похожа ни на что ее предварявшее. Если вам случится услышать в концерте симфонию Гайдна, вы отметите, что она… правильна… в ней все на месте. Да послушайте хотя бы и симфонию Моцарта, там тоже царит порядок. Гениальный, что и говорить, но все-таки порядок. А потом обратитесь к бетховенской «Eroica» — к его «Героической» симфонии. Она… как бы это сказать, она просто из другой футбольной команды. Бетховен словно бы вывел с ее помощью новую породу симфоний. Она ЭПИЧНА, она ИЗУМИТЕЛЬНА. Этакий «Звездный путь» среди симфоний — она отважно вторгается туда, куда еще не ступала нога человека. «Герой», стоящий в ее названии, был в то время персоной очень приметной — это Наполеон, ставший для Людвига подобием идола. Увы, не надолго. Когда всего только год спустя Наполеон возложил на себя в Париже корону императора, Бетховен бросился к комоду, вытащил из нижнего ящика лежавшую под щеткой для волос рукопись «Героической» и вычеркнул посвящение Бонапарту, написав взамен «Памяти великого человека». Здорово, правда? Примерно в то же время не лишенную величия музыку сочинял один из друзей Бетховена — и, по-моему, серьезный претендент на титул «Носитель не лишенного забавности среднего имени», — Иоганн Непомук Гуммель. В свое время Гуммель безусловно считался равным Бетховену пианистом, а кое-кто поговаривал, что и как композитор он нисколько не хуже. Правда, теперь его помнят лишь благодаря горстке сочинений, в частности Концерту для трубы. В репертуаре трубачей это что-то вроде вечного спутника гайдновского концерта, сравнимого с ним по сложности и со столь же впечатляющей третьей частью, — спутника, которого нередко принимают за кровного родственника. И не без оснований, поскольку Гуммель тоже написал его для Вейдингера — того, что изобрел трубу с клапанами. Музыканта из гайдновского оркестра. Понимаете, когда Гайдн несколько одряхлел, стал не способным выполнять в Эйзенштадте всю положенную работу, хитроумные власти предержащие назначили ему пенсию в 2300 флоринов (плюс оплата расходов на лечение) и сохранили за ним должность «важной музыкальной шишки с дозволением приходить на место прежней работы, читать газеты, но с вопросами не соваться». И кто же сменил его на посту капельмейстера? Правильно. И. Н. Гуммель. Мир тесен, не правда ли? Что же касается приза, полученного Гуммелем в скачках категории «Где вы теперь?», тут, похоже, все решила судьба — несмотря на то что при жизни он был безмерно популярен и даже пользовался влиянием, музыка его, как только он умер, просто-напросто вышла из моды. Разумеется, у меня есть на сей счет собственная теория, которой я готов с вами поделиться. Вот посмотрите, Глюк… по преимуществу не моден, так? Что? А Диттерсдорф? Тоже забыт, более-менее полностью. Возьмем теперь Гуммеля. В свое время он пользовался уважением Мендельсона, Шумана и Листа, а ныне обратился в додо классической музыки. А почему? Согласно моей теории, все дело в… не лишенных забавности средних именах. Карл Диттерс фон Диттерсдорф. Кристоф Виллибальд Глюк. Иоганн Непомук Гуммель. О чем тут еще говорить? QED[*], как называют французы известный пассажирский лайнер. Если бы Гайдн в 1806-м — а он был еще жив — забрел, чтобы почитать газеты, во дворец Эстергази, он узнал бы немало нового. Уже отгремела, в прошлом году, Трафальгарская битва, и Нельсон запечатлел самый знаменитый — или не самый — поцелуй в истории. Наполеон уже обратился, постойте-ка, в:
1. Первого консула 2. Императора 3. Короля Миланского 4. Президента Итальянской республики 5. Министра мясной и молочной промышленности ☺ и 6. Капитана нетбольной команды ☺Кажется, все. Питт Младший более известен теперь под менее приятным именем «покойный Питт». Что еще? А еще Пруссия объявила войну Франции — точно, точно, хоть у Генделя спросите. Далее, Тёрнер написал еще одну недурную картину, «Кораблекрушение». Подумайте, какое впечатление она могла производить на зрителя тех дней и того столетия. То была не просто замечательная картина, от нее мороз по коже — не забывайте, море было тогда понятием большим и насущным. Победа и смерть Нельсона все еще оставались значительной новостью, флотские вербовщики по-прежнему не знали удержу, да и море было не таким ручным, как ныне, так что «Кораблекрушение» Тёрнера просто не могло не потрясать. А музыка? С музыкой-то что? Создавала ли музыка того времени образы под стать «Кораблекрушению» Тёрнера? Ну, если говорить о Бетховене, ответом будет огромное, с пылу с жару «да». У него уже готова первая редакция «Фиделио», его единственной и неповторимой оперы, темами которой служат братство, товарищество и свобода. «Единственная и неповторимая» — это весьма существенно. Как видите, наш Бетховен бумагу попусту не переводил, о нет. Гайдн написал 104 симфонии, Моцарт — сорок одну, а Бетховен? Всего только девять. Однако они были, при всем моем уважении к первым двум композиторам, сочинениями воистину великими — великолепной девяткой, — и сказанное подтверждается самим их числом. Куда менее легкомысленные, чем симфонии Гайдна, более революционные, требующие от слушателя большего напряжения, чем симфонии Моцарта, они, вообще говоря, представляют собой произведения совсем иного покроя. И наконец, как раз в 1806-м, он сочиняет свой единственный и неповторимый скрипичный концерт. Концерт не так «бьет в глаза», как другие вещи Бетховена, но упоительная вторая часть его словно несколькими столетиями отделена от Гайдна и Моцарта. Говорят, что первый исполнитель концерта, прекрасный скрипач по имени Клемент, до самой премьеры нот не видел, ни одной репетиции не провел и все же сумел каким-то образом не провалиться. И слава богу: если бы он напортачил и тем обрек эту вещь на вечное забвение, я бы, и не один только я, этого нашему другу Клементу никогда не простил. Не думаю, что я смог бы прожить без Скрипичного концерта Бетховена. Однако Клемент не напортачил. Он прорвался, все аплодировали — возможно, из вежливости, — он вышел из концертного зала, хлопнул за собой дверью, и — вы и опомниться не успели, как БА-БАХ — наступил 1808 год.
ЧЕЛОВЕК ПО ИМЕНИ ВАН
 Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы остановиться на кое-каких подробностях, относящихся к следующим девяти годам. Именно так я поступил с предыдущим, поистине интригующим периодом истории музыки — последними четырьмя годами Моцарта, — а теперь хочу подзадержаться в обществе Человека по имени Ван.
Итак. 1808-й. После сочинения Скрипичного концерта прошло два года, а удача Бетховену все еще улыбается. За это время он производит на свет «Фиделио», струнные «квартеты Разумовского» и Симфонию № 4. Мир вокруг него, как и положено, меняется. Наполеон, захватив Барселону и Мадрид, упраздняет испанскую инквизицию. Спорим, она этого не ожидала! А следом, для ровного счета, упраздняет и итальянскую тоже[♫]. Но обратимся к иным сферам человеческой деятельности. Каспар Давид Фридрих выставляет полотно «Крест в горах», Вальтер Скотт публикует «Мармион», а Гёте представляет читающей публике часть своего блокбастера. Думаю, правильно будет сказать, что сочинению этому еще предстоит долгая жизнь, и ох в каком количестве версий: «Фауст», часть 1.
Между тем Бетховен по-прежнему так же несчастен в жизни, как и в любви. Его «бессмертная возлюбленная» тоже принадлежит к этому периоду. «Она» — таинственная женщина, личность которой установить окончательно так и не удалось. Одни говорят, будто ею была Джульетта Гвиччарди, итальянская графиня, которая, по слухам, отвечала Бетховену взаимностью, пока отец ее не наложил запрет на их брак. Это ей Бетховен посвятил «Лунную сонату». Другие твердят, будто речь должна идти о его кузине Терезе Мальфатти, вдохновительнице «Аппассионаты». Третьи уверяют даже, что ею была Бобо, плюшевая кукла, подвигнувшая Бетховена на сочинение «Симфонии для пищалки» ☺, — впрочем, это по преимуществу люди, которые любят, чтобы при них постоянно кто-то сидел, и вообще большого доверия не заслуживают. И наконец, кое-кто считает, что это такое послание «ко всем женщинам» — сразу. Лично мне последнее представляется полной бессмыслицей. Я что хочу сказать… если он пожелал обратиться с открытым письмом ко всем женщинам сразу, почему было не отпечатать его на листочках формата А5 и не разбросать их там, где они могли попасться женщинам на глаза, — ну вот как это делают магазины косметики и дамских сумочек? Видите? Чтобы опровергнуть совершенно дурацкую теорию, нужно лишь немного пораскинуть умом.
А теперь, когда мы с этим покончили, представьте себе, если сможете, Гэри Олдмена в роли Бетховена, фильм «Бессмертная возлюбленная». Чудного на вид, вспыльчивого, донимаемого все нарастающей глухотой… и все же способного заставить явившуюся на концерт публику буквально прирасти к месту. Представьте, какой потрясающей, какой почти насильственной должна была показаться слушателям, ничего такого не ожидавшим, Симфония № 5, которую обрушил на них Бетховен. До той поры самыми потрясающими из симфоний представлялись написанные Моцартом и Гайдном. Они были фантастически хороши, и все же, не поймите меня неправильно, ничто в наследии двух этих композиторов не могло подготовить кого бы то ни было к
Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы остановиться на кое-каких подробностях, относящихся к следующим девяти годам. Именно так я поступил с предыдущим, поистине интригующим периодом истории музыки — последними четырьмя годами Моцарта, — а теперь хочу подзадержаться в обществе Человека по имени Ван.
Итак. 1808-й. После сочинения Скрипичного концерта прошло два года, а удача Бетховену все еще улыбается. За это время он производит на свет «Фиделио», струнные «квартеты Разумовского» и Симфонию № 4. Мир вокруг него, как и положено, меняется. Наполеон, захватив Барселону и Мадрид, упраздняет испанскую инквизицию. Спорим, она этого не ожидала! А следом, для ровного счета, упраздняет и итальянскую тоже[♫]. Но обратимся к иным сферам человеческой деятельности. Каспар Давид Фридрих выставляет полотно «Крест в горах», Вальтер Скотт публикует «Мармион», а Гёте представляет читающей публике часть своего блокбастера. Думаю, правильно будет сказать, что сочинению этому еще предстоит долгая жизнь, и ох в каком количестве версий: «Фауст», часть 1.
Между тем Бетховен по-прежнему так же несчастен в жизни, как и в любви. Его «бессмертная возлюбленная» тоже принадлежит к этому периоду. «Она» — таинственная женщина, личность которой установить окончательно так и не удалось. Одни говорят, будто ею была Джульетта Гвиччарди, итальянская графиня, которая, по слухам, отвечала Бетховену взаимностью, пока отец ее не наложил запрет на их брак. Это ей Бетховен посвятил «Лунную сонату». Другие твердят, будто речь должна идти о его кузине Терезе Мальфатти, вдохновительнице «Аппассионаты». Третьи уверяют даже, что ею была Бобо, плюшевая кукла, подвигнувшая Бетховена на сочинение «Симфонии для пищалки» ☺, — впрочем, это по преимуществу люди, которые любят, чтобы при них постоянно кто-то сидел, и вообще большого доверия не заслуживают. И наконец, кое-кто считает, что это такое послание «ко всем женщинам» — сразу. Лично мне последнее представляется полной бессмыслицей. Я что хочу сказать… если он пожелал обратиться с открытым письмом ко всем женщинам сразу, почему было не отпечатать его на листочках формата А5 и не разбросать их там, где они могли попасться женщинам на глаза, — ну вот как это делают магазины косметики и дамских сумочек? Видите? Чтобы опровергнуть совершенно дурацкую теорию, нужно лишь немного пораскинуть умом.
А теперь, когда мы с этим покончили, представьте себе, если сможете, Гэри Олдмена в роли Бетховена, фильм «Бессмертная возлюбленная». Чудного на вид, вспыльчивого, донимаемого все нарастающей глухотой… и все же способного заставить явившуюся на концерт публику буквально прирасти к месту. Представьте, какой потрясающей, какой почти насильственной должна была показаться слушателям, ничего такого не ожидавшим, Симфония № 5, которую обрушил на них Бетховен. До той поры самыми потрясающими из симфоний представлялись написанные Моцартом и Гайдном. Они были фантастически хороши, и все же, не поймите меня неправильно, ничто в наследии двух этих композиторов не могло подготовить кого бы то ни было к
 Вы понимаете? Даже в напечатанном таким вот манером виде оно потрясает, не правда ли? А послушав сейчас хорошее его исполнение, вы поразитесь еще пуще. Это одно из тех произведений, которые заставляют вас думать, что вы никогда еще ничего подобного не слышали. И дело не только в первой части. Вспомните последнюю — со всем ее блеском. Огромная, величавая, она не берет, так сказать, пленных, она безмерна. А тут еще история протянула этой симфонии руку помощи, когда во время Второй мировой войны она оказалась накрепко связанной с позывными союзников, со словом «Победа» — «Victory». Почему? Начальная тема, которая так превосходно — полагаю, вы с этим согласитесь, — обрисована чуть выше, обладала сходством с сигналом азбуки Морзе, отвечающим букве «V»: три точки и тире, или точка-точка-точка-ТИРЕ, или, в каком-то смысле, бу-бу-бу-бууу, понимаете?
Ладно, с одним годом управились, теперь у нас 1809-й, также представляющий немалый интерес. Франция и Австрия все еще не завершили большого турнира по армейскому рестлингу. Выступающий в нем со стороны Британии человек по имени Артур Уэлсли побеждает французов при Опорто и Талавере и получает за свои хлопоты титул герцога Веллингтона. Ах да, еще и брата его назначают министром иностранных дел. Очень удобно. С другой стороны, Наполеон, обнаружив целый комплект папских государств, быстренько ими овладевает. Аннексирует, и с такой скоростью, что за потраченное им на это время даже сказать: «Только не в эту ночь, Жозефина!» — и то никто не успел бы. Ага, хорошо, что вспомнил — трудности и заботы, неотъемлемые от поддержания в должном порядке приличных наполеоновских войн, начали сказываться на здоровье Императора, он же Консул, он же Президент, он же испод моей ляжки. И действительно, 1809 год стал также свидетелем его развода с Жозефиной, так что в дальнейшем к знаменитой фразе стали добавлять: «…и ни в какую другую, Жозефина».
В Англии Констебл представляет публике гимн эскапизму — восхитительное полотно под названием «Молверн-Холл». Если перейти на уровень более обыденный, на ипподроме Ньюмаркета разыгрывается приз в 2000 гиней, а в бристольской гавани завершаются последние отделочные работы. Если же перейти на уровень менее обыденный, С. Т. фон Земмеринг изобретает водный вольтаметрический телеграф. Черт его знает, что это такое.
Впрочем, что бы это такое ни было, Людвигу ван Бетховену определенно не до него. Глухота уже причиняет ему немало страданий. Он еще не оглох совершенно, однако… в общем, если попробовать грубо передать то, что он слышит, посредством того, что вы сейчас видите, получится примерно…
Вы понимаете? Даже в напечатанном таким вот манером виде оно потрясает, не правда ли? А послушав сейчас хорошее его исполнение, вы поразитесь еще пуще. Это одно из тех произведений, которые заставляют вас думать, что вы никогда еще ничего подобного не слышали. И дело не только в первой части. Вспомните последнюю — со всем ее блеском. Огромная, величавая, она не берет, так сказать, пленных, она безмерна. А тут еще история протянула этой симфонии руку помощи, когда во время Второй мировой войны она оказалась накрепко связанной с позывными союзников, со словом «Победа» — «Victory». Почему? Начальная тема, которая так превосходно — полагаю, вы с этим согласитесь, — обрисована чуть выше, обладала сходством с сигналом азбуки Морзе, отвечающим букве «V»: три точки и тире, или точка-точка-точка-ТИРЕ, или, в каком-то смысле, бу-бу-бу-бууу, понимаете?
Ладно, с одним годом управились, теперь у нас 1809-й, также представляющий немалый интерес. Франция и Австрия все еще не завершили большого турнира по армейскому рестлингу. Выступающий в нем со стороны Британии человек по имени Артур Уэлсли побеждает французов при Опорто и Талавере и получает за свои хлопоты титул герцога Веллингтона. Ах да, еще и брата его назначают министром иностранных дел. Очень удобно. С другой стороны, Наполеон, обнаружив целый комплект папских государств, быстренько ими овладевает. Аннексирует, и с такой скоростью, что за потраченное им на это время даже сказать: «Только не в эту ночь, Жозефина!» — и то никто не успел бы. Ага, хорошо, что вспомнил — трудности и заботы, неотъемлемые от поддержания в должном порядке приличных наполеоновских войн, начали сказываться на здоровье Императора, он же Консул, он же Президент, он же испод моей ляжки. И действительно, 1809 год стал также свидетелем его развода с Жозефиной, так что в дальнейшем к знаменитой фразе стали добавлять: «…и ни в какую другую, Жозефина».
В Англии Констебл представляет публике гимн эскапизму — восхитительное полотно под названием «Молверн-Холл». Если перейти на уровень более обыденный, на ипподроме Ньюмаркета разыгрывается приз в 2000 гиней, а в бристольской гавани завершаются последние отделочные работы. Если же перейти на уровень менее обыденный, С. Т. фон Земмеринг изобретает водный вольтаметрический телеграф. Черт его знает, что это такое.
Впрочем, что бы это такое ни было, Людвигу ван Бетховену определенно не до него. Глухота уже причиняет ему немало страданий. Он еще не оглох совершенно, однако… в общем, если попробовать грубо передать то, что он слышит, посредством того, что вы сейчас видите, получится примерно…  М-да. Хорошего мало. И разумеется, это делает Бетховена все более и более раздражительным, предпочитающим довольствоваться лишь собственным обществом. Быть Бетховеном — значит пребывать в крайне идиосинкразическом состоянии поглощенности собственной персоной. К примеру, он любит играть в Австрийскую национальную лотерею — надеется выиграть целое состояние. Собственно, ему так отчаянно хочется получить кучу денег, что он принимается изучать теорию чисел и становится серьезным ее знатоком. Кроме того, Бетховен, согласно свидетельству всех современников, небрежно относится к своим рукописям, нередко «подряжая» их для исполнения самых разных работ. Говорят, что рукопись одного из самых прославленных его сочинений несет на себе следы в виде кругов, оставшиеся со времени, когда Бетховен накрывал ею либо тарелку с супом, чтобы тот не остыл, либо, еще того хуже, — ночной горшок[♫].
Но, несмотря на все, несмотря на глухоту, отсутствие денег, разного рода проистекшие из глухоты личные горести, — несмотря на все это, он еще не добрался, в рассуждении музыкальном, до полосы неудач и продолжает создавать великие произведения. 1809-й, концерт «Император», — впрочем, назван он так не Бетховеном. В Наполеоне Бетховен к тому времени разочаровался окончательно и уж в этом-то году точно не послал ему рождественской открытки. 1810-й. Увертюра «Эгмонт». Уу! Я был бы рад назвать любую из этих вещей итоговым трудом всей моей жизни. Они и сегодня возвышаются, на своем поле каждое, как непревзойденные вершины. Вряд ли в мире проходит хоть один концертный сезон, в котором где-нибудь там, ну то есть в мире, не исполняют «Императора». И хотя в наши дни всю прочую музыку к «Эгмонту» — то была пьеса Гёте, для постановки которой Бетховен написал музыкальное сопровождение, — исполняют нечасто, увертюра остается старожилом оркестрового репертуара.
А вот уже и 1812-й. Да-да, 1812-й, тот самый. ЗНАМЕНИТЫЙ 1812-й. Год, который прославило «Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-тум-тум-тууум». Разумеется, это «Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-там-том-тууум» не сочинено в 1812-м, а просто посвящено 1812-му. Это же очевидно. И хорошо. Рад, что сумел так понятно все объяснить.
Так или иначе, стоит — как я уже попытался на мой скромный манер вам втолковать — 1812 год, и Наполеон разинул наконец рот на кусок, способный застрять даже в его глотке: учинил «вторжение в Россию». Ну не знаю, по-моему, это слишком уж смахивает на афишное «проездом, всего одна неделя»! Грустная, если честно, история. Потом ему еще пришлось проделать все в таких случаях положенное — вплоть до «бегства из Москвы». В конце концов он вернулся в Париж с оставшимися от армии 20 000 солдат. Это из 550 000, с которыми он начал кампанию! Ничего себе. Ладно, посмотрим, что у нас есть еще. Ну-с, среди выдающихся писателей 1812-го мы можем назвать лорда Байрона и братьев Гримм. Если по-честному, Джейн Остин тоже принадлежит к числу выдающихся писателей 1812 года, просто об этом никто не знает, поскольку все свои сочинения она публикует анонимно. В прошлом году этот Аноним напечатал роман «Разум и чувство» — огромный успех, — а сейчас работает над столь же анонимным «Гордостью и предубеждением», который выйдет в свет в следующем году. Прочие мелочи: лорд Элджин только что привез в Англию кой-какой мраморный лом[*], Гойя написал портрет герцога Веллингтона, а несколько севернее — всего только в прошлом году — группа товарищей, назвавшаяся именем Неда Лудда, разломала немалое число отнявших у них работу обрабатывающих станков. Странные были времена.
Что касается герра Бетховена, что ж, оно наконец наступило. Тяжелое время то есть — в том, что касается музыки. У Бетховена вот-вот начнется пятилетний период молчания. Может, его все же доконала глухота? Может, просто покинула муза? Не знаю. Он только что завершил изумительную Седьмую симфонию плюс несколько более легкомысленную Восьмую и теперь прикрыл лавочку. Если не считать еще одной редакции «Фиделио», сочинять он будет очень мало, а то, что сочинит, отдельного разговора не заслуживает.
Хорошо, но если Бетховен взял более чем заслуженный им отпуск, то кто же у нас остался, кто сочиняет музыку, достойную того, чтобы мы о ней упомянули? Ну разумеется, он самый, наш шеф-повар. Человек, который вновь подмешал патоки к симфонической музыке, — хорошо, хорошо, над этой фразой еще следует поработать, — насыпал соли на хвост сороке-воровке. Да, это Джоаккино «Не добавить ли перчику?» Россини. И Россини станет не только тем, кто спасет для нас целое десятилетие, он еще и оживит, вы не поверите, нашу старую знакомую, оперу. Не любую старую оперу, конечно, нет: одну лишь на 100 процентов настоящую и кошерную комическую оперу, ни больше ни меньше. И это так же верно, как то, что в руке у меня сейчас морковка.
1816-й. Ну что можно сказать о 1816-м такого, чего о нем уже не было сказано? Вот именно. Однако я все же попробую. Всего лишь год назад разыгрались сражения и под Ватерлоо, и под Новым Орлеаном[*], интересные хотя бы тем, что оба не только были наделавшими немало шума баталиями, но и породили на свет наделавшие немало шума песни. И действительно, Ново-Орлеанское сражение обеспечило Лонни Донегану[*] годы и годы достатка и покоя. Что еще? Канова изваял своих «Трех граций», Джейн «Не найдешь, не найдешь» Остин закончила «Мэнсфилд-парк», а Сэмюэл Колридж-Тейлор дописал наконец поэму «Кубла Хан», которую начал аж в 1797-м. То есть еще в период классицизма. Ха! Какой примитив. У нас дома, в Британии, дела идут так себе. С деньгами туго — кое-кто говорит, что их и вовсе не существует, — вообще экономика имеет вид до крайности бледный, что заставляет великое множество людей эмигрировать в Канаду и США.
Вот и Бетховен тоже… ну, в общем, он еще скребет понемногу перышком, а после комкает потную бумагу — поскребет и скомкает, поскребет и скомкает. Собственно говоря, проделывает это снова и снова. Ничего у него, бедняги, толком не получается. Так что посмотрим лучше, чем может заполнить образовавшуюся пустоту Россини.
Россини, разумеется, намного удачливее. К этому времени его уже начинают называть «лебедем Пезаро» — по причинам, только ему и известным. Ну да, вы говорите, что он родился в итальянском прибрежном городе Пезаро, который в Италии? Ладно, хорошо, но «лебедь»-то при чем? Вот тут и ломай голову. Может быть, причина в том, что, когда Россини плавал в бассейне пезарского отеля, та часть его тела, что выставлялась над водой, выглядела довольно грациозно, а вот пухленькие ножки, которыми он перебирал под водой, производили впечатление смехотворное.* Как хотите, так и думайте. К 1816-му Россини исполнилось двадцать четыре года (против бетховенских сорока шести), и о нем «поговаривали» вот уж несколько лет. Первые его оперы были решительно ничем не примечательны, но тем не менее приносили ему новые заказы. А потом все вдруг начало меняться. Опера «Танкред» имела громовой успех — ария «Di tanti palpiti»[*] пользовалась в свое время безумной популярностью. Она получила прозвание «рисовой арии», поскольку Россини, как уверяли, накатал ее ровно за четыре минуты — пока у него на плите закипал рис. Затем, когда ему был двадцать один год, появилась «Итальянка в Алжире», мигом прославившая Россини во всей Италии. Следующая его опера ожидалась с очень, очень большим нетерпением. Сможет ли молодой человек, обладающий чутьем на самые напевные мелодии, повторить свой успех?
Ну-с, то, что он взял за основу пьесу Бомарше, уже было хорошим предзнаменованием. Начало совсем неплохое. Однако потом все пошло вкривь и вкось. На то, чтобы написать оперу, у него имелось всего тринадцать дней. Ладно, пусть. С этим он как-нибудь справится. Он и справился, закончив оперу всего за день до премьеры. То был «Севильский цирюльник».
Беда состояла в том, что на сцену она попала совершенно неотрепетированной. И во время первого ее исполнения в римском «Teatro Valle»[*] певцы пропускали реплики, натыкались на декорации, а в одной из сцен из-за кулис даже вылезла кошка. Закончилось же все полным кошмаром — публика принялась свистеть и скандировать: «ПА-И-ЗИ-ЕЛ-ЛО, ПА-И-ЗИ-ЕЛ-ЛО». И вот это была новость совсем плохая. Джованни Паизиелло считался в ту пору крупным итальянским композитором, и он уже положил на музыку ту самую пьесу, россиниевский вариант которой теперь освистывали зрители. Начало для оперы далеко не лучшее.
Но затем произошло — догадайтесь что.
Нет, вы попробуйте, догадайтесь!
Ладно, повезет в следующий раз. На самом-то деле все было иначе. Произошло вот что: уже при втором представлении публика эту оперу полюбила. Вот именно. ПОЛЮБИЛА. Ей-богу. Не знаю почему, но полюбила. Переменила отношение к ней на прямо противоположное, аплодировала и никак остановиться не могла. И с тех пор она остается наипопулярнейшей из итальянских опер. Помимо пользующейся заслуженной славой увертюры, она содержит прекрасное «Una voce росо fa»[*], что в переводе означает «Одна водка — уже многовато», и пробный камень для всякого тенора — «Largo al factotum»[*], или «Большой Эл излагает факты». ☺ Последняя ария, кстати сказать, всякий раз словно переносит меня в дни моего детства. Нет, не в оперный театр, не к моему отцу, стоящему с трубкой в руке у граммофона, не к оказавшему на меня большое влияние очень сведущему школьному учителю музыки. Нет, она переносит меня в те не частые дни, когда я допоздна не ложился спать, а по школьному телевизору крутили рекламу «фиата», сопровождавшуюся музыкой Россини, — помните тот ролик? — полный цех роботов, которые и делают всю работу. Я никогда его не забуду. Никогда.
А теперь я, с вашего дозволения, попробую сравнить «Севильского цирюльника» с последним из краеугольных камней оперы, а именно с глюковской «Орфей и Эвридика». Что мы могли бы отметить, поставив эти оперы бок о бок? Ну, очевидно, мы отметили бы адскую мешанину звуков — одни певцы и музыканты поют и играют одно, другие совсем другое, и это порождает разлад, гармоническую фальшь и общую какофонию. Однако во всех прочих отношениях эти оперы разделены расстоянием во много световых лет. Использовать все эти музыкальные эффекты — ну, знаете, музыкальные описания, звукоподражание, если угодно, — начал Глюк, но только у него они были совершенно ручными. Затем появился Моцарт с его «фантастической четверкой» — «Женитьбой Фигаро», «Так поступают все женщины», «Дон Жуаном» и «Волшебной флейтой». То был звездный час «классической» оперы — конечная точка пути. Опер более классических быть уже не могло. И вот приходит Россини с его пристрастием к котлетам[♫]…
Хорошо, припомните-ка — Россини творил всего лишь через двадцать лет после Моцарта, однако отобразить «жизнь» ему уже хотелось куда сильнее, чем кому-либо до него. Его знаменитые слова: «Дайте мне список белья из прачечной, и я положу его на музыку!» — это чистой воды правда. Ему не нужен был благовоспитанный, формальный мир периода классицизма — ему нужна была публика, орущая в оперном театре от восторга. И он своего добился. Добился с помощью таких приемов, как его фирменная «Ракета Россини». Это когда короткие музыкальные фразы повторяются и повторяются, все громче и все быстрее, пока не взорвутся, — все немного смахивает на то, что мы видим во время рысистых бегов. Одна такая «ракета» присутствует в увертюре к «Севильскому цирюльнику», а самая, наверное, известная — в увертюре к «Вильгельму Теллю» — той, что звучит под конец каждой серии «Одинокого Рейнджера»[*]. Если бы вам пришлось писать сочинение на тему «„Севильский цирюльник“ Россини и „Орфей и Эвридика“ Опока — что между ними общего? Обсудить» и вас попросили бы уложиться в «не более чем 6 слов», — хорошо-хорошо, тут у меня перебор, но вы послушайте дальше, — так вот, если бы вы вдруг получили такое задание, уверен, вам не поставили бы низкой оценки, напиши вы следующее: «Они попросту слеплены из разного теста!»
А что же последний год нашего маленького нонета, назовем его 1817-м? Что дает нам он?
Ладно, чтобы попробовать ответить на ваш вопрос, разрешите мне начать с двух Америк. Джеймс Монро только что стал пятым президентом молодой страны — США, а немного дальше, на юге, Симон Боливар учредил не лишенное приятности новое государство, Венесуэлу, и деловито созывает под свое начало всех желающих. У нас на родине скончалась Джейн Остин, что, однако, никак не сказалось на ее способности выпускать в свет новые книги — годом позже, уже посмертно, одновременно издаются «Нортенгерское аббатство» и «Доводы рассудка». Открылся мост Ватерлоо — мост, с которого, если хотите знать мое мнение, открывается лучший из существующих видов на Лондон, да если и не хотите, хуже он от этого не станет, даже несмотря на то, что прямо посреди этого вида невесть откуда вылезло стальное чертово колесо великанских размеров. В Эдинбурге появилось очередное добавление к быстро разрастающемуся списку новых газет, а именно «Скотсмен», с девизом «Ой-ё-ёй, ну и новости!»[♫]
М-да. Хорошего мало. И разумеется, это делает Бетховена все более и более раздражительным, предпочитающим довольствоваться лишь собственным обществом. Быть Бетховеном — значит пребывать в крайне идиосинкразическом состоянии поглощенности собственной персоной. К примеру, он любит играть в Австрийскую национальную лотерею — надеется выиграть целое состояние. Собственно, ему так отчаянно хочется получить кучу денег, что он принимается изучать теорию чисел и становится серьезным ее знатоком. Кроме того, Бетховен, согласно свидетельству всех современников, небрежно относится к своим рукописям, нередко «подряжая» их для исполнения самых разных работ. Говорят, что рукопись одного из самых прославленных его сочинений несет на себе следы в виде кругов, оставшиеся со времени, когда Бетховен накрывал ею либо тарелку с супом, чтобы тот не остыл, либо, еще того хуже, — ночной горшок[♫].
Но, несмотря на все, несмотря на глухоту, отсутствие денег, разного рода проистекшие из глухоты личные горести, — несмотря на все это, он еще не добрался, в рассуждении музыкальном, до полосы неудач и продолжает создавать великие произведения. 1809-й, концерт «Император», — впрочем, назван он так не Бетховеном. В Наполеоне Бетховен к тому времени разочаровался окончательно и уж в этом-то году точно не послал ему рождественской открытки. 1810-й. Увертюра «Эгмонт». Уу! Я был бы рад назвать любую из этих вещей итоговым трудом всей моей жизни. Они и сегодня возвышаются, на своем поле каждое, как непревзойденные вершины. Вряд ли в мире проходит хоть один концертный сезон, в котором где-нибудь там, ну то есть в мире, не исполняют «Императора». И хотя в наши дни всю прочую музыку к «Эгмонту» — то была пьеса Гёте, для постановки которой Бетховен написал музыкальное сопровождение, — исполняют нечасто, увертюра остается старожилом оркестрового репертуара.
А вот уже и 1812-й. Да-да, 1812-й, тот самый. ЗНАМЕНИТЫЙ 1812-й. Год, который прославило «Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-тум-тум-тууум». Разумеется, это «Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-там-том-тууум» не сочинено в 1812-м, а просто посвящено 1812-му. Это же очевидно. И хорошо. Рад, что сумел так понятно все объяснить.
Так или иначе, стоит — как я уже попытался на мой скромный манер вам втолковать — 1812 год, и Наполеон разинул наконец рот на кусок, способный застрять даже в его глотке: учинил «вторжение в Россию». Ну не знаю, по-моему, это слишком уж смахивает на афишное «проездом, всего одна неделя»! Грустная, если честно, история. Потом ему еще пришлось проделать все в таких случаях положенное — вплоть до «бегства из Москвы». В конце концов он вернулся в Париж с оставшимися от армии 20 000 солдат. Это из 550 000, с которыми он начал кампанию! Ничего себе. Ладно, посмотрим, что у нас есть еще. Ну-с, среди выдающихся писателей 1812-го мы можем назвать лорда Байрона и братьев Гримм. Если по-честному, Джейн Остин тоже принадлежит к числу выдающихся писателей 1812 года, просто об этом никто не знает, поскольку все свои сочинения она публикует анонимно. В прошлом году этот Аноним напечатал роман «Разум и чувство» — огромный успех, — а сейчас работает над столь же анонимным «Гордостью и предубеждением», который выйдет в свет в следующем году. Прочие мелочи: лорд Элджин только что привез в Англию кой-какой мраморный лом[*], Гойя написал портрет герцога Веллингтона, а несколько севернее — всего только в прошлом году — группа товарищей, назвавшаяся именем Неда Лудда, разломала немалое число отнявших у них работу обрабатывающих станков. Странные были времена.
Что касается герра Бетховена, что ж, оно наконец наступило. Тяжелое время то есть — в том, что касается музыки. У Бетховена вот-вот начнется пятилетний период молчания. Может, его все же доконала глухота? Может, просто покинула муза? Не знаю. Он только что завершил изумительную Седьмую симфонию плюс несколько более легкомысленную Восьмую и теперь прикрыл лавочку. Если не считать еще одной редакции «Фиделио», сочинять он будет очень мало, а то, что сочинит, отдельного разговора не заслуживает.
Хорошо, но если Бетховен взял более чем заслуженный им отпуск, то кто же у нас остался, кто сочиняет музыку, достойную того, чтобы мы о ней упомянули? Ну разумеется, он самый, наш шеф-повар. Человек, который вновь подмешал патоки к симфонической музыке, — хорошо, хорошо, над этой фразой еще следует поработать, — насыпал соли на хвост сороке-воровке. Да, это Джоаккино «Не добавить ли перчику?» Россини. И Россини станет не только тем, кто спасет для нас целое десятилетие, он еще и оживит, вы не поверите, нашу старую знакомую, оперу. Не любую старую оперу, конечно, нет: одну лишь на 100 процентов настоящую и кошерную комическую оперу, ни больше ни меньше. И это так же верно, как то, что в руке у меня сейчас морковка.
1816-й. Ну что можно сказать о 1816-м такого, чего о нем уже не было сказано? Вот именно. Однако я все же попробую. Всего лишь год назад разыгрались сражения и под Ватерлоо, и под Новым Орлеаном[*], интересные хотя бы тем, что оба не только были наделавшими немало шума баталиями, но и породили на свет наделавшие немало шума песни. И действительно, Ново-Орлеанское сражение обеспечило Лонни Донегану[*] годы и годы достатка и покоя. Что еще? Канова изваял своих «Трех граций», Джейн «Не найдешь, не найдешь» Остин закончила «Мэнсфилд-парк», а Сэмюэл Колридж-Тейлор дописал наконец поэму «Кубла Хан», которую начал аж в 1797-м. То есть еще в период классицизма. Ха! Какой примитив. У нас дома, в Британии, дела идут так себе. С деньгами туго — кое-кто говорит, что их и вовсе не существует, — вообще экономика имеет вид до крайности бледный, что заставляет великое множество людей эмигрировать в Канаду и США.
Вот и Бетховен тоже… ну, в общем, он еще скребет понемногу перышком, а после комкает потную бумагу — поскребет и скомкает, поскребет и скомкает. Собственно говоря, проделывает это снова и снова. Ничего у него, бедняги, толком не получается. Так что посмотрим лучше, чем может заполнить образовавшуюся пустоту Россини.
Россини, разумеется, намного удачливее. К этому времени его уже начинают называть «лебедем Пезаро» — по причинам, только ему и известным. Ну да, вы говорите, что он родился в итальянском прибрежном городе Пезаро, который в Италии? Ладно, хорошо, но «лебедь»-то при чем? Вот тут и ломай голову. Может быть, причина в том, что, когда Россини плавал в бассейне пезарского отеля, та часть его тела, что выставлялась над водой, выглядела довольно грациозно, а вот пухленькие ножки, которыми он перебирал под водой, производили впечатление смехотворное.* Как хотите, так и думайте. К 1816-му Россини исполнилось двадцать четыре года (против бетховенских сорока шести), и о нем «поговаривали» вот уж несколько лет. Первые его оперы были решительно ничем не примечательны, но тем не менее приносили ему новые заказы. А потом все вдруг начало меняться. Опера «Танкред» имела громовой успех — ария «Di tanti palpiti»[*] пользовалась в свое время безумной популярностью. Она получила прозвание «рисовой арии», поскольку Россини, как уверяли, накатал ее ровно за четыре минуты — пока у него на плите закипал рис. Затем, когда ему был двадцать один год, появилась «Итальянка в Алжире», мигом прославившая Россини во всей Италии. Следующая его опера ожидалась с очень, очень большим нетерпением. Сможет ли молодой человек, обладающий чутьем на самые напевные мелодии, повторить свой успех?
Ну-с, то, что он взял за основу пьесу Бомарше, уже было хорошим предзнаменованием. Начало совсем неплохое. Однако потом все пошло вкривь и вкось. На то, чтобы написать оперу, у него имелось всего тринадцать дней. Ладно, пусть. С этим он как-нибудь справится. Он и справился, закончив оперу всего за день до премьеры. То был «Севильский цирюльник».
Беда состояла в том, что на сцену она попала совершенно неотрепетированной. И во время первого ее исполнения в римском «Teatro Valle»[*] певцы пропускали реплики, натыкались на декорации, а в одной из сцен из-за кулис даже вылезла кошка. Закончилось же все полным кошмаром — публика принялась свистеть и скандировать: «ПА-И-ЗИ-ЕЛ-ЛО, ПА-И-ЗИ-ЕЛ-ЛО». И вот это была новость совсем плохая. Джованни Паизиелло считался в ту пору крупным итальянским композитором, и он уже положил на музыку ту самую пьесу, россиниевский вариант которой теперь освистывали зрители. Начало для оперы далеко не лучшее.
Но затем произошло — догадайтесь что.
Нет, вы попробуйте, догадайтесь!
Ладно, повезет в следующий раз. На самом-то деле все было иначе. Произошло вот что: уже при втором представлении публика эту оперу полюбила. Вот именно. ПОЛЮБИЛА. Ей-богу. Не знаю почему, но полюбила. Переменила отношение к ней на прямо противоположное, аплодировала и никак остановиться не могла. И с тех пор она остается наипопулярнейшей из итальянских опер. Помимо пользующейся заслуженной славой увертюры, она содержит прекрасное «Una voce росо fa»[*], что в переводе означает «Одна водка — уже многовато», и пробный камень для всякого тенора — «Largo al factotum»[*], или «Большой Эл излагает факты». ☺ Последняя ария, кстати сказать, всякий раз словно переносит меня в дни моего детства. Нет, не в оперный театр, не к моему отцу, стоящему с трубкой в руке у граммофона, не к оказавшему на меня большое влияние очень сведущему школьному учителю музыки. Нет, она переносит меня в те не частые дни, когда я допоздна не ложился спать, а по школьному телевизору крутили рекламу «фиата», сопровождавшуюся музыкой Россини, — помните тот ролик? — полный цех роботов, которые и делают всю работу. Я никогда его не забуду. Никогда.
А теперь я, с вашего дозволения, попробую сравнить «Севильского цирюльника» с последним из краеугольных камней оперы, а именно с глюковской «Орфей и Эвридика». Что мы могли бы отметить, поставив эти оперы бок о бок? Ну, очевидно, мы отметили бы адскую мешанину звуков — одни певцы и музыканты поют и играют одно, другие совсем другое, и это порождает разлад, гармоническую фальшь и общую какофонию. Однако во всех прочих отношениях эти оперы разделены расстоянием во много световых лет. Использовать все эти музыкальные эффекты — ну, знаете, музыкальные описания, звукоподражание, если угодно, — начал Глюк, но только у него они были совершенно ручными. Затем появился Моцарт с его «фантастической четверкой» — «Женитьбой Фигаро», «Так поступают все женщины», «Дон Жуаном» и «Волшебной флейтой». То был звездный час «классической» оперы — конечная точка пути. Опер более классических быть уже не могло. И вот приходит Россини с его пристрастием к котлетам[♫]…
Хорошо, припомните-ка — Россини творил всего лишь через двадцать лет после Моцарта, однако отобразить «жизнь» ему уже хотелось куда сильнее, чем кому-либо до него. Его знаменитые слова: «Дайте мне список белья из прачечной, и я положу его на музыку!» — это чистой воды правда. Ему не нужен был благовоспитанный, формальный мир периода классицизма — ему нужна была публика, орущая в оперном театре от восторга. И он своего добился. Добился с помощью таких приемов, как его фирменная «Ракета Россини». Это когда короткие музыкальные фразы повторяются и повторяются, все громче и все быстрее, пока не взорвутся, — все немного смахивает на то, что мы видим во время рысистых бегов. Одна такая «ракета» присутствует в увертюре к «Севильскому цирюльнику», а самая, наверное, известная — в увертюре к «Вильгельму Теллю» — той, что звучит под конец каждой серии «Одинокого Рейнджера»[*]. Если бы вам пришлось писать сочинение на тему «„Севильский цирюльник“ Россини и „Орфей и Эвридика“ Опока — что между ними общего? Обсудить» и вас попросили бы уложиться в «не более чем 6 слов», — хорошо-хорошо, тут у меня перебор, но вы послушайте дальше, — так вот, если бы вы вдруг получили такое задание, уверен, вам не поставили бы низкой оценки, напиши вы следующее: «Они попросту слеплены из разного теста!»
А что же последний год нашего маленького нонета, назовем его 1817-м? Что дает нам он?
Ладно, чтобы попробовать ответить на ваш вопрос, разрешите мне начать с двух Америк. Джеймс Монро только что стал пятым президентом молодой страны — США, а немного дальше, на юге, Симон Боливар учредил не лишенное приятности новое государство, Венесуэлу, и деловито созывает под свое начало всех желающих. У нас на родине скончалась Джейн Остин, что, однако, никак не сказалось на ее способности выпускать в свет новые книги — годом позже, уже посмертно, одновременно издаются «Нортенгерское аббатство» и «Доводы рассудка». Открылся мост Ватерлоо — мост, с которого, если хотите знать мое мнение, открывается лучший из существующих видов на Лондон, да если и не хотите, хуже он от этого не станет, даже несмотря на то, что прямо посреди этого вида невесть откуда вылезло стальное чертово колесо великанских размеров. В Эдинбурге появилось очередное добавление к быстро разрастающемуся списку новых газет, а именно «Скотсмен», с девизом «Ой-ё-ёй, ну и новости!»[♫]

А что происходит в 1817-м с музыкой, кто в игре, кто вне игры? Кто нынче Майкл Стайпс, а кто — Майкл Болл?[*] Ну-с, как вы могли бы догадаться, у нас теперь явно настал романтический период — по каковой причине этот абзац и набран столь затейливым шрифтом. Если совсем честно, раннеромантический, но тем не менее романтический. Чтобы понять это, достаточно услышать большую сенсацию прошлого года, «Севильского цирюльника». Да каждая нота его отзывает ранним романтизмом. Или, если вам так будет понятнее, не отзывает классицизмом. Это Бетховен разломал классические лекала, после чего всем тут же потребовался новый мир, и мир этот был «романтическим». А еще одной путеводной звездой романтического мира стал человек, которого мы впервые заметили тридцатью примерно страницами раньше, когда он, одиннадцатилетним мальчиком, разъезжал со скрипочкой по Европе. Человек, заключивший союз с дьяволом, Никколо Паганини.Вообще-то мне сейчас придется снова сказать нечто вопиюще и пугающе очевидное — то, что специалисты по маркетингу именуют, сколько я знаю, «самоходом», — а именно: в любой заданный момент времени в любом виде искусства присутствуют три хорошо различимые группы людей — люди прошлого, настоящего и будущего. Я хочу сказать, всегда есть те, чья работа увязла в прошлом, те, кто руководствуется модой нынешнего дня, и те, кто всегда смотрит в будущее — кто поднимает целину. Вот как сейчас — в 1817-м. Люди, которым нравится прошлое, все еще пишут музыку, как ее писали прежде; люди, предпочитающие настоящее, целиком принимают музыку, какой она предстает сейчас; ну и разумеется, люди, благоволящие будущему, — преисполненные значения, неуемные души, способные сочинять только музыку, которая раздвигает старые границы, — суматошно хлопочут, неспособные усидеть на одном месте. Если вдуматься, эти три типа людей присутствуют, в любой момент времени, во всех сферах жизни, не только в музыке, повсюду — в изобразительном искусстве, в литературе, в группе проектировщиков роторно-поршневого двигателя Ванкеля, где угодно. Однако со временем верх берет одна из этих групп, а влияние двух других ослабевает… так происходит изменение формы. То же самое и в музыке. Музыкальные «футуристы» берут верх, и музыка делает, так сказать, шаг вперед. В настоящее время мы видим последние крошечные остатки классицизма, а на передний план явно выходит романтизм. Паганини и Россини проводят кампанию «Романтизм в президенты», и, надо сказать, на предварительных выборах они, судя по подсчету музыкальных голосов, уже победили. В нынешнем году, в 1817-м, Паганини выступил с основополагающим и очень сложным Скрипичным концертом № 1, а Россини показал публике «La Gazza Ladra». Скрипичный концерт типичен для музыки, с которой Паганини будет в дальнейшем разъезжать по свету, музыки, гарантирующей аншлаги, — сплошные «флажолеты двойными нотами»[♫], «гармоники»[♫], вообще создание у публики впечатления, будто скрипач, изгибаясь, шарит вокруг себя глазами в поисках потерянной партитуры. Ну а что касается «La Gazza Ladra», то многие считают, будто лучший час этой оперы наступил в конце 1980-х, когда один из членов Верховного суда спутал ее с английским в ту пору футболистом Полом «Газза» Гаскойном, в который раз внушив немалому числу людей мысль, что члены Верховного суда несколько оторвались от жизни. Особую, страшноватую прелесть сообщило случившемуся то, что Газза — футболист — играл тогда за команду, прозванную «Сороками»[*], a «La Gazza Ladra» означает «Сорока-воровка». Неплохая тема, которую можно использовать, когда вдруг прервется разговор. Или когда выключат электричество.
ПОСЛЕ ДЕВЯТИ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ
Отличный заголовок, вам не кажется? — «после девяти предыдущих лет». Я сначала подумывал поставить «Когда истекли…», но затем остановился на более простом «После…». Это позволит, если мне вдруг явится такая необходимость, использовать, возвратившись назад, «Перед девятью прошедшими…». Я, правда, не вижу, откуда она может явиться, но все-таки. Честно говоря, причина, по которой я так распространяюсь о заголовке, состоит в том, что, по сути дела, для того, с чем нам предстоит иметь дело, определить точный исторический период невозможно. Да, он все еще остается «раннеромантическим», но отнюдь не вполне оперившимся «романтическим», что и не позволяет присвоить ему имя собственное «пред-ультра-романтический период» или, может быть, «после-пред-романтический». Последнее, кстати, звучит получше. И все-таки собственного имени этот период не заслужил. Я же никогда не паду столь низко, чтобы попытаться соорудить для прискорбного девятилетнего застоя некое нарочитое название — лишь ради того, чтобы меня потом цитировали в напыщенных трудах по истории музыки. О нет. Увольте. После-пред-романтический период, как вы могли бы его назвать, представляет собой промежуток времени, отнюдь не лишенный интереса. Краткая сводка исторических фактов: 1819-й был годом, в который британская Ост-Индская компания получила в аренду остров Сингапур и построила на нем маленькое и изящное, однако на удивление поместительное поселение. Пошли дальше — союзники, а именно Австрия, Британия, Пруссия и Россия, покинули Францию. На другом континенте какому-то бедолаге пришлось прошагать всю Америку с одной из тех красящих машинок, какими наносят на шоссейки разделительные белые линии, — таким образом была установлена новая граница с Канадой, шедшая вдоль 49-й параллели. И кстати о США, 1819-й оказался, похоже, удачным для приобретения недвижимости годом. На рынке только что появилось одно такое местечко, именуемое Флоридой, — Испания выставила его на продажу, а Америка получила право первого осмотра. В дневниках президента Джеймса Монро имеется запись, относящаяся, как считается, как раз к этому осмотру.
1819. Познакомился с милейшими людьми, испанцами, и отправился с ними на осмотр Флориды. Она восхитительна. Мы с миссис Монро влюбились в нее, едва успев пересечь границу. Природные ее особенности — береговая линия в 2276 миль, 663 мили пляжей — очень хороши для летнего отдыха. Наличествует также холодная проточная вода — река Сент-Джонс и проч., что очень хорошо, поскольку миссис Монро предпочитает спать поближе к месту вдумчивого уединения. Да еще и 7700 озер. Отличная рыбалка. Что касается хозяйственных надобностей, здесь имеется 4500 островов. Испанцы уверяют, что до сей поры у Флориды был только один владелец, — если не считать святого Августина. Правда, в ней всего 67 округов, а мы подыскивали место, где их было бы 70. Но опять-таки, Джорджия и Алабама ее прозевали. В общем, купили. Отличная рыбалка того заслуживает!1819-й стал также годом моды на поэта Джона Китса. После того как он опубликовал в прошлом году поэму «Эндимион», а годом раньше сборник «Стихотворения», все просто сходят по нему с ума. В 1819-м он создает не только «Канун Святой Агнессы» и «Гипериона», но также и оды — «Оду соловью», «Оду греческой вазе» и великолепную «Оду осени». Задержимся в Англии: Тёрнер по-прежнему пишет как нанятой и в этом году выставляет «Паломничество Чайльд Гарольда» — а почему бы и нет? — да и Мери Шелли с ее «Франкенштейном» все еще считается в кофейнях свежей новостью. Во Франции власти, которые être, провозгласили свободу печати — это, по моим представлениям, что-то вроде «почетного гражданства», при котором вы получаете право прогонять ваших баранов через редакцию любой газеты. Наука идет вперед семимильными шагами, хоть, правда, Джеймс Уатт как раз в этом году и скончался. Но с другой стороны, один датчанин, Ганс Х. Эрстед, вот прямо сию минуту открыл электромагнетизм, а некто, носящий пышное имя Иеремия Шубб, только что изобрел замок нового типа — «детекторный», или замок Шубба. Ну и как вам это нравится? В следующий раз они попытаются уверить вас, будто некий Макинтош только что изобрел макинтош. Кстати, о музыкальном фронте, этот год был очень хорош для Шуберта. Да, он уже здесь. Собственно, ему даже исполнился двадцать один год. Франц Шуберт родился в местечке Лихтенталь близ Вены в 1797 году. Отец его был учителем, мать — стряпухой. Можно было подумать, что он, подобно многим иным, пойдет «по педагогической линии», однако в этом ему помешало одно качество — врожденный музыкальный дар. Из Шуберта этот дар просто-напросто пер! Едва успев вырасти из коротких штанишек, Шуберт уже вовсю наяривал мелодии на пианино, органе и скрипке. И на альте тоже, однако не будем ставить это ему в вину. Мальчика записали в хор императорской Придворной капеллы, где одним из его наставников стал композитор Сальери, который, предположительно, сказал ему, что он гений, способный на все! Здесь же Шуберт начал и сочинять — первая песня написана им в шестнадцать, — однако, покинув хор, он занялся карьерой, которую избрал для него отец, — карьерой учителя. Судя по всему, учитель из него получился никудышный, решительно неспособный поддерживать дисциплину и лишенный уверенности в себе. Да и душа его не лежала к этому делу. По ночам, выставив оценки на грифельных досках учеников, он сочинял музыку и в девятнадцать лет практически ушел в это занятие с головой. На свое счастье, Шуберт свел знакомство с полезными людьми — поэтами, певцами. Очень удобно, ей-богу, — Шуберт перелагал слова поэтов на музыку, а затем призывал певцов, чтобы они с ним попели. К тому же и сочинял он гладко и быстро — муза была благосклонна к нему и все такое, — вот только на фронте общественного признания ему не очень везло. Да, он писал песни и прочие пьески, писал до остервенения, однако на публике они практически не исполнялись. А издавалось их и того меньше. Собственно говоря, ни одной. Конечно, его это угнетало, но, впрочем, не мешало все творить, творить, и вот как раз в этом году Шуберт сотворил форель. Значительное достижение, — полагаю, тут вы со мной согласитесь. Правда, форель эта была не чем иным, как фортепианным квинтетом в пяти частях, предпоследняя из которых представляла собой вариации на тему одного из его сочинений, «Die Forelle» — «Форель», — написанного пару лет назад. Очень приятная пьеска, и хотя значение ее несравнимо с ее же популярностью, это не мешает ей оставаться очень приятной. Говорят, он написал эту пустяковину в отпуске, что, безусловно, объясняет общую ее легкомысленность — в сравнении с трагичностью большей части сочинений Шуберта. Кстати, реплика в сторону — вернее, две, — далеко не всем известно, что друзья прозвали Шуберта «грибком». Дело в том, что Шуберт был и не слишком высок, и не слишком тонок, — вот эта его приземистая коренастость и породила столь любовное прозвище. Намного лучше известно то обстоятельство, что Шуберт был большой педант, в особенности в том, что касалось творчества. Говорят, он сочинял каждое утро — дождик там за окном или солнышко. Затем, после дневного завтрака, Шуберт встречался с друзьями и отправлялся с ними на прогулку или в кофейню, а большинство вечеров опять-таки посвящал музыкальному творчеству, или «шубертиадам», как их называли. Начиналась шубертиада, как правило, с того, что наш Франц произносил: «Ладно, все ко мне!» — после чего он и друзья-музыканты, каких ему удавалось зазвать, весело проводили время — за фортепиано. Если добавить к этому, что друзья Шуберта принадлежали к богемным артистическим кругам Вены, вы, полагаю, сможете представить себе, какие это были увлекательные вечера. Ходили слухи, что одного из гостей Шуберта однажды даже вырвало, малиной. Бурное было времечко.
8-Я СИМФОНИЯ ШУБЕРТА
Педантичности своей Шуберт не изменял всю жизнь, и особенно в том, что относилось до сочинительства. Помимо правила насчет того, когда надлежит писать музыку, у него имелось и правило насчет того, как ее следует писать. И это важное правило гласило: ни в коем случае не приступать к новому сочинению, не покончив с тем, которое его предваряет. Вот принцип, от которого Шуберт не отступался никогда. Даже производя музыку галлонами — а Шуберт это умел, — он набожно заканчивал одну вещь, прежде чем взяться за другую. Возьмите хоть 1815-й. За один только этот год он написал 140 потрясающих песен, порой сочиняя до восьми штук за день! Но даже тогда, задумав написать их столь много, он все-таки… заканчивал одну и только потом брался за вторую. Вы поняли, о чем я? Я не показался вам чрезмерно дотошным и мелочным? Тут дело вот какое — я не могу понять одного. Как же это он ухитрился оставить неоконченной свою Симфонию № 8? А? Ответьте мне! Она была написана в 1822-м, когда у Шуберта еще имелось в запасе шесть лет жизни. Ладно, хорошо, не велик век, ничего подобного, и все-таки, при Шубертовой производительности, времени для того, чтобы закончить симфонию, более чем хватало. Ну и как же насчет его правила? Почему симфония осталась неполной, виноват, НЕОКОНЧЕННОЙ? Хорошенькое дело! Если Шуберт был этаким магистром из магистров классической музыки, почему же он оставил нам только две части Симфонии № 8 вместо четырех? Я думаю, этот вопрос заслуживает более подробного рассмотрения, однако, прежде чем к нему приступать, нам следует определиться на, так сказать, местности. 1822-й: Бразилия обретает независимость, вследствие чего футбол обзаводится самыми что ни на есть наилучшими своими игроками. Королева Каролина[*] уже восседает на высоком небесном троне, скорее всего стараясь держаться по возможности дальше от Наполеона, тоже недавно отправившегося примерно в те же места. И в Испании, и в Пьемонте состоялись революции — что ж, без них тоже не обойтись, не правда ли? — а на следующий год и Центральная Америка приступает к генеральной уборке. Мексика занимается ею самостоятельно, а вот Гватемала, Сан-Сальвадор, Никарагуа, Гондурас и Коста-Рика образуют, по-дружески взявшись за руки, Конфедерацию Центральной Америки. Что же касается Конфедерации централизованного Пижонства — или, как его иногда называют, Искусства, — но тут Перси Шелли уже посвящает Мери свои последние опусы. Возможно, правильнее было бы назвать их Н2Опусами. Канова, это тот, который «Три грации», тоже почил, как и, если взять ноту более научную, сэр УильямГершель[*]. Перейдем от смертей к рождениям — в 1822 году на свет появляется «Санди таймс». Ну, а если перейти отсюда, не без некоторой натяжки, к супружеским союзам, можно упомянуть технический шедевр Стефенсона[*], соединивший Стоктон с Дарлингтоном. Вот так обстоят дела в широком мире, но как же обстоят они в сознании Франца Шуберта, с такой неукоснительностью — кто-то, возможно, сказал бы «занудностью» — державшегося правила не приступать к новой работе, не покончив со старой? Ну-с, как легко вообразить, теорий относительно причин, по которым его симфония получила всего две части и, следовательно, осталась самым прославленным в истории «неоконченным» произведением, существует немало. Одни говорят, что Шуберта покинуло вдохновение. Другие — что он ее, вообще-то, закончил, но отдал две части на подержание другу, а тот их потерял. А третьи уверяют: нет, в этом случае он просто нарушил принятое им правило и занялся чем-то другим. Ну, не знаю. Не думаю, если честно, что могу с чем-нибудь из этого согласиться. Лично я считаю, что все намного проще. И никакой тут особой загадки нет. Я полагаю, что Шуберт просто-напросто был первым НАСТОЯЩИМ романтиком. Чистой воды стопроцентным лохматым очкастым РОМАНТИКОМ. И я считаю, что он, сочинив две части, подумал так: «Ух ты, это ж фантастика. А знаешь что? Шла бы она куда подальше. Лучше-то все едино не станет. Откуда, собственно, следует, что я обязан написать четыре части? Я — романтик, и этим горжусь. Все, нет больше никаких правил! Ставки сделаны». Всего год спустя, в 1823-м, обнародовал свое новейшее творение и Бетховен — то была грандиозная пятичастная месса. Подобно созданному примерно сто лет спустя произведению Дилиуса, «Торжественная месса» Бетховена — это не столько гимн Богу, сколько личное прославление всего, что есть в мире естественного и творческого. Если традиционная месса восхваляет Бога, «Торжественная месса» Бетховена восхваляет человека. Для него это был труд, вдохновленный любовью и занявший пять примерно лет — так много, что успело миновать и событие, для которого месса писалась. Но, по крайней мере в этом случае, Бетховен не остался, как Шуберт, с неоконченным сочинением на руках.
И ЛУЧШУЮ ВАШУ БУТЫЛКУ УРОЖАЯ 1825 ГОДА
1825-й — я отнюдь не случайно выбрал этот небольшой, но обладающий прекрасными формами год. Если бы разговор шел о вине, вам пришлось бы подыскать фразу несколько более выспреннюю, чем «это очень хороший год» старика Синатры. 1825-й был годом превосходного урожая. «Классического», как выражаются виноделы, и даже более того. Если позволите, я сфокусирую на нем нашу оптику. Во Франции он проходит под девизом «что ни делается, все к лучшему» — принят новый закон, возмещающий аристократии то, что она потеряла во время Революции. Джон Нэш — да-да, тот самый Джон Нэш — соорудил в самом конце Мэлл симпатичный такой домишко, а именно Букингемский дворец. Пушкин продолжает сочинять начатого пару лет назад «Евгения Онегина», написав заодно уж и первоклассного «Бориса Годунова», ставшего в последующие годы основой одной из национальных опер. Наконец-то опубликованы дневники Сэмюэля Пипса — спустя 122 года после того, как они были написаны. Вот что я называю упорством в достижении цели. Впрочем, все это бледнеет и становится незначащим, когда понимаешь вдруг, что именно в 1825-м Бетховен приехал в Англию. Годом раньше он получил заказ от Королевского филармонического общества. Бетховену заказали симфонию, что в совершенстве отвечало его собственным планам. Наброски новой симфонии он делал начиная еще с 1815 года, и заказ подтолкнул его к тому, чтобы вплотную заняться последней ее частью. Бетховен пересмотрел текст, о котором подумывал вот уже лет тридцать. Текст вышел из-под пера Иоганна Шиллера и назывался «Аn die Freude», что чаще всего переводится как «Ода к радости». Сейчас странно думать, что определяющая особенность одной из знаменитейших в истории симфоний, ее последняя хоровая часть, была добавлена лишь под самый конец работы. Впрочем, для КФО она подходила в совершенстве: вы хотели симфонию — Бетховен даст вам симфонию. Оглохший теперь уже полностью и все же каким-то образом сохранивший способность слышать музыку лучше кого бы то ни было из живших в то время на нашей планете людей, он начал кромсать и сокращать текст Шиллера. В конечном счете Бетховен использовал лишь треть написанного поэтом, да и ту пришлось, чтобы она вместилась в симфонию, полностью перелопатить. Тем не менее полученный Бетховеном результат стал звездным часом симфонии — произведением, которым и ныне наслаждаются меломаны всего мира, причем так, как композитору насладиться не довелось. Рассказывают, что первое ее исполнение, которым дирижировал сам Бетховен, оказалось более чем неровным, что оркестр и хор вели свои партии вразнобой. Однако им все же удалось добраться до конца, и Бетховен, физически измотанный стараниями не дать своему новому детищу развалиться, опустил дирижерскую палочку. В этот миг Бетховен еще не знал, как все прошло. Не забывайте, он уже был совершенно глух. Выглядел он как человек очень усталый и немного разочарованный. Так что пришлось молодой альтистке из хора — Каролина, так ее звали, — помочь Бетховену уяснить, как приняла его произведение публика. Девушка просто-напросто подошла к Бетховену и развернула его на 180 градусов. Только тогда он и понял — окончательно, — какой фурор произвела его новая симфония. Весь зал стоял на ногах, все хлопали так, точно назавтра был назначен конец света. Тут многие в зале сообразили, что Бетховен никаких аплодисментов не слышит, и это заставило их лупить в ладоши и вопить еще громче. Людвигу показалось, что овация эта растянулась на целые годы. Теперь он понял — его симфония получила признание. И если вы добавите ко всему этому факт, что как раз в то время по школе Регби бегал с мячом в руках Уильям Уэбб Эллис, вам станет понятно, каким чертовски удачным выдался 1825 год.
ТО БЫЛО ТОГДА, И ЭТО ТОЖЕ ТОГДА
«Тогда» — это год 1826-й. Ладно, и кто же считается в 1826-м безумным, плохим и опасным[*]? Ну, например, Джеймс Фенимор Купер. Он только что написал книгу, посвященную первым вышедшим из коренных американцев сапожникам, и назвал ее «Последний из мокасин» — этот последний и сейчас еще выставлен в Музее обуви (Марсель, улица Имельды Маркос[*], д. 27) ☺. Где-то в другом месте Андре Ампер опубликовал статью «Электродинамика», посвященную, ну, как бы это сказать… в основном динамике и тому, какая она электрическая. Да, вроде бы так. По-моему, суть его статьи я изложил. В том же году умер Томас Джефферсон, а Россия объявила войну Персии. Персии, это ж надо! Как у них там воображение-то разыгралось. Au sujet de la musique[*], мы, в соответствии с правилом «здесь прибавилось, там убавилось», только что получили Иоганна «Короля вальсов» Штрауса и потеряли Антонио «Слушай, я ж тебе говорил, я его пальцем не тронул» Сальери. Вообще-то, раз уж мы вспомнили про Сальери, можно я возьму небольшой перерыв? Перерыв на Сальери. Тут дело вот какое, как-то мне этого Сальери жалко немного, что ли. Давайте я попробую выступить в защиту музыканта, который теперь уже навсегда получил клеветнический ярлык «человек-который-насколько-мы-знаем-Моцарта-скорее-всего-не-травил-однако-будем-считать-что-он-это-сделал». То есть принцип принят такой: зачем позволять фактам путаться под ногами у красивой истории? Так вот, Сальери родился в Леньяго, сейчас до него рукой подать от Вероны, по 434-му шоссе, но тогда оно, вне всяких сомнений, было прелестной уединенной деревенькой, стоявшей на берегу реки Адидже, — прекрасное место для того, чтобы выпестовать музыкальный талант. В пятнадцать лет Сальери осиротел, и его более-менее усыновила обеспеченная семья Моцениго. Он перебрался в Вену, где все у него сложилось совсем неплохо — уже в двадцать четыре года Сальери стал придворным композитором. Его высоко ценили как композитора оперного — именно одной из его опер в Милане открылся в 1776-м новый театр «Ла Скала», — а со временем он стал и капельмейстером Венского двора. Ладно, хорошо, может, ему и трудно было ужиться с Моцартом, так ведь и Моцарт бывал временами… как бы это сказать… несколько инфантильным. Чтобы убедиться в этом, достаточно один раз заглянуть в его письма — упоминаний о заднице в них больше, чем у маркиза де Сада и Баркова, вместе взятых. Но Сальери почти наверняка его не травил. Да, он пару раз отпускал в адрес Моцарта колкости, однако был и одним из немногих людей того времени, способных в полной мере оценить гениальность коллеги, и, наверное, она Сальери немного пугала. В общем, я что хотел сказать… короче, знаете что, ну его, этого Сальери. Не будем с ним связываться, идет? Вот и хорошо. Ладно. Перерыв окончен. То был также год, когда в Лондон приехал довольно болезненный молодой человек по имени Карл Мария фон Вебер, — приехал, чтобы присмотреть за постановкой своей новой оперы «Оберон». Вебер стоял во главе дрезденского Немецкого оперного театра и даже в лучшие свои времена особым здоровьем не отличался. На самом деле, домой ему, хоть он того и не знал, вернуться было не суждено. «Оберон» имел у публики «Ковент-Гардена» огромный успех, однако Вебер через пару месяцев умер, а его преемником в Дрездене стал человек, имени коего еще предстояло составить весьма значительную веху. Рихард Вагнер! Пометьте это место закладкой[♫]. Вообще в 1826-м случилось много чего интересного. Вели вернуться в Германию, то там почти наверняка очень приятно коротал время шестнадцатилетний Феликс Мендельсон — человек с очень, если правду сказать, подходящим для него именем[♫]. Мендельсон происходил из семьи процветающей. Дед его, Моисей Мендельсон, был философом, и весьма почитаемым, Платоном своего времени, а отец, Шейлок Мендельсон, владел собственным банком, так что в детстве Феликс и его кузина Банко-Матильда Мендельсон вели невинные игры не в доктора и сиделку, а в бухгалтера и кассиршу. ☺ Тем не менее молодому композитору приходилось сносить множество оскорблений — просто потому, что он был евреем. И такое множество, что когда отец его сообразил, сколь великое будущее ожидает сына, то немедля перешел в протестантство, добавив к своей фамилии «Бартольди», — хитроумный и тонкий маневр по части брендирования, который сделал бы честь и компании «Сникерс». Феликс был классическим «маленьким гением» — в девять он уже выступал как пианист, в десять был принят в берлинскую Певческую академию, а ровно в двенадцать всегда приходил домой обедать. Еще не выйдя из подросткового возраста, он уже успел накатать две оперы, несколько симфоний и струнный квартет в придачу, а также научился сооружать, разбирать и снова сооружать из деталей «Лего» довольно сложного динозавра. В шестнадцать он не только обзавелся первыми прыщами, но и произвел на свет сочинение попросту поразительное, — говорили, что подобной зрелости не выказывал в этом возрасте и сам Моцарт. Что за сочинение? Увертюра к пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь». И действительно, для шестнадцатилетнего юноши вещь замечательная — роскошное оркестровое письмо, легкость руки и зрелость, с возрастом создавшего ее композитора просто несоизмеримая. Однако, написав увертюру, Мендельсон на этом и остановился. Она оставалась не исполняемой и по преимуществу неизвестной лет шестнадцать-семнадцать. За это время Мендельсон обратился в признанного, превозносимого композитора, капельмейстера короля Пруссии, главу прославленной Лейпцигской музыкальной академии. Именно тогда король Пруссии, пылкий его поклонник и почитатель, уговорил Мендельсона приглядеться еще разок к его юношеской увертюре, может быть, добавить к ней несколько частей, чтобы получилась сразу и сюита, и музычка для пьесы. Феликс послушался, подсочинил кое-что, в общем, довел дело до ума. В число дополнительных пьесок входило милое маленькое скерцо и ныне прославленный/обесславленный «Свадебный марш», который вместе с еще не написанным тогда «Свадебным маршем» Вагнера звучит с тех пор в начале и конце практически каждой свадебной церемонии. Вернее сказать, звучал до конца 1960-х — в ту пору начались продолжающиеся и поныне рискованные эксперименты с музыкальным сопровождением этих церемоний. В результате сейчас новобрачная может величаво шествовать по центральному проходу церкви, сжимая побелевшими пальчиками руку своего разоренного отца, между тем как по всему нефу эхом отдается «Все, что я делаю, я делаю для тебя» Брайана Адамса в опрометчивом переложении для детской музыкальной доски. Впрочем, до этого пока не дошло. Можете надо мной смеяться, по у нас все еще год 1829-й. Год у нас 1829-й, а дела обстоят следующим образом. Со времени, когда Мендельсон выдал на-гора увертюру к «Сну в летнюю ночь», мир несколько переменился. Что, вообще говоря, и не удивительно. Мы лишились Уильяма Блейка и Гойи, да, собственно, и лампа Хамфри Дэви[*] тоже загасла. На мировой арене Россия, Франция и Великобритания вознамерились объединенными силами намылить, так сказать, шею Турции. В самом деле, они буквальнейшим образом направили Турции ноту, ей-ей. Честное слово! Это такая же чистая правда, как то, что я люблю иногда облачаться в шальвары и архалук. Они направили Турции ноту. Турция вознамерилась повоевать с Грецией, ну и вот, три величайшие мировые супердержавы того времени собрались с силами и НАПРАВИЛИ ЕЙ НОТУ!
Ты, это, Турция, ты, знаешь, давай, того, отвали, старушка. Вот так.Что-то в этом роде. Нужно ли говорить, что турецкий султан выстлал этой нотой дно своего мусорного ведра и продолжал гнуть свое, как будто ее и не было. Тем временем Россия одолела в небольшой потасовке Персию и получила в виде трофея Эривань — или Армению. В Британии герцог Веллингтон стал премьер-министром — парнишка делал хорошую карьеру, — а Лондон получил новехонькую полицию. Кроме того, за последние три года вышло несколько недурных книжек. Дюма написал «Трех мушкетеров», Теннисон — свой знаменитый роман с продолжением «Тимбукту» (новые приключения Тима), который печатал «Спектейтор». Ну а если оставить в стороне мир литературы, так в Лондоне впервые начала выходить «Ивнинг стандард». Вообще это было отличное времечко для всякого рода «первенцев» — для первых серных спичек Джона Уолкера; для первой оксбриджской гребной регаты Хенли; для первого словаря Уэбстера и для первого настоящего поезда — Джордж Стефенсон с его новым паровозом «Ракета» получает на соревнованиях в Райнхилле премию в 500 фунтов. А совсем в других местах еще один Джордж — правда, он почему-то называл себя Георгом, — на этот раз Джордж Ом, формулирует «закон Ома», который, э-э, который постанавливает, что, э-э, ну, в общем, там все больше про сопротивление. Про правило левой руки. Или его Флеминг выдумал? Короче, все больше про сопротивление. Да. И по-моему, там еще говорится, что оно бесполезно. Примерно так. Отлично.
ЗДРАВСТВУЙ, РОССИНИ… И ПРОЩАЙ
Теперь вернемся в Париж, — похоже, французская столица быстро обращается в центр музыкальной вселенной, если, конечно, у музыкальной вселенной вообще имеется центр. Строго говоря, эпицентром, вероятно, по-прежнему остается Вена, однако и во Франции, в частности в Париже, да и в Италии тоже отмечаются значительные подземные, так сказать, толчки. Лондон? Ну, Лондон — это по-прежнему город, в котором человек, составивший себе имя в мире классической музыки, может заработать приличные деньги, однако по значительности он к уже названным местам и близко не подходит. Россини перебрался в Париж всего пять лет назад. Он уже вкусил от наслаждений Вены и Лондона и нашел, что Париж ему un реu[*] больше по вкусу. Россини прожил здесь около шести лет, потом уехал, чтобы вернуться на закате жизни — с несколькими своими «лебедиными песнями». Однако первый парижский период Россини совпал с окончательным расцветом его творческих сил. У него имелись в запасе «La Cenerentola» («Золушка»), «La Gazza Ladra» («Сорока-воровка»), «II Barbieri di Siviglia» («Севильский цирюльник») и «Semiramide» («Полуамиды» ☺, равно как и изрядное число пирогов с самой разной начинкой. Ободренный своей всемирной славой, Россини решил пальнуть во французов парочкой опер, которые отвечали бы их нынешним вкусам, — опер, написанных специально для того, чтобы порадовать парижскую публику конца 1820-х. Первой стала «Le Comte Ori» («Внебрачный тори» ☺, прошедшая достаточно хорошо и очень вежливо принятая. Впрочем, второй его попытке суждено было совершенно затмить первую — на деле она стала чем-то вроде музыкальной заставки, всплывающей в памяти при каждом упоминании о Россини. Уже до неприличия богатый и понимающий, что пишет он лучшее из всего, когда-либо им сочиненного, Россини завершает вторую парижскую оперу — «Вильгельма Телля», свой главный шедевр. Даже увертюра ее оказалась едва ли не кульминацией всего, что он пытался проделать — до этого времени — во всех остальных увертюрах. Увертюра ему, прямо скажем, удалась. В ней все сошлось и все оказалось на месте. И до такой степени, что теперь она обратилась в увертюру, исполняемую отдельно от своей оперы чаще, быть может, чем какая-либо другая. Ну и разумеется, было время — а для некоторых людей, включая меня, оно так никуда и не делось, — когда увертюра эта неразрывно связалась с Одиноким Рейнджером, человеком в маске, соединенным странными, отдающими «Шоу Моркама и Уайза» отношениями с его закадычным другом Тонто. (Хотя, должен сказать, серии, в которой они лежат в одной постели и Тонто сочиняет новую пьесу, я что-то не припоминаю.) И это правильно — я имею в виду связь увертюры с Одиноким Рейнджером. Во всяком случае, я так думаю. Принято говорить, что отличительный признак культурного человека — это способность услышать увертюру к «Вильгельму Теллю» и не вспомнить о «Человеке в маске». Так вот, у меня лично никаких возражений против таких ассоциаций не имеется. Мне они просто-напросто говорят о том, что классическая музыка приобретает известность, что люди ее слушают, а если мы будем ограждать ее со всех сторон, так большинство эту музыку и не услышит никогда. Лучше, что ли, будет? Вот именно. То же самое можно сказать сейчас и о рекламе сигар «Гамлет». Многие знают баховскую Оркестровую сюиту № 3 только благодаря этой рекламе. Ну и что тут плохого? Если альтернатива состоит в том — а она почти всегда в этом состоять и будет, — что никто об Оркестровой сюите № 3 и знать ничего не узнает, так, по мне, крутите эту вашу рекламу хоть каждый день. Ну ладно. С этим мы, стало быть, разобрались. А теперь, кто-нибудь, помогите мне выбраться из демагогических дебрей. Увы, опера «Вильгельм Телль» пользуется известностью меньшей, чем ее почти совершенная увертюра. (И опять-таки, никуда от этого не денешься, верно? Вряд ли можно ожидать, что кто-то станет использовать целую оперу для рекламы «Туалетного утенка», ведь так?) Хотя, может быть, тут все как-то связано с рассказанной в ней историей, весьма огорчительной для всякого, кто считает необходимым питаться одними лишь фруктами, — речь там идет о скорбной участи одной такой «Зеленой бабуси», которую жестокий Телль убил, а тело ее расчленил напополам. Чем еще важна опера «Вильгельм Телль» — она знаменует собою момент, в который Россини просто-напросто взял и умолк. Прекратил писать музыку. Финито. Капут. Конец. Все расходятся по домам. Да, он просто-напросто перестал сочинять что бы то ни было. Если не считать пары превосходных вещиц, созданных в последние минуты его жизни, то есть тридцать четыре года спустя. Начиная с этого времени Россини посвятил себя тому, чтобы стать Найджеллой Лоусон[*] своего времени, — вот, правда, фигурка у него была малость похуже.
ПЕ-ПЕ-ПЕ-ПЕРЕМЕНЫ
Перефразируя великого Робби из Уильямса, позвольте вас повесеумить. Брр. Виноват. Простите за такое слово. «Повесеумить» — предположительно это такая помесь «повеселить» и «надоумить», — совсем недавно оно широко использовалось в одном довольно узком кругу, правда, теперь слову этому, по счастью, выпали тяжелые времена, как выражался мой учитель английского. И все же давайте попробуем, невзирая на мой бр-р-ризм, наверстать то, что мы успели уже упустить. Очень, знаете ли, трудно втиснуть целых 6000 лет в какие-то 543 страницы, — это получается около одиннадцати лет на одну-единственную. Попробуйте как-нибудь на досуге, сами увидите. И вот, взгляните, я только что потратил полных тринадцать строк на разглагольствования о том, что я-де намерен кое-что вам рассказать. Тринадцать строк! Да я за тринадцать строк мог бы продвинуться аж на четыре года. Вперед, я полагаю. Так что же у нас происходит? Кто, если заимствовать фразочку у «Монти Пайтон», композитирует, кто компаразитирует? Кто возглавляет стадо и кто тащится за ним, баран бараном? Ну и разумеется, вечный вопрос: кто виноват? Что ж, как и в любое другое историческое время, ключевое слово сейчас — «перемены». Все и всегда менялось и меняться будет. Однако в начале девятнадцатого столетия скорость перемен приближалась к ураганной. Да хоть железные дороги возьмите. Они теперь точно из-под земли лезут по всей стране. Примерно за двадцать лет протяженность железных дорог Соединенного Королевства выросла с пары сотен миль до более чем двух тысяч. Как проницательно отметил виконт Сэм из Кука, грядут перемены. Впрочем, лорд Тиаре из Фиарс выразился еще проще: перемены грядут. Итак, перед нами — я позволю себе процитировать графа Дэвида из Боуи — пе-пе-пе-перемены. Если бы вы, оказавшись где-нибудь в 1831-м, решились выставить голову из окопа, то вашим взорам предстало бы массированное наступление перемен. Вслед за всенепременной революцией, состоявшейся в прошлом году в Париже, в этом году произошло — в штате Вирджиния — большое восстание рабов во главе с Натом Тернером. Множество перемен относилось также к числу «общественных», как их стали теперь называть, — по всему миру создавались новые объединения людей: к примеру церковь «Святых последних дней», она же мормоны Джозефа Смита[*], едва успев учредиться в Фейете, штат Нью-Йорк, начала создавать зарубежные миссии, добравшись и до Европы. Примерно в это же время двадцатитрехлетний Чарлз Дарвин получил должность натуралиста на корабле его величества «Бигль», отплывавшем в Южную Америку, Новую Зеландию и Австралию. Эта миссия, как выяснилось впоследствии, оказалась весьма отличной от миссий Джозефа Смита и его приверженцев, отзвуки ее просто-напросто не желают утихать и поныне. Кроме того, повсюду производится множество опытов: Фарадей, к примеру, ставит опыты со светом и электромагнетизмом. В общем, сами видите, пришло время больших перемен. Остается только надеяться, что пришло оно в чистом нижнем белье. А что же музыка? Отозвались ли все эти res novae[*] в мире черных закорючек и летающих дирижерских палочек?
ДОЛГО ЛИ, КОРОТКО ЛИ — ПРАВДА, НЕ В ЭТОМ ПОРЯДКЕ
Так что? Отозвались эти перемены в мире музыки или не отозвались? Ну, если вам нужен ответ короткий, то да. Но разумеется, если вам требуется ответ развернутый, длинный, тогда извольте: Дааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа. В общем, я вам так скажу: позвольте мне углубиться в детали, ненадолго. Хотя сначала я хотел бы дать вам взглянуть на двух наших старых друзей. Первый из них — Мендельсон, а второй — тот странный загробный мир, что именуется оперой. Итак, Мендельсон. Если вы в силах вообразить историю классической музыки, написанную Роджером Харгривсом[*], тогда Гендель, к примеру, будет мистером Жадиной. Шёнберг может обратиться в мистера Шалтая-Болтая, а Вагнер, быть может, в мистера Босса. Да в кого угодно. Некоторые из этих прозвищ остаются открытыми для обсуждения. Кроме одного — Мендельсона. Мендельсон, и тут нет ни тени сомнения, станет мистером Счастливчиком. Музыка его редко требует от слушателя каких-то усилий, если требует вообще. Она почти всегда прекрасна, а если не прекрасна, то жива, а если не жива, то спокойна. Мир Феликса гармоничен — и не забывайте, даже имя его означает «счастливый». Никогда по-настоящему не нуждавшийся в деньгах, вполне удачливый в браке, признанный еще при жизни великим композитором — а такое случается далеко не со всеми, — он был, говоря общо, человеком, которому неизменно возвращают взятые у него для прочтения книги, человеком, к которому «тянутся». Так или иначе, причина, по коей я решил задержаться на Мендельсоне, связана с клочком бумаги, обнаруженным совсем недавно при подготовке выставки, именовавшейся «Нечто большее, чем просто кружок и палочка, — композиторы и их половинные ноты» в Бээденской академии овцеводов. Судя по всему, это отрывок стенограммы некоего собрания, на котором ФМ-Б присутствовал во второй половине 1832 года.
Председательствующий: На этой неделе общество Анонимных бахоголиков обрело нового члена, его зовут Феликс. Шумок в зале. Снова председательствующий: Здравствуй, Феликс. Ты не хотел бы нам что-нибудь рассказать? Шумок в зале нарастает, председательствующий призывает всех к порядку. Председательствующий: Феликс? Шумок стихает. Говорит Феликс. — Здравствуйте. Меня зовут… зовут Феликс. И я, ну, я люблю музыку Баха. Я бахоголик. ВОТ! Председательствующий: Прекрасно, Феликс. Ты сделал первый шаг!Да, Феликс Мендельсон-Бартольди того и гляди проделает то, чего никому не удавалось сделать лет вот уж сто, а именно: он в одиночку воскресит Баха. Это в наше время Бах считается само собой разумеющейся основой классической музыкальной диеты, однако так было далеко не всегда. После смерти Баха в 1750-м его наследие было более-менее забыто, и для того чтобы заставить людей посидеть, послушать его и понять, требовался человек, счастливо сочетающий в себе страсть и пробивную силу. Именно таким человеком и был ФМ-Б. Не забывайте, его уже при жизни признали «великим композитором». А кроме того, он возглавлял музыкальную академию — Берлинскую певческую. И вот, всего два года назад, академия осуществила под его руководством первое на памяти тогдашней публики исполнение «Страстей по Матфею». И этого — в сочетании с широкой пропагандой музыки великого человека — хватило, чтобы снова возжечь огонь любви к Баху, огонь, который не угас и по сей день. В самый разгар романа с Иоганном Себастьяном Мендельсон завел и второй роман, а именно роман с Британией. К 1831 году он уже успел совершить первый из длинной череды наездов в страну узелков на носовых платках[*], превозносившую его как мировую знаменитость. Он навестил Шотландию и заболел кельтской культурой, о чем свидетельствует не только «Шотландская симфония», но и одно из его «программных», как их называют, сочинений — это музыка, содержащая в себе некий не облеченный в слова рассказ или картину, каковые композитор пытается передать музыкальными средствами. Мы говорим об увертюре «Гебриды», или «Фингалова пещера», поводом для написания коей послужило посещение им этой самой пещеры в 1829 году. Шотландия явным образом поразила Мендельсона, в особенности — маленький остров Стаффа в Гебридах. Говорят, что первые такты прославленной ныне увертюры он написал за день до поездки на Стаффу, да и название «Фингалова пещера» дал уже сочиненной вещи не сразу. И действительно, несмотря на романтические уверения, что в ней-де можно услышать, «как, забегая в пещеру, плещут волны», она, вероятно, столь умилительной правильностью вовсе не отличается. Можно даже небезосновательно утверждать, что Мендельсон предпочел бы навсегда забыть о Стаффе. Действительно, один из тех, кто сопровождал его в путешествии по Шотландии, некий Карл Клингеман, сообщал, что «Мендельсон-композитор чувствует себя в море лучше, чем Мендельсон — обладатель желудка». Да и сам Мендельсон несколько дней спустя, уже оказавшись на успокоительной суше, написал: «Сколь многое довелось мне узнать между предыдущим моим письмом и этим! Ужаснейшее недомогание, Стаффу, виды, путешествия и людей…» Так что сами понимаете. Когда вы в следующий раз будете сидеть в концертном зале, ожидая, пока погаснет свет и оркестр заиграет увертюру «Гебриды», и расположившийся рядом с вами умник начнет разглагольствовать о музыкальном образе «волн, так ласково и так прекрасно набегающих в пещеру», скажите ему: «Вообще-то вы ошибаетесь. Я совершенно уверен, что Мендельсон хотел изобразить в этом сочинении самого себя, свесившего голову над дырой в гальюне и изрыгающего многокрасочную струю». Уверен, он вас полюбит. Впрочем, что бы там ни происходило на самом деле, Мендельсону удалось создать произведение, от которого просто-напросто несет Шотландией, — это музыка, одетая в килт, музыка, говорящая: «КЕЛЬТЫ», музыка, твердящая: «Не видать мне Кубка мира как своих ушей».
ОПЕРА III — ВОЗВРАЩЕНИЕ ЖИВОГО МЕРТВЕЦА
Да, разумеется, увидев этот заголовок, вы можете решить, что я заимел зуб на оперу, однако по далеко не так. Оно, конечно, верно, люди, которые не вылезают из оперы, принадлежат, в общем и целом, к странноватому, несколько параноидальному племени — все они либо сверхоживлены, либо болезненно стеснительны. Кое-кто уверяет, будто они, подобно органистам, образуют особую человеческую породу, однако я расположен относиться к ним со снисхождением. В конце концов, не которые из лучших моих друзей посещают оперу постоянно, и тем не менее, хоть кое-кто из них и подает, не стану этого отрицать, поводы для беспокойства, таких набирается даже не половина, а много, много меньше. Я готов признать, что в большинстве своем они улыбаются несколько чаще, чем следует, и к тому же то и дело оглядываются, но стоит ли ставить им это в вину? К тому же я и сам не нахожу временами ничего лучшего, как откинуться в кресле и позволить «Дон Жуану» омыть меня сверху донизу. Короче говоря, не надо считать меня врагом оперы. Я не из их числа. Ну хорошо, теперь у нас год 1831-й, и интерес публики к опере поддерживают человека три. Первый — это Россини, с которым мы уже встречались; второй — Доницетти, с которым мы вскоре встретимся; а третий — Беллини, с которым мы познакомимся прямо сию минуту. Беллини был классическим оперным композитором. Собственно говоря, можно сказать, что он был классическим композитором — и точка. Он создал несколько шедевров, а после умер молодым, оставив нам прекрасное, но мертвое тело. Опять-таки, в евангелии от Роджера Харгривса он был бы — кем? — мистером Трагедия? Возможно, мистером Чахотка. Нет, правда, какую можно было бы соорудить увлекательную книгу, ваша крестница оторваться бы от нее не могла: «О, смотрите, — слабо вскричал он, — да это маленькая мисс Чахотка, пришла покашлять с нами!» Пожалуй, не стану-ка я развивать эту тему. Так вот, Беллини вложил в оперу больше чувства, чем можно было бы выбить из оной, даже колотя ее палкой по спине. И то время как Россини и Доницетти способны были накатать за завтраком по парочке опер, у Беллини уходил год на то, чтобы создать всего одну, выдирая с мясом ноту за нотой из собственной души. Или еще из чего. Мало того, он надумал отказаться от пышных демонстраций вокальных возможностей, производимых исключительно ради них самих, отказаться в пользу большей глубины чувства. В результате арии из разряда «замри и пой», показывавшие, на что способен исполнитель, просто потому что он на это способен, отошли в прошлое. На смену им пришли олицетворения страсти, чувства и прочих небылиц подобного рода. Нередко доводившие публику до слез. Возьмите, к примеру, его сочинение 1831 года, «творение гения», по словам Рихарда «Вы обо мне еще услышите» Вагнера, «великая партитура, обращенная прямо к душе». Это опера под названием «Норма», действие ее происходит во Франции времен Рима (в Галлии), а ее заглавная партия и поныне считается одной из важнейших в карьере любого сопрано — и не в малой мере потому, что трудна она необычайно. Правда, еще и потому, что эта опера содержит одну из прекраснейших, если не самую прекрасную из КОГДА-ЛИБО СОЧИНЕННЫХ сопрановых арий — «Casta Diva», — божественную во всех отношениях, особенно в наилучшем, на мой вкус, ее исполнении, записанном Марией Каллас. Простите великодушно, мнение далеко не революционное, но, однако же, искреннее. Что касается фабулы, то она отвечает непременному оперному правилу, согласно которому фабулы должны быть: (а) практически непостижимыми для тех, кто не прочел программку, и (б) глупыми до невероятия. «Норма» удовлетворяет обоим требованиям. Если я верно все помню, в ней присутствуют друиды, римские солдаты, ручной заяц и статисты в тогах. Вообще-то насчет зайца вы лучше проверьте сами.
ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЛИТЕС?
1832-й: очень хороший год для Парижа. По крайности, в отношении музыкальном. Я уже говорил — надеюсь, вы обратили на это внимание: может, вам даже стоило это записать! — в общем, я уже говорил, что музыкальный центр вселенной, похоже, смещается к Парижу, по крайней мере «в черно-белых», если так можно выразиться, тонах. Последнее означает, что Париж неожиданно стал самым подходящим местом не только для оперы, но и для тех, кто принадлежит к новому племени «пианистов-композиторов». И боже ты мой, сколько же их поразвелось! Так много, что, вне всяких сомнений, выжить удастся только малой их горстке. А величайшим в этой горстке был, безусловно, Шопен. В 1832-м он оказался в Париже — примерно в одно время с совершенно съехавшим с ума Берлиозом. Однако, прежде чем мы займемся этим французом и этим поляком, краткое введение в контекст. MDCCCXXXII. Ах, что это были за дни. Дни, когда впервые начал использоваться термин «социализм» — и, как ни странно, в Англии и Франции одновременно, — а кроме того, в этом же году двадцатитрехлетний Уильям Гладстон положил начало своей выдающейся политической карьере и как парламентского представителя Ньюарка, и как удобного саквояжа с замочком[*]. Население Британии составляло поразительные 13,9 миллиона человек, тогда как население США составляло, постойте-ка… составляло поразительные 12,8 миллиона. С ума сойти. До конца этого года Иоганну Вольфгангу фон Гёте предстоит скончаться и отбыть на небеса, сэру Вальтеру Скотту — скончаться и отбыть в могилу, а преобразователю общества Иеремии Бентаму[*] — скончаться и обратиться в чучело. Констебл познакомил мир со своим представлением о «Виде на мост Ватерлоо с причала Уайтхолл», а Олкотты, Бронсон и Эбигейл, подарили миру свою маленькую женщину — Луизу Мэй[*]. Однако вернемся во Францию. Два очень разных композитора одновременно вдыхают здесь пьянящий воздух Парижа: Берлиоз и Шопен — две очень разные стороны одной римской монеты. А ну-ка, орел или решка? Шопен. Фредерик Шопен был в очень значительной мере романтиком «чувствительным», человеком, для которого слово «романтика» означало «чистота», «глубина и тонкость», а то и «сдержанность». Он родился во французско-польской семье, учился в Варшавской консерватории, а затем навсегда покинул родную Польшу, увезя с собой урну настоящей польской земли, с которой не расставался, как с напоминанием об отчизне. (В конце концов урну и погребли рядом с его телом.) Сейчас он уже совершенно освоился с «levez votre petit doigt»[*] парижского салонного общества. Общество приняло его как одного из своих, несмотря на отчасти сомнительный дебют. Шопена ввел в салон барона де Ротшильда граф Радзивилл, и после этого он уже просто не мог оказаться неправым хоть в чем-то, и каждая его нота обречена была на то, чтобы стать национальным достоянием. А полной его противоположностью, светом, так сказать, при этой тени — или наоборот, — был Бесноватый Гектор. Луи Гектор Берлиоз, если воспользоваться полным его именем, родился в деревне близ Гренобля, в сотне километров к юго-востоку от Лиона, в предгорьях Французских Альп. Отец его был врачом и не желал бы ничего лучшего, если б и сам Гектор принес клятву Гиппократа. В результате Берлиоза отправили в Париж, в Медицинскую школу, разрешив ему, однако, брать на стороне уроки музыки. Разумеется, проучившись три года, он махнул на медицину рукой, записался в Парижскую консерваторию и, с неистовством сорвавшегося с привязи пса, впился в музыку, какой она тогда была, всеми зубами сразу. Так вот, Гениального Гека нередко называют архиромантиком. Интересные шляпки. Это означает лишь, что он был и романтиком, и… умалишенным. Неторопливость, изнеженность, «этюдность» Шопена — это все не для него. Берлиоз работал огромными красочными мазками величиною с Борнмут. Создавая ГРАНДИОЗНЫЕ декларации, буквально вопившие: «ВЗГЛЯНИТЕ НА МЕНЯ, Я РОМАНТИК И ТЕМ ГОРЖУСЬ!» Да-да, я знаю, что вы думаете, — по-вашему, я малость перебираю насчет «бесноватости». Ладно, все может быть, однако позвольте мне перечислить события, приведшие ко второму исполнению — как раз в этом, 1832-м, году — его «Фантастической симфонии». Еще в 1827-м Берлиоз безумно влюбился в ирландскую актрису Гарриет Смитсон — увидел ее в «Гамлете», в роли Офелии, и влюбился. И начал преследовать бедняжку с одержимостью идущей по следу гончей. Не давал ей покоя ни утром, ни днем, ни ночью. Но как же он поступил, когда посягательства его оказались бесплодными? Подался в монахи? Привязал на шею концертный рояль и бросился в Сену? Да ничего подобного. Он начал обхаживать другую женщину. Эту другую звали Камиллой, и, на беду свою, она была всего только пешкой в весьма своеобразной любовной игре Безумного Гектора. Он решился сыграть на ревности — начать ухлестывать за другой прямо под nez[*] своей возлюбленной — в надежде, что та образумится. И тут вдруг получил Римскую премию — был в Париже такой большой композиторский конкурс, — а часть этой премии подразумевала проживание в Риме. Ну что ж, он снялся с места и переехал в Рим. Возможно, и это было частью классического французского «держите их mesquin[*], держитесь за них très fin[*]», как выражаются в Лидсе. Однако замысел его исполнялся вкривь да вкось — проживая в Риме, Берлиоз узнал, что Камилла взяла любовника. Вот вам и здрасьте! Все пошло прахом. Как, интересно, Гарриет Смитсон будет ревновать его, если ревновать-то и не к кому? И что он сделал? Да, собственно, то же, что учинил бы любой «соскочивший с катушек» французский композитор-романтик 1830-х. Ну посудите сами, это же очевидно, не так ли? Он немедля бросился в Париж, переодевшись в женское платье. НУ КОНЕЧНО! (Уверяю вас, все это чистая правда. Никаких ☺ здесь нет и в помине, вы заметили?) Ладно, кто из нас может с чистой совестью сказать, что и сам таких штук не выкидывал — в свое время? Я не скажу. Как бы там ни было, Гектор le Fou[*] добрался всего лишь до Генуи, где каким-то образом лишился своего маскарадного костюма, — какая, право, жалость, мне так хотелось узнать, чем все это закончилось. По-моему, получился бы отличный материал для альковного фарса. В конечном итоге он просто повернул обратно в Рим, совсем обессилевший. А когда он все же возвратился в Париж, выяснилось, что Смитсон тоже здесь. О нет — опять все сначала? Действовать надлежало быстро. Как ему убедить эту женщину, что он — лучшее, если не считать французского батона, что она может найти? Засыпать ее спальню цветами? Послать ей переплетенный в кожу сборник самых романтичных, какие она когда-либо читала, любовных стихотворений? Нет. ГБ — человек, упорству коего позавидовал бы и самый настырный агент только что названной организации, — решил, что знает, чем ее пронять. Он устроил исполнение своей смехотворно длинной «Фантастической симфонии» — глыбы в пяти частях, требующей четырех духовых оркестров и «Шабаша ведьм». Все это должно было стать лучшим из любовных посланий, которые она когда-либо получала. А теперь внимание. Все сработало! Он ее получил! Ну, знаете, этот мне Берлиоз — да и Гарриет тоже, — вряд ли я когда-либо сойдусь с ними в представлениях о том, что такое романтическая любовь. Но если честно, «Фантастическая симфония» — сочинение просто потрясное, и, следует отдать ему должное, оно содержит тему «Гарриет Смитсон», которая то и дело возникает в нем то там то сям. Так что эта женщина была, надо полагать, очень тронута. Подзаголовок симфонии сообщал: «Эпизод из жизни артиста» — названный артист явно одурял себя опиумом, насылавшим на него самые причудливые галлюцинации, каковые должным образом и передаются музыкой, — и от музыки этой рукой подать до того, что вытворяла в 60-х группа «Велвет андерграунд». Добавьте к ней Тимоти Лири[*], и картина получится почти полная. В то время «Фантастическая симфония» породила, как оно и положено наиболее передовым творениям, реакцию типа «надоел хуже горькой редьки». Шуман ее ненавидел — со страстью, — однако лучшее, что было сказано на ее счет, исходило от беззаботного любителя приятно закусить по имени Россини: «Как хорошо, что это не музыка». И это не только лучшее, что было сказано по поводу ФС, но, на мой взгляд, лучшее, что сказано по поводу музыки вообще. Итак, они перед нами, два композитора: по-французски франтоватый Берлиоз, открывающий, не без кривляния, впрочем, новые горизонты, и по-польски политесный Шопен с его утонченной, не без нервности, впрочем, подрагивающей романтичностью, — два главных в Париже тех лет провозвестника романтизма.
РВМ[♫]
Я на минутку отступлю немного назад, дабы окинуть, с вашего позволения, взором всю первую половину девятнадцатого столетия. В общем и целом половина эта вращается вокруг одного слова: революция. Число получаемых вами в месяц революций зависело в ту пору от того, в какой части мира вы жили. Основной фон по-прежнему создавали Франция и США: полные колоссального размаха, меняющие мир революции, воздействие которых ощущалось во всем и далеко не в самой малой мере — в музыке. Рука об руку с революциями шел, разумеется, национализм. Всем хотелось быть самими собой. Каждый желал жить в собственной, так сказать, стране. И я это хорошо понимаю. Тут все дело в «усилении чувства собственного достоинства, потребности в личной свободе и самовыражении». А теперьзадержитесь, если у вас получится, на этой фразе, задержитесь на этой мысли — «усилении чувства собственного достоинства, потребности в личной свободе и самовыражении». Дело в том, что если вы возьмете эту фразу и перенесете ее в мир музыки, у вас получится рабочее определение слова «романтизм». Да собственно говоря, никакой необходимости отделять мир музыки от политической революции у вас и нет: уже со времен Бетховена, бывшего на две части революционером и на три художником, жизнь революционера и искусство оказались связанными неразрывно. Вам не только нет нужды разделять их, вы и НЕ СМОЖЕТЕ это проделать. Самые разные люди приходили тогда в движение: 1836-й — буры начали свое «великое переселение»; еще десять лет спустя мормоны выступили к Большому Соленому озеру. И, как это ни удивительно, вместе с исследованиями нового нарастала приверженность к старому, — впрочем, что же тут удивительного: ведь покинутое отечество кажется лишь более драгоценным. Потому-то и нарастал национализм — что отражалось и в музыке. Не только в Шопене с его урной родной земли, нет, намного глубже, в самом сердце музыки. Глинка написал первую по-настоящему русскую оперу как раз в 1836-м — «Жизнь за царя», историю о настоящих русских крестьянах, а не людях благородного звания, с включенными в партитуру настоящими русскими народными песнями.
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ РАЗГУЛ
В других местах одним из главных явлений, ставших развитием манифеста романтизма, оказалось дальнейшее возвышение пианистов-композиторов. Тот же Шопен, а с ним и Шуман, Мендельсон, Лист были подлинными застрельщиками и движителями этой особенности романтической эры, что, вообще говоря, и понятно, поскольку девятичастное наследие Бетховена заставляло многих композиторов до смерти бояться симфоний — никто же не хотел показаться полным неумехой. Сбрендившему Берлиозу было, разумеется, на все наплевать, а вот остальные робели, и более чем. Поскольку ни на каких инструментах он толком играть не умел, Берлиоз обратился в знаменосца идеи романтического оркестра. То есть если Шопен был, скажем, Билли Джоэлом (мягкие, полные задумчивости вещи для фортепиано), а Лист — Элтоном Джоном (довольно манерные, напористые вещи для фортепиано же), то Берлиоз походил скорее на Джеймса Ласта, безумного оркестровика с пышной гривой волос. Нет, разумеется, для оркестра писали в ту пору и многие прочие, однако Берлиоз, пошедший отличным от всех путем, добрался до какого-то другого уровня раньше всех остальных. Его оркестровые сочинения отличались и индивидуальностью, и ЭПИЧНОСТЬЮ, — превосходный рецепт, позволяющий двигать искусство вперед. И наконец, добавьте ко всему этому вечно присутствующий ингредиент более совершенных технических возможностей. Новые трубы, те, что с клапанами, распространялись все шире и шире — в отличие от труб прежних, с несколькими разными «кронами»: крона — это такая круглая съемная часть трубы. Меняя крону, вы, по существу, меняли длину трубы и, стало быть, получали возможность брать на ней другие ноты. Клапаны, собственно, и пришли на замену кронам. Нечто похожее случилось и с кларнетом, у него тоже появилось несколько дополнительных клапанов, сделавших кларнет инструментом более разносторонним. Оркестр стал звучать почти совершенно по-новому — в сравнении с тем, что было доступно, скажем, Моцарту, — а ведь прошел всего только тридцать один год. Тридцать один год — поразительно, не правда ли? Мы словно попали в другой мир. То же фортепиано — и оно изменилось почти до неузнаваемости. Появление металлических струн позволило получить более явственные динамические оттенки, так что романтические пианисты-композиторы не только хотели создавать нечто новое, у них и средства для этого имелись. А чего же еще и желать?
НУТЕ-С, БЕРГАМО
Теперь мы снова воспользуемся крупным планом — к нам явился, чтобы получить свои пятнадцать минут славы, новый оперный композитор. После 1829-го он становится в Париже — нынешнем центре музыкального мира, не забывайте, — таким же популярным, каким был в родном Бергамо. Он образует последнюю треть оперного триумвирата, состоявшего из Россини, Беллини и… Доницет [пауза, позволяющая создать истинно итальянский эффект] ти. Доницет ти был человеком, получившим в 1829-м, когда Россини перестал писать музыку, превосходный стимул к сочинению опер. Стимул этот состоял в том, что… ну попросту говоря, в том, что Россини перестал писать музыку. До того Доницет ти производил по одной более-менее опере каждые двадцать пять минут. Ладно, хорошо, я сказал «более-менее», но, если честно, «менее» будет точнее. Да. Это одна только видимость такая была, будто он каждые двадцать пять минут сочиняет по опере. И опять-таки, если честно, — я, видите ли, люблю, когда все делается по-честному, — более-менее ВСЕ эти оперы особо высоким качеством не отличались. Конечно, публике они скорее нравились, вот он и продолжал печь их как блины. Собственно говоря, почему бы и нет? Кто возьмет на себя смелость сказать, что лично он так поступать не стал бы? И вдруг, ни с того ни с сего, Россини делает внезапный и неожиданный шаг — внезапно и неожиданно уходит из музыки. И гляньте-ка, на Доницет ти это оказывает воздействие поразительное. Он начинает сочинять самые лучшие свои вещи. По сути дела, все его оперы, могущие честно претендовать на звание «шедевров», созданы после того, как Россини решил заткнуться: «Анна Болейн», «Мария Стюарт», «Дон Паскуале», «Лючия из Илкли-Мур»[♫] и мой личный фаворит — «Любовный напиток». «Любовный напиток» 1832 года — это комическая опера, содержащая божественное трагическое ядро — известнейшую арию «Una furtiva lagrima»[*]. УУУУУУУУXXXXXXXX! Роскошная ария, стоящая у многих в списке «Пяти лучших записей, которые можно предложить послушать друзьям» рядышком с «Длинноволосым любовником из Ливерпуля» малыша Джимми Осмонда[*]. Говорят, Доницет ти сочинил эту оперу всего за две недели, — что, если это правда, делает ее лишь более поразительной. Послушайте, коли представится случай. Королевский оперный театр время от времени ставил ее как «старомодный шлягер», полный замысловатого деревенского очарования. Единственное, с чем мне всегда было трудно смириться, — всякий раз, как я слушаю эту оперу, в роли Неморино, а именно он и поет «Una furtiva lagrima», выступает Паваротти. Неморино — это предположительно молодой любовник, мужчина в расцвете сил, однако вид пытающегося скакать и резвиться Большого Луки в сельском наряде несколько напрягает мои и без того ограниченные ресурсы простодушной доверчивости. А в случае оперы это говорит о многом. Пройдет еще полных пять лет, и нам покажется, будто «Любовный напиток» на миллионы миль отстоит от следующего ГРАНДИОЗНОГО творения Безумного Берлиоза — от «Реквиема», или «Grande Messe des Morts». За это время он успеет поучаствовать в странной распре с Паганини, о которой я и собираюсь вам все рассказать.
СТРАННАЯ РАСПРЯ БЕРЛИОЗА И ПАГАНИНИ (О КОТОРОЙ Я И СОБИРАЮСЬ ВАМ ВСЕ РАССКАЗАТЬ)
Паганини к этому времени стал чем-то вроде суперзвезды. Надеюсь, вы помните, что, когда мы в последний раз столкнулись с ним (это если не считать нескольких мимоходом брошенных замечаний), Паганини было одиннадцать лет и он, вместе со своими прыщами, как раз впервые появился на публике. Ну так вот, игра на скрипочке пошла господину П. на пользу. Практически всю юность он провел, упражняясь и давая концерты, и в конце концов его усердие начало окупаться. Конечно, немалую часть своих барышей Паганини спускал за игорными столами, однако с тех пор, как он получил место скрипача при принцессе Элизе — сестре Наполеона — в Лукке, безупречные пиццикато начали приносить ему и славу, и состояние. На самом-то деле, в наш век производимой промышленным способом поп- и даже классической музыки трудно и представить себе, какого масштаба звездой был Паганини. Большую часть жизни он, как уже говорилось, разъезжал по Италии, решившись пересечь ее границу, лишь когда ему оказалось порядком за сорок. Но уж миновав ее, он обратился в повсеместного любимца. Лондон, Вена, Берлин — выбирайте сами. Ну и Париж, разумеется. Где бы ни появился Паганини, его превозносили как скрипача воистину волшебного. Широко известная ныне легенда уверяла, будто Паганини продал душу дьяволу в обмен на исполнительское мастерство — в коем он и вправду превосходил все, что было видано до него, — и Паганини пальцем не шевельнул, чтобы ее опровергнуть. Паганини ничего на ней не терял: публика лишь усерднее набивалась на его концерты, чтобы услышать «дьявола», играющего во плоти. Один критик поклялся даже, что сам видел маленького такого бесенка, просидевшего весь концерт на плече скрипача, помогая ему брать ноты, которые простым смертным и не снились. Некоторые подходили к Паганини, просто чтобы дотронуться до него и убедиться, что он — человек человеком. Паганини упивался всем этим и знай себе поднимал цену на билеты — временами просто, без затей, удваивая ее. Итак, с хвостом годов Паганини сколотил игрой на скрипке огромное состояние и провел последние несколько лет, гадая, как ему с этим состоянием поступить. В одну историю он уже вляпался, попытавшись открыть в Париже игорный дом, «Казино Паганини». Короче говоря, денег у него оказалось — куры не клюют. И потому, купив превосходный — и, не стоит забывать об этом, дорогой — альт, Паганини появился на пороге Гектора Берлиоза, вознамерившись заказать ему новое сочинение. Он подрядил композитора, бывшего, как ни крути, скандальнейшим диджеем 1830-х, своего рода Дамьеном Хёрстом романтиков, написать для него альтовый концерт. Паганини имел в виду произведение, которое позволило бы ему вытворять на альте то, что он уже вытворял на скрипке. Почему он сам эту музыку не написал, как делал до той поры, остается только гадать. Может, муза от него отвернулась — на время. Да все, что угодно. В общем, он попросил Скриминга Лорда Берлиоза[*] набросать для него пару-тройку нот. А вот как понял его просьбу сам Берлиоз, выяснилось уже в 1834 году, когда он обнародовал своего «Гарольда в Италии», снабженного им подзаголовком «Симфония для альта и симфонического оркестра». Альт оказался в этом сочинении более или менее сопутствующим комментатором, неземным, нередко печальным, блуждающим огоньком, порождавшим массу самых разнородных летучих впечатлений. Это вовсе не было произведением из разряда «МАТЬ ЧЕСТНАЯ, хоть его и ЧЕРТОВСКИ трудно сыграть, но если я с ним справлюсь, так выглядеть буду просто ФАНТАСТИЧЕСКИ», на какое рассчитывал Паганини. В результате он закатил нервический скандал и отказался исполнять это. Выступить на премьере, а дирижировал на ней сам Берлиоз, пришлось кому-то другому. Как ни удивительно, господин П. на этом концерте присутствовал. И музыка, которую он отверг, настолько его захватила, что под конец Паганини поднялся на сцену, подошел к Берлиозу и благоговейно опустился перед ним на колени. И прямо на следующий день к дверям французского композитора явился посыльный с запиской от Паганини, гласившей: «Бетховен мертв, и лишь Берлиоз способен его воскресить!» В конверте лежал также чек — на 20 000 франков! ПЕРЕПИЛ ЭТОТ ВАШ ПАГАНИНИ ИЛИ ЧТО? Как сие ни иронично, странная распря с Паганини, о которой я вам все уже рассказал, оказалась для рехнувшегося Берлиоза попросту бесценной. Эти 20 000 франков здорово облегчали ему жизнь, пока он сочинял не только «Ромео и Джульетту», но и свой умопомрачительный опус, этакого Оззи Осборна классической музыки, «Grande Messe des Morts» — Реквием.
ЕЩЕ ОДНА НЕДУРСТВЕННАЯ МЕССА
Итальянцы называют его «Messa per I Defunti». Немцы — «Totenmesse». И все же наилучшим, до сей поры, названием мы обязаны сладкоречивым французам. Реквием — это почти в такой же мере часть музыки, в какой и жизни со смертью, и, стало быть, нет ничего удивительного в том, что человеку вроде Берлиоза захотелось в конце концов приложить к нему руку. Разумеется, Берлиоз не мог вот так вот взять да и написать «Messe des Morts» — что вы, что вы. Он просто обязан был соорудить «Grande Messe des Morts». Трудно даже вообразить, какой конфуз ожидал публику, пришедшую послушать — это она так думала — первое исполнение Реквиема Берлиоза. Применительно к этой музыке время оказалось не столько лучшим лекарем, сколько своего рода надувалой, «подковерным победителем». Каким бы «безумным, плохим и опасным» ни казался его Реквием нам — и это при том, что у нас имеются, так сказать, в запасе не просто все романтики, но и романтики поздние, модернисты, авангардисты, постмодернистские ироники, все: кого мы только не слышали, — время затушевало любые представления о том, в какой шок могло повергнуть подобное сочинение «выпуск 1837-го». Поводом для его создания стала смерть французских солдат, погибших в алжирской кампании, и Берлиоз действительно хотел сотворить нечто монументальное — огромный, возвышающийся надо всем музыкальный памятник неизвестному солдату, дань уважения тем, кто расстался с жизнью. Реквием этот мог и не понравиться, но уж оставить его без внимания было никак нельзя. Для исполнения его требовался хор в две сотни голосов. Если вспомнить о том, что привычный симфонический хор — тот, который вы видите обступившим орган в Альберт-Холле, — состоит, как правило, человек из семидесяти-восьмидесяти, у вас появятся примерные представления о масштабах этого произведения. На самом деле Берлиоз предпочел бы использовать что-то около семи-восьми сотен певцов. Вы не хотите притормозить и перечитать последнее предложение? Да-да, там сказано: Берлиоз предпочел бы использовать что-то около семи-восьми сотен певцов! Да и сам оркестр у него разросся непомерно — та же стандартная группа ударных, к примеру. Вы ведь можете мысленно нарисовать портрет оркестранта-ударника, не так ли? Как правило, перед ним стоят три, ну, может быть, четыре барабана, верно? Бывает, так и два. Ну вот, Воинствующий Композитор, как его прозвали, использовал фантастические шестнадцать литавр — шестнадцать! А были еще четыре духовых оркестра, игравших в четырех углах концертного зала. Будем справедливыми к Берлиозу, представление у него, должно быть, и впрямь получилось невероятное, и если он хотел, чтобы солдат алжирской кампании запомнили надолго, то таки добился этого, и не только благодаря размаху своего произведения, но и тому, что при всем его колоссальном размахе Реквием регулярно исполняется и поныне. Да и сам Берлиоз им очень гордился. «Если бы мне пригрозили уничтожением всех моих сочинений, кроме одного, — однажды сказал он, — я умолял бы проявить милосердие к „Messe des Morts“». Прекрасные слова, лишь слегка подпорченные тем, что в число прочих милых его сердцу вещиц он включил также «Чижи-ка-пыжика», шесть других своих записей и часы с кукушкой. Собрат-романтик из противоположного лагеря, Шопен, имел на Реквием иные взгляды — он говорил, что такую музыку «сочиняют, расплескивая чернила по нотной бумаге». Приятно думать, что «современная музыка» и, так сказать, потрясение от новизны сопутствовали нам всегда. Сегодня их могут олицетворять Бёртуистл или Берио[*], но тогда, в 1837-м, место этой парочки прочно занимал Берлиоз. А теперь — прошу каждого встать рядом со своей койкой — я намереваюсь пропустить четыре года. Но сначала позвольте мне «заполнить пробел».
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 1837–1841: «ВАШЕ ВРЕМЯ ПОШЛО…»
Чтобы избавиться от навеянного пропуском четырех лет непереносимого чувства вины, я составил ряд вопросов и ответов, которые могут оказаться полезными, если вам вдруг да придется участвовать в телевикторине «Быстрый и находчивый», посвященной периоду 1837–1841 годов. Согласен, не спорю, возможность до крайности призрачная, но эта тема все же лучше, чем «романы сэра Артура Конан Дойла». А справляться с непереносимым чувством вины такое занятие позволяет получше любого истязания плоти. Ну, во всяком случае, некоторым. Итак, если вам удастся мысленно представить себе один из тех фильмов, в которых полет времени изображается мелькающими листками календаря и чередующимися под превосходно подобранную музыку картинками, которые изображают важные события, он тоже способен помочь. Держите его в уме, пока будете читать этот раздел. Поехали. В. Был ли Констебл еще жив в 1837 году? О. Нет, ни он, ни, раз уж вы об этом спросили. Пушкин, но мы хотя бы получили электрический телеграф Морзе, пришедший, по всему судя, надолго и обещавший — лет через 150 и при наличии хорошего попутного ветра — обратиться в ту игрушку из игрушек, которой мы все так утешаемся, в мобильный телефон. По-моему, хорошо ответил. В. Кто в 1838-м восседает на троне? О. 1838-й — год коронации королевы Виктории. В этом же году буры победили зулусов при Кровавой реке — с далеко не маленькой помощью Майкла Кейна. «Тебя же просили всего лишь отогнать проклятых буров!»[*] В. Каковы другие «большие» явления 1838-го? О. Ну-с, «большими», так сказать, явлениями стали суда. И в буквальном смысле тоже. Появилась возможность путешествовать на огромных океанских пароходах, которые становились все больше и больше. И быстроходнее. Вскоре после того как в Нью-Йорке был спущен на воду 103-тонный «Сириус», много более мощное, 1440-тонное судно «Великий Запад» прошло из Бристоля до Большого Яблока всего за 15 дней. Впечатляет. В. Кто в 1838-м оказался «в фокусе внимания»? О. Вы, по-видимому, подразумеваете Дагера, который вполне мог оказаться в Штатах и сфотографировать «Великий Запад», когда тот пересекал финишную черту, но, впрочем, не оказался. Наверное, был слишком занят, демонстрируя свою новую «систему фотографирования Дагера-Ньепса» французской Академии наук. Скажи: «рокфор»! В. Назовите самых популярных романистов 1839 года. О. Извольте, Чарлз Диккенс. В 1839-м увидели свет «Оливер Твист» и «Николас Никклби». Имелось также «Падение дома Эшеров» По, и в том же году Огюст Конт окрестил только что народившуюся общественную науку «социологией», одним махом обеспечив счастливое будущее поколениям студентов, которые получили возможность целых три года пьянствовать в университетских барах при условии, что они не забывают раз в год забегать к своему куратору — поздравить его с днем рождения. В. Каким был в 1838 году размер британского военного флота? О. Ха, и, по-вашему, это трудный вопрос? Да ничуть. У Британии было 90 кораблей, у России — 50, у Франции — 49, а у оперившихся уже США — респектабельные 15. В. Кто и с кем тогда сражался? О. Хороший вопрос. Ну что же, между Британией и Китаем разразилась Первая опиумная война. В другой части света голландцы и бельгийцы приплелись в Лондон, чтобы подписать договор — да, о Лондоне: очень удобное, хорошее место для заключения договора, гостиничные номера снабжены всем необходимым для приготовления чая и кофе, ну и так далее, — так вот, голландцы с бельгийцами пообещали больше друг с другом не собачиться. Кроме того, буры учредили независимую республику Натал. В. Какой композитор родился в 1839 году? О. Мусоргский. Что до иных сфер, появились также Поль Сезанн и Джордж Кэдбери — хоть это и не те люди, которых принято упоминать на одном дыхании. Впрочем, я, как поклонник и искусства и шоколада, считаю, что нам следует помянуть обоих. Человек, подаривший нам шоколад «Кэдбери». УXX! В. Какие браки заключены в 1840-м? О. Ну, вопрос довольно расплывчатый, вам не кажется? Полагаю, в 1840-м вступили в брак тысячи людей — Энид и Кит Жаббс, к примеру, проживавшие по адресу: Дальнее Захолустье, Сточная улица, дом 6. Однако вы, сколько я понимаю, имели в виду бракосочетание королевы Виктории и довольно заурядного иностранца королевских кровей, принца Сакс-Кобург-Готского. Или Альберта Квадратного, как звали его лондонцы. В. Какой великий острослов и светский человек скончался в 1840-м? О. Вопрос опять-таки довольно расплывчатый, однако я думаю, что вы подразумеваете Красавца Браммелла, хотя, если желаете знать мое мнение, особых высот он не достиг. Ах-ах, Красавец Браммелл, гениальный остроумец. А каковы были его последние слова? Каким перлом остроумия и наблюдательности одарил он нас, лежа на смертном одре? Могу вам сообщить. Он сказал: «Надо попробовать». Надо попробовать. Превосходно. Добавьте к этому то обстоятельство, что, когда дело дошло до составления свидетельства о смерти, выяснилось, что на самом деле его звали Брайаном, и… ну, в общем, я считаю, что его репутация созрела для переоценки. В. Кто с удовольствием бы удалился от шума и гама? О. Ну, это уж просто глупо. Вы, по-видимому, говорите о Наполеоне III. Он учинил еще один не-удавшийся переворот и был заточен в крепость Гам. В. Что в 1840-м началось, что закончилось? О. Совсем расплывчато. Что ж, попробую представить вам краткую сводку событий. Закончен новый роман Фенимора Купера «Следопыт». Начались работы по строительству здания Парламента, закончилась — навсегда — отправка каторжников в Новый Южный Уэльс. Скончался немецкий художник-романтик Каспар Давид Фридрих, зато на свет народились Моне, Ренуар и Роден — вот так год! — а также Томас Гарди, Эмиль Золя и Петр «Это мой стакан?» Чайковский. Заодно уж отмечу, что на туристской карте появилось два интересных места. В Кью-Гарденз выстроилась первая очередь посетителей, а у Нельсона построилась его первая… как бы это сказать… колонна Нельсона. В. Сколько людей жило в 1841 году? О. Да, вот это вопрос трудный. Не уверен, что я знаю ответ. Позвольте сообщить вам то, что я действительно знаю. Население Британии составляло 18,5 миллиона человек, что лишь ненамного превосходило 17 миллионов предположительно оперившейся Америки. Другие новости: в Британии вышел в отставку лорд Мельбурн, а новым премьер-министром стал сэр Роберт Пиль. «Пиль ее, Бобик, пиль!» — такое присловье распространилось в ту пору среди поклонников лисьей охоты. В. Что в 1841 году заставило королеву Викторию прободрствовать целую ночь? О. Ну, если вы имеете в виду рождение младенца, так должен вам сказать, вы ошибаетесь. Думаю, последним в стране человеком, который желал бы прободрствовать целую ночь, как раз Виктория и была. Да, в 1841-м КВ родила очень бойкого мальчика, Эдварда. Говорили, что у него папины глаза и мамина борода. В. Назовите знаменитого бельгийца. О. Оох, как мне это нравится — спасибо за предоставленную возможность. 1841-й, Адольф Сакс предпринимает попытку попасть в число «десяти знаменитых бельгийцев», изобретая для этого саксофон. В. Назовите знаменитого романиста 1841 года. О. И снова легко. Чарлз Диккенс опять это сделал, ему по-прежнему удается вызывать всеобщий восторг — в этом году «Лавкой древностей». И раз уж мы заговорили о древностях, позвольте мне добавить, что сэр Джозеф «Не называйте меня буравчиком, а то засужу» Витворт предложил… сейчас, минутку… предложил постановить, ЧТОБЫ У ВСЕХ ВИНТОВ БЫЛА ОДНА И ТА ЖЕ РЕЗЬБА. М-да. Знаете, что я вам скажу? Давайте лучше займемся музыкой. К тому же и год ожидается очень хороший, поскольку Россини того и гляди нарушит обет молчания.
СЕРЬЕЗНЫЕ МАТЕРИИ
Ну хорошо. Рад, что мы успели в срок, потому что очень важно знать не только когда появилось какое-то сочинение, но и в какой обстановке оно появилось. Не могло ли одно из упомянутых нами событий подтолкнуть Россини к тому, чтобы он вышел из музыкального укрытия и вдруг представил ничего такого не ожидавшей и не подозревавшей публике свое первое за многие годы произведение? Как знать. Россини работал над ним с 1831 года, а это само по себе может дать странноватый ключ к пониманию причин, по которым он так подзадержался. Не забывайте, этот человек написал «Севильского цирюльника» за тринадцать, как уверяют некоторые, дней. Для него потратить на одну вещь двенадцать лет дело практически небывалое, быть может, указующее скорее на некий кризис вдохновения, чем на примятое без всякого давления решение передохнуть, наслаждаясь своим богатством и своей стряпней. Впрочем, никто не мешает нам вспомнить и о презумпции невиновности, особенно с учетом того, что два сочинения, созданных Россини в период добровольного молчания, были, оба, религиозными — в этом году «Stabat Mater», а следом, двадцать два года спустя, «Petite Messe Solonnelle» — «Маленькая торжественная месса». Быть может, он надумал вступить на более долгий и, в каком-то смысле, более правильный путь сочинительства, заставляя себя писать, писать и писать, пока его творение не станет совершенным в глазах Господа? Своего рода мухой в елее этих доводов оказываются, пожалуй, «грехи старости» — короткие легкие пьесы, которые Россини набрасывал в свои последние годы и которые представляют собой не более чем изящные и занимательные пустячки. А вот «Stabat Mater» — это совсем другая музыка. Она написана на текст францисканского монаха тринадцатого века Якопоне да Тоди, изображающий скорбящую у подножия креста Марию, матерь Иисуса. В 1727-м текст был официально включен в римско-католическую литургию, и до Россини его перелагала на музыку блестящая череда композиторов: Жоскен Депре, Палестрина, оба Скарлатти, Перголези, Гайдн, Шуберт. Возможно, и столь длинный список переложений тоже сказался на стремлении Россини оставить на «Stabat Mater» свой долговечный отпечаток? Печальный сюжет этот продолжал вдохновлять композиторов на создание прекрасной музыки и после Россини: Верди, Дворжака, Шимановского, Пуленка — тонкая поэтичность текста да Тоди увлекала многих. Россини, когда он писал свой вариант, снова жил в Италии — не в родном Пезаро, в Болонье. Он возвратился в Париж, чтобы продирижировать первым исполнением «Stabat Mater» в концертном зале Герца, и, по счастью для композитора, сочинение его было сразу же признано исполненным красоты и гениальности. Кое-кто именует «Stabat Mater» последней из его опер, однако такое название порождено, похоже, лишь тем, что было главным достоинством Россини — его способностью показывать человеческий голос в наилучшем свете, даже если свет этот, как правило, драматичен, — ибо чего же еще и ждать от оперного композитора? Вот Россини и привнес в строки «Stabat Mater» добавочную драматичность. Я бы сказал, пожалуй, что драматичность эта более чем оправдывается самим образом матери, стоящей у креста, на котором распят ее сын. Сбегайте как-ни-будь в концерт, послушайте эту вещь, а после судите сами. Я же тем временем расскажу вам, если позволите, кто тут у нас еще имеется.
ОПУС «НАВУХОДОНОСОР»
Итак, 1842-й. Кто на коне, кто под конем, кто порхает вокруг и кто такие вон те расфуфыренные господа в летательных аппаратах? Что ж, я готов не сходя с места полностью ответить на половину ваших вопросов. Прежде всего, у нас имеется Шопен. Трагедия, правда, в том, что ему сейчас всего тридцать два, а проживет он еще только семь лет. Впрочем, 1842-й застает Шопена в Париже и, похоже, в расцвете творческих сил. Даром что конституция его подходит для этого города далеко не идеально, да и здоровье Шопена внушает сомнения — на самом деле, некто, принадлежащий к взбалмошному сообществу сверхромантичных поляков, заметил однажды: «Единственное, что постоянно в нем, это его кашель». И все-таки в прошлом, 1841-м, году Шопен, несмотря на всю свою изнурительную нервичность и совершенный кавардак в личной жизни, сумел произвести в Париже фурор, да и следующее его выступление, состоявшееся в феврале 1842-го, было ничуть не хуже. Говоря «совершенный кавардак в личной жизни», я имею в виду главным образом пребывающий сейчас в самом разгаре роман Шопена с Амандиной Авророй Люсиль Дюпен, баронессой Дюдеван, более известной под именем Жорж Санд. Поначалу он ее чарам противился, — собственно говоря, поначалу он никаких чар в ней и не обнаружил. «Мне не правится ее лицо, — сказал Шопен. — В нем присутствует нечто отталкивающее». Однако, при всех первоначальных неурядицах, теперь они бы-ли любовниками, в Париже живущими раздельно, по каждое лето проводящими вместе — в Ноане, километрах в 300 к югу от столицы, в самом сердце Эндра и Луары. Концерту 1842-го предстояло породить лучшие из когда-либо полученных Шопеном печатных отзывов — «чистая поэзия, превосходно переведенная на язык звуков», — однако концерт этот оказался предпоследним в его жизни публичным выступлением, последнее он дал в лондонском «Гилдхолле» за месяц до смерти. Собственно, начиная с этого времени все в жизни Шопена, похоже, идет на спад. Разрыв с Дюдеван Санд, слабеющее здоровье и довольно удобный, но лишенный души брак. Однако давайте взглянем на светлую сторону, идет? А действительно, что у нас там на светлой стороне? Есть такая? Есть, разумеется, — хотя, как это часто бывает у композиторов, устроена она по принципу «деньги сегодня, стулья завтра»: такой вот стандартный артистический формат. В 1842-м Шопен был неоспоримым чемпионом романтического фортепиано — в весе пера. Весь мир сводился для него к двум цветам, черному и белому — он представлял собой этакого Элтона Джона, — и, взглянем правде в лицо, все еще не написал практически ничего, не предназначенного для фортепиано. Так вот, если обратиться к фактам, более «светлая сторона» опять же к этому и сводится, поскольку за свою карьеру, продлившуюся всего около тридцати лет, Шопен полностью изменил представления о том, на что фортепиано способно, а на что нет, как на техническом уровне — иногда, — так и на эмоциональном. Добавьте к этому тот факт, что влияние Шопена будет ощущаться еще добрых пятьдесят лет после его кончины, и вы получите игрока первой лиги. Ну и конечно, у нас по-прежнему имеется Берлиоз, тоже игрок экстра-класса. Думаю, мы вправе сказать, что человека, благодаря которому слово «мадригал» считают теперь, по крайней мере в Англии, происходящим от mad[*], все еще можно числить среди серьезных претендентов на звание «мистер Романтик 1842». И если Шопен выступает от команды ранних романтиков как боец в весе пера, то Луи Гектор — несомненный тяжеловес, раздвигающий оркестровые нормы до крайних пределов, отвергающий путы старых форм и — это в Берлиозе самое важное — ухитряющийся претворять картины, рожденные его воображением, в музыку. Собственно говоря, я должен бы нажать на «стоп» прямо здесь и объяснить, насколько это важно. ОСТАНОВИЛИСЬ Отлично. Ну-с, как бы мне это получше выразить, — тем более что с ходом истории оно становится все более приметным и важным? Я имею в виду вот что: среди ранних романтиков Берлиоз был одним из лучших в том смысле, что умел сказать: «Ну хорошо, вот моему воображению явились… двое влюбленных» — и БА-БАХ! они уже перед вами, вы буквальным образом СЛЫШИТЕ их в музыке. Есть один такой эпизод в «Шествии на казнь» из «Фантастической симфонии», где музыка Берлиоза изображает гильотинирование, и символическая оркестровка ее настолько тонка, что вы действительно слышите, как отрубленная голова валится в ожидающую ее корзину. Жуть полная, весьма берлиозовская — и, однако ж, какая РОСКОШНАЯ романтическая мастеровитость. По мере того как музыка проходила через выпадавшие ей периоды, композиторы стремились в своих творениях к большему или меньшему — обычно большему — реализму. Помните, как на 159-й странице Глюк вставил в свою оперу гром? Ну так это просто-напросто изощренная форма того, о чем я толкую. С ходом времени все более основательные приемы такой музыкальной живописи то набирали силу, то отступали. Тут есть значительное сходство с собственно живописцами; говоря совсем грубо, художники могут писать либо В ТОЧНОСТИ то, что видят, либо нечто совсем абстрактное. У нас имеется компания импрессионистов, остановившихся на середине пути между первым и вторым, ну а затем множество точек на этом кривом пути: Сёра с его пуантилизмом, Брак с его кубистским видением — самые разные способы передачи «того, как я это вижу». То же и с композиторами. Одним из них хочется столкнуть вас нос к носу с тем, что происходит в их головах, другие стремятся дать лишь общее представление о том, на что это происходящее похоже, а есть и те, кто предпочитает, чтобы вы просто слушали музыку, которая в их головах звучит. И хочется верить, что так оно всегда и будет. ПОЕХАЛИ Отлично. Вообще-то говоря, 1842-й был годом отнюдь не легким. На беду всех ценителей искусства, в самых высоких кругах высшего света вошел в моду чешский национальный танец, именуемый «полькой». И лучшие представители этих кругов изображали, бедняжки, законченных идиотов, скача и попрыгивая, точно отшельники в отпуске. Примерно в одно время с польками мир увидел также статью «Об окраске двойных звезд». Ну и что? — спрашиваете вы. Ладно, позвольте вам сообщить, что статья эта была написана и напечатана неким К. И. Доплером. Ну так и что же? — восклицаете вы. А тогда я вам вот что скажу: это именно та статья и тот самый Доплер, которому мы обязаны эффектом, известным ныне как… «эффект Доплера». Что, съели? Ладно, ладно. Пусть. Я понял. Как с гуся вода. Хорошо, пошли дальше — тут больше смотреть не на что. Ну-с, перейдем к так называемому «Навуходоносору». Это не просто и не обязательно magnum opus[*], так сказать, однако он оказался поворотным моментом для молодого композитора из Бусетто, города в итальянской провинции Парма. Джузеппе Фортунино Франческо Верди, если назвать его полным, хоть и вызывающим некоторую озабоченность именем, родился в деревушке Ле Ронколе, близ Бусетто. И вел жизнь вполне заурядного селянина — почти, за вычетом одной случившейся с ним в раннем возрасте странности. А именно: как-то раз, когда он прислуживал в церковном алтаре, священник заметил, что мальчик уделяет куда больше внимания звукам органа, чем своим церковным обязанностям. В результате падре поступил так, как поступил бы на его месте всякий достойный своего звания падре, — дал мальчишке хорошего пенделя, отчего тот скатился по алтарным ступеням и остался валяться под ними в состоянии почти коматозном[♫]. Как ни странно, Верди никогда всерьез не думал о том, чтобы начать музыкальную карьеру в церкви, — так что, возможно, тот католический священник оказал итальянской опере наибольшую из возможных услугу. Впрочем, в возрасте двадцати трех лет у Верди появились еще большие, быть может, основания поставить на музыке крест. Он отправился искать музыкального счастья в большой город, в Милан, и только затем, чтобы его бесцеремонно выставили оттуда, даже не позволив получить музыкальное образование: власти предержащие отказались принять его в консерваторию. «Отсутствие фортепианной техники», — сказал один умник; «Слишком стар», — сказал другой; «Недостаточно одарен», — сказал третий. В итоге Верди уполз назад, в родной Бусетто, и получил там место директора филармонического общества. Таковым он мог бы навсегда и остаться. Крупной, но не достигшей полного развития рыбой в мелком пруду. Однако не остался. Вернувшись в Бусетто, Верди женился. Жену звали Маргеритой, и, несмотря на то что женщиной она была совсем простой — выросшей на одних только сыре да помидорах, — у них родилось двое детей. Увы, все обернулось трагедией: дети умерли в младенчестве, а всего два года спустя Верди потерял и жену. И поступил так, как поступали до него многие музыканты — целиком посвятил себя музыке. Дни он отдавал музыке городской, ночи — своей собственной. Он трудился над оперой. Верди возлагал на нее большие надежды и тратил каждую свободную минуту, подправляя ноту в одном месте, меняя оркестровку фразы в другом. Он был настолько уверен в победе, в своем magnum opus, что снова отправился в Милан, прихватив законченную оперу. И, как это ни удивительно, в 1840-м известнейший оперный театр мира, миланский «Ла Скала», принял ее к постановке — оперу человека, которого и в консерваторию-то не допустили. Верди был прав. Миру предстояло изумленно дрогнуть и заинтересоваться его творением. Хотя нет, прав он был лишь отчасти. Миру действительно предстояло дрогнуть и заинтересоваться — но только не этой его оперой. Вот я вам сейчас сообщу, как она называлась, а вы скажете мне, когда вам в последний раз довелось увидеть это название в брошюрке с репертуаром какого-либо оперного театра на предстоящий сезон?
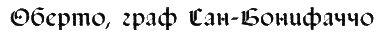 И я о том же. Больше и говорить ничего не надо, так? Впрочем, не получив места в истории, опера эта тем не менее получила место в «Ла Скала», в сезоне 1840/41, и добилась скромного, но все же успеха. И Верди заказали еще одну. НУ УЖ ЭТА! УЖ ЭТА-ТО точно обратится в magnum opus. Уж эта в историю войдет. И Верди сочиняет оперу под названием
И я о том же. Больше и говорить ничего не надо, так? Впрочем, не получив места в истории, опера эта тем не менее получила место в «Ла Скала», в сезоне 1840/41, и добилась скромного, но все же успеха. И Верди заказали еще одну. НУ УЖ ЭТА! УЖ ЭТА-ТО точно обратится в magnum opus. Уж эта в историю войдет. И Верди сочиняет оперу под названием
 Да, все верно. Очередной промах. Да еще и двойной, с сыром. Король-мазила, так сказать, ибо этому сочинению не только не светит место в истории, оно и в сезоне «Ла Скала» 1841 года приличного места себе не приискало. Верди почти сдался. Вот посмотрите на него — он потерял жену и детей, бросил хорошую работу в родном городе, добился небольшого, но все-таки успеха с первой своей оперой, а теперь провалил вторую. Не на такое начало он уповал. В общем, Верди решил махнуть на это дело рукой. И даже посетил оперного импресарио, человека по фамилии Мерелли, причем с совершенно определенной целью — сказать, что надумал бросить все к чертовой матери. Однако у Мерелли имелась другая идея.
К Мерелли обратился либреттист Солеро, показавший ему «книжечку», как это принято называть в оперных кругах, посвященную истории Навуходоносора, — действие разворачивается в Иерусалиме и Вавилоне 568 года до Р.Х. Не обращая внимания на протесты Верди, Мерелли сунул ему манускрипт в руки, вытолкал композитора из дома и запер за ним дверь. Верди несколько минут взывал с улицы к совести коллеги, но тщетно. Обуреваемый отчаянием, он удалился в ближайшую кофейню и потребовал, чтобы ему подали чашку эспрессо.
Когда принесли кофе, либретто упало на пол да и открылось. Как раз на той странице, где Верди смог прочитать слова «Va, pensiero, sull’ali dorate» — «Лети, мысль, на золотых крыльях». Мозг его немедля начал перебирать сокрытые в этих словах музыкальные возможности. Верди задумался. Через несколько минут он надел пальто, бросил на столик несколько монет и поспешил домой. Ко времени, когда он добрался до дому, в голове его почти целиком сложился один из хоров новой оперы. Все, что осталось сделать Верди, — это, так сказать, «скопировать» хор, перенести его из головы на бумагу. То был «Хор иудейских рабов» — опера «Набукко». Она произвела переворот в карьере Верди, полностью изменив путь, по которому шла итальянская опера. Всего лишь за год она сумела вновь воцариться в мире, а Верди обратился в знаменитейшего ее композитора.
Официально эта опера носит название «Навуходоносор». Слава всевышнему, Верди укоротил его до «Набукко». С операми такое случается нередко. Они вообще похожи на породистых выставочных собак: одно имя нормальное, другое, попросту смехотворное, — клубное. Нередко мы полагаем, будто нам известно, как называется опера, а на самом деле называется она совсем иначе. «Cosi fan Tutte» («Так поступают все женщины»), например, обозначается в программках следующим образом: «Cosi fan Tutte ossia La Scuola degli Amanti» («Так поступают все женщины, или Школа влюбленных»). Ну просто врезается в память, не правда ли? Бетховенская «Фиделио» получила звание «Чемпион породы», выступая под именем «Фиделио, или Супружеская любовь». Все же яснее ясного! Нормальный итальянец на таких названиях себе просто язык сломал бы, что, по слухам, и случилось с Вивальди.
Еще одной причиной успеха «Набукко» могло быть состояние, в котором пребывала тогда Италия. Итальянским националистам оставалось дожидаться объединения страны еще лет двадцать без малого, так что символика «Набукко», с ее порабощенными героями, от соотечественников Верди не ускользнула. «Va, pensiero» обратился в национальную музыкальную заставку, коей открывался каждый эпизод борьбы с австрийскими угнетателями.
Да, все верно. Очередной промах. Да еще и двойной, с сыром. Король-мазила, так сказать, ибо этому сочинению не только не светит место в истории, оно и в сезоне «Ла Скала» 1841 года приличного места себе не приискало. Верди почти сдался. Вот посмотрите на него — он потерял жену и детей, бросил хорошую работу в родном городе, добился небольшого, но все-таки успеха с первой своей оперой, а теперь провалил вторую. Не на такое начало он уповал. В общем, Верди решил махнуть на это дело рукой. И даже посетил оперного импресарио, человека по фамилии Мерелли, причем с совершенно определенной целью — сказать, что надумал бросить все к чертовой матери. Однако у Мерелли имелась другая идея.
К Мерелли обратился либреттист Солеро, показавший ему «книжечку», как это принято называть в оперных кругах, посвященную истории Навуходоносора, — действие разворачивается в Иерусалиме и Вавилоне 568 года до Р.Х. Не обращая внимания на протесты Верди, Мерелли сунул ему манускрипт в руки, вытолкал композитора из дома и запер за ним дверь. Верди несколько минут взывал с улицы к совести коллеги, но тщетно. Обуреваемый отчаянием, он удалился в ближайшую кофейню и потребовал, чтобы ему подали чашку эспрессо.
Когда принесли кофе, либретто упало на пол да и открылось. Как раз на той странице, где Верди смог прочитать слова «Va, pensiero, sull’ali dorate» — «Лети, мысль, на золотых крыльях». Мозг его немедля начал перебирать сокрытые в этих словах музыкальные возможности. Верди задумался. Через несколько минут он надел пальто, бросил на столик несколько монет и поспешил домой. Ко времени, когда он добрался до дому, в голове его почти целиком сложился один из хоров новой оперы. Все, что осталось сделать Верди, — это, так сказать, «скопировать» хор, перенести его из головы на бумагу. То был «Хор иудейских рабов» — опера «Набукко». Она произвела переворот в карьере Верди, полностью изменив путь, по которому шла итальянская опера. Всего лишь за год она сумела вновь воцариться в мире, а Верди обратился в знаменитейшего ее композитора.
Официально эта опера носит название «Навуходоносор». Слава всевышнему, Верди укоротил его до «Набукко». С операми такое случается нередко. Они вообще похожи на породистых выставочных собак: одно имя нормальное, другое, попросту смехотворное, — клубное. Нередко мы полагаем, будто нам известно, как называется опера, а на самом деле называется она совсем иначе. «Cosi fan Tutte» («Так поступают все женщины»), например, обозначается в программках следующим образом: «Cosi fan Tutte ossia La Scuola degli Amanti» («Так поступают все женщины, или Школа влюбленных»). Ну просто врезается в память, не правда ли? Бетховенская «Фиделио» получила звание «Чемпион породы», выступая под именем «Фиделио, или Супружеская любовь». Все же яснее ясного! Нормальный итальянец на таких названиях себе просто язык сломал бы, что, по слухам, и случилось с Вивальди.
Еще одной причиной успеха «Набукко» могло быть состояние, в котором пребывала тогда Италия. Итальянским националистам оставалось дожидаться объединения страны еще лет двадцать без малого, так что символика «Набукко», с ее порабощенными героями, от соотечественников Верди не ускользнула. «Va, pensiero» обратился в национальную музыкальную заставку, коей открывался каждый эпизод борьбы с австрийскими угнетателями.
НАРОД ДОЛЖЕН ПЕТЬ ДЛЯ НАРОДА
Бок о бок с Верди и «Набукко» в Италии шагали Глинка и «Руслан и Людмила» в России. Обе битком набиты отличными напевными мелодиями, обе относятся к 1842-му, и обе явственно изображают прорастающие в их странах семена национализма. Глинка представлял собой, в чем никто из нас и не сомневается, поразительную мешанину самых разных влияний, случайных знакомств и мелких капризов истории. Родившийся близ Смоленска в 1804 году, он рос преимущественно в одном из тех повергающих в оторопь русских поместий, о которых ныне остается только мечтать, — у дяди его имелся даже собственный домашний оркестр. Взяв в Санкт-Петербурге несколько уроков у Джона Филда — да-да, у Джона Филда, композитора: Филд приехал в Россию, совершая турне со своим тогдашним боссом, пианистом-композитором Клементи, потом Клементи уехал, а Филд остался. Выглядит сложновато, но вы, главное, не отставайте, держитесь со мной вровень, — так вот, после этого Глинка, вполне осознанно, решил, что нуждается в навыках, каковые помогут ему сочинить «великую русскую оперу». Но прежде чем заняться этим, необходимо, понятное дело, приобрести навыки, позволяющие сочинить хотя бы просто «великую оперу». Логично, не правда ли? И что же сделал Глинка? Отправился, что опять-таки понятно, к опере на дом — в Италию, — решив поучиться у мастеров. Познакомился там с Беллини и Доницетти и, что намного важнее, познакомился с операми. Со многими и многими операми. Покончив с этим, он пошел в ученики к Большому Дону. Виноват, тут у меня описка. Следует читать «к великому Дену»: Зигфриду Вильгельму Дену, весьма почтенному музыковеду и теоретику. Когда же Ден счел Глинку готовым, то просто отослал его от себя, сказав: «Поезжай домой и пиши русскую музыку», чем Глинка послушно и занялся. Для первой своей оперы он избрал сюжет из истории нашествия поляков на Россию, год 1613-й. И разумеется, у него получилась этакая милая, легкая опера. Следует сказать, что по стилю она была пока еще весьма «итальянистой», но тем не менее отзывалась — и более чем — новым напористым «национализмом». А вот для второй Глинка приспособил поэму Пушкина «Руслан и Людмила», и эта опера стала для него поворотным пунктом. Ныне считается, что она-то и определила основы нового, истинно русского оперного стиля. Она же, что не лишено иронии, заложила основы мини-помешательства на «ориентализме», включающем, если быть точным, подлинные восточные темы плюс то, что принято именовать «целотоновой гаммой»— последнее есть просто технический термин, посредством которого музыковеды выражают следующее: «Звучит жутковато, с намеком на саспенс, с намеком очень зловещим». (Надеюсь, сказанное поможет вам во всем разобраться.) Как это ни грустно, в наши дни способная вызвать громовые аплодисменты увертюра к «Руслану и Людмиле» только эту задачу и выполняет — вызывает громовые аплодисменты. Во всяком случае, сейчас многие и многие знакомы с увертюрой и совершенно не знакомы с самой оперой. Ну да и ладно. Как говорят в Германии: «Sie sind zwei Menschen, die ähnlich aussehen, und im gleichen Tag geboren sind!»[*] Как это верно, как верно. В общем и целом, имея Глинку с его первой русской оперой, Верди с его музыкой сопротивления да еще и Шопена с его польским материалом, мы вправе сказать, что первые семена музыкального национализма посеяны. Ну а если говорить о Германии, то — заприте ваших дочерей, повесьте шляпы на крючки и вообще проделайте все то, чего требуют от нас в преддверии какого-либо катаклизма всяческие клише. В общем, что бы вы в таких случаях ни делали, сделайте это сейчас. Потому что… …явился Вагнер.
ВАГНЕР КАК ЦЕЛОЕ, КАК ЯВЛЕНИЕ И КАК ЧАСТНОСТЬ. ИЛИ КАК ВСЕ, ЧТО ХОТИТЕ
Вполне. Вполне. Совершенно с вами согласен. Тема фантастическая — Вагнер как целое, как явление и как частность. Или как все что хотите. Нет слов. Я и сам не сказал бы лучше. Хорошо; думаю, со стараниями попасть в самую точку мы можем покончить — уже попали. Дело в том, что назвать Вагнера романтиком — значит допустить неточность. Нельзя просто сказать: Вагнер — романтик, хотя романтиком он, разумеется, был. Однако был и чем-то большим, нежели романтиком, — он был… ну, он просто был… Вагнером. Штучным товаром. Прежде никого похожего не появлялось и больше никогда уже не появится. И слава богу, сказали бы некоторые. Но не я. О нет. Я готов выскочить из какой-нибудь байрёйтской уборной и радостно проорать в окно на манер Питера Финча:
«Да, я вагнерианец, отчего я, понятное дело, намертво спятил, и больше этого терпеть не намерен!»[*]Ну, во всяком случае, нечто похожее. На самом деле я хотел сказать, что нам следует копнуть всю эту историю с Вагнером несколько глубже. Так что надевайте ваш рогатый шлем — и вперед.
ВСЯ ЭТА ИСТОРИЯ С ВАГНЕРОМ, НО НЕСКОЛЬКО ГЛУБЖЕ
Вильгельм Рихард Вагнер родился в Лейпциге в 1813 году. Мать его завела роман с актером по имени Людвиг — до смешного уместное имя, — за которого потом и вышла замуж. У Вагнера было две сестры, обе певицы, он часто отлынивал от занятий фортепиано, предаваясь взамен чтению оперных партитур. Если добавить сюда поэтический дар и пристрастие к Бетховену, несложно будет понять, вокруг чего вращался мир Вагнера. Претерпев довольно ранний провал с сочиненной им оркестровой увертюрой, он обратился к опере, либретто для которой сочинил сам. В двадцать лет Вагнер стал хормейстером, а это означало, что летние месяцы он проводил в Лауштадте, близ Лейпцига, а зимние — в Магдебурге, что стоит примерно в 250 км к западу от Берлина. Здесь он и познакомился со своей будущей женой, Минной, актрисой, — они обвенчались в 1836-м. Вторая опера Вагнера — «Das Liebesverbot», «Запрет любви» — была написана для его собственной Магдебургской труппы, которая и запустила ее в мир. И всего лишь два года спустя супруги отплыли в Париж. Да, я так и сказал: отплыли в Париж. Не спрашивайте у меня, каким это образом, — отплыли, и все тут, и плавание оказалось памятным далеко не в одном отношении. Кораблю их потребовалось, чтобы добраться до Парижа, целых восемь месяцев, — я все-таки не вполне понимаю, как можно приплыть морем в Париж[♥], — в пути штормило, и это не только позволило Вагнеру глубже понять свое, так сказать, сокровенное нутро, но и стало источником вдохновения при сочинении будущей оперы, «Летучего голландца», основанной на старой морской легенде. О ней мы еще поговорим. Вагнер принадлежал к разряду людей, уверенных в том, что мир в долгу перед ними хотя бы потому, что они его посетили. И попрошу не считать меня балабоном и реакционером — именно таким он и был. Вот послушайте:
«Я не то, что другие… Мир обязан дать мне то, в чем я нуждаюсь. Я не могу жить на жалкое жалованье органиста, как жил ваш великий мастер, Бах!»Видите? Думаю, именно такие его настроения и внушили гражданам Дрездена столь нежную любовь к Вагнеру. И это позволяет нам более или менее понять, не полностью, но окончательно, что представлял собой Рихард Львиная Терция. У нас нынче 1843-й, ему только что исполнилось тридцать. Давайте быстренько осмотримся, дабы выяснить, что происходит вокруг. В Испании вспыхнуло восстание, свергнувшее генерала Эспартеро. Вы скажете, что в этом нет ничего нового, ан все-таки есть: генерала свергли, а место его заняла тринадцатилетняя девочка — довольно обидно, чтоб не сказать большего. Вот представьте, как бы оно выглядело сейчас: «Алло, это королева Елизавета? Ага, хорошо, что я вас застал. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете? Я просто хотел посоветоваться: понимаете, у нас тут идет процесс модернизации, и мы решили попытаться как-то оправдать существование вашей должности. И назначили на ваше место Шарлотту Чёрч[*]. Ничего, если мы воспользуемся вашей короной?» М-да. Я, в общем-то, не уверен, что это породило бы такую уж бурю. Так или иначе, в Испании правит тринадцатилетняя девочка по имени Изабелла; правда, недолгое время спустя девочку официально объявили совершеннолетней и народ стал называть ее королевой Изабеллой II. Восстание вспыхнуло также и в Новой Зеландии — маори как-то не очень нравилось петь «Боже, храни королеву». И по-моему, правильно не нравилось — не гимн, а панихида какая-то. Прочие события: из Вашингтона в Балтимор только что поступила самая первая телеграмма — от инспектора Морзе, это еще в первой серии было. Кроме того, в Париже открылся первый ночной клуб, получивший, впрочем, несколько извращенное название «Английский бал». Что я могу еще сказать? Ну например, что в норвежском городишке Тромсо возникло новехонькое повальное увлечение — люди коротают досуг, катаясь на лыжах. В мире науки Дж. П. Джоуль определил, сколько нужно поработать, чтобы получить единицу тепла — «механический эквивалент теплоты», так это теперь называется, — а по соседству, в мире литературы, Теннисон только что издал «Смерть Артура». Собственно, раз уж речь зашла о «соседстве», давайте заглянем чуть дальше, всего через дом отсюда, в философию — там феминист и радикал Джон Стюарт Милль как раз дописал новую книгу, озаглавленную без затей: «Система логики». А вот через три дома от него, в музыкальном квартале…
В ГОЛЛАНДИЮ, ДРУГИ!
Да, так вот, в музыкальном квартале нашему герою, Вильгельму Рихарду Вагнеру, если называть его полным именем, исполнилось, как я уже упоминал, тридцать лет. У большинства композиторов к тридцати годам имеется в запасе порядочная часть самой лучшей их музыки. На самом-то деле, если приглядеться, очень немалый процент их почти всю ее к этому времени и сочиняет. Я что хочу сказать — тридцатилетнему Моцарту оставалось на то, чтобы написать лучшие его вещи, не так уж и много лет, а немалое число композиторов до столь почтенного возраста и вовсе не дожило. Вагнер, разумеется, был мистером Исключение, подтверждающим правило. Мистером Своенравие, если угодно. Так сказать, случай позднего развития — вам такие наверняка попадались: вечное желание быть первым, реденькие, трогательные даже усики, которые и отрастают-то перед самым выпускным балом. Ну вот, думаю, как раз таким Вагнер и был. Нет, кое-что он к этому времени уже сочинил — те же оперы: «Die Hochzeit», «Die Feen» и уже упомянутую «Das Liebesverbot»[*], однако… ладно, хорошо. Перечитайте-ка еще раз последнее предложение. А еще того лучше, давайте я сам его вам зачитаю. Слушайте:
 Вот именно. Вы о них когда-нибудь слышали: о «Hochzeit», «Feen», «Liebesverbot»? Ответом, скорее всего, будет «нет» — если, конечно, они не играли в 70-х центровыми за клуб «Боруссия». Что способно многое сказать вам о калибре создававшихся им до сей поры произведений. Если честно, Вагнеру только еще предстоит понять, на что он способен. И — если опять-таки честно — далеко не каждый из тех, кто его окружает, готов признать, что он вообще способен на что-то. В конце концов, из лейпцигской Томасшуле его исключили, большую часть времени, проведенного затем в университете — недолгого, должен добавить, времени — он посвятил пьянству, картам и распутству. (Сейчас Вагнера назвали бы образцовым студентом, но в ту пору подобное поведение почиталось позорным.) К тому же формально его музыкальное образование сводилось не более чем к шести месяцам на посту кантора лейпцигского кафедрального собора. А когда он в возрасте двадцати двух лет получил наконец настоящую работу в оперном театре Магдебурга, первая же его постановка — собственной оперы, разумеется, — привела театр к банкротству, после которого Вагнеру пришлось удрать вместе с женой, Минной, из города — в Ригу, принадлежавшую в ту пору к российской части Польши. Так кто же перед нами — ожидающий своего часа гений или малоприятный «маленький человек», наделенный манией величия? (Росту в нем, кстати сказать, было всего
5 футов и 5 дюймов.) В общем, как выражаются в суде присяжных, «решение за вами». Так или иначе, одно можно сказать с определенностью. Ни с того ни с сего, быстрее, чем вы могли бы выговорить «Я себя люблю, а кто еще меня любит?», колесо Вагнеровой фортуны взяло да и повернулось.
Его новую оперу, «Rienzi» — или просто «Риенци», — ждал в Дрездене огромный успех. Господа «Die Hochzeit», «Die Feen», «Das Liebesverbot» были напрочь и по заслугам забыты. «Риенци» стал хитом, а, как уверяют реперы, хит есть хит есть хит есть хит. Интересно, однако ж, отметить, что музыка «Риенци» все еще во многом отзывается ранним Вагнером, даже несмотря на его тридцать лет. Зрелый стиль Вагнера в ней отсутствует, можно даже сказать, что по стилю опера эта сильно напоминает модного тогда композитора Мейербера. Разумеется, прежде чем сказать это, следует оглянуться по сторонам, проверить, нет ли поблизости Хитрого Дика. Ему было важно одно: у него на руках оказался хит, целиком сработанный им самим, — «Как я провел летние каникулы», сочинение В. Р. Вагнера, написанное, когда ему было тридцать и три четверти лет.
Итак, Вагнера попросили сочинить что-ни-будь еще, а он, вместо того чтобы представить публике произведение в том же примерно роде, решил, что пришла пора обрушить на головы никакой беды не ожидающих дрезденцев нечто совершенно иное. В конце концов, полюбили же они «Риенци», стало быть, полюбят и следующую его оперу. От Вагнера требовалось только одно — перенести на бумагу сложившийся в его голове поразительный мир звуков, и тогда — ШАРАХ! — на руках у него окажется еще один хит. Он мысленно вернулся на несколько лет назад, в 1839-й, к чрезвычайно неприятному, вывернувшему все его нутро плаванию. Э-э, в Париж. Три раза корабль едва не ушел на дно морское — вслед за содержимым Вагнерова желудка. Однако плавание это оставило и еще одно долговечное воспоминание — рассказ, который он тогда услышал, историю морского Вечного Жида, похваставшего, что он может в любую погоду пройти под парусом вокруг мыса Доброй Надежды, и приговоренного к тому, чтобы вечно бороздить моря. Кара, если вам интересно мое мнение, чересчур суровая, но тут уж ничего не поделаешь. По условиям приговора ему разрешалось раз в семь лет заходить в какой-нибудь порт — полагаю, для пополнения запаса гигиенических пакетов, — участь же несчастного могла перемениться, лишь когда он отыщет возлюбленную, которая останется верной ему до самой смерти. История совершенно нелепая, решил Вагнер, и именно по этой причине идеально подходящая для оперы. Он быстро написал либретто. Как ни странно, либретто он предложил Французской опере, надеясь получить от нее заказ и на музыку тоже. Вместо заказа ему выдали 500 франков за сюжет и пожелали всего наилучшего. При его достатках отказаться от таких денег Вагнер не мог, а потому взял их и улепетнул обратно в Дрезден, где мог прожить на эту сумму время, достаточное для сочинения необходимой музыки. И он ее сочинил.
Новенькая, с иголочки, опера — все еще отдающая немного Мейербером, но тем не менее содержащая множество замечательных звуковых рядов из тех, что обратили более поздние его творения в материал для легенд, — была завершена. Закончена. Доведена до конца. Содеяна. И она…
…потерпела провал.
Образцово-показательный, плёвый, прискорбный провал.
Ко всему прочему, опера эта называлась «Летучий голландец», или, на родном Вагнеру немецком, «Der Fliegende Holländer». И публика приняла ее в штыки. Ждала и не могла дождаться, когда можно будет выбежать из оперного театра. То есть просто удрать за тридевять земель, лишь бы не слышать эту муть. Мир безусловнейшим образом не был готов к сосуществованию со зрелым Вагнером.
Чтобы отнестись к публике по-честному, — собственно, тут можно говорить о любой публике, коей приходится присутствовать на первом исполнении большого, изменяющего историю музыки произведения, — попробуйте поставить себя на ее место. Перенеситесь туда. Сейчас 1843-й, вы находитесь в Дрездене. Вы только что услышали первое, наполовину зрелое сочинение Рихарда Вагнера. Самым ошарашивающим произведением, какое кто-либо слышал до этой поры, было, скорее всего… что? Ну может быть, «Фантастическая симфония» Берлиоза, а то и «Гугеноты» Мейербера. Сказать по правде, и сейчас-то наберется от силы несколько сот счастливчиков, которые слышали и то и другое: скачать из Интернета мейерберовского «Роберта-Дьявола» в формате mp3 — дело невозможное. И стало быть, как вам себя вести после первого представления вещицы наподобие «Der Fliegende Holländer»? Как вам себя ВЕСТИ?
Надо полагать, вы просто не находите слов. Ну сами посудите, кому и когда могла хотя бы примечтаться такая вот череда звуков? Большая их часть попросту лишена для вас какого ни на есть смысла. И как же вы себя поведете? Опера закончилась. А у вас нет слов. Занавес опустился. Еще миг — и он поднимется снова. Как ВАМ себя вести? Молчать? Осмелиться… первым захлопать в ладоши? Вообще-то вы не такой уж любитель аплодировать, даже когда опера вам полностью по душе, и потому этого вы точно делать не станете. То есть не знаете вы, как себя вести. Или знаете? Нет!
И что?
Да то, что вы принимаетесь шикать как нанятой, скорее от неловкости, чем от чего-то еще, ну и потому что уверены: никому из окружающих опера тоже не понравилась. А затем вы лезете в карман за комковатым, подвядшим артишоком, который притащили с собой, намереваясь перекусить им в антракте. Вот и ладушки. Весьма сожалею, Вагнер, думаете вы, отправляя этот овощ в полет. Ну, здорово, прямо по кумполу угодил. Отличный бросок. А вот этим, что покрупнее, хорошо бы по заднице запузырить. Фантастика!
Ничего, Вагнер, ничего, будет и на твоей улице праздник. Собственно говоря, дайте-ка глянуть… всего через четыре страницы. Хочешь — верь, не хочешь — пересиди их в концерте. Что, кстати сказать, дает мне прекрасный повод перепрыгнуть через пару лет и приземлиться в 1845-м. Позвольте, однако, сообщить вам новости, мимо которых мы проскочили.
Вот именно. Вы о них когда-нибудь слышали: о «Hochzeit», «Feen», «Liebesverbot»? Ответом, скорее всего, будет «нет» — если, конечно, они не играли в 70-х центровыми за клуб «Боруссия». Что способно многое сказать вам о калибре создававшихся им до сей поры произведений. Если честно, Вагнеру только еще предстоит понять, на что он способен. И — если опять-таки честно — далеко не каждый из тех, кто его окружает, готов признать, что он вообще способен на что-то. В конце концов, из лейпцигской Томасшуле его исключили, большую часть времени, проведенного затем в университете — недолгого, должен добавить, времени — он посвятил пьянству, картам и распутству. (Сейчас Вагнера назвали бы образцовым студентом, но в ту пору подобное поведение почиталось позорным.) К тому же формально его музыкальное образование сводилось не более чем к шести месяцам на посту кантора лейпцигского кафедрального собора. А когда он в возрасте двадцати двух лет получил наконец настоящую работу в оперном театре Магдебурга, первая же его постановка — собственной оперы, разумеется, — привела театр к банкротству, после которого Вагнеру пришлось удрать вместе с женой, Минной, из города — в Ригу, принадлежавшую в ту пору к российской части Польши. Так кто же перед нами — ожидающий своего часа гений или малоприятный «маленький человек», наделенный манией величия? (Росту в нем, кстати сказать, было всего
5 футов и 5 дюймов.) В общем, как выражаются в суде присяжных, «решение за вами». Так или иначе, одно можно сказать с определенностью. Ни с того ни с сего, быстрее, чем вы могли бы выговорить «Я себя люблю, а кто еще меня любит?», колесо Вагнеровой фортуны взяло да и повернулось.
Его новую оперу, «Rienzi» — или просто «Риенци», — ждал в Дрездене огромный успех. Господа «Die Hochzeit», «Die Feen», «Das Liebesverbot» были напрочь и по заслугам забыты. «Риенци» стал хитом, а, как уверяют реперы, хит есть хит есть хит есть хит. Интересно, однако ж, отметить, что музыка «Риенци» все еще во многом отзывается ранним Вагнером, даже несмотря на его тридцать лет. Зрелый стиль Вагнера в ней отсутствует, можно даже сказать, что по стилю опера эта сильно напоминает модного тогда композитора Мейербера. Разумеется, прежде чем сказать это, следует оглянуться по сторонам, проверить, нет ли поблизости Хитрого Дика. Ему было важно одно: у него на руках оказался хит, целиком сработанный им самим, — «Как я провел летние каникулы», сочинение В. Р. Вагнера, написанное, когда ему было тридцать и три четверти лет.
Итак, Вагнера попросили сочинить что-ни-будь еще, а он, вместо того чтобы представить публике произведение в том же примерно роде, решил, что пришла пора обрушить на головы никакой беды не ожидающих дрезденцев нечто совершенно иное. В конце концов, полюбили же они «Риенци», стало быть, полюбят и следующую его оперу. От Вагнера требовалось только одно — перенести на бумагу сложившийся в его голове поразительный мир звуков, и тогда — ШАРАХ! — на руках у него окажется еще один хит. Он мысленно вернулся на несколько лет назад, в 1839-й, к чрезвычайно неприятному, вывернувшему все его нутро плаванию. Э-э, в Париж. Три раза корабль едва не ушел на дно морское — вслед за содержимым Вагнерова желудка. Однако плавание это оставило и еще одно долговечное воспоминание — рассказ, который он тогда услышал, историю морского Вечного Жида, похваставшего, что он может в любую погоду пройти под парусом вокруг мыса Доброй Надежды, и приговоренного к тому, чтобы вечно бороздить моря. Кара, если вам интересно мое мнение, чересчур суровая, но тут уж ничего не поделаешь. По условиям приговора ему разрешалось раз в семь лет заходить в какой-нибудь порт — полагаю, для пополнения запаса гигиенических пакетов, — участь же несчастного могла перемениться, лишь когда он отыщет возлюбленную, которая останется верной ему до самой смерти. История совершенно нелепая, решил Вагнер, и именно по этой причине идеально подходящая для оперы. Он быстро написал либретто. Как ни странно, либретто он предложил Французской опере, надеясь получить от нее заказ и на музыку тоже. Вместо заказа ему выдали 500 франков за сюжет и пожелали всего наилучшего. При его достатках отказаться от таких денег Вагнер не мог, а потому взял их и улепетнул обратно в Дрезден, где мог прожить на эту сумму время, достаточное для сочинения необходимой музыки. И он ее сочинил.
Новенькая, с иголочки, опера — все еще отдающая немного Мейербером, но тем не менее содержащая множество замечательных звуковых рядов из тех, что обратили более поздние его творения в материал для легенд, — была завершена. Закончена. Доведена до конца. Содеяна. И она…
…потерпела провал.
Образцово-показательный, плёвый, прискорбный провал.
Ко всему прочему, опера эта называлась «Летучий голландец», или, на родном Вагнеру немецком, «Der Fliegende Holländer». И публика приняла ее в штыки. Ждала и не могла дождаться, когда можно будет выбежать из оперного театра. То есть просто удрать за тридевять земель, лишь бы не слышать эту муть. Мир безусловнейшим образом не был готов к сосуществованию со зрелым Вагнером.
Чтобы отнестись к публике по-честному, — собственно, тут можно говорить о любой публике, коей приходится присутствовать на первом исполнении большого, изменяющего историю музыки произведения, — попробуйте поставить себя на ее место. Перенеситесь туда. Сейчас 1843-й, вы находитесь в Дрездене. Вы только что услышали первое, наполовину зрелое сочинение Рихарда Вагнера. Самым ошарашивающим произведением, какое кто-либо слышал до этой поры, было, скорее всего… что? Ну может быть, «Фантастическая симфония» Берлиоза, а то и «Гугеноты» Мейербера. Сказать по правде, и сейчас-то наберется от силы несколько сот счастливчиков, которые слышали и то и другое: скачать из Интернета мейерберовского «Роберта-Дьявола» в формате mp3 — дело невозможное. И стало быть, как вам себя вести после первого представления вещицы наподобие «Der Fliegende Holländer»? Как вам себя ВЕСТИ?
Надо полагать, вы просто не находите слов. Ну сами посудите, кому и когда могла хотя бы примечтаться такая вот череда звуков? Большая их часть попросту лишена для вас какого ни на есть смысла. И как же вы себя поведете? Опера закончилась. А у вас нет слов. Занавес опустился. Еще миг — и он поднимется снова. Как ВАМ себя вести? Молчать? Осмелиться… первым захлопать в ладоши? Вообще-то вы не такой уж любитель аплодировать, даже когда опера вам полностью по душе, и потому этого вы точно делать не станете. То есть не знаете вы, как себя вести. Или знаете? Нет!
И что?
Да то, что вы принимаетесь шикать как нанятой, скорее от неловкости, чем от чего-то еще, ну и потому что уверены: никому из окружающих опера тоже не понравилась. А затем вы лезете в карман за комковатым, подвядшим артишоком, который притащили с собой, намереваясь перекусить им в антракте. Вот и ладушки. Весьма сожалею, Вагнер, думаете вы, отправляя этот овощ в полет. Ну, здорово, прямо по кумполу угодил. Отличный бросок. А вот этим, что покрупнее, хорошо бы по заднице запузырить. Фантастика!
Ничего, Вагнер, ничего, будет и на твоей улице праздник. Собственно говоря, дайте-ка глянуть… всего через четыре страницы. Хочешь — верь, не хочешь — пересиди их в концерте. Что, кстати сказать, дает мне прекрасный повод перепрыгнуть через пару лет и приземлиться в 1845-м. Позвольте, однако, сообщить вам новости, мимо которых мы проскочили.
УЖЕ 1845-Й: ЕСТЬ НОВОСТИ
Добрый вечер, у микрофона Дэвид Суше[*], передаем краткую сводку новостей за последние два года. Англо-сикхская война началась и доставляет немало хлопот государственным служащим в походных сюртуках, и без нее уж хлебнувшим горя с восстанием маори[♫]. Не лишенные интереса события происходят также в США. Техас и Флорида влились в семью штатов, и — что, возможно, более важно — бейсбольный клуб с замысловатым названием «Никерброкер» сформулировал правила игры в бейсбол. Предположительно, где-то в них говорится, что (а) ни одна игра не может продолжаться менее трех недель, (б) всем присутствующим на матче следует лопать что дают и (в) каждому из них надлежит всей душой полюбить электрический орган. Что до спортивных событий, на которые допускаются лишь господа с подкрученными кверху усами размером с велосипедный руль, то гребные состязания между Оксфордским и Кембриджским университетами сменили верноподданство. Речь идет не о переходе из рук Би-би-си в руки Ай-ти-ви, а о переносе этих состязаний из Хенли в Патни. Возможно, кто-то из игроков одной из команд прихватил с собой на соревнования новую, вышедшую только в этом году книгу «Положение рабочего класса в Англии», изданную в Лейпциге Фридрихом Энгельсом. Собственно, всего только в прошлом году Энгельс познакомился в Париже с Карлом Марксом. История уверяет, будто они сошлись во мнениях практически по всем вопросам, кроме одного — кому платить за выпитые капуччино. Из числа прочих книжных новинок стоит упомянуть «Двадцать лет спустя», продолжение «Трех мушкетеров» Дюма, равно как и небольшую вещицу Проспера Мериме «Кармен». Мастер французского неоклассицизма, Энгр, только что выставил «Портрет графини Оссонвиль», а Ж. М. Гюве завершил в Париже «Ла Мадлен». Таким был мир в 1845 году. Теперь о погоде. В следующем году в Лахоре ожидаются легкие войны, в Нью-Мексико — сильные ветра, возможна аннексия. В остальном мире солнечно, местами грозы.
ВАГНЕР… РИХАРД ВАГНЕР
Как сказал однажды один из самых любимых мною людей, Оскар Уайльд, «музыку Вагнера я предпочитаю всякой другой на свете». Очень правильно. Присоединяюсь всей душой. Ладно, ладно, если быть честным, порядочным и правдивым, то на самом деле он сказал, в «Портрете Дориана Грея», следующее:
«Музыку Вагнера я предпочитаю всякой другой. Она такая шумная, под нее можно болтать в театре весь вечер, не боясь, что тебя услышат посторонние. Это очень удобно.»Ну в общем, да. Он это не всерьез. И все-таки. Вагнер действительно принадлежит к числу моих излюбленных гениев. Хотя, перед тем как снова заняться им, давайте посмотрим, что происходит с его причудливыми коллегами, композиторами той поры. Кто из них все еще на плаву? Ну что же, Шопен, Берлиоз и Лист по-прежнему производят немало шума. Да и Мендельсон пока что жив — как и Верди, Шуман, Гуно, Оффенбах, Зуппе… да очень многие. Первый состав полевых игроков команды «Классическая музыка» использует странное, кое-кто считает его незаконным, построение 4/2/20 с чем-то — и большую четверку, переднюю линию нападения, образуют Фредерик, Гектор, Ференц и новичок в команде, Рихард. Если быть честным, самым результативным по числу забитых мячей окажется в этой четверке — говоря исторически — Вагнер, у него же появится со временем и больше всего поклонников или, во всяком случае, он сможет претендовать на звание «самый влиятельный». В определенном смысле Вагнер произвел радикальную ревизию музыки. Он отменил правила. Отменил табель о рангах, структуру. Вагнер — да собственно, и многие романтики, но прежде всего Вагнер — задался простым вопросом: «А почему это мы обязаны?..» — и стал все делать по-своему. В детстве он обожал Бетховена и тратил часы за часами, переписывая его партитуры и делая собственные аранжировки бетховенской музыки. Любил он и оперы Моцарта — первого истинно немецкого оперного композитора, как называл его Вагнер, — и, если вы присовокупите к этому разумное уважение к еще одному композитору его поры, Мейерберу, что ж, тогда вы увидите, откуда, в определенном смысле, что произрастает. Добавьте сюда его рост — 5 футов 5 дюймов, — и все станет кристально ясным. Вы получите следующее уравнение:
 То есть «страсть к Бетховену × знание Бетховена + любовь к операм Моцарта поделить на недостаточность роста = оперы Вагнера». Элементарно. Теперь откройте учебник на странице 182 и посидите тихо, читая главы 7 и 8, а я пока схожу в буфет.
Вагнер желал создать новую форму — не просто музыку, не просто оперу, но настоящее живое, дышащее, органическое существо. В новой вагнеровской форме музыка и действие связаны неразрывно — одно не может шагу ступить без другого, и оба равно важны. Он дал ей название «музыкальная драма», в память о «dramma per musica»[*] Возрождения. Да собственно, она и была для него не просто оперой — чем-то другим. Музыке следовало вырастать из драмы, а драме — продвигаться вперед только с помощью музыки. Так что теперь вы не могли просто останавливаться время от времени и «выдавать» красивую арию, «вынимаемую» из оперы песенку, которую можно будет затем исполнять в сольных концертах. Его музыка будет строиться и строиться, как здание, равняясь на сюжет, — а, как мы уже знаем, либретто для себя Вагнер писал сам. Да и кто еще мог писать точно такие либретто, какие ему требовались? Кто еще понимал все «как следует»? Однако, если музыка будет более-менее неразрывной, как привлечь публику к участию в ней? Он хотел, чтобы публика, по меньшей мере, не отставала от музыки, но если вся музыка так и будет пребывать, страница партитуры за страницей, новой и доселе неслыханной, как сможет публика двигаться с нею вровень? Как она вообще разберется в происходящем, если все безостановочно вытекает и вытекает из того, что уже прозвучало? И самое главное:
КОГДА ОНА СМОЖЕТ ПОКАШЛЯТЬ?
То есть «страсть к Бетховену × знание Бетховена + любовь к операм Моцарта поделить на недостаточность роста = оперы Вагнера». Элементарно. Теперь откройте учебник на странице 182 и посидите тихо, читая главы 7 и 8, а я пока схожу в буфет.
Вагнер желал создать новую форму — не просто музыку, не просто оперу, но настоящее живое, дышащее, органическое существо. В новой вагнеровской форме музыка и действие связаны неразрывно — одно не может шагу ступить без другого, и оба равно важны. Он дал ей название «музыкальная драма», в память о «dramma per musica»[*] Возрождения. Да собственно, она и была для него не просто оперой — чем-то другим. Музыке следовало вырастать из драмы, а драме — продвигаться вперед только с помощью музыки. Так что теперь вы не могли просто останавливаться время от времени и «выдавать» красивую арию, «вынимаемую» из оперы песенку, которую можно будет затем исполнять в сольных концертах. Его музыка будет строиться и строиться, как здание, равняясь на сюжет, — а, как мы уже знаем, либретто для себя Вагнер писал сам. Да и кто еще мог писать точно такие либретто, какие ему требовались? Кто еще понимал все «как следует»? Однако, если музыка будет более-менее неразрывной, как привлечь публику к участию в ней? Он хотел, чтобы публика, по меньшей мере, не отставала от музыки, но если вся музыка так и будет пребывать, страница партитуры за страницей, новой и доселе неслыханной, как сможет публика двигаться с нею вровень? Как она вообще разберется в происходящем, если все безостановочно вытекает и вытекает из того, что уже прозвучало? И самое главное:
КОГДА ОНА СМОЖЕТ ПОКАШЛЯТЬ?
ЛЕЙТМУЗЫКА
А справился Вагнер с этой сложностью вот как. Он писал то, что именовал «лейтмотивами», — короткие, быстрые(-оватые), обозначавшие либо действующих лиц, либо настроения, либо общие темы. Они возникали в тех местах, где Вагнер хотел пояснить, что тут к чему, — нередко снова и снова, а порой и спустя долгое время после первого их появления. Собственно, я могу привести здесь роскошную цитату, слова дирижера сэра Томаса Толстосума Бичема, произнесенные им, когда он протаскивал один из оперных оркестров сквозь вагнерианские дебри:
Мы репетируем [эту оперу] вот уже два часа и все еще продолжаем играть одну и ту же дурацкую мелодию.Злоязыкий был человек. А с другой стороны, представьте, что вам приходится исполнять некое музыкальное произведение два, а то и три часа кряду, без остановки. Спустя некое время вы забудете даже, в какой тональности играете, тем более что Вагнер вечно перепархивал с одной на другую, сменяя их плавно и неприметно. Для слушателей это был, надо полагать, совершенно новый и несосветимо пугающий мир. Я уж не говорю о выносливости, которая в первую голову требовалась хотя бы для того, чтобы просто отсидеть его оперу — виноват, музыкальную драму. Вообще-то, раз уж мы так заинтересовались роскошными цитатами, стоит сказать, что одна из роскошнейших музыкальных цитат относится как раз к этой особенности опер Вагнера. Для меня она навсегда останется второй из любимейших, связанных с Вагнером, — первая принадлежит Вуди Аллену: «Я не могу подолгу слушать Вагнера. Меня почти сразу одолевает желание вторгнуться в Польшу». Да, так вот она, вторая:
Исполнение оперы Вагнера начинается ровно в шесть. По прошествии двух часов вы смотрите на часы — они показывают 6.20.И то сказать, не всякому дано одолеть пятичасовое творение, разделенное антрактами, которые тянутся, если честно, так же долго, как цельные оперы соперников Вагнера. А причина, по которой мы заскочили в 1845-й, состоит в том, что Вагнер как раз в этом году решил впервые показать себя публике во всей красе. 19 октября 1845 года он обнародовал свою первую, воистину музыкальную — все поют и танцуют — драму. Клубное имя она получила попросту фантастическое:
 …а для краткости просто «Тангейзер». Вот видите: хоть все остальное он и делал правильно, в том, что касается названий, Вагнер оставался безнадежным. Ну посудите сами: «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге». Напоминает мне давние отпуска моих родителей — мы тогда как раз на «вартбурге» и ездили. Да. Правда, насколько я помню, состязания певцов в нем не проводились. У этой машины имелась радиоантенна, которую приходилось вытягивать вручную, а сзади — занятные вентиляционные планки. Шуму от нее было — ужас. Но мне она нравилась. Простите. Куда-то меня не туда повело.
Как я уже говорил, одолеть огромонструозные оперы Вагнера дано не всякому, и, может быть, именно этим объясняется популярность раннего его шедевра, «Тангейзера», который по длине не дотягивает до лучших образцов, укладывающихся всего лишь в четыре дня — в восемнадцать часов. «Тангейзер» снабжен также одной из прекраснейших оперных увертюр, стремительной и завершенной, успевающей предупредить слушателя почти обо всех мелодиях, какие он услышит и опере. В результате она стала одной из наиболее часто исполняемых оперных увертюр — не только вагнеровских, всех вообще.
Теперь, если вы не возражаете, — да собственно, если и возражаете, тоже, — я перейду к периоду 1848/49/50 годов, то есть проскочу пять с чем-то лет — или полновесную оперу Вагнера, если вам так больше нравится.
…а для краткости просто «Тангейзер». Вот видите: хоть все остальное он и делал правильно, в том, что касается названий, Вагнер оставался безнадежным. Ну посудите сами: «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге». Напоминает мне давние отпуска моих родителей — мы тогда как раз на «вартбурге» и ездили. Да. Правда, насколько я помню, состязания певцов в нем не проводились. У этой машины имелась радиоантенна, которую приходилось вытягивать вручную, а сзади — занятные вентиляционные планки. Шуму от нее было — ужас. Но мне она нравилась. Простите. Куда-то меня не туда повело.
Как я уже говорил, одолеть огромонструозные оперы Вагнера дано не всякому, и, может быть, именно этим объясняется популярность раннего его шедевра, «Тангейзера», который по длине не дотягивает до лучших образцов, укладывающихся всего лишь в четыре дня — в восемнадцать часов. «Тангейзер» снабжен также одной из прекраснейших оперных увертюр, стремительной и завершенной, успевающей предупредить слушателя почти обо всех мелодиях, какие он услышит и опере. В результате она стала одной из наиболее часто исполняемых оперных увертюр — не только вагнеровских, всех вообще.
Теперь, если вы не возражаете, — да собственно, если и возражаете, тоже, — я перейду к периоду 1848/49/50 годов, то есть проскочу пять с чем-то лет — или полновесную оперу Вагнера, если вам так больше нравится.
НУ РАЗВЕ ЭТО НЕ РОМАНТИЧНО?
Ну-с, позвольте сразу подвести вас к самому краю. Вообразите, что сейчас 1849 год. В следующем, 1850-м, музыка станет, согласно посвященным ей научным трудам, — и заметьте, мой труд я в это августейшее собрание не включаю, — поистине РОМАНТИЧЕСКОЙ, а не просто РАННЕРОМАНТИЧЕСКОЙ. Иначе говоря, наступает период ВЫСОКОГО, как некоторым правится его называть, Романтизма — то есть, насколько я понимаю, все того же Романтизма, но с добавлением благовоний и латыни. Начиная с 1850-го музыку разрешено считать окончательно, по-настоящему романтичной. Так что в 1849-м мы стоим на самом краю. Официально мы еще пребываем в периоде раннего романтизма, но это не надолго. Если кто-нибудь подсадит нас, чтобы мы смогли заглянуть за забор, нам откроется сад Высокого Романтизма во всей его пышной красе. Но что же позволило всем перевалить, если можно так выразиться, через край — в полный, удостоверенный Романтизм? Ну, отчасти дело в том, что так оно все обычно и происходит: люди всегда доводят некое движение до последних его пределов, а там кто-то жмет на кнопку гудка, и пожалуйста — перед нами следующая большая сенсация. Однако важнее, если считать романтизм побочным продуктом музыки и происходящих в мире событий, — вспомните Бетховена: наполовину человек, наполовину самый что ни на есть революционер, — важнее другое: в этом случае становится ясно, что подлинным топливом романтизма является революция. Еще со времен «Героической» первого без второй получить было невозможно. Итак, что же оказалось тем главным толчком, который заставил романтиков переступить через край, обратиться в законченных высоких романтиков? Ну, прежде и превыше всего события прошедшего года.
РИХАРД ВЕЛИКИЙ И РЕВОЛЮЦИЯ
1848-й был ГОДОМ революции в большей мере, чем какой-либо другой год недавней истории. В Париже Луи Филипп отрекся от престола, и французское Национальное собрание избрало не так давно сбежавшего из тюрьмы Луи Наполеона президентом Французской республики. В Вене князь Меттерних подал во время первого бунта в отставку, затем, во время второго, император Фердинанд I решил, что пора, пока не развезло дороги, сматываться и ему, — и улизнул в Инсбрук, кататься на лыжах. Следующее, третье восстание заставило его и вовсе отречься от престола в пользу племянника, Франца Иосифа. В Риме убили папского премьер-министра графа Росси, а сам папа Пий, ловкач этакий, улепетнул. И такое происходило повсюду. Париж, Вена, Берлин, Милан, Парма, Прага, остров Шеппи ☺, Рим — все переживали грандиозный период Революции, с большой Р. Э-э, и жирным шрифтом, пожалуйста. И курсивом. И можно еще подчеркнуть. Надеюсь, вы меня поняли. Наступил 1849-й, и происходящее захватило самого Вагнера. Он принялся произносить бескомпромиссные, радикальные речи в поддержку повстанцев и даже продавать на улицах брошюрки. Можете себе такое представить? Вы сталкиваетесь на улице с Вагнером, а он пытается всучить вам журнальчик.
Р.В. Guten Tag[*], губернатор. «Groß[*] Дело» не купите? Плебей. Виноват? Р.В. Да бросьте, купите «Groß Дело», поддержите революцию, э-э, пожалуйста. Плебей. О, я, э-э, я уже купил один, Вагнер, нет, правда. Он у меня это… дома лежит. Р.В. (цыкает зубом). Э-э, ладно, а как du[*], сквайр? Может, купишь «Groß Дело»? А ну, «Groß Дело», кому последние eins?[*]Удивительная картина. Как бы там ни было, в итоге, когда беспорядки в вагнеровском уголке белого света закончились, в сущности говоря, пшиком, Вагнеру пришлось бежать от преследований в Цюрих. И представьте, он вынужден был, ожидая, когда утихнет шум, просидеть в Цюрихе тринадцать лет. Тринадцать лет! Шум, надо думать, был немалый. А о том, чтобы его не забыли на родине, оставалось хлопотать друзьям и защитникам Вагнера. Таким был 1849-й, год удивительного поворота событий. Ну-с, а что там у нас в 1850-м, а?
ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ, НО БОЯЛИСЬ СПРОСИТЬ, НАПРИМЕР: «А ЧТО ТАМ У НАС В 1850-М, А?»
Итак. 1850-й. Ну правильно, хорошо, давайте посмотрим. Шопен вот уж год как умер, Мендельсон — вот уже три года как, и даже Эдгару Аллану По удалось наконец выяснить, действительно ли смерть носит красную маску. В Англии покинул сей мир Уильям Водсворт, а пост поэта-лауреата занял Альфред, лорд Теннисон. Калифорния стала очередным приобретением штатного состава — что и не удивительно, если вспомнить разразившуюся два года назад золотую лихорадку, — а в Китае учиняет всякого рода неприятности Тайпинское восстание и в итоге Хун Сюцюань провозглашает себя императором. Вообще-то отличнейший фокус — это я о том, чтобы провозгласить себя императором. Прекрасная мысль. Собственно говоря, я и сам не прочь попробовать. А ну-ка:

Настоящим провозглашаю себя императором Соединенного Королевства и всех его колоний, включая, разумеется, весь Норфолк, — и не забудьте о великом острове Шеппи.М-да. Ну ладно. Что-то я никакой разницы не почувствовал. Интересно, сработает или нет? Может, я уже и император, откуда мне знать? Надо бы посмотреть, не удастся ли мне аннексировать какую-нибудь страну, из тех, что помельче, или — это будет проверочка понадежнее — заставить таксиста отвезти меня на Южный берег.
БРАТЬЯ БЛЮЗ. И РИХАРД
Вернемся в 1850-й. Тургенев сочиняет пьесу «Месяц в деревне», а Вагнер тем временем коротает в горах второй год своего вынужденного изгнания. Однако писать не перестает. Конечно, нет. Это человек, получивший, говоря словами братьев Блюз, задание от Бога. Сам он выразил это так:
Мною пользуются как орудием для исполнения чего-то куда более высокого, нежели то, на что способен я сам… я пребываю в руках бессмертного гения, которому служу во все сроки моей жизни, и это понуждает меня завершить то, чего только я один достичь и способен.М-да. Должен сказать, братья Блюз выражались, по-моему, немного яснее. Однако не это в 1850 году самое главное. Самое главное — в 1850, то есть, году — состоит в том, что Рихард Вагнер производит на свет свое лучшее по сю пору творение, — некоторые считают, что это первый его ИСТИННЫЙ шедевр. Разумеется, это опера. Виноват, «музыкальная драма». Однако без увертюры. У нее вместо увертюры — вступление. А лейтмотивов в ней столько, что хоть ложкой ешь. И она цельнее и совершеннее, чем любая из его предшествующих попыток. Она фан — черт дери — тастична! Да, но кто же будет дирижировать ею? В Германии, я имею в виду. Взглянем правде в лицо: мировая премьера оперы Вагнера вряд ли сможет наделать много шума где-то еще — стало быть, она должна состояться в Германии. А кому хватит смелости протащить на сцену создание отъявленного бунтаря, разыскиваемого полицией за государственные преступления? Что ж, добрый старый Ференц Лист, сделайте шаг вперед. Лист уже успел обратить на себя всеобщее внимание своей музыкальной деятельностью в Веймаре. Собственно, и он, и Веймар стали для всей страны притчей во языцех. Непреклонная приверженность хорошей музыке принесла Листу международное признание — примерно как сэру Саймону Рэттлу и Бирмингему в 1980-х[*]. Так где же найти лучшее место для премьеры творения революционного изгнанника, Вагнера? (Я говорю, разумеется, о Веймаре, не о Бирмингеме.) Да еще и творения, способного развязать бог весть какие страсти? «Лоэнгрин». Или, если воспользоваться полным клубным именем:
 Ладно, насчет полного названия я наврал. Ну расстреляйте меня. А вообще, займемся лучше 1851-м. Тем более там есть о чем порассказать.
Ладно, насчет полного названия я наврал. Ну расстреляйте меня. А вообще, займемся лучше 1851-м. Тем более там есть о чем порассказать.
ЖЕНЩИНЫ — ЛГУНЬИ
1851-й. Давайте быстренько пробежимся по разным странам, посмотрим, как в этом году обстоят дела с численностью населения. В Британии сейчас проживает около 20 миллионов, в Америке — поразительные 23, во Франции — 33, в Германии — 34, однако на первом месте — сногсшибательные 430 миллионов — стоит заткнувший всех за пояс Китай. Отличный результат, Китай. Можешь начать сокращаться! И какие же еще новости я вам могу сообщить? Довольно большие. Куба только что провозгласила независимость, Франция получила — после учиненного Луи Наполеоном переворота — новую конституцию, а Британия? Что ж, в Британии появились первые двухэтажные омнибусы. Не бог весть какое событие — для Британии, — но все-таки. Вообще тут все малость поуспокоилось. В США новехонькая «Нью-Йорк таймс» печатает рекламу столь же новехонькой швейной машинки — первой из когда-либо созданных швейной машинки, дающей сплошной шов, — ее только что запатентовал Исаак Зингер, между тем как в Париже пионер фотографии Луи Дагер упал, споткнувшись на собственном крыльце, и умер. Таким образом, он не только изобрел фотографию, по и стал первым из тех, кто отдал концы на пороге своего дома. Английские ценители искусства оплакивают кончину одного из лучших своих живописцев, Д. М. У. Тёрнера. Литературным событием года стал «Моби Дик» Германа Мелвилла, а вокзал Кинг-Кросс получил от Уильяма Кьюбитта свеженькое, вызвавшее всеобщие нарекания современное здание. Правда, платформу 9¾ там еще не соорудили[*]. В мире же музыки мы встречаемся с Верди, прячущим кое-что в рукаве. В зеленом, могли бы добавить мы, рукаве. Вообразите, что вы уже там. Где? Там. В Венеции. В театре «Ла Фениче». И допустим… допустим, вы сидите в оркестре. Да, вот именно. Вы сидите в оркестре. Вы уже отсидели три генеральные репетиции и всякий раз, добираясь до определенного места оперы, натыкались на чистый лист. В буквальном смысле. Вот здесь должна быть ария, а вместо нее — пустая страница. Добравшись до нее, все смотрят на дирижера — вопросительно. Дирижер — он же и композитор — произносит нечто вроде: «О… ну, мы… мы это потом добавим». Чертовски странно. Это происходит один раз. Другой. Собственно говоря, происходит каждый раз, как вы доходите досюда, бесспорно, пугающе, душераздирающе, чертовски и дьявольски странно! Вернее, казалось странным до самой последней генеральной репетиции, состоявшейся в день перед вечерней премьерой. Только тогда Верди — наш дирижер/композитор — и выложил на стол недостающую арию. Почему? А видите ли, Верди понимал, что у него на руках козырной туз. Собственно говоря, Верди был уверен, что на руках у него козырная, ударная ария, ну и держал свой козырь в рукаве, опасаясь, что какой-нибудь мазурик из композиторов его попятит. И был, надо сказать, прав. Я не о том, что его кто-то украл, — я хотел сказать, что у Верди действительно имелась в запасе ударная ария. Начало ее обычно переводится как «Сердце красавиц склонно к измене», однако я помню изумительную постановку Английской национальной оперы, осуществленную доктором Джонатаном Миллером, переведшим эти слова так: «Женщины — лгуньи», что, по-моему, не лишено смысла. Ну-с, эта опера, «Риголетто», была в тот вечер исполнена вместе с ударной арией, которую Верди до последнего дня скрывал даже от своего оркестра, — с арией «La donna è mobile». Нет, согласитесь — мелодия сногсшибательная. Теперь вы понимаете, почему он над ней так трясся. Одна из тех мелодий, которые раз услышишь и уж больше из головы никогда не выкинешь. Да и слова неплохие.
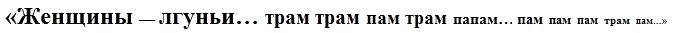
БЕЗ ВОСЬМИ МИНУТ СЕМЬ
После премьеры «Риголетто» прошел всего один год, но боже ты мой, сколько же всего наслучалось. Луи Наполеон стал королем, во всяком случае, наделил себя властью монарха — примерно так же, как я чуть раньше наделил себя властью императора. Скажу вам честно, это меня нисколько не изменило. Я по-прежнему кормлюсь все в том же рабочем буфете, оставляю машину на все той же рабочей парковке — ну и так далее. Вот и Луи Н. по-прежнему именует себя Президентом. Опять-таки совсем как я — я же не устраиваю скандалов, требуя, чтобы все называли меня Императором. Нет, разумеется, если все начнут так меня называть, я и на чай давать стану немного больше. Ладно, пока мы не оставили эту тему — скончался, дожив до величаво преклонных восьмидесяти четырех, Железный Герцог; жизнь он прожил достаточно долгую для того, чтобы увидеть самую первую английскую сборную по крикету. Можно предположить, что он успел увидеть и самую первую череду бэтсменов-мазил. Чарлз Диккенс, похоже, все еще не научился писать плохо, шедевры выходят из-под его пера один за другим — в этом году вышел «Холодный дом», который спорит за место на полке с «Хижиной дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу. Если говорить об искусстве изобразительном, наиболее приметными работами года стали «Свет мира» Уильяма Холмена Ханта и «Офелия» Милле. Что же касается музыки 1852 года, больше всего шума по-прежнему производит Рихард Вагнер. В 1852-м Вагнер все еще сидит изгнанником в Цюрихе. И хоть Лист устроил ему, по дружбе, премьеру «Лоэнгрина» в Веймаре, Рихард остается, по собственным его словам, одним из немногих немцев, оперы этой на театре не видевших. Тем не менее она обратила Вагнера в одного из самых знаменитых на его родине композиторов. Сложив все это вместе, вполне можно понять, почему он в один прекрасный день проникся желанием обзавестись собственным оперным театром, не правда ли? Такой театр наконец-то позволил бы ему увидеть собственные творения на сцене. Впрочем, РВ вовсе не собирался, сидя в краю коров и шоколада, попусту тратить время. Он старательно корпел над исполнением величайшего, пока что, из своих замыслов — и, скажите честно, разве вы надеялись услышать от меня что-нибудь другое? Да я и сам не способен вообразить себя пишущим нечто вроде: «Он решил немного сбавить обороты, заняться чем-то небольшим, быть может, сочинять музыку лишь в свободное от занятий любимым страховым бизнесом время!» О нет. Рихард, вне всяких сомнений, принадлежал к разряду людей, руководствующихся в жизни девизом «Больше, лучше, грандиозней», и потому новой его идеей стала не просто опера, но гигантский ЦИКЛ опер. Четыре, если быть точным, оперы, которые станут колоссальным явлением, которые, единожды прозвучав, вознесутся превыше всех прочих опер, прошлых и будущих. «Кольцо нибелунга», такое название дал Вагнер своему замыслу, обладавшему изрядным сходством с куда более поздними «Звездными войнами». Первым делом Вагнер написал текст — либретто — того, что он назвал «Смертью Зигфрида». Зигфрид — герой всего цикла, так что, если вам это поможет, представьте его себе как Люка Скайуокера девятнадцатого столетия. Когда же Вагнер принялся за сочинение отвечающей тексту музыки, ему пришло в голову, что, вообще говоря, он мог бы и рассказать, с чего вся история началась. И потому написал текст первой, так сказать, «серии», названной «Юностью Зигфрида», — это, если угодно, своего рода «Зигфрид: Призрачная угроза». Следом он написал текст еще одного «предваряющего эпизода» — «Валькирии», а там и еще одного — «Золото Рейна». Представляете себе — одна книга с тремя вступлениями. Так что сами видите: «Звездные войны», затем «Звездные войны: Призрачная угроза», затем «Звездные войны: Атака клонов» и т. д. — все это уже было проделано Вагнером лет этак 150 назад. Наконец, написав столько слов, он все же принялся сочинять для них музыку. И уже к 1856-му закончил первые две части: вступление, «Золото Рейна»… и первый эпизод, «Валькирия». Надеюсь, вам все понятно. Если так, не могли бы вы объяснить хоть что-нибудь и мне, потому что я уже намертво запутался. Разумеется, полностью музыку цикла он дописал лишь к 1874 году, что способно дать вам некоторое представление о том, какой гигантской была его затея. В окончательном виде цикл исполняется в течение четырех вечеров: это полных пятнадцать часов оперной музыки. Если вам случится проходить мимо оперного театра и увидеть людей при полном параде, в смокингах и манишках, заходящих туда в 3.30 пополудни, можете без особого риска поспорить, что это либо (а) заблудившиеся, мертвецки пьяные студенты, расходящиеся по домам после буйной ночки, предварившей Майский бал, либо (б) в этом театре дают «Кольцо». Что и говорить, с первого раза с «Кольцом» освоиться не просто, тем не менее оно способно стать не только испытанием для мочевого пузыря, но и наградой за воодушевленное терпение. Это колоссальный поток совершенно УПОИТЕЛЬНОЙ музыки — музыки, в которой можно, без всяких шуток, утонуть с головой. Сюда следует добавить, что таковое мнение разделяют далеко не все. Известно, что Россини к числу поклонников «Кольца» не принадлежал. Как и Фридрих Ницше. «Да и вообще, человек ли Вагнер? — писал он. — Не похож ли он более на болезнь? Вагнер заражает все, к чему прикасается, — он и на музыку наслал хворь. Заявляю твердо: искусство Вагнера больно». Так его, Фредди, чего стесняться-то? А теперь продвинемся немного вперед — даже и не на год, а всего лишь в январь и март 1853-го. Я выбрал эти месяцы потому, что они помогут нам вглядеться в два главных стиля, преобладающих в музыке, а вернее сказать, в опере того времени.
19 ЯНВАРЯ И 6 МАРТА 1853
Собственно, это дни, в которые завсегдатаям оперных театров Рима и Венеции соответственно довелось услышать новые сочинения Верди — «Trov» и «Trav». Или, если быть более точным, «Il Trovatore»[*] и «La Traviata». А чем это так уж важно — не считая того, что обе оперыголовокружительны и все еще исполняются в мире каждые пять минут? Ну-с, важно это тем, что, поставив их рядом с «Rheingold» («Золото Рейна») и «Walküre», вы получите довольно ясное представление о двух больших школах романтической музыки того времени: итальянской и немецкой.
В по-немецки просторном, набранном жирным шрифтом углу сидит, понятное дело, Вагнер, который, несмотря на свой неповторимый, одноразового употребления индивидуализм, происходит прямиком от немецкой традиции: его оперы суть логическое продолжение — хорошо, ладно, логическое, по понятиям Вагнера, — наследия Бетховена с Вебером и еще не составившего завещания Мейербера.
По-итальянски витиеватый, «курсивный» угол занимает Верди. Он — прямой продолжатель линии Беллини с Доницетти и всего присущего им итальянистого «бельканто».
Вагнер желает продвинуть вперед собственную художественную форму. Верди делает вид, будто потакает вкусам толпы. Вагнер устремлен к высотам. Верди стремится к успеху. Вагнер общается с богами, не слезающими с коней. Верди общается с лоботрясами, не вылезающими из кресел партера. А вместе они образуют романтическую оперу 1853 года.
Догадайтесь, однако, кто, как уверяют, того и гляди явится нам спустя двадцать шесть лет после своей кончины? Если вы сказали «Бетховен», считайте, что вам причитается десять очков и два стакана вина.
БРАМС И «ЧЕЛОВЕК ПО ИМЕНИ»
Год, о коем идет речь, тот год, в котором нам, как уверяют, явился покойный Людвиг, это 1858-й, отстоящий лет примерно на пять от «Trov» и «Trav». Если быть совсем уже честным, так я вовсе не пытаюсь внушить вам, будто Людвиг так-таки восстал из мертвых. Нам явился человек совсем другого пошиба — с другими пунктиками, с другой манерой, — да и ноты он, вообще говоря, писал совершенно другие. В молодости человек этот, как я слышал, зарабатывал на жизнь, играя на пианино в пивных и борделях, а музыку стал сочинять в годы уже довольно зрелые. Он также держал в кабинете, где сочинял ее, бронзовый бюст канцлера Бисмарка — в виде напоминания о превосходстве Германии, в которое истово верил. Так кто же он, этот не лишенный дородности композитор, которого мало кто видел без сигары во рту, композитор, написавший, как уверяли, «Бетховенскую Десятую»? Шаг вперед, Иоганнес Брамс, старая дева нашего прихода. Но прежде чем мы займемся связью между Брамсом и Ваном, «Человеком по имени», — герром Бетховеном то есть, — я, с вашего дозволения, коротко расскажу о событиях этого года. Войны — что очевидно и без моих напоминаний — так во множестве и ведутся. Англо-китайская как раз подходит к концу, зато, опять-таки как раз, началось Индийское восстание — но, правда, Тайпинское (вся эта кутерьма вокруг дивана) вроде бы подавлено. Гарибальди аккурат в прошлом году основал Итальянский национальный союз, между тем как в Британии пост премьер-министра занял лорд Дерби. Снизойдя до уровня более эфемерного, укажем на учреждение «Дейли телеграф» и на Флоренс Найтингейл, снискавшую в Крыму свои пятнадцать минут славы. А в еще большей дали от дома Ливингстон, исследуя реку Замбези, натыкается на просто-напросто занимающую дух череду водопадов. Особенно хорош один из них, расположенный в самых нетронутых, самых девственных местах, какие только можно себе представить: потрясающий, поразительный, оглушающий в своем свирепом буйстве и… что ж, по-видимому, Ливингстону он чем-то напомнил тридцатидевятилетнего, женообразного, угрюмоликого монарха с подобием улыбки Моны Лизы на устах. Ну вот. И Ливингстон дал своей находке имя: водопад Виктория. Не Поразительный водопад, не Свирепый водопад, не водопад «Черт подери, вы только посмотрите на это». Нет. Водопад Виктория. И в чем-то он был прав, не так ли? Обратимся, пока Ливингстон в отлучке, к миру книг. За последние несколько лет провинциальные библиотеки пополнились несколькими очень симпатичными сочинениями: пару лет назад вышла «Мадам Бовари» Флобера, а с нею и бодлеровские скандальные «Les Fleurs du Mal» — «Цветы зла», и Троллоповы «Башни Барчестера». Да и в других областях тоже происходит много интересного: мир живописи только что обрел картину Энгра «La Source»[*]; мир нехороших веществ — первый экстракт чистого кокаина и, наконец, мир «людей, названных в честь колокола» обзавелся своим первым и, возможно, единственным обитателем — бывшим в то время Главным смотрителем работ Лондона, неким сэром Бенджаменом Холлом. Колокол, размещенный в башне Св. Стефана, получил прозвище Биг-Бен. Весьма ловкий способ войти в историю, не правда ли? Под видом колокола. Не как «человек, повинный в смерти нескольких тысяч людей» или «тот, кто первым подцепил довольно противную кожную болезнь». Нет, как «человек, давший имя звону, который вы слышите в „Десятичасовых новостях“ и под Новый год». Так не забудьте обронить это имя, если вам вдруг выпадет случай затесаться в толпу туристов у здания Парламента и часы его начнут отбивать время, — что-нибудь вроде: «А, это добрый старый сэр Бенджамен Холл трезвонит на башне Святого Стефана». Забавно, если вдуматься, что примерно в это же время скромная четырнадцатилетняя девочка Бернадетте Субиру, жившая в городе Лурд — это на юге Франции, — объявила, будто ей явилась Дева Мария. Биг-Бен и Лурд, понимаете? Вот уж не знал, что они как-то связаны, а вы? Впрочем, вернемся к Брамсу. Здесь перед нами, как бы это выразиться подипломатичнее, еще один пример встречающегося в мире композиторов «запоздалого развития». Правильная организация жизни композитора требует, как вы, вероятно, знаете, чтобы он создал лучшие свои творения еще подростком, в двадцать лет подцепил сифилис, а в двадцать семь умер, большое ему спасибо. Ну так вот, у Брамса все получилось иначе. Брамс был, не знаю, как бы это сказать, ну, в общем… опаслив. Понимаете, он преклонялся перед Бетховеном и очень долгое время ощущал себя пребывающим в тени «Человека по имени». Собственно говоря, когда на него нападала хандра, он вообще не видел смысла сочинять что бы то ни было, почти не видел, — после достигнутого Бетховеном. И в результате все откладывал сочинение своей первой симфонии, откладывал — и, если честно, правильно делал, особенно с учетом того, что критики в один голос называют ее «Десятой Бетховена», — короче говоря, тянул резину. Тем не менее в 1858 году ему удалось привести нервы в порядок и закончить свой первый фортепианный концерт ре минор. По правде-то сказать, волновался он зря. Концерт его считается ныне одной из главных единиц оружия, какое только имеется в арсенале концертирующего пианиста, — наряду с изумлением, страхом и почти фанатической преданностью Папе Римскому (нет, простите, в эту тему я лучше вдаваться не стану) — хотя, надо признать, премьера его прошла так себе. На самом то деле, если как следует подумать, при жизни Брамса его ФК № 1 никем особо не ценился. Я вот уже подумал как следует и сообразил, что в основной концертный репертуар пианистов он попал только в двадцатом столетии. Так что, если честно, основания для беспокойства у Брамса имелись. Короче, извини, Брамс. Ты и впрямь не зря волновался. И все-таки. Мне он нравится. Так или иначе, Брамсов ФК № 1 появился примерно в то же время, что и последний выплеск творческой энергии из обиталища Бесноватого Гектора. Виноват, последнее предложение, пожалуй, придется переделать. В том же самом году Берлиоз завершил еще один из своих шедевров. Да, он все еще с нами, еще психует, еще пытается повергнуть всех и каждого в оторопь своими ЭПическими творениями. (Именно так, ЭПическими с прописными ЭП.) 1858-й дал нам ЭПическую (с прописных ЭП) ОПеру (с прописных ОП):
 Как вам нравится шрифт «эпик»? В те дни человеком, норовившим войти в труды по истории в качестве сочинителя, решительно не способного выпустить перо из рук, был Вагнер, оставивший миру КОЛОССАЛЬНЫЕ продлинновенные оперы, дослушать которые до конца можно, лишь имея в запасе термос, таблетки глюкозы и мочевой пузырь из нержавеющей стали. Однако и Берлиоз, как видите, тоже расстарался — задолго до того, как Брэд Питт напялил юбку. Собственно говоря, беда «Les Troyens» не только в том, что эта опера до смешного длинна — четыре с половиной часа, за которые можно успеть заскочить в театральный буфет и получить там бутерброд с лососиной и продаваемую по спекулятивной цене маленькую бутылочку шампанского, — беда ее также в том, что она просто-напросто слишком пышна.
«Les Troyens» переводится, о чем вы могли уже догадаться, как «Троянцы». Простите, первым делом мне следует отдать должное этому названию.
Как вам нравится шрифт «эпик»? В те дни человеком, норовившим войти в труды по истории в качестве сочинителя, решительно не способного выпустить перо из рук, был Вагнер, оставивший миру КОЛОССАЛЬНЫЕ продлинновенные оперы, дослушать которые до конца можно, лишь имея в запасе термос, таблетки глюкозы и мочевой пузырь из нержавеющей стали. Однако и Берлиоз, как видите, тоже расстарался — задолго до того, как Брэд Питт напялил юбку. Собственно говоря, беда «Les Troyens» не только в том, что эта опера до смешного длинна — четыре с половиной часа, за которые можно успеть заскочить в театральный буфет и получить там бутерброд с лососиной и продаваемую по спекулятивной цене маленькую бутылочку шампанского, — беда ее также в том, что она просто-напросто слишком пышна.
«Les Troyens» переводится, о чем вы могли уже догадаться, как «Троянцы». Простите, первым делом мне следует отдать должное этому названию.
 Замечательно. Мне вдруг стало намного лучше.
Да, так вот, о размерах. Что ж, в эту тему стоит углубиться. За основу «Троянцев» Берлиоз взял «Энеиду» Вергилия, книжицу тоже не маленькую, что подтвердит вам любой школьник[♫]. Так что Берлиоз решил разделить свою оперу на две — дьявольски благородно с его стороны, — а именно на «La Prise de Troie» и «Les Troyens à Carthage»[*]. Пока все вроде бы хорошо. Горе в том, что он и эти две части сделал непропорционально длинными, — проблема, которую еще можно как-то решить, будь она единственной. Но, увы, опера Берлиоза оказалась и безумно дорогой для постановки. Подумайте сами: мало того, что Брэд Питт, так еще и статисты, статисты! Не говоря уж о том, что порядочного деревянного коня никто вам нынче не выстругает.
В результате при жизни Берлиоз творения своего на сцене так и не увидел, да и сегодня вам вряд ли когда-нибудь выпадет лучшая, в этом смысле, доля. Лишь у очень немногих оперных театров достанет бюджета, чтобы одолеть постановку гигантских «Троянцев» и уцелеть. При всем при том «Опера Норт»[*], сколько я помню, проделала это несколько лет назад, и ничего, жива-здорова, большое ей спасибо, так что, наверное, это все же возможно. И хоть я постановки не видел, мне говорили, что она того стоила, что в опере этой очень много красивых мест — тот же дуэт «Nuit d’ivresse»[*]. Пока же, может, вам лучше просто пойти и купить CD с «основными моментами» оперы и постараться представить себе, на что могут походить «Троянцы». Театральная их постановка то есть. А не… ну, скажем, люди, которым приходится сидеть в нутре деревянного коня, вдавив носы в задницу какого-нибудь устроившегося прямо перед ними потного греческого обалдуя.
Занятная это штука, размер. Для тогдашней компании оперных композиторов он явно имел большое значение. Берлиоз, Мейербер, Вагнер — все они словно сдвинулись на размере. Сейчас, оглядываясь назад, испытываешь искушение заявить, что сдвинулись они, пожалуй, далековато, однако это может оказаться не таким уж и верным. Тогда, в том же 1858-м, вы действительно попадали в САМУЮ ГЛУБИНУ чащобы, именуемой Высокой Романтической Оперой, а как уже говорилось, то, в какой точке жизненного цикла некоей «эры» или «периода» вы очутились, в основном и определяет, какого типа, стиля и, никуда тут не денешься, размера музыку вы получите. В начале любой эры вы — задержимся в рамках нашего образа — получаете сочинения поменьше, первые, рискованные набеги на области доселе неведомые. В дальнейшем сочинения эти становятся все более смелыми и крупными — эра устаканилась, и каждый творит в более-менее одном с прочими духе. А после, ближе к завершению эры, перед вами предстает нечто здоровенно-заносчивое, типа: «„Эру X“ захотели? Сейчас вы у меня получите „эру X“!» Люди поступают так ВСЕГДА. Они всегда доводят эру, стиль, форму, да что угодно, до совершеннейшей точки. Именно этим и занимаются ныне наши друзья. «Высокой романтики захотели? Сейчас вы у меня получите высокую романтику… еще какую!» Дорогу этой эре во многом торили Берлиоз с Мейербером, однако Вагнер, вступив на нее, вознамерился всех их заткнуть за пояс. И посмотрите, какая прекрасная ирония — человек, писавший оперы, длина коих намного превосходила рекомендованную медицинской наукой, того и гляди заставит весь мир воскликнуть УХ ТЫ!..
…и посредством всего одного аккорда.
Замечательно. Мне вдруг стало намного лучше.
Да, так вот, о размерах. Что ж, в эту тему стоит углубиться. За основу «Троянцев» Берлиоз взял «Энеиду» Вергилия, книжицу тоже не маленькую, что подтвердит вам любой школьник[♫]. Так что Берлиоз решил разделить свою оперу на две — дьявольски благородно с его стороны, — а именно на «La Prise de Troie» и «Les Troyens à Carthage»[*]. Пока все вроде бы хорошо. Горе в том, что он и эти две части сделал непропорционально длинными, — проблема, которую еще можно как-то решить, будь она единственной. Но, увы, опера Берлиоза оказалась и безумно дорогой для постановки. Подумайте сами: мало того, что Брэд Питт, так еще и статисты, статисты! Не говоря уж о том, что порядочного деревянного коня никто вам нынче не выстругает.
В результате при жизни Берлиоз творения своего на сцене так и не увидел, да и сегодня вам вряд ли когда-нибудь выпадет лучшая, в этом смысле, доля. Лишь у очень немногих оперных театров достанет бюджета, чтобы одолеть постановку гигантских «Троянцев» и уцелеть. При всем при том «Опера Норт»[*], сколько я помню, проделала это несколько лет назад, и ничего, жива-здорова, большое ей спасибо, так что, наверное, это все же возможно. И хоть я постановки не видел, мне говорили, что она того стоила, что в опере этой очень много красивых мест — тот же дуэт «Nuit d’ivresse»[*]. Пока же, может, вам лучше просто пойти и купить CD с «основными моментами» оперы и постараться представить себе, на что могут походить «Троянцы». Театральная их постановка то есть. А не… ну, скажем, люди, которым приходится сидеть в нутре деревянного коня, вдавив носы в задницу какого-нибудь устроившегося прямо перед ними потного греческого обалдуя.
Занятная это штука, размер. Для тогдашней компании оперных композиторов он явно имел большое значение. Берлиоз, Мейербер, Вагнер — все они словно сдвинулись на размере. Сейчас, оглядываясь назад, испытываешь искушение заявить, что сдвинулись они, пожалуй, далековато, однако это может оказаться не таким уж и верным. Тогда, в том же 1858-м, вы действительно попадали в САМУЮ ГЛУБИНУ чащобы, именуемой Высокой Романтической Оперой, а как уже говорилось, то, в какой точке жизненного цикла некоей «эры» или «периода» вы очутились, в основном и определяет, какого типа, стиля и, никуда тут не денешься, размера музыку вы получите. В начале любой эры вы — задержимся в рамках нашего образа — получаете сочинения поменьше, первые, рискованные набеги на области доселе неведомые. В дальнейшем сочинения эти становятся все более смелыми и крупными — эра устаканилась, и каждый творит в более-менее одном с прочими духе. А после, ближе к завершению эры, перед вами предстает нечто здоровенно-заносчивое, типа: «„Эру X“ захотели? Сейчас вы у меня получите „эру X“!» Люди поступают так ВСЕГДА. Они всегда доводят эру, стиль, форму, да что угодно, до совершеннейшей точки. Именно этим и занимаются ныне наши друзья. «Высокой романтики захотели? Сейчас вы у меня получите высокую романтику… еще какую!» Дорогу этой эре во многом торили Берлиоз с Мейербером, однако Вагнер, вступив на нее, вознамерился всех их заткнуть за пояс. И посмотрите, какая прекрасная ирония — человек, писавший оперы, длина коих намного превосходила рекомендованную медицинской наукой, того и гляди заставит весь мир воскликнуть УХ ТЫ!..
…и посредством всего одного аккорда.
ВСКРИК ТРИСТАНА!
1859-й. Тут много чего происходило, в музыкальном то есть смысле, и все-таки этот год помнят благодаря одному аккорду. Ну хорошо, я немного пережимаю, и все-таки в сказанном кое-что есть. Это великий аккорд 1859-го, да, но также и великий аккорд следующих 250 лет. Его не забыли по сей день. А возможно, и никогда не забудут. Профессора музыки, во всяком случае, продолжают обсуждать его и сейчас, в 2004-м. Не исключено, что это САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ АККОРД В ИСТОРИИ — не считая, конечно, «Аккорда Творения» (ну и того, что еще сыграет груба архангела). И как это ни странно, у него имеется имя. Его зовут «Тристан». Тристан, аккорд с именем собственным, это последнее новорожденное дитя Рика «Я парень крутой» Вагнера. У нас уже есть части 3 и 4 «Цикла кольца» — «Siegfried» и «Götterdämmerung», — теперь Вагнер, решив немного передохнуть, занялся не-большим любовным романом. Разумеется, Вагнер, будучи Вагнером, сочиняет нечто такое, что просто не может не войти в историю. Он добавляет к списку прославленных влюбленных, в котором уже значатся Орфей и Эвридика, Ромео и Джульетта, Брокгауз и Ефрон, еще одну вечную чету… Тристана и Изольду. В то время у Вагнера была в самом разгаре одна из многих его внебрачных любовных связей, на сей раз с обладательницей весьма импозантного имени, Матильдой Везендонк. Одни говорят, что это она вдохновила его на создание характера Изольды, другие — что все было наоборот: именно создавая Изольду, он и воспылал к ней страстью. Кто может знать? Наверняка позволительно сказать лишь одно: «Тристану и Изольде» суждено было остаться в веках как одному из замечательнейших творений всего девятнадцатого века, и в немалой степени — благодаря его гармонии. Да, гармонии. В особенности вот этого самого «Тристан-аккорда». Он представляет собой лишь часть целого — что-то вроде средства «переключения передач», которому Вагнер подвергает гармонию на протяжении всей этой оперы, «Т♥И». Вагнер раздвигает понятие «тональности» до крайних его пределов, так что вы уже затрудняетесь определить, была ли тут вообще, говоря на музыкальном языке, изначальная тональность. Да собственно, есть ли какая-то вот прямо сейчас. Если слово «тональность» для вас ничего не значит, — а мне нередко приходилось слышать, особенно после того, как я что-нибудь спою, будто оно ничего не значит и для меня, — тогда попробуйте представить себе следующее. Представьте, что вы способны воспринимать на слух дом — собственный ваш дом, — представьте, что у него имеется свой звук. Это примерно как с запахом. Правильно? Ну же, давайте, пошевелите мозгами — на что походит «звук» вашего дома? Ну? Учуяли вы его? Так вот, это и есть «тональность». А теперь вообразите: в большинстве своем композиторы, пока не появилась «T♥И», старались, сочиняя музыку, держаться, так сказать, «поближе к дому». Иногда они его покидали, но слишком далеко не отходили, а если и отходили, то всегда знали, как вернуться назад. И всегда возвращались. Домой то есть. А что еще важнее, если они и убредали от дома подальше, так неизменно держали его в поле зрения — или слуха, — а может, даже брали с собой старый добрый клубок шерсти и разматывали, чтобы по ниточке вернуться назад. Ну так вот, если придерживаться этого образа, Вагнер просто-напросто вышел со двора и удалился от дома на целые мили, перемещаясь по городу каким-то немыслимо сложным путем — как таксист в неудачный по части выручки день. И никакого дома вам уже не видно. Решительно никакого. Думаю, вы не можете даже с уверенностью сказать, что вообще когда-нибудь знали, где он, этот самый дом, стоит. Ну что, помогло? Нет, вряд ли. И все-таки, как бы там ни было, именно такую штуку Вагнер и проделал. Он раздвинул понятие «тональности», или «дома», до крайних пределов и назвал это «хроматизмом», и, строго говоря, назвал правильно. А учинил он все описанное в 1859 году. Сейчас же самое время произнести нечто зажигательное, хотя, конечно, предмет нашего разговора мы с вами довольно сильно запутали: «Сходите Послушайте Живую Музыку, и Особенно ту, о Которой вы Прежде и не Задумывались». Я понимаю, что повторяю это раз за разом, — но почему бы и нет? — и все же «Тристан и Изольда» дает идеальный образчик произведения, воспринять которое во всей его полноте можно лишь при живом исполнении. Кто-то сказал однажды: «Дилиус пьянит точно так же, но Вагнер знает сотни способов напоить вас допьяна», и нигде это знание не явлено столь образцово, как в «Тристраме И.». Виноват, в «T♥И». Это музыка, безоговорочно лишающая вас дара речи. Музыка, способная заставить забыть о времени. Так что та знаменитая цитата насчет Вагнера, с которой я вас познакомил несколько раньше, — забудьте о ней. Навсегда. Эти слова произнес человек, явно неспособный и сапожную щетку-то отличить от чего бы то ни было. С операми Вагнера, если они хорошо исполняются, все обстоит ровно наоборот. Они внушают вам ненависть к антрактам с их театральными букетами и винными бокалами, покоящимися на таких, знаете, штуковинах, которые присобачиваются к тарелкам и освобождают вам одну руку, дабы вы могли, произнося «Дорогаааааая!», сопроводить этот звук соответственными поступками. Хорошо исполняемые оперы Вагнера — это затерянные миры, в которых и мы теряемся в поисках утраченных слов, в которых забываем о музыке низшего порядка. Кстати, хорошо, что вспомнил, насчет утраченных слов, — говорят, что Вагнер терпеть не мог саксофон. То есть просто ненавидел. И однажды сказал, что звучание саксофона смахивает на слово «Reckankreuzungsklangkewerkzeuge» — еще одно утраченное слово, переводимое как… нет, вообще-то оно непереводимо, этакая вереница немецких каламбуров, соединенных в одно. Reckankreuzungsklangkewerkzeuge. Здорово. Запишите его и произнесите на какой-нибудь вечеринке. Вот увидите, через три секунды в комнате никого, кроме вас, не останется. А теперь я, с вашего позволения, перекину мост из вагнеровского 1859-го в вердиевский 1862-й.
RECKANKREUZUNGS KLANGKEWERKZEUGE!
А что, хорошее название для главы, охватывающей три года. Стало быть, выпрыгнуть нам нужно из 1859-го, года, в котором некий пятидесятилетний натуралист самым натуральным образом запустил козла в огород, дописав наконец заметки о плавании на корабле его величества «Бигль», совершенном года этак двадцать три назад. Ну понятно, печатать он умел только одним пальцем. Законченное сочинение натуралист назвал так: «Происхождение видов путем естественного отбора». Очень мило. Шума наделал — могу себе представить. Совсем в другом месте, и уже в 1860-м, некий вояка, состоявший некогда в обществе Джузеппе Мадзини «Молодая Италия», выступил маршем на Палермо и Неаполь, ведя за собой 1000 человек в красных рубашках, и объявил их собственностью короля Виктора Эммануила II. Ну вы меня поняли — не красные рубашки собственностью объявил, а Палермо с Неаполем. Затем он захватил папские государства и провозгласил Виктора Эммануила «Королем Италии». Гарибальди и «I mille» — «тысяча» — такое они получили прозвание. А на другом берегу протоки Авраам Линкольн стал шестнадцатым президентом США, и сразу после этого штат Южная Каролина отпал от союза. Роскошный оборот «отпал от союза», верно? Прекрасная и поэтичнейшая замена слов «изобиделся и ушел». Жаль, что я не прибегал к нему, когда еще был молодым. Вот представьте:
[Сцена — где-то в Норфолке.] — А Стивен где? — Да я сказала ему, чтобы не трогал моих шоколадных конфет с ликером, а он заявил, что отпадает от союза. — Снова-здорово.Вообще-то могло и сработать. Как знать? Так или иначе, уже 1861-й, одной Южной Каролиной дело не обошлось, ее примеру последовали Джорджия, Алабама, Миссисипи, Флорида, Луизиана и Техас — Конфедеративные штаты, так они себя называли, — и теперь в Америке бушует Гражданская война. А в Соединенном Королевстве королева Виктория вступает в продлившийся до скончания века период траура, пытаясь сообразить, как ей прожить следующие сорок лет без супруга и собеседника. И вот наступает 1862-й, и Авраам Линкольн подписывает свою «Прокламацию об освобождении», которая в самом скором времени даст свободу рабам. Что еще? Ах да, Пруссия получает нового премьер-министра, некоего Отто Эдуарда Леопольда Бисмарка. И в отношении художественном годы эти тоже оказались совсем неплохими: «Мельница на Флоссе» и «Сайлес Марнер» Джордж Элиот, «Большие надежды» Диккенса, «Записки из Мертвого дома» Достоевского, «Отверженные» Виктора Гюго, кое-что новенькое от Мане и Дега — все это в одном лишь 1859-м. Стоит также упомянуть о дебюте Сары Бернар — она целую бурю вызвала, сыграв в расиновской «Ифигении». А кроме того, в 1862-м сорокадевятилетний Джузеппе Верди проделывает долгий путь до Санкт-Петербурга — до Императорской оперы, августейшего учреждения, которое заказало Верди новую оперу, «La Forza del Destino» — «Сила судьбы». Верди, как и Вагнер, рос от сочинения к сочинению, хотя, может быть, и не так приметно, как Коротышка Рихард. Гармония и оркестровка «Силы судьбы» далеко отстоят от таковых же предыдущего его опуса, от «Un Ballo in Maschera» — «Бал-маскарад», — а тот и сам был шагом вперед по сравнению со своими предшественниками «La Traviata / Il Trovatore». Как ни странно, «Сила судьбы» почитается некоторыми за оперный эквивалент «Макбета» — в том смысле, что упоминать эти названия в оперном и, соответственно, драматическом театрах лучше не стоит. Уж и не знаю почему. Так получилось. Сам-то я считаю эту оперу фантастической, пусть даже всякий раз, как я ее слышу, меня посещают мысли о пиве «Стелла Артуа». И, если вас интересуют связи и совпадения, скажу еще, что в этом же самом году Бизе предложил театру свою классическую оперу «Искатели жемчуга» — с ее ударным дуэтом «Аu fond du temple saint»[*].
УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СПЯЩЕГО ВЕЛИКАНА
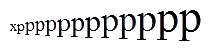 Ну да. История и вправду удивительная. Спящий Великан. Спящий далеко-далеко отсюда, среди эльфов и фей, на поросшей бором горе, что стоит в стране грез.
Если честно, мне следует объясниться. На самом деле Спящий Великан — это композитор, и, опять же, если честно, — а я люблю, чтобы все было по-честному, — он не так чтобы и спит. Просто он… не нашел своего голоса, скажем так. Композиторы говорят о ком-то из коллег: «нашел свой голос», когда он наконец начинает писать в собственной манере и чувствует себя при этом вполне уютно. Так вот, Спящий Великан был композитором, еще не нашедшим своего голоса. А ему уже сорок лет. Сорок! И он не опубликовал ни единой нотной строки. Он двадцать три с чем-то года предается изучению композиции, однако не ощущает уверенности, достаточной, чтобы представить на суд черни какое-либо свое творение.
Ну да. История и вправду удивительная. Спящий Великан. Спящий далеко-далеко отсюда, среди эльфов и фей, на поросшей бором горе, что стоит в стране грез.
Если честно, мне следует объясниться. На самом деле Спящий Великан — это композитор, и, опять же, если честно, — а я люблю, чтобы все было по-честному, — он не так чтобы и спит. Просто он… не нашел своего голоса, скажем так. Композиторы говорят о ком-то из коллег: «нашел свой голос», когда он наконец начинает писать в собственной манере и чувствует себя при этом вполне уютно. Так вот, Спящий Великан был композитором, еще не нашедшим своего голоса. А ему уже сорок лет. Сорок! И он не опубликовал ни единой нотной строки. Он двадцать три с чем-то года предается изучению композиции, однако не ощущает уверенности, достаточной, чтобы представить на суд черни какое-либо свое творение.
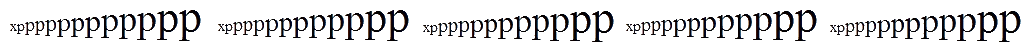 И вместо этого просто играет себе на органе — еще одна его страсть, — учится тому, набрасывает разные странноватые вещицы, учится этому, вникает в теорию музыки, учится, изучает гармонию… насчет «учится» я уже говорил?
Как бы там ни было, рано или поздно великану придется проснуться, и вы правильно сделаете, если окажетесь где-то рядом. А пока давайте я вам расскажу о том, что случилось за последние два года.
И вместо этого просто играет себе на органе — еще одна его страсть, — учится тому, набрасывает разные странноватые вещицы, учится этому, вникает в теорию музыки, учится, изучает гармонию… насчет «учится» я уже говорил?
Как бы там ни было, рано или поздно великану придется проснуться, и вы правильно сделаете, если окажетесь где-то рядом. А пока давайте я вам расскажу о том, что случилось за последние два года.
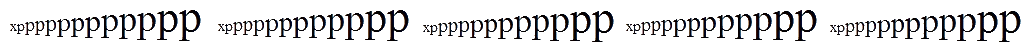 1863-й, год очень важный для США. После сражения за один маленький городок федеральные войска решили соорудить кладбище и похоронить на нем тех, кто пал в бою. На открытии кладбища Линкольн произнес речь. Речь вошла в историю, получив название от городка, в котором было устроено кладбище, от Геттисберга. На следующий год его, Линкольна то есть, снова избрали президентом. Что еще? Ну, Флоренция стала, хоть и не надолго, столицей Италии — вместо чего: (а) Рима, (б) Турина или (в) Милана? Правильный ответ — «вместо Турина», Риму пришлось дожидаться статуса столицы еще шесть лет.
1863-й, год очень важный для США. После сражения за один маленький городок федеральные войска решили соорудить кладбище и похоронить на нем тех, кто пал в бою. На открытии кладбища Линкольн произнес речь. Речь вошла в историю, получив название от городка, в котором было устроено кладбище, от Геттисберга. На следующий год его, Линкольна то есть, снова избрали президентом. Что еще? Ну, Флоренция стала, хоть и не надолго, столицей Италии — вместо чего: (а) Рима, (б) Турина или (в) Милана? Правильный ответ — «вместо Турина», Риму пришлось дожидаться статуса столицы еще шесть лет.
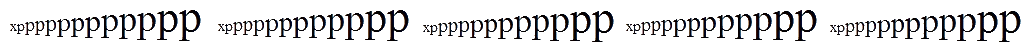 В разных прочих местах, а именно на полях мировых сражений, началось применение Женевской конвенции, установившей нейтралитет медицинских служб военного времени; на американских монетах впервые появились слова «На Бога уповаем», а — так, постойте, кто это был? — да, Луи Пастер изобрел «пастеризацию»: поначалу лишь для вина, представляете? Я вот пишу это, а сам поднимаю бокал. За доброго старого Луи. А помимо этого рассказать особо-то и не о чем. Чарлз Диккенс выдает нагора очередной шедевр, «Наш общий друг» называется, Толстой приступает к сочинению «Войны и мира». Говорю «приступает», потому что у него уйдет на это добрых пять лет. Пять ЛЕТ! Черт, да за такое время «Войну и мир» вам любой напишет.
В разных прочих местах, а именно на полях мировых сражений, началось применение Женевской конвенции, установившей нейтралитет медицинских служб военного времени; на американских монетах впервые появились слова «На Бога уповаем», а — так, постойте, кто это был? — да, Луи Пастер изобрел «пастеризацию»: поначалу лишь для вина, представляете? Я вот пишу это, а сам поднимаю бокал. За доброго старого Луи. А помимо этого рассказать особо-то и не о чем. Чарлз Диккенс выдает нагора очередной шедевр, «Наш общий друг» называется, Толстой приступает к сочинению «Войны и мира». Говорю «приступает», потому что у него уйдет на это добрых пять лет. Пять ЛЕТ! Черт, да за такое время «Войну и мир» вам любой напишет.
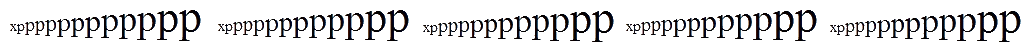 Впрочем, прошлый год был совсем недурен и в рассуждении изобразительного искусства. В этом году появилась на свет пара преизрядных полотен — «Завтрак на траве» Мане и «Беата Беатрикс» Данте Габриела Россетти. Прекрасно. А теперь вернемся к нашему «хр».
Впрочем, прошлый год был совсем недурен и в рассуждении изобразительного искусства. В этом году появилась на свет пара преизрядных полотен — «Завтрак на траве» Мане и «Беата Беатрикс» Данте Габриела Россетти. Прекрасно. А теперь вернемся к нашему «хр».
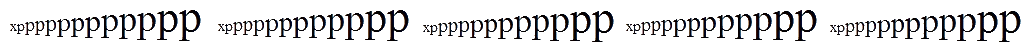 Спящему Великану, как я его назвал, и, по-моему, правильно, уже под сорок. Большую часть этих сорока он обучался и много чего изучил, однако уверенности в себе, потребной для опубликования какого-нибудь из сочинений, ему не хватало. И вот в этом году, в 1864-м, — как раз Мейербер умер — Великан вдруг, если можно так выразиться, пробуждается и заканчивает свою первую симфонию. Впрочем, тут на него опять нападают сомнения и он решает, что для издания она непригодна, а потому перенумеровывает ее — и получается «Симфония № Ноль!». Вы как, способны поверить в такое? А я не шучу, ей-ей, так он и поступил. Решил, что симфония его недостаточно хороша для того, чтобы называться первой. Композиторы — они такие смешные. А он же еще и органистом был, это тоже многое объясняет. Так или иначе, мир с ним в конечном счете не согласился, и, должен сказать, я тоже. Сейчас эта симфония издается и записывается под названием «Die Nulte» — в буквальном переводе «Ничто», «Нуль»! Поразительно. Такого просто не придумаешь. И кстати, давайте-ка его снова разбудим, идет? Я хочу познакомить вас. Брукнер… ну, просыпайся, милый. Брукнер, это читатель; читатель, это Брукнер.
Кто-то сказал однажды: «Готический собор звуков!» Сказал не о Фрэнке Заппа. О Брукнере. И если вам когда-нибудь случится попасть на концерт, где исполняется музыка Брукнера, вы поймете, о чем шла речь. Он великолепен. Симфония, названная им «Нулевой», проста и прекрасна. А ведь у него — что и вовсе поразительно — имеется еще «Симфония два нуля» — на самом деле это черновик, написанный за год до «Нулевой». Вы следите за моей мыслью?
В общем и целом прекрасный, простой человек, наш Брукнер. В его симфониях так и слышится органист. Он сочиняет длинный-длинный пассаж в одном регистре или звукоряде — примерно так же, как органист выбирает на какое-то время определенную группу труб. Вы мою мысль улавливаете? Если вы не знакомы с устройством органа и принципами его работы — а скажу вам честно, оно для вас же и лучше! — то представьте себе вот что: известны вам люди, которые едят все раздельно и по порядку? Знаете, те, что съедают сначала горох, потом морковь, потом какое-то время подъедают картошку, пока, наконец, черед не доходит и до сосиски? Вам такие знакомы? Ну вот, Брукнер — это композиторский вариант как раз такого человека: разные регистры в разное время. На деле, присутствуя при исполнении «Die Nulte», вы просто-напросто слышите, под самый конец, как медные духовые обращаются в морковки. Или не обращаются, это тоже бывает.
Спящему Великану, как я его назвал, и, по-моему, правильно, уже под сорок. Большую часть этих сорока он обучался и много чего изучил, однако уверенности в себе, потребной для опубликования какого-нибудь из сочинений, ему не хватало. И вот в этом году, в 1864-м, — как раз Мейербер умер — Великан вдруг, если можно так выразиться, пробуждается и заканчивает свою первую симфонию. Впрочем, тут на него опять нападают сомнения и он решает, что для издания она непригодна, а потому перенумеровывает ее — и получается «Симфония № Ноль!». Вы как, способны поверить в такое? А я не шучу, ей-ей, так он и поступил. Решил, что симфония его недостаточно хороша для того, чтобы называться первой. Композиторы — они такие смешные. А он же еще и органистом был, это тоже многое объясняет. Так или иначе, мир с ним в конечном счете не согласился, и, должен сказать, я тоже. Сейчас эта симфония издается и записывается под названием «Die Nulte» — в буквальном переводе «Ничто», «Нуль»! Поразительно. Такого просто не придумаешь. И кстати, давайте-ка его снова разбудим, идет? Я хочу познакомить вас. Брукнер… ну, просыпайся, милый. Брукнер, это читатель; читатель, это Брукнер.
Кто-то сказал однажды: «Готический собор звуков!» Сказал не о Фрэнке Заппа. О Брукнере. И если вам когда-нибудь случится попасть на концерт, где исполняется музыка Брукнера, вы поймете, о чем шла речь. Он великолепен. Симфония, названная им «Нулевой», проста и прекрасна. А ведь у него — что и вовсе поразительно — имеется еще «Симфония два нуля» — на самом деле это черновик, написанный за год до «Нулевой». Вы следите за моей мыслью?
В общем и целом прекрасный, простой человек, наш Брукнер. В его симфониях так и слышится органист. Он сочиняет длинный-длинный пассаж в одном регистре или звукоряде — примерно так же, как органист выбирает на какое-то время определенную группу труб. Вы мою мысль улавливаете? Если вы не знакомы с устройством органа и принципами его работы — а скажу вам честно, оно для вас же и лучше! — то представьте себе вот что: известны вам люди, которые едят все раздельно и по порядку? Знаете, те, что съедают сначала горох, потом морковь, потом какое-то время подъедают картошку, пока, наконец, черед не доходит и до сосиски? Вам такие знакомы? Ну вот, Брукнер — это композиторский вариант как раз такого человека: разные регистры в разное время. На деле, присутствуя при исполнении «Die Nulte», вы просто-напросто слышите, под самый конец, как медные духовые обращаются в морковки. Или не обращаются, это тоже бывает.
НОЧЬ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ (С ПРИЧЕСКАМИ ОТ БОББИ ЧАРЛТОНА)
Когда речь заходит о названии этого сочинения Мусоргского, выясняется, что из штанишек хихикающего школьника я так и не вырос. Как ни трогает меня эта вещь, воспринять ее название, «Ночь на Лысой горе», всерьез мне оказывается трудно. Даже когда гору переименовали в «Голую» — а это примерно то же, как, скажем, смотрите вы по телевизору новости и вдруг обнаруживаете, что все теперь произносят какое-то одно слово иначе, и, если вам не удается сразу пристроиться к этим всем, начинаете ощущать себя горожанином из «Нового платья короля». Я говорю о словах вроде «Найк» (раньше оно прекрасно рифмовалось с «Майк», но теперь, судя по всему, обратилось в «Пайки») или «Боудикка» (прежде эту даму называли «Боадицеей», и никто, похоже, не возражал), которые, по всему судя, изменяются за одну ночь, и все тут же делают вид, что никогда их иначе и не произносили[♫]. Так вот, похоже, я просто не в состоянии выбросить из головы «подбритых» ведьмочек, а то и — не знаю уж почему — лысых богатырей. Вот так. Однако разрешите мне добавить пару мазков, чтобы получилась полная картина времени — отсюда и до 1867-го, в котором появилась «Ночь на голом заду» Мусоргского. (Простите, опять то же самое. Видите, ничего не могу с собой поделать!) Главная, сногсшибательная, не-верите-послушайте-новости-сами, новость поступила из Америки: там подошла к концу Гражданская война. И к концу, надо сказать, довольно печальному, во всяком случае для Авраама Линкольна. 9 апреля он принял капитуляцию южан в Аппоматоксе, а всего через пять дней его убили. Очень грустно. Такая там у них получилась перестрелка в салуне. Зато американская конституция приобретает Тринадцатую поправку, трактующую об отмене рабства, — да и пора бы уж. В Англии состоялись два важных дебюта: Армия спасения впервые выходит на поле боя, а У. Г. Грейс впервые выходит на крикетное, и оба со своим «Кликом войны»[*] — Спас-Армия поначалу выступала под именем «Ассоциации христианского возрождения». Кроме того, в 1865-м Эдвард Уимпер взбирается на величаво награвированный в небесах Маттерхорн — и становится первым в блестящей плеяде избранных, которая под конец 1950-х приняла в свои ряды и Рональда Лигоро. Луи Пастер, несомненно обратившийся уже в любимца вакхического парижского света — по причине услуг, оказанных им вину, — становится, вероятно, и любимцем французской от-кутюр — ухитрившись излечить шелковичного червя и, стало быть, единоручно спасти французский шелк. Снимем перед ним наши шелковые цилиндры, господа. Год 1866-й: в Пруссии, Италии и Австрии творится черт знает что. Да если честно, и вокруг них тоже. Попытавшись понять, что там было и как, мы только запутаемся. Довольно сказать, что Шлезвиг-Гольдштейн, после множества махинаций, предпринятых по причинам, только ему и ведомым, становится, наконец, частью Пруссии. Уверен, впрочем, что этим все не закончится. Что еще? Т. Дж. Барнардо открывает в Степни первый приют для нуждающихся детей, а шведский химик Альфред Бернгардт Нобель, человек, положивший начало премии мира, изобретает динамит, положивший начало самым разным ужасам войны, разрушения и смерти. Тут есть ирония, которая никогда не перестанет меня поражать, как бы часто я об этом ни говорил, — состояние, заработанное на динамите, образует — полтора столетия спустя — основу фонда, способствующего, помимо всего прочего, укреплению мира. Год у нас все еще 1867-й. Гарибальди выступает маршем на Рим — событие, которое Италия всегда будет помнить как… постойте, постойте… «Марш на Рим». Боже ты мой, какие же все-таки изобретательные ребята эти итальянцы, правда? Добравшись до Рима, он в конечном счете потерпит поражение от соединенных французских и папских войск. Ну да и ладно. Не приходится сомневаться, что какая-то из этих сторон дралась отнюдь не по только что введенным «Правилам Куинсберри»[*] 1867 года. Вообще последние несколько лет для всякого там искусства сложились чрезвычайно удачно. Некто по имени Ч. Л. Доджсон, взяв псевдоним Льюис Кэрролл, написал «Алису в Стране Чудес», а кардинал Ньюман, взяв еще более хитроумный псевдоним «Кардинал Ньюман», представил читающей публике поэму «Сновидение Геронтия», которая со временем навела на определенные мысли некоего мистера Элгара. Впрочем, сейчас малышу Элгару всего лишь… дайте подумать… восемь лет. Восемь лет… ничего себе. И все-таки. Пышные, величиною в руль велосипеда усы ему уже и сейчас были бы к лицу! Что у нас есть еще по линии искусства? Ну-с, Дега затеял писать балетные сцены — и у него это неплохо получается, — Миллес написал «Детство Рэли» (что-то вроде «Велосипедисты на привале»[*]), Достоевский написал «Преступление и наказание», а Эмиль Золя, первый писатель, попавший в «мировую паутину», написал «Терезу Ракен». Et bien![*] С другой стороны, мы лишились Руссо и Энгра. Бедные старперы! Ладно, а теперь, если перефразировать великого Элвиса Аарона Пресли: «Одна ночь… с тобой. Э-э, и с Мусоргским». Да, понимаю, требует доработки. Хорошо, оставьте это мне, я разложу все по партиям Элвисовых подпевок. Итак. Мусоргский. Наконец-то добрались. Всегда любил эту фамилию, Мусоргский. Думаю, потому, что, когда ты еще очень юн и в музыкальном репертуаре ни аза не смыслишь, композитор ассоциируется у тебя либо со звучанием его фамилии, либо с одной-двумя пьесами, по которым ты его знаешь. В случае Мусоргского имело место и то и другое. Мне нравилось медное звучание «Богатырских ворот в Киеве», а фамилия композитора представлялась отвечающей им в совершенстве — тоже немножко медная, похожая на звук тубы или горна.
 Нет? Ну и ладно. А тут еще его имя, также не дававшее мне покоя, — Модест, обычно произносимое как МОдест, с ударением на «мо». Какое обалденное, ладное имя для композитора, всегда думал я. Модест. Модест! Модест Мусоргский. Потрясающее имя.
Он родился в богатой помещичьей семье, был офицером Преображенского полка. После освобождения крепостных в 1861 году семья его разорилась, и ему пришлось пойти в чиновники, — Мусоргский сменил несколько должностей и впал в итоге в окончательную бедность. Если добавить к этому проблемы с пьянством, вследствие которых на официальном его портрете он выглядит вылитым школьным учителем с багряным носом, Мусоргскому вполне можно было бы простить нежелание иметь что-либо общее с современным ему «русским национализмом» в музыке. Так ведь нет! Он как раз и хотел, чтобы вы слышали в его музыке «народ», равно как и предания этого народа. В таком вот настроении он и написал в 1867 году вещицу, которой предстояло обратиться в одно из самых известных его малых произведений. Задумано оно было как музыкальное сопровождение празднования Ивановой ночи, в которую ведьмы устраивают шабаш на Лысой горе близ Киева, — ПЕРЕСТАНЬТЕ УХМЫЛЯТЬСЯ, ФРАЙ-МЛАДШИЙ, ИЛИ Я ОТПРАВЛЮ ВАС К МИСТЕРУ РЕЗЕРФОРДУ. Да, так вот, я уже говорил — звучание этой музыки должно было напоминать о шабаше ведьм, а наибольшую, пожалуй, известность она приобрела в оркестровке его друга, композитора Римского-Корсакова. «Ночь на Лысой/Голой горе» — это одно из тех сочинений, что выламываются из каких бы то ни было рамок и захватывают вас с самого начала, буйный вихрь, создающий почти совершенную музыкальную картину. И если она напоминает вам не столько ведьм, сколько обложку аудиокассет «Макселл», так и это, думаю, тоже неплохо.
Нет? Ну и ладно. А тут еще его имя, также не дававшее мне покоя, — Модест, обычно произносимое как МОдест, с ударением на «мо». Какое обалденное, ладное имя для композитора, всегда думал я. Модест. Модест! Модест Мусоргский. Потрясающее имя.
Он родился в богатой помещичьей семье, был офицером Преображенского полка. После освобождения крепостных в 1861 году семья его разорилась, и ему пришлось пойти в чиновники, — Мусоргский сменил несколько должностей и впал в итоге в окончательную бедность. Если добавить к этому проблемы с пьянством, вследствие которых на официальном его портрете он выглядит вылитым школьным учителем с багряным носом, Мусоргскому вполне можно было бы простить нежелание иметь что-либо общее с современным ему «русским национализмом» в музыке. Так ведь нет! Он как раз и хотел, чтобы вы слышали в его музыке «народ», равно как и предания этого народа. В таком вот настроении он и написал в 1867 году вещицу, которой предстояло обратиться в одно из самых известных его малых произведений. Задумано оно было как музыкальное сопровождение празднования Ивановой ночи, в которую ведьмы устраивают шабаш на Лысой горе близ Киева, — ПЕРЕСТАНЬТЕ УХМЫЛЯТЬСЯ, ФРАЙ-МЛАДШИЙ, ИЛИ Я ОТПРАВЛЮ ВАС К МИСТЕРУ РЕЗЕРФОРДУ. Да, так вот, я уже говорил — звучание этой музыки должно было напоминать о шабаше ведьм, а наибольшую, пожалуй, известность она приобрела в оркестровке его друга, композитора Римского-Корсакова. «Ночь на Лысой/Голой горе» — это одно из тех сочинений, что выламываются из каких бы то ни было рамок и захватывают вас с самого начала, буйный вихрь, создающий почти совершенную музыкальную картину. И если она напоминает вам не столько ведьм, сколько обложку аудиокассет «Макселл», так и это, думаю, тоже неплохо.
«ВЕЧНАЯ ИСТОРИЯ. ХОРОШЕГО КОНЦЕРТА ПРИХОДИТСЯ ДОЖИДАТЬСЯ ЛЕТ СТО, А ПОТОМ…»
…Вы получаете сразу два. Ведь так оно всегда и бывает? Но об этом чуть позже. Сначала займемся 1868-м, годом последнего сёгуна. Да, после отречения сёгуна Кекеи и ликвидации сёгуната в Японии сёгуны повывелись. «Ликвидация сёгуната» — какое роскошное словосочетание. Собственно, и в самом слове «сёгун» присутствует нечто, внушающее благоговейную зависть и, как мне представляется, страх. Нечего, стало быть, и удивляться, узнав, что этим словом японцы обозначают просто-напросто военного диктатора, что оно представляет собой сокращение от «сеии таи сёгун», то есть «великий, побеждающий варваров генерал». Во! Интересно, обоз он за собой возил? Кроме того, это год, в котором Дизраэли стал премьер-министром, а также год, в котором Дизраэли ПЕРЕСТАЛ быть премьер-министром, потратив на все про все лишь несколько месяцев. Год появления наиновейшего вида спорта, изобретенного герцогом Бофором и названного в месть его резиденции, расположенной в Глостершире, — Бадминтон, а также год первой конференции БКТ[*] в Манчестере. Черт, по-моему, эти двое друг с другом как-то не сочетаются. А также год, в котором с треском провалилось продолжение Дарвинова «Происхождения видов», а именно «Изменение домашних животных и культурных растений». Ну-у, скажу я вам, это тихий ужас, а не брендинг, правда? Нет, дорогуша, тут действительно нужна доработка. Я просто-таки вижу, как к Дарвину заявляется с парой добрых советов бренд-консультант 80-х, такой, с хвостиком на затылке.
— Чарли, малыш, все эти сценки с животными и растениями никому больше не интересны, дружище! Это же позапрошлый год. Ты бы добавил чуток секса. Ребята из фокусной группы сочинили другое название, все ключевые слова твоей бодяги в нем присутствуют, но оно… ну, как бы это сказать, просто… жмет на нужные педали, понимаешь? «РАЗНУЗДАННЫЕ животные, или Хороший стебель всегда стоит» — от команды авторов, подаривших нам шедевр «Виды 1: Происхождение». Ну, что скажешь, Чарли? Круто, а? В самое яблочко. Да на здоровье. А, Невилл, лапуля, притарань нам еще кофейку…И тот же год оказался годом «Капитала» Маркса, «Конькобежцев» Ренуара и «Оркестра оперы» Дега, равно как и первых, еще конвульсивных подергиваний новорожденного художественного направления, которое вскоре окрестят Импрессионизмом. Все это плюс два величайших из когда-либо сочиненных концертов. Один написан Григом, другой Брухом. Эдвард Григ происходил из музыкальной семьи — матушка его была очень неплохой пианисткой. И если фамилия Григ выглядит для Норвегии несколько странной, так дело тут в шотландском прадедушке композитора, эмигрировавшем после битвы при Каллодене и осевшем в маленьком приходе Григе близ Бергена. Юному Эдварду всегда хотелось заниматься музыкой, хотя какое-то время, недолгое, впрочем, он подумывал и о том, чтобы стать священником. В конце концов его отправили на учебу в Лейпцигскую консерваторию, где одновременно с ним обучался и Альфред Салливен. После Лейпцига Григ прожил какое-то время в Дании и подружился там с великим патриархом скандинавской музыки Нильсом Гаде, под влиянием которого создал «Общество Евтерпы», имевшее целью пропаганду все той же скандинавской музыки. Ровно за год до сочинения единственного его фортепианного концерта композитор женился на своей двоюродной сестре, Нине. Единственная их дочь умерла в год премьерного исполнения концерта, 1869-й. Брух был человеком совсем иного покроя. Он родился в Кёльне и числился при жизни одним из величайших композиторов Германии. При этом наивысшими достижениями Бруха считались его хоровые сочинения, многие из которых были написаны им уже к середине третьего десятка лет жизни. Они принесли ему и славу, и определенное состояние, позволявшее Бруху разъезжать по Германии, дирижируя, преподавая и сочиняя музыку. За год до 1868-го, в котором появился его Скрипичный концерт, он возглавил придворный оркестр в находящемся на середине пути из Лейпцига в Дортмунд Зондерхаузе, где и провел, прежде чем возвратиться в Берлин, три счастливых года. Далее его ожидали на жизненном поприще три года несчастливых, проведенных за дирижерским пультом ливерпульского Королевского филармонического оркестра, — Брух с его несносным характером встретил там примерно такой же прием, какой получило бы исполнение «4 минут 33 секунд молчания» Джона Кейджа (см. с. 513) на Конференции тугоухих. Ну так вот, два этих композитора создали концерты 1868 года, которые и поныне претендуют на звание самых популярных — в своей епархии каждый, — григовский благодаря потрясающей начальной части и завораживающей медленной, бруховский благодаря упоительной медленной и дух захватывающему финалу. И оба дают нам примеры того, что МАССОВАЯ популярность не в силах погубить произведения, по-настоящему великие. Это чета самых упоительных концертов, с какими только можно столкнуться в темном проулке в ночь с пятницы на субботу. Чудо что такое. Ну-с, а теперь займемся нашим человеком и России, Петром Ильичом Чайковским.
ПРИНЕСИТЕ МНЕ ГОЛОВУ ПЕТРА ИЛЬИЧА ЧАЙКОВСКОГО![*]
Начнем с посвященной Чайковскому минивикторины. Прежде чем мы переберемся в Россию, скажите: какое место занимает Чайковский? Не географически то есть, а в общей схеме мироздания? (а) Где он находится физически? (б) Почему сочинил то, что сочинил? (в) У кого учился? (г) Действительно ли полагал, что у него того и гляди отвалится голова? Ну-с, посмотрим, смогу ли я сам ответить на эти вопросы. Считайте, что вы заработали по десять очков, если дали следующие ответы: (а) где-то посередке; (б) э-э, а почему бы и нет?; (в) о, на самом деле у многих (совсем уж правильный ответ: в сущности говоря, у множества людей); (г) да, очень на то похоже. Хорошо. Викторина окончена. Теперь позвольте развить все сказанное. Но сначала — небольшой обзор событий. Вагнер… по-прежнему ВЕЛИК. О-ГРОМаден, с прописными ГРОМ. Настолько, что под его чары попадают очень многие композиторы — тот же Брукнер. А многие — нет. К лагерю «нет» принадлежит Брамс, весьма «классический» романтик, — наверное, нам так следует сказать? В общем-то, если вдуматься, Брамс пишет все то, чего не пишет Вагнер. Брамс сочиняет камерную музыку, концерты, вариации и симфонии — и все без гигантизма, все без того, что он считает «перебором», излишеством настоящей вагнеровской «высокой романтики». Помимо Вагнера, в музыке продолжает играть серьезную роль «национализм» — то есть внедрение звуков, запахов, идей и даже мелодий своей страны в свою же музыку. И речь идет уже не о «колорите», как прежде. Теперь «национальному» полагается пропитывать собою все. Что ж, так тому и быть надлежит — времена стоят все еще революционные, и отражение в музыке корней и традиций своего народа стало почти обязательным, чем-то вроде правила хорошего тона. В России 1869-го композиторы разделились ровно пополам.
 С одной стороны помещаются националисты, возглавляемые пятью композиторами, которых русский критик Влад Стасов прозвал «Могучей кучкой», а именно…
Балакирев, Бородин, Кюи, Мусоргский иРимский-Корсаков.
Другую составили, ну, скажем так, «европейцы», предпочитающие сочинять музыку в западной традиции. Эта группа состоит из…
эм-м…
Чайковского.
Как видите, Чайковский был единственным значительным представителем второй группы. Его музыка куда как больше говорила о том, что происходит с НИМ, Петром Ильичом Чайковским, чем о том, что происходит с Россией.
В 1869-м он, уже потерявший обожаемую мать, жил в доме Николая Рубинштейна, пианиста и композитора, брата Антона Рубинштейна, пианиста и композитора. (Музыкальные были ребята, Рубинштейны.) Средства к существованию он добывал, преподавая гармонию[♫] в Московской консерватории. Он также едва не женился на бельгийской сопрано Дезире Арто, что было бы ужасно по трем причинам. Во-первых, Чайковский был геем. Во-вторых, Дезире славилась столько же голосом, сколько и сексуальными эскападами. В-третьих, нехорошо для композитора жениться на женщине, названной в честь картошки. Они расстались без особого ущерба для очень чувствительного господина Чайковского, хотя сразу за этим эпизодом он и сочинил свою увертюру «Ромео и Джульетта». Не лишено иронии то обстоятельство, что мысль об увертюре «Р♥Д» ему подсказал Балакирев, и к нему же Чайковский обращался за помощью и советами, пока ее сочинял. Законченное произведение Чайковский назвал «увертюрой-фантазией», имея, главным образом, в виду, что это не увертюра в строгом смысле слова — выдерживающая все «законы увертюры» и проч., — но скорее полет музыкальной фантазии. Увертюра, в которой композитору дозволено уклоняться, если ему приспеет такое желание, в сторону. В середине ее имеется совершенно роскошная мелодия, к которой с тех самых пор прибегают кинорежиссеры, когда им требуется изобразить нечто СВЕРХромантичное.
А теперь о последнем вопросе. Действительно ли Чайковский думал, что у него может отвалиться голова? Таки да, действительно думал. Наш Чайки страдал от множества всепоглощающих неврозов, и один из них сводился к мысли, что если он будет дирижировать оркестром слишком энергично, то может лишиться головы. И это так же верно, как то, что вы это читаете! К тому же — и здесь тоже ни слова лжи — многие видели, как он, дирижируя, сжимает в одной руке палочку, а другой придерживает подбородок, опасаясь такового лишиться! Честное благородное слово!
Ну вот. Мы уже подобрались к 70-м. Но вы не волнуйтесь, брюкам клеш, висящим в вашем шкафу, ничто пока не грозит. Это еще только 1870-е. Однако, прежде чем заняться ими, посмотрим, что поделывают Коротышка Ричард и Верзила Джо.
С одной стороны помещаются националисты, возглавляемые пятью композиторами, которых русский критик Влад Стасов прозвал «Могучей кучкой», а именно…
Балакирев, Бородин, Кюи, Мусоргский иРимский-Корсаков.
Другую составили, ну, скажем так, «европейцы», предпочитающие сочинять музыку в западной традиции. Эта группа состоит из…
эм-м…
Чайковского.
Как видите, Чайковский был единственным значительным представителем второй группы. Его музыка куда как больше говорила о том, что происходит с НИМ, Петром Ильичом Чайковским, чем о том, что происходит с Россией.
В 1869-м он, уже потерявший обожаемую мать, жил в доме Николая Рубинштейна, пианиста и композитора, брата Антона Рубинштейна, пианиста и композитора. (Музыкальные были ребята, Рубинштейны.) Средства к существованию он добывал, преподавая гармонию[♫] в Московской консерватории. Он также едва не женился на бельгийской сопрано Дезире Арто, что было бы ужасно по трем причинам. Во-первых, Чайковский был геем. Во-вторых, Дезире славилась столько же голосом, сколько и сексуальными эскападами. В-третьих, нехорошо для композитора жениться на женщине, названной в честь картошки. Они расстались без особого ущерба для очень чувствительного господина Чайковского, хотя сразу за этим эпизодом он и сочинил свою увертюру «Ромео и Джульетта». Не лишено иронии то обстоятельство, что мысль об увертюре «Р♥Д» ему подсказал Балакирев, и к нему же Чайковский обращался за помощью и советами, пока ее сочинял. Законченное произведение Чайковский назвал «увертюрой-фантазией», имея, главным образом, в виду, что это не увертюра в строгом смысле слова — выдерживающая все «законы увертюры» и проч., — но скорее полет музыкальной фантазии. Увертюра, в которой композитору дозволено уклоняться, если ему приспеет такое желание, в сторону. В середине ее имеется совершенно роскошная мелодия, к которой с тех самых пор прибегают кинорежиссеры, когда им требуется изобразить нечто СВЕРХромантичное.
А теперь о последнем вопросе. Действительно ли Чайковский думал, что у него может отвалиться голова? Таки да, действительно думал. Наш Чайки страдал от множества всепоглощающих неврозов, и один из них сводился к мысли, что если он будет дирижировать оркестром слишком энергично, то может лишиться головы. И это так же верно, как то, что вы это читаете! К тому же — и здесь тоже ни слова лжи — многие видели, как он, дирижируя, сжимает в одной руке палочку, а другой придерживает подбородок, опасаясь такового лишиться! Честное благородное слово!
Ну вот. Мы уже подобрались к 70-м. Но вы не волнуйтесь, брюкам клеш, висящим в вашем шкафу, ничто пока не грозит. Это еще только 1870-е. Однако, прежде чем заняться ими, посмотрим, что поделывают Коротышка Ричард и Верзила Джо.
СЕМИДЕСЯТЫЕ — СВЕРШЕНИЯ И ПРЕГРЕШЕНИЯ
Представьте себе 1870-е немного похожими на 1970-е. Хорошо-хорошо, я в курсе, ежу понятно, это очень специальная тема. Но это же не значит, что между первыми и вторыми нельзя усмотреть никакого сходства. В 1970-х только и разговоров было, что про мир да любовь, — а в 1870-х родился Махатма Ганди! Ну? Чего ж вам еще? Ах, еще чего-нибудь? Ладно, пожалуйста, в 1970-х у нас была «Абба». А в 1870-х был папа, которого объявили — с любезного разрешения Ватикана — непогрешимым. Вот вам! Каково? Просто жуть берет, правда? Вам и этого мало? Мало. Ну тогда слушайте. Значит, так, в 1970-х мы получили почтовые открытки с клубничкой, а в 1870-х до этих самых почтовых открыток как раз ВПЕРВЫЕ И ДОДУМАЛИСЬ! В 1970-х вы могли летать на велосипеде «Роли Чоппер», а в 1870-х — слушать «Полет валькирий». В 1970-х У ВАС БЫЛ СЕРИАЛ «ВОРЦЕЛЫ», а в 1870-х… Ладно, на этом сходство кончается. Простите. С «Ворцелами» ничто не сравнится (как сказал однажды Мэлвин Брэгг, пусть вы и не знаете, кто он такой[*]). Я немного отмотаю ленту назад, с вашего дозволения. «Полет валькирий». Да, дело было как раз в 1870-м, то есть премьера-то состоялась в 1869-м, однако «большой сенсацией» эта вещь стала в 1870-м, а после такой и осталась. Как раз во время открытия Суэцкого канала Вагнер подарил миру музыку девяти дочерей Вотана, музыку страшноватых, чудесных, летящих по воздуху всадниц, музыку напалма, — это уж зависит от поколения, к которому вы принадлежите. То была четвертая опера цикла, посредством которого тестируется выносливость мочевого пузыря, — «Кольца», или, если назвать его полным клубным именем, «Кольца леди Бенедиктин-Триксибелль, третьей» ☺. Совершенно верно, соврал. Полное имя цикла куда скромнее: «Кольцо нибелунга», но я полагаю, что мое смешнее. Если бы «Кольцо» было футбольным матчем (это я об американском футболе), то «Валькирия» стала бы вторым периодом. Незадолго до этого Вагнер снова решил немного отдохнуть от «Кольца» — примерно так же, как несколько раньше с «Тристаном и Изольдой». Это произошло в 1867-м, а кончилось все премьерой его комедии «Нюрнбергские мейстерзингеры». Слово «комедия» использовано здесь, как вы уже могли бы начать догадываться, несколько вольно. На самом деле настолько вольно, что оно вполне может уйти погулять и никогда больше с «Нюрнбергскими мейстерзингерами» не встретиться — ну разве пришлет иногда почтовую открытку. Насколько не смешна эта «комедия»[♫]. можно понять по одному предложению: «Действие происходит в Нюрнберге шестнадцатого столетия…» Собственно, в конце его можно бы и точку поставить. По-моему, все уже ясно. «Действие происходит в Нюрнберге шестнадцатого столетия». Вряд ли кому-либо из прочитавших эту фразу придет в голову, что она обещает легкие, развеселые полчаса, проведенные под звуки музыки Ронни Хэйзелхерста[♫*] в обществе исполнителя одной из ролей в фильме «Алло, алло», не так ли? Нет, не придет. Рад, что вы со мной согласны. Для Вагнера комедия означает «человеческую комедию», остающуюся комедией лишь в той мере, в какой ее содержание не заставляет вас хвататься за пистолет. Ну, то есть, как правило. В его опере рассказывается о состязании мейстерзингеров (судя по всему, и вправду имевшем место). Традиция «мейстерзингеров» восходит к далекому прошлому, в котором их также именовали «миннезингерами». Рассказ идет о самом из них знаменитом, Гансе Саксе, решившем отдать руку своей дочери тому, кто победит в одном из таких состязаний. Тут есть и плохой дядя, Бекмессер, и довольно напыщенный хороший дядя — франконский рыцарь Вальтер. Очень смешно, правда? А кстати, я же пообещал рассказать, что поделывает еще и Верзила Джо, так что давайте напялим приличествующее этому историческому периоду нижнее белье в обтяжечку и примем вялую позу «Это что у вас тут такое?» из каталога Джона Колье[*], — перед нами самые что ни на есть 1870-е, и мы направляемся прямо в них.
ЧАРОВНИЦА АИДА
Если совсем точно, перед нами 1871-й. Год Парижской коммуны — первого в истории более-менее социалистического правительства, правившего с марта по май этого года: срок правления, установивший стандарт для всех социалистических правительств будущего, — пока не объявился Тони Блэр. То был также год, в котором Франция уступила Германии Эльзас-Лотарингию, выплатив ей еще и «компенсацию» в ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ франков. ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ франков. Простите, у меня пластинку заело. Хотя, знаете, ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ франков. Ну вот, виноват, опять повторяюсь. И несомненно, все эти денежки пошли в карман Вильгельма Г, который первым стал самым первым императором новой Германии. Этот период выглядел также необычайно — и, вне всяких сомнений, временно — мирным, благо Вашингтонский договор уладил все мелкие недоразумения, еще существовавшие между США и Британией. Как мило. Добавим сюда учреждение Кубка Футбольной ассоциации, появление официальных выходных дней, а также встречу Стенли и Ливингстона в Уджиджи — короче говоря, Бог пребывал в небесах, а на земле все было в порядке[*]. В 1871-м появилась и пара на редкость хороших книг, так что и людей образованных нашлось чем порадовать, — Льюис Кэрролл опубликовал продолжение «Страны Чудес», «Алису в Зазеркалье» (отменные канапе), а Джордж Элиот — «Миддлмарч» (более чем впечатляющие соуса и подливки). Господи — куда ни кинь, везде псевдонимы. Поразительно. Если подумать, я и сам всегда был от них не прочь.
 М-да. Пожалуй, с этим спешить не стоит. Как бы там ни было, у нас теперь звучит музыка 1871-го, и кого же мы видим? — точно, Верзилу Джо. Нашего зеленого человечка. Он сейчас в расцвете своих пятидесяти восьми, а итальянцы питают к нему любовь, которая лишь самую малость недотягивает до их любви к пармезану. Всякий, кому случается попасть в ЛЮБОЙ практически город Италии в надежде увидеть имя композитора начертанным на стене практически любой нелегальной пиццерии, знает, что надежда его не обманет. Если честно, то имя Верди стало синонимом набравшего изрядную силу националистического движения — отчасти вследствие собственных националистических наклонностей Верди и последовательного использования им в операх националистических сюжетов, но также и потому, что судьба сыграла с его именем причудливую шутку.
Слова «Viva Verdi» — «Да здравствует Верди» — появились в нелегальных пиццериях по причине исподтишка улыбнувшейся композитору удачи. Все шло к тому, что некий Виктор Эммануил того и гляди станет королем Италии. И в результате буквы VERDI использовались как акроним фразы «Victor Emmanuel, Re D’Italia» — или «Виктор Эммануил, король Италии», — а в полном виде: «Viva VERDI». Иными словами, «Да здравствует Виктор Эммануил, король Италии». История эта хорошо известна, и тем не менее упомянутый каприз судьбы не сработал бы и наполовину так хорошо, будь Верди (а) не националистом и (б) композитором из паршивеньких.
Впрочем, вернемся в 1871-й. В этом году господин В. получил очень милое письмо от хедива Египта. Хедив… Думаю, это какой-то корнеплод. Да кто угодно. Так или иначе, он обратился к Верди с просьбой сочинить симпатичную БОЛЬШУЮ оперу, которая будет показана при открытии его, хедива, симпатичного БОЛЬШОГО оперного театра — новехонькой Каирской оперы. Симпатичную и БОЛЬШУЮ, пожалуйста, предпочтительно с легко запоминающимися мелодийками, — и нельзя ли устроить так, чтобы все было готово уже к четвергу? Ну, насколько я понимаю, Верди в заказах особо не нуждался. Каир? Это ж черт знает какая даль, а ему и в Италии хорошо, большое вам спасибо. Имя на стене каждой подпольной пиццерии, работы навалом. И Верзила Джо ответил, что оперу напишет с превеликим удовольствием, однако хорошо бы получить за нее 20 000 долларов. 20 000! (жирным шрифтом, вы заметили?) 20 000 долларов!! Вы приглядитесь, приглядитесь — жирным шрифтом, курсивом да еще и со вторым восклицательным знаком! Подумайте сами, что это была тогда за сумма. Совершенно ОСТОЛБЕНЕННОЕ количество денег — в те, то есть, дни. Впрочем, и в эти тоже. Как бы там ни было, хедив (вообще-то я думаю, что это такой бутербродик с икрой или еще что-нибудь), к большому удивлению Верди, на запрошенный гонорар согласился и выложил Верди двадцать косых. Ну и Верди в надлежащее время отослал ему оперу, а все остальное, как говорится, история.
Как это ни странно, опера не предназначалась поначалу для торжеств по случаю открытия новехонького здания Итальянской оперы в Каире, но должна была стать частью общих празднеств, посвященных открытию Суэцкого канала — в 1869-м. Родословная у нее поразительная: заказана опера была египетским хедивом (возможно, это все же бутылка с таким, знаете, раструбом на горлышке), сюжет придумал французский египтолог, либретто написал по-французски Камилл де Локль, затем перевел на итальянский соотечественник Верди либреттист Антонио Гисланцони, а затем перевод слегка «почеркал» сам господин Верди. Все, что в итоге уцелело, — за вычетом композитора — отбыло морем в Египет, вместе с декорациями и костюмами, заказанными в Париже, где исполнение заказа несколько застопорилось из-за осады Парижа.
Так или иначе, премьера в конце концов состоялась и опера — «Аида» — стала одной из самых успешных в истории музыки. Опять-таки, если вам представится случай, сходите, послушайте ее вживе, она и вправду того стоит. Попробуйте попасть на одно из ее гигантских публичных представлений, даваемых на круглой арене — на стадионе «Миллениум» или в другом похожем месте. Зрелище воистину фантастическое.
Сам Верди на премьере присутствовать отказался. Напрочь. Сказал, что не любит шумихи с показухой, что плохо переносит морские поездки, а кроме того, у него непорядок с волосами — торчат, и все тут, что с ними ни делай. Впрочем, он получил телеграмму от хедива (я понял, это моллюск вида Phylum[*] mollusca), в которой говорилось, что «Аида» имела громовой успех. Очаровательно, правда?
Все это происходило примерно в то же время, когда Вагнер готовил рождественский подарок для своей новой жены, Козимы, — дочери Ференца Листа и супруги (прежней) «дорогого друга» Ганса фон Бюлова. До женитьбы Вагнер открыто прожил с Козимой несколько лет[♫]. Ради того, главным образом, чтобы отдохнуть от «Кольца», он скомпоновал для оркестра несколько тем из «Зигфрида», назвав этот дар любви «Зигфрид-идиллией», — подарок был исполнен прямо перед спальней Козимы стеснившимися на лестничной площадке музыкантами. Ух! Вот это я называю «Высокой Романтикой, том 7»! (Альбом поступает в продажу лишь в ограниченных количествах.) Ну что же. Козима получила свою «Зигфрид-идиллию», а хедив — свою оперу. Позвольте я все же быстренько посмотрю в словаре, что такое «хедив», а вы пока подождите. Так, хабанера, хаки, халифат, хамса, хан… хиазм. М-да. Нет там никакого «хедива». Ну извините, не знаю я, что это такое. Зато могу вам сообщить, что, по мнению моего словаря, «халифат» — это «калифат». Очень своевременная книга.
М-да. Пожалуй, с этим спешить не стоит. Как бы там ни было, у нас теперь звучит музыка 1871-го, и кого же мы видим? — точно, Верзилу Джо. Нашего зеленого человечка. Он сейчас в расцвете своих пятидесяти восьми, а итальянцы питают к нему любовь, которая лишь самую малость недотягивает до их любви к пармезану. Всякий, кому случается попасть в ЛЮБОЙ практически город Италии в надежде увидеть имя композитора начертанным на стене практически любой нелегальной пиццерии, знает, что надежда его не обманет. Если честно, то имя Верди стало синонимом набравшего изрядную силу националистического движения — отчасти вследствие собственных националистических наклонностей Верди и последовательного использования им в операх националистических сюжетов, но также и потому, что судьба сыграла с его именем причудливую шутку.
Слова «Viva Verdi» — «Да здравствует Верди» — появились в нелегальных пиццериях по причине исподтишка улыбнувшейся композитору удачи. Все шло к тому, что некий Виктор Эммануил того и гляди станет королем Италии. И в результате буквы VERDI использовались как акроним фразы «Victor Emmanuel, Re D’Italia» — или «Виктор Эммануил, король Италии», — а в полном виде: «Viva VERDI». Иными словами, «Да здравствует Виктор Эммануил, король Италии». История эта хорошо известна, и тем не менее упомянутый каприз судьбы не сработал бы и наполовину так хорошо, будь Верди (а) не националистом и (б) композитором из паршивеньких.
Впрочем, вернемся в 1871-й. В этом году господин В. получил очень милое письмо от хедива Египта. Хедив… Думаю, это какой-то корнеплод. Да кто угодно. Так или иначе, он обратился к Верди с просьбой сочинить симпатичную БОЛЬШУЮ оперу, которая будет показана при открытии его, хедива, симпатичного БОЛЬШОГО оперного театра — новехонькой Каирской оперы. Симпатичную и БОЛЬШУЮ, пожалуйста, предпочтительно с легко запоминающимися мелодийками, — и нельзя ли устроить так, чтобы все было готово уже к четвергу? Ну, насколько я понимаю, Верди в заказах особо не нуждался. Каир? Это ж черт знает какая даль, а ему и в Италии хорошо, большое вам спасибо. Имя на стене каждой подпольной пиццерии, работы навалом. И Верзила Джо ответил, что оперу напишет с превеликим удовольствием, однако хорошо бы получить за нее 20 000 долларов. 20 000! (жирным шрифтом, вы заметили?) 20 000 долларов!! Вы приглядитесь, приглядитесь — жирным шрифтом, курсивом да еще и со вторым восклицательным знаком! Подумайте сами, что это была тогда за сумма. Совершенно ОСТОЛБЕНЕННОЕ количество денег — в те, то есть, дни. Впрочем, и в эти тоже. Как бы там ни было, хедив (вообще-то я думаю, что это такой бутербродик с икрой или еще что-нибудь), к большому удивлению Верди, на запрошенный гонорар согласился и выложил Верди двадцать косых. Ну и Верди в надлежащее время отослал ему оперу, а все остальное, как говорится, история.
Как это ни странно, опера не предназначалась поначалу для торжеств по случаю открытия новехонького здания Итальянской оперы в Каире, но должна была стать частью общих празднеств, посвященных открытию Суэцкого канала — в 1869-м. Родословная у нее поразительная: заказана опера была египетским хедивом (возможно, это все же бутылка с таким, знаете, раструбом на горлышке), сюжет придумал французский египтолог, либретто написал по-французски Камилл де Локль, затем перевел на итальянский соотечественник Верди либреттист Антонио Гисланцони, а затем перевод слегка «почеркал» сам господин Верди. Все, что в итоге уцелело, — за вычетом композитора — отбыло морем в Египет, вместе с декорациями и костюмами, заказанными в Париже, где исполнение заказа несколько застопорилось из-за осады Парижа.
Так или иначе, премьера в конце концов состоялась и опера — «Аида» — стала одной из самых успешных в истории музыки. Опять-таки, если вам представится случай, сходите, послушайте ее вживе, она и вправду того стоит. Попробуйте попасть на одно из ее гигантских публичных представлений, даваемых на круглой арене — на стадионе «Миллениум» или в другом похожем месте. Зрелище воистину фантастическое.
Сам Верди на премьере присутствовать отказался. Напрочь. Сказал, что не любит шумихи с показухой, что плохо переносит морские поездки, а кроме того, у него непорядок с волосами — торчат, и все тут, что с ними ни делай. Впрочем, он получил телеграмму от хедива (я понял, это моллюск вида Phylum[*] mollusca), в которой говорилось, что «Аида» имела громовой успех. Очаровательно, правда?
Все это происходило примерно в то же время, когда Вагнер готовил рождественский подарок для своей новой жены, Козимы, — дочери Ференца Листа и супруги (прежней) «дорогого друга» Ганса фон Бюлова. До женитьбы Вагнер открыто прожил с Козимой несколько лет[♫]. Ради того, главным образом, чтобы отдохнуть от «Кольца», он скомпоновал для оркестра несколько тем из «Зигфрида», назвав этот дар любви «Зигфрид-идиллией», — подарок был исполнен прямо перед спальней Козимы стеснившимися на лестничной площадке музыкантами. Ух! Вот это я называю «Высокой Романтикой, том 7»! (Альбом поступает в продажу лишь в ограниченных количествах.) Ну что же. Козима получила свою «Зигфрид-идиллию», а хедив — свою оперу. Позвольте я все же быстренько посмотрю в словаре, что такое «хедив», а вы пока подождите. Так, хабанера, хаки, халифат, хамса, хан… хиазм. М-да. Нет там никакого «хедива». Ну извините, не знаю я, что это такое. Зато могу вам сообщить, что, по мнению моего словаря, «халифат» — это «калифат». Очень своевременная книга.
Я ♥ 1874
1874-й. По-моему, год неплохой. И вообразите, если бы вам пришлось составлять одну из набивших оскомину семичасовых, разбитых на вставочки телепрограмм, посвященных уходящему году, со множеством вылезающих на экран «говорящих голов» (тех же, что вылезали на прошлой неделе и, помнится, высказывали ровно те же мнения по поводу совершенно другого года), с музыкальными клипами и «находками», которые успели подзабыться с прошлого года, — так вот, как бы эти ваши клипы звучали? Совсем не похоже на то, о чем пойдет сейчас речь, это я вам гарантирую. Первым в ряду клипов 1874-го стоит «Реквием» Верди. Сочинение и впрямь изумительное — не опера, понятное дело, и все-таки очень оперное по стилю. Собственно говоря, дирижер Ганс фон Бюлов — тот самый обладатель вспорхливой дирижерской палочки и не менее вспорхливой жены — и назвал его «оперой в церковных ризах». И его нетрудно понять — этот «Реквием» приходится родственником скорее Берлиозу, чем Баху и Моцарту. Очень театральная, драматичная вещь. Еще важнее, однако, что он стал для Верди примерно тем же, чем был «Вильгельм Телль» для Россини. Я не хочу сказать этим, что, сочиняя его, Верди потратил целое состояние на яблоки, — я хочу сказать, что он был последней вещью, написанной Верди перед тем, как отойти на время от дел. У Верди перерыв не составил полных «россиниевских» тридцати четырех лет, но тем не менее на следующие тринадцать он лавочку прикрыл. Тринадцать лет! Народу Италии этот срок, несомненно, показался долгим. Верди просто… переехал в деревню. Ничего не писал, повесил на дверь табличку «Не беспокоить» и все такое. (Утрите слезы с глаз.) Такими были в 1874-м Верди и его «оперный» стиль. Итальянское звучание его к тому же оказалось совершенно отличным от немецкого оперного звучания Вагнера. И дело не только в том, что отсидеть немецкую оперу можно было, лишь дважды побрившись и переменив нижнее белье, нет, просто она была, как бы это выразиться, — другой. Совершенно другой. Итальянская и немецкая оперы поворотили на распутье в разные стороны и пошли по разным дорогам. Сочинения Верди по-прежнему раздвигали границы, — я хочу сказать, послушайте хоть «Аиду» и «Силу судьбы»: обе очень далеко ушли от того, с чего Верди начал, от «Набукко», к примеру. Да так тому быть и следует — их разделяет почти тридцать лет. А тридцать лет, в те дни и времена, — как и в эти тоже — были в музыке дистанцией огромного размера. Ну хорошо, Италия — это Верди, Германия — Вагнер, а что же Франция? Кто, так сказать, у нас Франция? Что ж, пойдемте со мной, тут недалеко — строчка-другая, и я вам это скажу Только прихватите с собой носовые платки — история прежалостная.
ЭТО ЖОРЖ И ЕГО БИДЕ
Итак, перед нами композитор Жорж Бизе, которого мой падкий до проверки орфографии компьютер упорно норовит переименовать в биде. Нет, честное слово, без шуток. Однако не волнуйтесь — у нас в издательстве имеются люди, которые выверяют подобного рода вещи. Жоржбиде родился в 1838-м, в Париже, и был до мозга костей классическим композитором-вундеркиндом. Уже в девять его приняли в Парижскую консерваторию, а в девятнадцать он получил самую приметную в Париже композиторскую премию. Сочинения его были ОШЕЛОМИТЕЛЬНО зрелыми, и очень скоро все поняли, что имя биде переживет века. А затем все как-то стало меняться к худшему. Биде, как мне всегда представлялось, оказался в положении, хорошо знакомом кое-кому из нынешних актеров. Тем, кто узнал успех еще в раннем возрасте. Предложения начинают стекаться к ним рекой, и становится очень трудно отделить зерна от плевел. Примерно так, похоже, получилось и с Жоржем, и вскоре, ну, в общем, все поняли, что биде себя исчерпал и ни на что больше не годен. А затем все как-то стало меняться к лучшему. Биде женился на дочери своего профессора композиции, и жизнь представилась ему в более вдохновляющем свете. Благодаря высоким оценкам его ранних произведений он получил заказ на новую оперу — оперу, которая должна была увидеть свет рампы в марте 1875-го. Если вы попросите кого угодно назвать вам одно из сочинений Бизе, то скорее всего, услышите… ну-ка, ну-ка, попробуем догадаться, что именно. Вы первый! Да, именно вы. Мы тут состязаемся в эрудиции. Давайте, назовите любое сочинение Бизе. Хорошо, «Кармен». Об этом я и толкую. А теперь попросите того же человека назвать вам еще одно сочинение Бизе, и, я почти не сомневаюсь, что никакого ответа вы не получите, пото… Ну хорошо. Пусть. «Искатели жемчуга», да, верно. Молодец. Ладно, а вот поинтересуйтесь названием еще одного — и вы услышите в ответ одни только смущенные вздо… Да, правильно, правильно, «Арлезианка», да. Знаете, умники, вообще-то, мало кому по душе. Да, «Арлезианка». Однако осведомитесь о названии четвертого, и… Ах, чтоб тебя. «Пертская красавица». Ладно, вы лучше спросите насчет пятого… …? …? …? АГА! ТАК Я И ДУМАЛ! ТОЧНО. Хорошо. Ничего, давайте начнем сначала. Попросите кого угодно назвать вам ПЯТЬ сочинений Бизе — и вы, скорее всего, получите в ответ пустой взгляд. А между прочим, кого-нибудь оно, возможно, и потрясет — но разумеется, не ваших чертовых всезнаек, — однако Бизе написал… постойте, сколько их там… да, 150 пьес для одного только фортепиано. Он получил в 1857-м присуждаемую композиторам более чем завидную Римскую премию — и при этом никогда, насколько я знаю, не испытывал соблазна переодеться французской горничной и гоняться по всему белу свету за сопрано, а просто продолжал сочинять музыку: сюиты, увертюры, он даже симфонию написал. Однако чего ему всегда хотелось, так это соорудить ОПЕРУ. Бизе, как говорили, обладал превосходным чутьем на мелодию и ни черта не смыслил в либретто. Возьмите тех же «Искателей жемчуга»: если не считать знаменитого дуэта «Аu fond du temple saint» (в дословном переводе: «Я люблю Саймона Темпла»☺), текст в ней из рук вон плох. Что касается его же попытки 1866 года, «Пертской красавицы», то лучше бы ему было переложить на музыку сам роман сэра Вальтера Скотта, потому что инсценировка оказалась попросту ужасной. ОДНАКО ЗАТЕМ… ЗАТЕМ, В 1872-М, ОН НАПИСАЛ ОПЕРУ «ДЖАМИЛЕ»! Которая тоже оказалась неутешительной грудой хлама. Впрочем, это не совсем верно — в ней присутствуют великолепные арии. Забыл, как они называются, однако, ну, в общем, Малеру эта опера нравилась. С другой стороны, Малеру и стукнуло-то к тому времени всего двенадцать лет, так что угодить ему было, наверное, нетрудно. Как бы там ни было, года три примерно спустя — в 1875-м — Бизе узнал средней руки триумф благодаря «Старухе из Арля». Это не колонка светских сплетен, а название пьесы, к которой он написал музыку, — «Старуха из Арля», или «Арлезианка», как мог бы окрестить ее он сам. Ободренный успехом этого опуса, Бизе приступил к исполнению нового заказа парижской «Оперы-комик». Он взял за основу книжечку Проспера Мериме (хоть и можно было бы ожидать, не правда ли, что человек с его послужным списком либретто постарался бы держаться подальше от человека с таким именем). То была история о девицах вольного поведения, цыганах, ворах и работницах табачной фабрики, — по-моему, в ней присутствовал даже жуликоватый агент по продаже недвижимости. Как это ни грустно, парижская оперная публика нашла ее сложной для восприятия, и в ночь тридцать первого представления оперы Бизе, сам объявивший себя неудачником, умер от рака горла — а было ему всего только тридцать шесть лет. Что случилось бы, протяни он еще несколько представлений? Да то, что он услышал бы, как его оперу объявляют шедевром, восславляют, признавая творением несомненного гения. А в наши дни? Ну, в наши дни она остается самой, пожалуй, известной, самой популярной оперой ИЗ ВСЕХ. Разумеется, я говорю о «Кармен». Вот хоть убейте меня, не понимаю, почему она сразу не возымела успеха. Фантастические, мгновенно врезающиеся в память мелодии, почти «трехмерная» партитура, эта опера просто-напросто хватает вас за оба уха и орет: «ЛЮБИ МЕНЯ!» Ну, то есть, что-то в этом роде. А вот им она не понравилась. Вернее, поначалу. Бедный Жорж. Бедняга «биде». И все-таки жизнь, как принято говорить у артистов, должна продолжаться, и потому — вперед. Если Брукнер был «спящим великаном» 1860-х, так приготовьтесь к знакомству со «спящим великаном» 1870-х.
ПОЛНЫЙ GESELLESCHAFT!
Ладно. Представьте, если хотите, что сейчас 1876 год. Представили? Хорошо. Отлично. Замечательно. Александр Белл только что, ну вот минуту назад, изобрел телефон. И насколько мне известно, все еще пытается разобраться в телефонном справочнике. Генрих Шлиман раскопал Микены. Дизраэли стал графом Биконсфилдом, а Лондон, что намного важнее, обзавелся канализацией. Кроме того, в 1876-м удалилась к праотцам еще одна дама с псевдонимом. Амандина Аврора — или лучше сказать Жорж Санд? Или Люсиль Дюпен, баронесса Дюдеван, если, конечно, вы понимаете, о чем я. В Баварии Вагнер открыл свой колоссальный кафедральный собор оперы, байрёйтский фестивальный дом — поразительное здание, построенное в точности по указаниям композитора (существовало ль хоть что-то, к чему этот человек не приложил руку? Интересно, пол в своей ванной он сам заливал цементным раствором?), с залом, в котором не видно ни оркестра, ни дирижера. В нем также отсутствовали боковые ложи, галерка и даже будка суфлера. Впрочем, гораздо важнее то, что в нем присутствовало, — акустика, за которую и умереть не жалко. Если вы приглядитесь к его фотографий — потому что, чего уж там, многим из вас вряд ли удастся когда-нибудь в нем побывать, разве что вы поворотите куда-нибудь не туда, развлекаясь подводным плаванием в Тоскане, — то обнаружите в пей некое сходство с «широкоэкранным» фильмом-оперой. Все ваше внимание окажется направленным на «труппу», которая разыгрывает перед вами драматическое представление. В этом и состоит причина, по которой вам не показывают ни суфлерской будки, ни музыкантов, ни дирижера, — ничто не должно отвлекать вас, ничто не должно мешать сосредоточиться на разворачивающейся перед вами музыкальной драме. Есть еще, правда, исполненный совершенства звук, который исходит из… ну да, в том-то все и дело. Откуда, собственно, он исходит, сказать наверняка вам не удастся. В самом деле, чем больше я думаю об этом зале, тем больше нахожу в нем сходства с хорошим, современным телевизором. Знаете, когда вы смотрите некоторые фильмы, снабженные стереозвуком, то слышите по временам фоновые шумы или звуки, которые доносятся чуть ли не из-за вашей спины или откуда-то сбоку. Так вот, это отчасти похоже на вагнеровский Байрёйт. Оркестра нигде не видно, дирижера тоже, и у вас иногда возникает ощущение, что музыка просто протекает сквозь вас, исходя одновременно и отовсюду, и ниоткуда. Замечательное место. Что бы кто ни думал о Вагнере, в Байрёйте он достиг чего-то еще не бывалого. А в это время в Австрии сорокатрехлетний Иоганнес Брамс преодолевал — примерно как Брукнер незадолго до него — некий внутренний барьер. Поселившись года четыре назад в Вене, он занял пост дирижера в весьма почтенном «Gesellschaft der Musikfreunde» — дословно «Общество друзей музыки», своего рода Королевское филармоническое общество, но только с правом вести в вальсе, — однако в 1875-м этот пост оставил. Причина? Нехватка времени для сочинения музыки. В общем, работу он бросил и занялся исключительно нотными знаками. Этакий композиторский вариант члена парламента, решившего «проводить больше времени с семьей». И, благодарение небу, решение это себя оправдало. Посвежевший, помолодевший, навострившийся[♫], он создал целый ряд крупных произведений, в число которых со временем вошла и аппетитнейшая «Академическая праздничная увертюра». Брамс сочинил ее для Бременского университета, которому хватило ума присвоить ему почетную степень. В партитуру Брамс вставил несколько студенческих песен, и, говорят, когда оркестр добрался до великолепной, триумфально звучавшей «Гаудеамус игитур», раздался оглушительный рев и в воздух взлетели шапки[♫]. В этом же, так сказать, «списке» состоят и «Трагическая увертюра», и… …и нечто куда более интересное. Видите ли, у Брамса теперь не только нашлось многое множество времени для сочинительства; времени, похоже, хватило и на то, чтобы справиться кое с чем, происходившим у него в голове. Он был, о чем я уже упоминал[♫], одним из композиторов, вечно ощущавших себя пребывающими в тени Бетховена, — по меньшей мере в том, что касается симфоний. Взглянем правде в лицо: Брамсу сорок три года, а он еще ни одной не сочинил, хотя если кому и следовало писать симфонии, так именно ему. Возможно, свобода от «с девяти до пяти» в «Gesellschaft» и позволила ему наконец приняться за дело. Потому что всего только год спустя к нему залетел музыкальный аист и Брамс стал гордым отцом законченного манускрипта, вскричав при этом: «Симфония!» И точно, это она и была: крупная, крепкая, в четырех, как показало взвешивание, частях. Впервые слушая ее в живом исполнении, вы неизменно спотыкаетесь об одно место в последней части и думаете: «Так это же… это ж, это оно, что ли?» — поскольку как раз в это место финала Брамс — и быть может, совершенно сознательно — включил тему, напоминающую о Девятой Бетховена. Собственно, Брамс, сказывают, сильно серчал, если кто-нибудь заговаривал с ним об этом, — из чего несомненно следует, что проделал он это нарочно. Странное решение, если позволите мне процитировать «Четыре свадьбы и одни похороны», — ощущать себя, когда речь идет о сочинении симфоний, вечно живущим в тени какого-то композитора, а после, сочиняя свою самую первую, взять да его же и процитировать. Эта странность и была, вне всяких сомнений, последней каплей, побудившей критиков многие годы спустя присвоить ей титул «Бетховенская Десятая». Ну и ладно. По крайней мере, номер один у него теперь в запасе имелся. А дальше что? А дальше, как говорится, «к ногам его лег целый мир».
САКС И СКРИПКИ
Настало время взять 1878-й обеими руками, перевернуть его вверх тормашками, тряхануть от души и посмотреть, что у него вывалится из карманов. С вашего разрешения я опишу их содержимое. Первым идет некролог Виктора Эммануила II, короля Италии, передавшего власть над страной своему сыну Гумберту. Имеется также потрепанный старый образчик нового трехколесного автомобиля Карла Бенца, способного развивать дух захватывающую, в 1878-м то есть, скорость: от 0 до 7 миль в час, но, правда, всего на 10 минут. А вот этот странный, сразу напоминающий об Элгаре предмет есть самый настоящий велосипедный руль — А. А. Поп только что начал производить первые британские велосипеды. Кроме того, на лондонских улицах появилось новое электрическое освещение. Ну что еще? Еще роман Томаса Гарди «Возвращение на родину» и «Словарь музыки и музыкантов» Джорджа Гроува — и как люди жили до его издания? — а также «Бронзовый век» Родена и вот эта бумажка. Свидетельство о рождении. Некоего Германа Гессе. Прошлогоднее. Похоже, все. Впрочем, нет, еще одна мелочишка. Ну, «мелочишка» сказано просто так, для красного словца, а на самом деле это вещь, без которой пижоны вроде меня и дня бы не прожили. Потому что, вы не поверите, в 1878 году Дэвид Хьюз изобрел микрофон. Поразительно — 126 лет назад! Не знаю почему, но я полагал, будто он существовал и намного раньше. И потом, «Дэвид Хьюз»? Кто это? Ред., как водится. Без микрофона, в том или ином его виде, вы в наши дни и шагу не ступите, а вот о Дэвиде Хьюзе кто-нибудь когда-нибудь слышал? Никто не слышал. Во всяком случае, по моим сведениям и в хоть сколько-нибудь значительной степени. У нас определенно нет «Дня Дэвида Хьюза», приходящегося на третью субботу апреля, дня, в который дети разгуливают по улицам с леденцами, отлитыми в виде микрофонов, а ровно в полдень все как один кричат «ура». Нету! По-моему, с ним надо что-то делать. Так или иначе, я в который раз слезаю с ящика — пока меня не застукала старшая медсестра — и возвращаюсь к тому, ради чего все мы здесь собрались, — к музыке.
ГЛАВА ПАМЯТИ ДЭВИДА ХЬЮЗА
(Мелочь, я понимаю, но всякое общественное движение должно с чего-то начинаться!) Прежде чем мы покончим с 1878-м, позвольте предложить вам кратенькое описание многоголового чудища, каким стала музыка к концу девятнадцатого столетия. А чтобы приступить к этому описанию, нам надлежит ответить на следующие вопросы: (а) Куда подевалась Церковь как влиятельная в музыке сила? (б) Что представляет собой, если говорить о музыке, «новейшая технология»? (с) Мамочка, почему у тебя такая молодая кожа? С вашего разрешения я отвечу на все три. Если представить себе музыку как игру в поло — только с гораздо большим числом пересадок с пони на пони, — тогда мы сейчас подходим к концу романтического «чуккера». Время населявшей эту эпоху жеманной, экзальтированной шатии-братии завершается. На смену ей уже приходят, кто раньше, кто позже, те, кого принято называть «неоромантиками», или новыми романтиками. Люди наподобие Малера, Скрябина, позднего Брукнера, — люди, которые выжимают последние капли душераздирающей тоски из своей композиторской губки, носят какие-то странные воротнички и напевают себе под нос нечто, сильно смахивающее на «Энтмюзик». Да и в конце концов, куда им теперь податься? Знаете, как говорят: «Что можно дать человеку, у которого есть все?» Что прикажете делать, если вы композитор, а музыку всю, похоже, уже написали? Относительно Церкви, ну что же, если не считать самых глухих уголков Европы, она своей тени больше на музыку не отбрасывает. Композиторы, которые пишут религиозную музыку — а тех, кто продолжает использовать ее обороты и структуру, отнюдь не мало, — делают это из личной набожности или, как в случае Верди с его «Реквиемом», прямо вдохновляясь какими-то событиями либо людьми. А инструменты романтиков? Инструменты в значительной мере устоялись и больше уже меняться не будут. Берлиоз и Мейербер использовали более или менее все, что имелось в их распоряжении, не считая разрозненных добавлений новой краски или фразы — как это было с Арнольдом Саксом, изобретшим лет тридцать с чем-то назад саксофон, или даже с людьми наподобие Вагнера, соорудившего для себя особую тубу, которая позволяла отвести играющим в «Кольце» медным духовым побольше нот, — вот, пожалуй, и все. Да, и последнее, — потому что я ежедневно пользуюсь увлажняющим кремом для кожи. Рад, что это удалось прояснить. Итак, главные «игроки» этого мира суть Брамс с Чайковским. Оба — поздние романтики, но один на другого нисколько не похож. Господин Ч. питал неизлечимое пристрастие к роскошным мелодиям — основательным, крупным, — даже идущим порою в ущерб прочей окружающей их музыке. ВЕЛИКИЕ МЕЛОДИИ, вот его инвентарь, и, несомненно, они и составляли главную причину его успеха. Правило 1 — приятные мелодии нравятся всем, даже тем, кто твердит, будто они им не по душе. Брамс тоже умел сочинить мелодию, которую еще и доиграть не успеют, а вы уже ловите себя на том, что напеваете ее, однако он был романтиком очень, скажем так, консервативным. Хотя нет, это не совсем верно. Он был, если честно, Романтиком подлинным, несгибаемым и непреклонным и дальше этого идти не желал. Не желал что-либо менять. Он так обрадовался, найдя свой голос, — наверное, даже прыгал от счастья, ведь столько лет потратил на поиски, — что с той поры за него и держался, крепко и неизменно. Вагнер? Ну, он Брамсу просто не нравился. Любимым композитором Брамса был знаете кто? — вы не поверите, Иоганн Штраус 2-й. Да, именно, Иоганн Штраус 2-й. И извиняться за это он ни перед кем не собирался. «Пусть мир идет тем путем, какой ему по душе!» — сказал он однажды, а сам пошел своим. Довольно интересно: Брамс не переносил Вагнера, а Чайковский точно так же не переносил Брамса. «Что за бездарный прохвост», — написал однажды Чайковский о ИБ. Если угодно, можете назвать меня сидящим между двух стульев, но лично мне по душе и тот и другой. Сравните хоть их скрипичные концерты, Брамса и Чайковского, написанные как раз в этом самом году, в 1878-м. Оба теперь уже накрепко вошли в состав Фантастической Четверки — четверки больших концертов, ставших пробным камнем для всех, какие есть в мире, скрипичных виртуозов, — концертов, написанных Брамсом, Чайковским, Мендельсоном и Бетховеном. Чем, собственно, всякое сходство между ними и исчерпывается. Брамсовский — это скорее симфония с большой сольной партией скрипки, — хорошо известно, что на премьере его публику несколько разочаровало то обстоятельство, что исполнитель концерта, знаменитый скрипач Йозеф Йоахим, блеснуть привычно ожидаемой виртуозностью так и не смог. Концерт Чайковского, с другой стороны, был с ходу объявлен «неисполнимым», да еще и тем самым солистом, для которого он предназначался, Леопольдом Ауэром, — вообще этот концерт считается куда более трудным, чем брамсовский. Впрочем, по прошествии времени музыканты и с тем и с другим свыклись, и ныне оба стали чем-то вроде романтического скрипичного эквивалента знаменитых джазовых вещей — мы, что ни год, получаем новый урожай их записей. И опять-таки, excusez-moi pendant je m’assieds sur le fence, mais[*], я до смерти люблю и тот и другой. Можете обозвать меня разносторонним, можете назвать человеком, которому легко угодить, можете даже завернуть меня в прозрачную пленку и назвать Барби. Я не против. Кстати, национализм тоже все еще остается в полной силе, и, поскольку мы вот-вот окажемся в 1879-м, стоит сказать пару слов о Сметане. Бедржих Сметана — опять-таки, винить беднягу за такое имя я не могу, носитель его просто не мог не стать композитором — был уроженцем страны, которая ныне называется Чешской Республикой, бывшей Чехословакией, а во времена Бедржиха носила имя куда более романтическое — Богемия, и не думайте, будто я вознамерился поразить вас каламбуром, точно так эта часть Австрийской империи и называлась. Сметана был, подобно многим, как мы уже видели, композиторам того времени, немножко патриотом. В 1848-м, во время Пражского восстания, он провел какое-то время на баррикадах, потом недолго жил в Швеции, а в конце концов занял пост главного дирижера пражского Временного театра. Начиная с этого времени, поскольку политический климат стал куда более благоприятным, чем несколько лет назад, Сметана принялся развивать музыкальный голос — и не только свой, но и всей Богемии. И, делая это, он проложил путь для появившихся позже Дворжака и Яначека. В 1879-м, пока Чайковский вносил последние исправления в «Евгения Онегина», а Брамс добавлял к списку своих симфоний третью, Сметана в последний раз промокнул чернила, которыми был написан эпический цикл его чешских симфонических поэм[♫]. Он назвал его «Мá Vlast» — «Моя родина». Собственно, цикл содержал шесть поэм: «Бланик» (это гора), «Табор» (город), «С чешских полей и лесов», «Шарка» (разновидность чешской амазонки), «Вышеград» (замок в Праге) и известную, пожалуй, лучше других «Влтаву», музыкальную историю реки, текущей, набирая размах и быстроту от самых своих истоков, проходящей через Прагу — а там свадьба пляшет на берегу — и, наконец, величаво впадающей в море. Поэма явно была задумана так, чтобы ни один чех не мог, слушая ее, не пустить слезу, даром что центральная ее тема происходит вовсе не из Богемии, а из Швеции и несомненно обязана этим происхождением времени, проведенному Сметаной в «Konungariket Sverige»[*], как принято выражаться в Стокгольме.
С БРАМСОМ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ!
Одни незабываемой фразы «Вас уже обслужили?»! Головокружительные времена. Ладно, оставим их и займемся человеком, который нам сейчас интереснее прочих, Эдуардом Марксеном. А чем он нам так интересен? Сейчас узнаете. Марксен был пианистом, органистом, педагогом и композитором средней руки, родившимся в Нинштедте, в семье музыкантов. С ранних лет он помогал своему папе управляться с органом, одновременно учась играть на нем — на органе, не на папе, — заодно с фортепьяно. Я не хочу этим сказать, что он играл на органе в четыре руки с фортепьяно, речь всего лишь о том, что на лире Марксена имелась далеко не одна струна. Затем он обосновался, — вообще-то на арфе он не играл и ни на каких других струнных, сколько я знаю, тоже, поэтому не стоит воспринимать отсылку к «лире» и «струнам» так уж буквально, — прошу прощения, итак, он обосновался в Гамбурге в качестве педагога. Вот там-то — И С ЭТИМ МЫ НАКОНЕЦ ПРИБЛИЖАЕМСЯ К СУТИ ДЕЛА, — там-то одним из его учеников и стал мальчик по имени Ио. Хороший был мальчик. И учился хорошо, да так, что, когда в 1847-м умер Мендельсон, опечалившийся господин Марксен сказал, цитирую: «Ушел великий художник. Но на смену ему явился еще более великий, и это…» …Мальчик Ио. Ладно, пусть, насчет «мальчика Ио» он ничего не говорил, это я сам придумал, хотел поразить ваше воображение. На самом-то деле он сказал — за двадцать девять лет до того, как мальчик Ио сочинил свою первую симфонию: «…еще более великий, и это Брамс». Умный был, правда? Мало найдется людей, способных вычислить гения с таким опережением, а этот еще и не постеснялся предать свое мнение огласке. Так что же сделал Брамс, чтобы оправдать надежды, возлагавшиеся на него учителем? Насколько нам известно, в настоящее время он отказался от места в «Gesellschaft der Musikfreunde» — возможно, потому, что не смог написать ни одной приличной газели. Основная идея состояла в том, что он будет теперь заниматься одним только сочинением музыки, и, скажем честно, до сей поры все по этой части шло гладко. На летние месяцы он уезжал в Баден-Баден[♫], где жила Клара Шуман. Поговаривали даже, что мальчик Ио был влюблен во вдову Роберта, но, знаете, я не думаю, что это такая уж правда. А если и правда, так никаких доказательств того, что между ними чего-то там было, нет. Не думаю даже, что они хотя бы разок пообжимались[♫]. Ну, переписывались, ну, проводили вместе летние отпуска, и не более того. К тому же Брамс много сочинял, подолгу живя в Ишле[*] — городке, в котором произошла знаменитая «Большая Покража Голоса», а после еще и Иоганн Штраус 2-й (как раз когда все сочли тамошний танцзал вполне безопасным) построил в нем виллу. Это, да еще любовная интрига с Италией, которую Брамс теперь навещал при всякой возможности, привело к тому, что в скором времени руки счастливого, счастливого Иоганнеса Брамса обременил еще один новорожденный шедевр. Я сказал «в скором времени» — в 1882-м, если точно, — и шедевром этим был новый фортепианный концерт, один из сложнейших в пианистическом репертуаре. И подумайте, как миленько получилось: Брамс посвятил его не кому иному, как… Кларе? Нет. Иоганну Штраусу 2-му? Нет. Он посвятил его своему давнему учителю и другу всей жизни Эдуарду Марксену. НУ НЕ МИЛО ЛИ? Каким все-таки славным, ненатурально симпатичным человеком он был.
ДВЕНАДЦАТЬ МИНУТ СЕДЬМОГО, ВРЕМЯ ИГРАТЬ УВЕРТЮРУ
Итак, 1882-й оказался, в общем и целом, годом вполне приличным. Брамс обнародовал сорокапятиминутный, способный вывихнуть чьи угодно пальцы концерт, господин и госпожа Стравинские произвели на свет крепкого, бойкого малыша, Игоря, — первыми словами которого была, вне всяких сомнений, острота насчет безобразного звучания его заводной музыкальной шкатулки, — а Гилберт и Салливен показали в Лондоне «Иоланту». А что, два очка из трех возможных, совсем неплохо[♫]. Не забудем также и о том, что именно в 1882-м румяный двадцатилетний Дебюсси создал одно из самых ранних своих произведений, более чем уместно названное «Весна». Маленькое отступление: в 1882-м Дебюсси получил место учителя музыки при детях богатой дамы, обладавшей довольно устойчивым (равно как и усидчивым) положением в обществе. Должность эта требовала, чтобы он в четыре руки играл с детьми на пианино, преподавал им хорошие манеры и сопровождал в поездках на отдых — словом, исполнял обязанности «домашнего музыканта». Однако присутствовало в ней и кое-что еще.
КОЕ-ЧТО ЕЩЕ
Сейчас все как есть расскажу. Женщиной, о которой идет речь, женщиной, платившей Дебюсси порядочные деньги за то, что он по воскресеньям разучивал с ее отпрысками «Собачий вальс», была… Ею была не кто иная, как Надежда фон Мекк. И если это имя кажется вам знакомым, так, наверное, потому, что она же снабжала деньгами Чайковского, однако ни разу с ним не встретилась. Вообще-то, если подумать, она, скорее всего, как раз потому его к себе и не подпускала — смущалась, что у нее сидит во внутренних покоях старина Дебюсси, наяривающий с ее десятилетним сынишкой «Marche Militaire»[*]. Мог получиться неловкий, гнетущий разговор. «Выходит, вы… покровительствуете другому мужчине, не так ли?» — «Петр, я пыталась сказать вам это, посреди такта 13/8, но… но все как-то не получалось». Собственно,никто же не знает, если бы Чайковский открыл буфет, стоявший под лестницей, оттуда мог выпасть Григ или Бизе — и уж на сей счет объясняться за утренним чаем с викарием было бы и впрямь трудновато. И все-таки это лишь моя собственная теория, так что не будем выпускать ее за пределы наших четырех стен, сиречь страниц. Однако вернемся в 1882-й. В широком, так сказать, мире образовался очень уютный Тройственный союз — Италия, Австрия, Германия; англичане заняли Каир, Эдисон открыл первую в мире гидроэлектростанцию. Главная книга года — «Остров сокровищ»; вы только представьте себе на минутку, что произошло бы, выйди она сейчас. То-то повеселились бы все эти ребята, которые «маркетинг» и «мерчандайзинг»: остров игрушек, интерактивные поиски сокровищ на игровых приставках, много всякого. Главная картина года — «Бар в Фоли-Бержер», а главная сделка года: королева Виктория отдает народу Эппинг-форест. Ах, как вы добры, мэм. Хотя, может, ей намекнули, что через этот лес скоро пройдет Центральная линия подземки. А с другой стороны, Лонгфелло, Троллоп, Россетти — все они умерли, да и Чарлз Дарвин тоже взял да и перестал эволюционировать. Что же касается музыки, — впрочем, тут будет правильнее говорить о пении, — Вагнер дирижирует второй редакцией «священного праздничного действа» «Парсифаль». Разумеется, если вы житель планеты Земля, вы, наверное, назовете его «оперой». И последнее — не по значению, разумеется, — у Чайковского тоже находится что предъявить почтеннейшей публике. С вашего разрешения дальнейший разговор пойдет у нас в приглушенных тонах, поскольку небольшой музыкальный номер Чайковского предназначался для освящения московского храма Христа Спасителя — места благостного, навевающего значительные воспоминания, спокойного и даже тихого. Вот и вообразите первое исполнение этой музыки — в том, 1882 году. Толпа, собравшаяся в храме, стихает, она глубоко тронута — не первыми тактами музыки Чайковского, но общей атмосферой: свечи, полумрак, ладан, ну и конечно, тем, что в музыке слышится старый русский тропарь «Спаси, Господи, люди Твоя». Как мило. Одна морщинистая старушка, вся в черном, поворачивается к соседке — морщинистой старушке, которая тоже, конечно, вся как есть в черном, — и улыбается краем рта, в знак одобрения. Как мило. И храм, он такой благолепный, правда? Но именно в ту минуту, когда прихожанам удается разместиться в креслах со всяческим удобством, Чайковский и решает устроить… как бы это изъяснить? Короче говоря, он рисует музыкальную картину БИТВЫ ПРИ БОРОДИНЕ, ПРОПАДИ ОНА ПРОПАДОМ! Мало того, у него там еще и «Марсельеза» борется с «Боже, царя храни!» за звание «Самый привязчивый мотивчик во всей мировой музыке». То есть стоило двум старушкам уверовать в собственную безопасность, как Чайковский возьми да и пальни из всех пушек сразу, пропади они тоже пропадом! Ну вот объясните мне, о чем он только думал? Нет, правда, помедлим немного, — можете вы, если честно, представить себе такое? Гаргантюанские звуки, рев орудий, и все это на первом исполнении в храме Христа Спасителя[♥]. Лично я, слушая эту музыку на CD, всякий раз норовлю запалить в надлежащий момент пучок бенгальских огней — чтобы отдать ей должное.
СТРАННЫЙ, ЧАРУЮЩИЙ ПРИВКУС РОЗОВОГО ЛИКЕРА СО СНЕГОМ
Название странноватое, ну да и ладно — я готов с ним смириться. Итак, 1883-й. Ну-с… что у нас, по призабытому уже выражению, «уходит в лучший мир»? Это я вам скажу. Небоскребы, вот что у нас «уходит в лучший мир». Хотя правильнее было бы сказать «в небо». В чикагское, если быть точным. Самый первый небоскреб. Не такой уж, по нынешним меркам, и высокий, но все-таки вот он, прошу любить, — и занимается именно тем, чем небоскребам заниматься положено… скребет небо. И хорошо. Отлично. Кроме того, Поль Крюгер стал президентом Южной Африки; «Восточный экспресс» совершил первый свой рейс, Париж-Стамбул, — состав, правда, застрял ненадолго в Страсбурге по причине сезонной нехватки рабочих рук, но в общем дело пошло. Что еще дает нам 1883-й? Ну-с, Фридрих Ницше пишет «Так говорил Заратустра», несомненно снабжая девятнадцатилетнего пока что Рихарда Штрауса пищей для размышлений; Ренуар пишет «Зонтики», и, если честно, мы с вами потеряли целую команду тяжеловесов. Тургенева, Мане, Карла Маркса и, самое печальное, — всего через год после «Парсифаля» — Вагнера. Минуту молчания, пожалуйста. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. Рискуя быть обвиненным в поспешном переходе от высокого к смешному, сообщу также, что в 1883-м скончался граф де Шамбор, — а теперь погодите немного! Это здорово. Сейчас. «И этим Бог доказал, что он, всесильный и всемогущий, бывает порой и немного невежливым, ибо он…» …сейчас, сейчас… «…ибо он ПРИБРАЛ ПОСЛЕДНЕГО ИЗ БУРБОНОВ!» Ой, да ладно вам, совсем неплохо сказано.
КОЛЬЦЕВАЯ ПОРУКА
 Итак, мир МИНУС Вагмейстер. Вот интересно, как это отразилось на рыночной цене яиц? Ладно, давайте попробуем всплыть на поверхность где-нибудь в 1883-м. Это год открытия в Нью-Йорке «Метрополитен-опера» и, что для нас, здесь и сейчас, более важно, год, в котором Лео Делиб обнаружил, что у него на руках объявился нежданный-негаданный шедевр.
Если не считать «Коппелии», Делиб кормился, более-менее, за счет единственного своего большого успеха — балетной музыки к «Сильвии».
Он был еще одним вундеркиндом, родившимся в 1836-м — в Сен-Жермен-дю-Валь, городке, стоящем на середине пути из Анжера в Ле-Ман. В консерваторию Делиб поступил в возрасте двенадцати лет — поздновато для вундеркинда (если помните, Бизе оказался в ней уже в девять), — и, чтобы добиться подлинного успеха, ему пришлось-таки попотеть. И вот, когда ему уже исполнилось тридцать, парижская Опера поставила его балет «Ручей», с чего и началась настоящая композиторская карьера Делиба. Вскоре за тем последовала «коптели», произведение, которое и сейчас нередко встречается в репертуаре балетных театров. Однако в том, что касается ОПЕК РФ, успехи его были далеко не такими значительными.
И вдруг, с бухты-барахты, всего за восемь лет до того, как откинуть пуанты, Делиб пишет музыку к опере с сюжетом столь душераздирающе умонелепым, что даже Барбара Картленд запихала бы его в самый долгий из ящиков своего комода. Да, как это часто случается, в том, что касается либретто, Делибу медведь на ухо наступил, — вот ему и приходилось, чтобы как-то затушевать сей недостаток, тужиться, рождая на свет партитуру получше. «лаке», одна из самых, можно сказать, излюбленных публикой всего мира опер, — да, конечно, ее упоительный «Цветочный дуэт» намертво прилип к рекламе «Британских авиалиний», но ведь от этого он хуже не стал, — дала Делибу еще пятнадцать минут славы и новые званые ужины, на которых он мог, поворачиваясь к соседке справа, начинать разговор привычной фразой: «Скажите, вы меня нигде раньше не встречали?»
Отнюдь не в миллионе миль от него, в Тролльхаугене, композитор Эдвард Григ также получает возможность наслаждаться жизнью несколько больше прежнего. Сейчас он трудится над подношением одному из основоположников датской литературы, некоему Людвигу Хольбергу. В 1883-м Григу исполнилось сорок лет, и норвежское правительство даровало ему пожизненную ренту, обеспечивающую приличный достаток. А стало быть, он может позволить себе немного расслабиться, чем, вероятно, и объясняется то обстоятельство, что почти все лучшие произведения Грига были созданы уже к тридцати трем годам. Тем не менее он старательно дописывает фортепианную сюиту, названную, что и неудивительно, «Хольберг-сюитой». Затем он, разумеется, варит себе кофе. Затем, может быть, несколько мгновений смотрит в окно. Не сойти ли вниз, во двор, не простоять ли вечерок у калитки? Он снова отхлебывает кофе. Может, посмотреть еще немного в окно? Или лучше заняться этим потом, после «калитки»? И Григ опускает взгляд на свою новую фортепианную сюиту.
«Вообще-то, я мог бы… что?.. переделать ее для струнных». И переделывает.
Именно об этом позднем сочинении ЭГ Дебюсси и сказал, что оно обладает «странным, чарующим привкусом розового ликера со снегом». Вот именно. Да. Не совсем понимаю, что он имел в виду, но все-таки. (Несу, хозяюшка, несу, уже почти готово!)
А теперь приглядимся на скорую руку к головокружительным двенадцати месяцам, которым нравилось называть себя 1884-м, — впрочем, друзья именовали их просто Геком.
Итак, мир МИНУС Вагмейстер. Вот интересно, как это отразилось на рыночной цене яиц? Ладно, давайте попробуем всплыть на поверхность где-нибудь в 1883-м. Это год открытия в Нью-Йорке «Метрополитен-опера» и, что для нас, здесь и сейчас, более важно, год, в котором Лео Делиб обнаружил, что у него на руках объявился нежданный-негаданный шедевр.
Если не считать «Коппелии», Делиб кормился, более-менее, за счет единственного своего большого успеха — балетной музыки к «Сильвии».
Он был еще одним вундеркиндом, родившимся в 1836-м — в Сен-Жермен-дю-Валь, городке, стоящем на середине пути из Анжера в Ле-Ман. В консерваторию Делиб поступил в возрасте двенадцати лет — поздновато для вундеркинда (если помните, Бизе оказался в ней уже в девять), — и, чтобы добиться подлинного успеха, ему пришлось-таки попотеть. И вот, когда ему уже исполнилось тридцать, парижская Опера поставила его балет «Ручей», с чего и началась настоящая композиторская карьера Делиба. Вскоре за тем последовала «коптели», произведение, которое и сейчас нередко встречается в репертуаре балетных театров. Однако в том, что касается ОПЕК РФ, успехи его были далеко не такими значительными.
И вдруг, с бухты-барахты, всего за восемь лет до того, как откинуть пуанты, Делиб пишет музыку к опере с сюжетом столь душераздирающе умонелепым, что даже Барбара Картленд запихала бы его в самый долгий из ящиков своего комода. Да, как это часто случается, в том, что касается либретто, Делибу медведь на ухо наступил, — вот ему и приходилось, чтобы как-то затушевать сей недостаток, тужиться, рождая на свет партитуру получше. «лаке», одна из самых, можно сказать, излюбленных публикой всего мира опер, — да, конечно, ее упоительный «Цветочный дуэт» намертво прилип к рекламе «Британских авиалиний», но ведь от этого он хуже не стал, — дала Делибу еще пятнадцать минут славы и новые званые ужины, на которых он мог, поворачиваясь к соседке справа, начинать разговор привычной фразой: «Скажите, вы меня нигде раньше не встречали?»
Отнюдь не в миллионе миль от него, в Тролльхаугене, композитор Эдвард Григ также получает возможность наслаждаться жизнью несколько больше прежнего. Сейчас он трудится над подношением одному из основоположников датской литературы, некоему Людвигу Хольбергу. В 1883-м Григу исполнилось сорок лет, и норвежское правительство даровало ему пожизненную ренту, обеспечивающую приличный достаток. А стало быть, он может позволить себе немного расслабиться, чем, вероятно, и объясняется то обстоятельство, что почти все лучшие произведения Грига были созданы уже к тридцати трем годам. Тем не менее он старательно дописывает фортепианную сюиту, названную, что и неудивительно, «Хольберг-сюитой». Затем он, разумеется, варит себе кофе. Затем, может быть, несколько мгновений смотрит в окно. Не сойти ли вниз, во двор, не простоять ли вечерок у калитки? Он снова отхлебывает кофе. Может, посмотреть еще немного в окно? Или лучше заняться этим потом, после «калитки»? И Григ опускает взгляд на свою новую фортепианную сюиту.
«Вообще-то, я мог бы… что?.. переделать ее для струнных». И переделывает.
Именно об этом позднем сочинении ЭГ Дебюсси и сказал, что оно обладает «странным, чарующим привкусом розового ликера со снегом». Вот именно. Да. Не совсем понимаю, что он имел в виду, но все-таки. (Несу, хозяюшка, несу, уже почти готово!)
А теперь приглядимся на скорую руку к головокружительным двенадцати месяцам, которым нравилось называть себя 1884-м, — впрочем, друзья именовали их просто Геком.
ЗА ГЕКА!
Совершенно верно. Геком. Замечательный год. Но что еще о нем можно сказать? Ну, можно сказать, что кой-какие удачливые мужички копали-копали землю в Трансваале и накопали себе вот та-акую кучу золота. В Лондоне тоже долго копали, но результат получился не столь роскошный — всего лишь линия Бейкерлоо. В Париже вышел первый номер «Ле Матин», и не исключено, что в нем содержалась статья о новом творении одного местного жителя по имени Огюст Роден, именуемом «Граждане Кале». Могла также присутствовать колонка редактора, посвященная непутевому пуантилизму Жоржа Сера, чье последнее полотно, «Une Baignade Asnières»[*], именно в этом году стоило многим растяжения шеи. В Британии Джордж Бернард Шоу вступил в небольшое, но отличающееся красотою форм Фабианское общество, а между тем в добрых старых Соединенных Штатах Марк Твен обзавелся бестселлером «Гекльберри Финн». Вернувшись в Вену, мы обнаружим, что Брамс, окончательно махнув рукой на мысли о Бетховене, представил публике новую симфонию, которую многие считают величайшей из созданных им. Ну ладно, во всяком случае, ему казалось, будто он окончательно махнул рукой и так далее. Неприятно об этом говорить, но кое-кто из критиков немедля стал называть эту симфонию «его „Героической“». УУУуууу! Ну скажите, можно ли оставаться спокойным, когда такое случается? КРИТИКИ! Не могут они, увидев новую работу, не счесть себя обязанными указать на некоторое ее сходство с какими-то другими, сходство, которое и сами-то они с трудом улавливают. «О-о, разве это не напоминает отчасти первые такты „Хорошо бы посидеть у моря!“? Ведь верно, ведь правильно? Ну точно, напоминает!» — и на следующий день статья в газете: «Это, вне всяких сомнений, ЕГО „Хорошо бы посидеть у моря!“. Сто пудов!» УУУ чтоб вас! Ладно. Я лучше на этом и остановлюсь. Довольно сказать, что Третья симфония Брамса — это Третья симфония Брамса и только Третья симфония Брамса. Она чудесна, и говорить тут больше не о чем.
ТРИ ТОЛСТЫЕ ДАМЫ. И, Э-Э, ДОВОЛЬНО ТОЩАЯ ДЕВУШКА (СО СТРАННОЙ ГОЛОВОЙ)
1888-й. Ну очень хороший был год. Давайте, не торопясь, приглядимся к тому, что провис… на самом деле «и с плоскостопием». В заголовке должно стоять «с плоскостопием». Это можно будет исправить?
ТРИ ТОЛСТЫЕ ДАМЫ И ДОВОЛЬНО ТОЩАЯ ДЕВУШКА (СО СТРАННОЙ ГОЛОВОЙ) И ПЛОСКОСТОПИЕМ
Отлично. Простите, но, как говорится, диакон кроется в педалях. Итак, 1888-й. Очень хороший год. И если к нему, как мы было уже собрались, приглядеться, выяснится, что тут много чего произошло. Германия сменила двух начальников: Вильгельм I скончался, как и его преемник Фред III. Теперь на месте Фреда III сидит Вильгельм II — все это смахивает на старую шахматную партию, не правда ли? Сейчас Вильгельм II известен все больше под именем «Кайзер», или «Кайзер Вилли»; «кайзер» — это просто немецкий вариант изначального названия императора, «цезарь», — как, собственно, и русское «царь». В Лондоне началось царство террора с Джеком-потрошителем во главе, там же учреждена Футбольная лига и стала выходить в свет «Файнэншл таймс». Осталось подождать совсем немного — и кто-нибудь непременно выдаст мою любимую шуточку: «Что красное и большое видим мы по утрам?»[♫] Замечательно. Всего лишь в прошлом году, в 87-м, Л. Л. Заменгоф изобрел эсперанто, международный язык, и, предположительно, «estras tre facile lernabla lingvo». Если вы поняли последнюю фразу, значит, наверное, так оно и есть. Вернемся, однако, в 88-й. Эмиль Золя публикует «Землю» — не на эсперанто, на французском, а Оскар Уайльд — книгу «Счастливый принц и другие сказки». Прочие события: двадцативосьмилетний Малер становится музыкальным директором Будапештской оперы; Киплинг пишет «Простые рассказы с холмов», а Ван Гог — «Желтое кресло»[*], — что может быть лучше игры «сделай сам», не правда ли? Приглядевшись к тому, что происходит в некотором удалении, — в России, собственно говоря, — мы обнаружим Петра Чайковского, записывающего что-то в дневник. Чтобы скрыть свою гомосексуальность, ему приходится прибегать к замысловатым длиннотам, хотя кое-кто уверяет, будто продолжительные запои несчастного есть просто общее знамение душевных страданий. Дневник содержит множество загадочных ссылок на нечто, именуемое им «Ощущением Z», — на его гомосексуальность, — а поскольку живет он в России 1880-х, нет ничего удивительного в том, что в последние семь лет вдохновение к нему почти не заглядывало. И потому 1888-й мог представляться Чайки годом едва ли не фантастическим; нечего и сомневаться — в календаре своем он обвел этот год красным кружком и, вспоминая о нем, неизменно улыбался. То был год его Пятой симфонии. Вам не кажется, что во всех пятых симфониях присутствует некая тайна? Малер. Бетховен. Шостакович? А здесь и сейчас, вернее, там и тогда — Чайковский. Лично мне это прекрасное «Кольцо Пятых», если позаимствовать чужую фразу, более чем позволило бы скоротать время на необитаемом острове. Конечно, я скучал бы и по другой музыке, однако их приятного общества мне вполне хватило бы для составления самых разных музыкальных программ. Симфония Чайковского, пожалуй, самая простая из них. Хотя у меня со всей компанией «Пятых» связана небольшая внутренняя проблема. Кто-то, где-то — встаньте, кем бы вы ни были, — научил меня довольно грубым словам, созвучным названиям едва ли не каждого музыкального темпа, и с тех пор мне никак не удается выбросить эту гадость из головы. Временами такая неспособность просто-напросто берет над человеком верх и портит все удовольствие, какое он получаете от музыки. Помню, сижу я однажды на открытой репетиции, преисполняясь все большим почтением к дирижеру, и тут он вдруг останавливает оркестр и приводит его в остолбенение, произнося примерно следующее: «Хорошо, начнем с четвертого такта, считая от выхода Пердунчика… выход Пердунчика — все нашли? Хорошо. И-и…» Вот и ходи после этого на репетиции. «Чайки-5» — как, по уверениям надежного источника, называют ее в музыкальных кругах, — на мой вкус, совершенно великолепна. Разумеется, если бы вы были критиком «Музыкального курьера», присутствовавшим на первом ее исполнении в Англии, то сочли бы эту симфонию «разочарованием… фарсом… музыкальным пудингом… заурядным до последней степени!». Думаю, он собирался также добавить, что и «Битлз» — то еще дерьмо. Что делать — на всех не угодишь. Теперь же я, с вашего дозволения, оставлю «Чайки-5» и вильну ненадолго в сторону, посмотрю, что это такое значит — быть «романтиком» в 1888 году. То есть я хочу выяснить, что все они там пишут. Как это все звучит? Складывается оно в нечто целое? Понимаете? За мной, читатель, я произведу для тебя быстрый поперечный распил древа Романтизма 1888 года.
БЫСТРЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАСПИЛ ДРЕВА РОМАНТИЗМА 1888 ГОДА
Простите, если заголовок представляется отчасти пижонским — да он пижонский и есть, — я, собственно, хотел сказать лишь одно: Романтизм — это действительно нечто такое, что можно услышать? То есть все романтики и вправду заняты примерно одним и тем же — разве что одеваются некоторые из них странновато? Ну-с, краткий ответ выглядит так: «Нет». Черт, какая все-таки простая штука это их музыковедение, верно? Верно-верно. Пошли дальше. Ладно, пошли так пошли. Если позволите, я все же углублюсь в кой-какие подробности.
БЫСТРЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАСПИЛ ДРЕВА РОМАНТИЗМА 1888 ГОДА — КОЙ-КАКИЕ ПОДРОБНОСТИ
Если честно, романтизм немного смахивает на самый конец скетча, который Спайк Миллиган разыгрывал в телешоу под названием «Q». Помните такое? Тот кусочек — а Миллиган повторял его практически каждую неделю, — который становился с каждым разом все глупее и глупее? Это перед тем, как все начинали понемногу наступать на камеру, скандируя: «Что ж нам делать? Как нам быть?» Не само «Что ж нам делать?», а то, что было как раз перед ним. Надеюсь, я понятно изъясняюсь? Ну так вот, то, что шло перед ним, ОНО-ТО и есть романтический период образца 1888-го. А почему? Да потому, что каждый занимался чем-то своим. Совершенно как сценка Спайка Миллигана становилась все глупее и глупее, так и период становился все романтичнее и романтичнее, между тем как легко различимых вариантов «романтизма» насчитывалось уже около тридцати и каждый был при деле. И дело шло скорым шагом к тому, что вся эта публика, самые что ни на есть композиторы, того и гляди начнут наступать на камеру, скандируя: «Что ж нам делать? Как нам быть?» Сами тогдашние люди именовали этот период «современным», и по двум причинам: (а) такое название выглядит все-таки лучше, чем «период „Что ж нам делать?“»; и (б) до Спайка никто еще не додумался. Вот они и ухватились за «современный». Правда, теперь его называют «позднейшим романтизмом» — это как в традиционном джазе, «играем все»: каждый дудит в свою дуду, но более-менее про одно и то же. Давайте быстренько оглядимся по сторонам, тут есть на что посмотреть. В 1888-м Эрику Сати, родившемуся в семье композитора из Онфлёра, было уже двадцать восемь лет. Как композитор он, пожалуй, более всех заслуживает того, чтобы его имя прозвучало сразу за именем Спайка Миллигана, — в том смысле, что его, как говорится, творческое наследие включает такие сочинения, как «Три пьесы в форме груши» и «Вялые прелюдии для собаки». Он играл на пианино в прокуренных монмартрских кафе, дружбе с Дебюсси еще предстояло обратить его в классического, своеобразнейшего французского композитора, однако в 1888-м Сати уже выдал на-гора «Trois Gymnopédies»[*], в которых, кажется, присутствует нечто от улыбки Моны Лизы. Столь же французским, но ни в малой мере не столь же хулиганистым, как Сати, был сорокатрехлетний в ту пору Габриэль Форе. Форе представлял собой полную, или почти полную, противоположность Сати — если человек может быть чьей-то противоположностью, — в том смысле, что музыку он писал благопристойную, хорошо отделанную, отнюдь не легкомысленную (то есть не «в форме груши») и отзывавшую чем-то «классическим», хоть и был в конечном счете несомненным романтиком. Последние семнадцать лет Форе ходил в учениках у композитора Сен-Санса и успел поработать органистом во множестве маленьких церквей, — он так и перебирал их, пока не получил в 1896-м «роскошный ангажемент», место органиста в «Ла Мадлен». А вот в нашем 1888-м он показал публике свой «Реквием». Это не «Реквием» в духе Верди или Берлиоза, но скорее… скорее «„Реквием“ который пришелся бы впору чайной гостиной Бетти в Харрогите». «Реквием» с благонравно оттопыренным вбок мизинчиком. Мало-помалу «Реквием» этот набирается определенной мрачности, присущей самой его теме, но так, знаете, задушевно набирается, что сразу видно — воспитание он получил безупречное. В смысле музыкальном. Он даже пробует под самый конец извиниться за причиненные им неудобства. При всем при том он остается кусочком райского по вкусноте шоколада — это одно из любимейших моих сочинений. Форе нередко называют «французским Элгаром», и, хоть, на мой взгляд, чушь это совершенная, я понимаю, откуда такое прозвание взялось. Первое исполнение «Реквиема» в 1888-м совпало, как это ни печально, со смертью матери Форе. Но вернемся в Россию: 1888-му мы обязаны также «Шехеразадой», сочиненной сорокачетырехлетним Римским- «Можно мне взять то, что вы не доели?» Корсаковым. Бывший морской офицер, он вырос в местах, буквально купающихся в народных песнях. Первую свою симфонию Римский-Корсаков написал, еще служа во флоте, до того, как обратиться в одну пятую «Могучей кучки», группы русских композиторов, яро исповедовавших национальные начала музыки. Главным его произведением 1888 года стала симфоническая поэма «Шехеразада». Прекрасная вещь, наполненная самыми разными историями и людьми, с Султаном и Шехеразадой, которых изображают отдельные музыкальные темы. Ну вот, сами видите, что это был за год. 1888-й — вечно красочный Римский-Корсаков, вечно замалчиваемый Форе и вечно чудящий Сати. Все до единого романтики, и все на редкость разные. И уж если вам требуются различия, то ни один обзор музыкальной сцены не будет неполным без музыкального мясника[♫] из еще одного согревающего душу трио того же примерно времени: Масканьи, Дебюсси, Бородин.
МОЕ ИМЯ КЛАССИК. НЕОКЛАССИК
Чтобы поместить эту троицу в контекст, нам придется взглянуть на упомянутого музыкального мясника в 1890-м. Да, в 1890-м. ДЕВЯНОСТЫЕ! Дурные девяностые! Ууу! «Конец времен». «Fin-de-siècle»[*]. Дни, когда у всех на уме было только одно: «Ууу, скоро уже 1900-й». Интересно, походили они чем-нибудь на 1990-е? Быть может, некое жутковатое сходство и имелось — в хит-парадах одни посредственности, у власти сплошная шпана, но хоть косичек больше никто не носит, — как знать? Я на этот счет могу лишь догадки строить, хоть кое-какие вещи мне известны наверняка. Империализм, колониализм — называйте как хотите — был тогда чем-то вроде «умного слова». И в определенном смысле он сильно потеснил романтизм — по сборам, по продажам, по всему! Колониализм был ВЕЛИК — подлинный «изм» 1890-х. Всякий, кто хоть что-нибудь значил, работал на колониализм. Приведу лишь один пример, чтобы вы поняли, что это была за гадость, — Гельголанд. Где бы он, этот Гельголанд, ни находился[*], вы наверняка о нем и думать-то дважды забыли: во-первых, потому, что думать тут, собственно, не о чем, во-вторых, уж больно противно это слово звучит. Ну так вот, где бы он ни находился, в 1890-м Британия отдала его Германии. Просто-напросто отдала. Нет, разумеется, в обмен на кое-что, а именно на Занзибар и Пембу. Я, собственно, что хочу сказать — вообразите, просыпаетесь вы нынче утром, перелистываете газету, обращаетесь к особе, сидящей с вами за столом, и говорите: «Смотри-ка, Йоркшир побил вчера Ноттингемпшир… ух ты, да мы, оказывается, Свазиленд отдали, обменяли на что-то. Передай мне гренок, пожалуйста». С ума можно сойти, правда? В 1890-м национальный суверенитет был просто ничего не значащей бумажкой, которая валялась в нижнем ящике чиновничьего стола, стоявшего за тысячу миль отсюда. Ну я прямо не знаю. Во всякого рода иных местах: Люксембург отделился от Нидерландов, родились, одновременно, Эйзенхауэр и де Голль, а Англия стала в чуть меньшей мере «миром Барнума и Бейли», поскольку знаменитый цирк Т. П. Барнума после невероятно долгих гастролей в лондонской «Олимпии» столицу наконец покинул. Во Франции 320-метровая башня Александра Гюстава Эйфеля сохранила свое место на парижском небосклоне, и это несмотря на то, что Всемирная выставка завершилась; Оскар Уайльд опубликовал «Портрет Дориана Грея». Появилась также новая мода. Называлась она так: «слечь в инфлюэнце». И действительно, инфлюэнца сравнялась но известности с Гилбертом и Салливеном. Что же до музыкальных фенечек — какой у меня современный лексикон, а? — так Римский-Корсаков закончил сочинение еще одного композитора, на сей раз Бородина. P-К с коллегой, Александром Глазуновым, навели окончательный глянец на оперу Бородина «Князь Игорь», оставшуюся незаконченной после его смерти, наступившей три года назад. (Не понимаю, чем так уж нехорошо что-то Незаконченное или, скажем, Неполное?) «Князь Игорь» — вещь замечательно экзотическая, на сцене она смотрится великолепно. Не могу отделаться от мысли, может быть и неверной, что соединение изначального замысла Бородина с красочной оркестровкой Р-К — и Глазунова, если уж честно, — дало нам оперу, пожалуй что и лучшую, чем та, что получилась бы у самого Бородина, доведи он ее до конца в одиночку. Я как-то видел ее на сцене — в Королевской опере, под самый конец восьмидесятых (19… не 1880-х), — главную басовую партию пел тогда человек по имени Паата Бурчуладзе. До этого спектакля я его совсем не знал и ожидал, исходя из разговоров, услышать по-настоящему МОЩНЫЙ бас. Все первые сцены я просидел, якобы наслаждаясь музыкой, а на деле думая: «Вообще-то ни одного такого уж мощного баса я пока что не слышал. Может, они преувеличивают?» Но вот на сцену вышел приземистый, полноватый мужчина — выскочил даже, как будто его вытолкнули из-за кулис, точно Пингвина в «Братьях Блюз». Дойдя до середины сцены, он остановился и запел — басом, который иначе как ПУШЕЧНЫМ не назовешь. Самым сильным, богатым и звучным, какой я когда-либо слышал. Фантастика. При каждой взятой им ноте мне казалось, что под театром проносится поезд подземки. Этого мне уже не забыть. Если когда-нибудь увидите его имя в афише Королевской оперы, подумайте, не перезаложить ли вам дом и не купить ли входной билет. «Князь Игорь» содержит, помимо прочего, поразительные и прекрасные «Половецкие пляски» — появление танцующих девушек производит на тех, кто сидит в корпоративных ложах, людей, пришедших в театр лишь потому, что у кого-то в их офисе образовался лишний билет, примерно такое же впечатление, как знаменитый аккорд симфонии «Сюрприз». Говорят даже, из одной ложи вылетела как-то струя салата «Цезарь». А в la belle Франции у нас теперь имеется lе beau Дебюсси. Прогуляйтесь вдоль Сены на запад от Парижа, и вы окажетесь в Сен-Жермен-ан-Ле. Заглядывающих сюда туристов привлекают, по большей части, либо два сногсшибательных шато, из которых открывается великолепный вид на Париж, либо дом № 33 по Рю-о-Пейн, музей Клода Дебюсси. Впрочем, в 1862-м музей этот был просто лавчонкой — лавчонкой отца Дебюсси, если быть точным, над которой 22 августа и родился композитор. После классического периода «вундеркинд/консерватория/уроки композиции» он стал чем-то вроде домашнего музыканта богатой Надежды фон Мекк (см. Чайковский), а затем, подобно многим до него, получил Римскую премию и стремглав полетел в Рим, чего эта премия, собственно, и требовала. Вернувшись оттуда, он не пошел больше в услужение к покровительнице Чайковского. И пожалуй, правильно сделал — вечная необходимость прятаться по гардеробам, чтобы тебя, оборони бог, кто-нибудь не увидел, не шла его музыке впрок. Теперь уже двадцативосьмилетний, Дебюсси избавился также от временного увлечения поздним Вагнером и попробовал силы в чем-то вроде раннего неоклассицизма. Он только что закончил фортепианную «Бергамасскую сюиту» — с «Прелюдией», «Менуэтом», «Паспье» и попросту дух захватывающим «Лунным светом». Дебюсси попытался воспроизвести в нем стилистическую сдержанность клавесинистов, а название самой сюиты позаимствовал, скорее всего, из стихотворения Верлена «Clair de Lune»: «…masques et bergamasques»[*]. Если вам еще не случалось ступать на порог «Лунного света», значит, вас ждет впереди настоящий праздник. И наконец, в Италии у нас имеется Пьетро Масканьи. Однако, прежде чем мы займемся им вплотную, позвольте сообщить вам об одном странном обстоятельстве: мне никак не удается избавиться от мысли о том, что Масканьи родился в Легхорне. По-моему, я где-то прочитал об этом лет в четырнадцать, да так оно у меня в голове и застряло. Представляю себе ту минуту, дело наверняка было на уроке, и я, пораженный этой дурью насчет «легхорна-попкорна», скорее всего, воскликнул: «Ребята, слушайте, ребята…» — ну и так далее, — в общем, оно, как большая часть того, что когда-то вызвало у меня смех, так со мной и осталось. Я, собственно, хотел снять этот груз с души. Так или иначе, Масканьи был на год моложе Дебюсси, и для него 1890-й оказался годом горькой радости. Забросив «чрезмерно академичное» преподавание в Миланской консерватории, он довольно долго колесил по стране в качестве дирижера разъездной оперной труппы. Потом осел, женился, а в 1890-м представил публике лучшую свою оперу «Cavalleria Rusticana»[*] — что означает, в вольном переводе, «Деревенские кавалеры». Скорее всего, успех ее объяснялся тремя причинами. Во-первых, она содержала несколько ударных мелодий, встроенных в напряженный, выразительный сюжет. (Опера так коротка, что ее почти неизменно дают в один вечер со столь же сжатой «I Pagliacci»[*].) Во-вторых, это не очередная «имитация Вагнера», сооруженная очередным вагнеровским учеником. И самое главное, это первый, возможно, пример «реализма» в опере. Итальянцы назвали его «verismo» — «веристская» опера могла и не содержать буйственных и броских «колоратурных» арий, существующих исключительно ради себя самих. С другой стороны, она могла основываться на реалистичной, жизненной фабуле или использовать музыкальные темы из подлинной жизни и быть более речитативной — включать в себя куски, в которых персонажи, так сказать, «пропевают сюжет». Не вставные, наподобие арий, — куски эти, применявшиеся раньше как вступления к большим ариям, «веристская» опера повысила в чине, отчего публика стала ощущать себя пребывающей в мире несколько менее, чем прежде, удаленном от ее собственного. Я хочу сказать, что, если быть честным, опера и поныне представляет собой причудливый, поддельный мир, однако после 1890-х он стал чуть менее причудливым и поддельным. Для Масканьи его опера стала огромным успехом, единственная беда состояла в том, что он потратил следующие пятьдесят пять лет на безрадостные попытки успех этот повторить. Пятьдесят пять лет пытался сочинить еще один хит, никогда не добираясь дальше «не лишено достоинств» и «с воодушевлением принято». Как печально. Не хочется распространять сплетни или там слухи, однако мне рассказывали, что последние годы Масканьи пришлись на конец Второй мировой войны, — он провел их в номере отеля, в Риме, только что освобожденном войсками союзников. Лишенный всех почестей и наград за то, что поддерживал Муссолини и фашистов, Масканьи бродил от одного американского военного лагеря к другому, клянча деньги и в отчаянии повторяя: «Вы знаете вот эту великую мелодию, ее все так любят, — это я ее сочинил. Честно!» Мелодия, о которой он твердил, происходит из прославленного интермеццо «Cavalleria Rusticana», оперы, которая и поныне собирает хорошие деньги с помощью рекламных мотивчиков, тройных CD и чего угодно, — а человека из Легхорна оставила без гроша за душой. 1891-й. Ну вот и добрались. Сигареты кончились. Держимся за руки и позевываем. Смотри, как уже поздно. И что куда важнее — разве мы не проделали долгий путь, и всего за 426 страниц. Чертовски долгий. По-моему, мы уже узнали друг друга достаточно хорошо, так что… в общем, называйте меня Стивеном. А я буду называть вас… вы. Вот и договорились. Мне уже как-то лучше. Ладно, вернемся к нашему делу. А дело наше — это 1891 год, и в нем, как водится, много чего происходит. Стоило Кайзеру Вилли прибыть с визитом в Лондон, как Тройственный союз, явно ощутив себя ужом на сковородке, тут же продлил свое существование еще на двенадцать лет. Принц Уэльский стал в столице притчей во языцех, и не потому, что заговаривал с цветочками, а из-за недавнего дела о диффамации. В ходе его рассмотрения, а сводилось оно к обвинению в нечистой карточной игре, выяснилось, что принц спустил на «баккара» целую кучу денег. Это я не об испанских девушках говорю. Кроме того, умер Рембо, ну да ладно, по крайности дело его продолжает жить на приморских курортах (в виде «Les Illuminations»[*]). Художник Гоген улизнул на Таити, бразды литературного правления английским народом, похоже, крепко взял в руки сэр Артур Конан Дойл, опубликовавший в журнале «Странд» новые рассказы о моем любимом сыщике Шерлоке Холмсе. Ну и чтобы закруглиться — Анри Тулуз-Лотрек принялся рисовать афиши для кабаре, Сера отправился на встречу со своим создателем — и, возможно, услышал от него: «Ну ты совсем до точки дошел», — а пятидесятиоднолетний Томас Гарди пишет «Тэсс из рода д’Эрбервиллей». А теперь об имени, таком же коротком, как «Вагнер», однако в истории музыки значение имеющем колоссальное. МАЛЕР. М-м. Прелестно. Обворожительное имя! Одно из тех, что наводят меня на мысли об… объемном звуке… или… о музыке свежего сельского воздуха, или… о своего рода музыкальной купальне, в которую погружаешься с головой. Очень коричневое имя, я всегда так считал, МАЛЕР. Да, несомненно коричневое — совершенно как 29-я симфония Моцарта. Малер, понимаете ли, это более или менее Следующая Большая Сенсация 1891 года. После довольно печальных, чтобы не сказать «трагичных», ранних лет, в которые его братья и сестры мерли вокруг него как мухи, Малер смог начать восхождение по музыкальной лестнице и закончить консерваторию. Он знал, что ему предстоит стать великим композитором, и потому, будучи человеком разумным, занялся дирижерской деятельностью. Она позволяла Малеру оплачивать счета, купаться в море чужих партитур и вообще обрести финансовую независимость, которую композиторство давало далеко не всегда. Вот почему при завершении Первой симфонии Малер занимал, о чем уже было говорено, пост музыкального директора будапештской Королевской оперы. Ко времени премьеры своей симфонии он уже начинал приобретать известность как один из великих дирижеров-интерпретаторов своего времени. Тот же Чайковский назвал его «гением». Хотя это было чуть позже, в 1892-м, и прошло еще лет примерно пятьдесят, прежде чем симфонии Малера были включены в число лучших из когда-либо созданных. В 1891-м он усердно трудился над симфонией «Воскресение», которой занимался с перерывами последние три года. Она должна была стать продолжением «Титана», а приставшее к ней название (кстати, Малер никакого отношения к нему не имеет, как и Бетховен к названию «Лунная соната») взято из стихотворения немецкого поэта Клопштока «Auferstehung», или «Воскресение», — стихотворения, которое Малер обратил в огромный, громогласный финал, исполняемый сопрано, хором и оркестром. Как я уже сказал, вещь эта носит могучее имя: симфония «Воскресение». Хотя я предпочитаю называть ее — Кит.
МОЛОТ И ОРЕХ
Несмотря на то что в 1892-м Уильям Юарт Гладстон был в четвертый раз избран премьер-министром от либералов, год этот известен прежде всего тем, что дал первоначальный толчок распространению слов «новое рабочее движение». Кейр Гарди стал самым первым лейбористским членом парламента, более-менее подладив свое появление в нем ко времени, когда мистер Дизель запатентовал двигатель внутреннего сгорания. В сумеречном мире искусства в ту пору создалось впечатление, что, если в названии вашего опуса стоит женское имя, успех вам гарантирован. Долговязый Бедняга Шоу пустил в этом году вдогон «Профессии Кэшеля Байрона» новую пьесу: «Профессия миссис Уоррен», а Оскар Уайльд представил публике неувядаемый «Веер леди Уиндермир». Тем временем Моне приступил к созданию серии видов Руанского кафедрального собора, а Тулуз-Лотрек занялся «Мулен Ружем». В поминальных колонках газет сообщалось о смерти Уолта «Не называйте меня худышкой» Уитмена и Альфреда «Называйте меня лордом» Теннисона, а в новостях заграничных упоминалось о том, что пятидесятиоднолетний Антонин Дворжак получил пост директора Нью-Йоркской консерватории — подробную статью об этом см. в разделе искусства. Если в этом самом разделе обреталось краткое описание жизни и карьеры Дворжака, оно могло выглядеть примерно так:
Дворжак родился в довольно заурядной деревушке Нелагозевес, стоящей точно на север от Праги. Отец его был деревенским трактирщиком и мясником, вся музыка, какую он слышал в свои ранние годы, была довольно заурядной — преимущественно народной. В шестнадцать лет его отправили учиться на органиста — ужасный, честно говоря, поступок, в отношении кого бы он ни совершался. Впрочем, Дворжак выучился также играть на скрипке, а заодно и на альте и со временем поступил в оркестр чешского Национального театра, музыкальным директором коего был не кто иной, как Сметана. В тридцать два Дворжак женился, а в тридцать три победил в австрийском композиторском конкурсе. Большая удача, хотя, по меркам великих композиторов, и несколько запоздалая. В жюри конкурса заседал сам Брамс, на которого сочинение Дворжака явно произвело сильное впечатление. Эти двое крепко подружились, Брамс представил молодого композитора своему издателю, что стало важным шагом на пути к положению платежеспособного музыканта. Начиная с этого времени все у Дворжака шло хорошо. Скоро он стал профессором композиции Пражской консерватории, а ближе к интересующему нас времени — главой новой музыкальной школы Нью-Йорка.Ну и в широмире музыкальных крутняков, как выразился бы лорд Стенли из Анвина[*], также случилась большая радость. Чайковскому, который был всего на год старше Дворжака, удалось отогнать от себя меланхолию. Он отправился в поездку по Америке и с радостью обнаружил, что его превозносят здесь как некую живую легенду. Впрочем, в конце концов он до того заскучал по России, что все же уехал домой. Тем не менее недолгий прилив оптимизма породил легкую, веселую балетную партитуру. В основу ее легла небольшая сказка, которую написал некогда Эстонское Телеграфное Агентство Гофман, а сама музыка переполнена прелестными, пушистыми мелодиями, от блеска которых зубы ваши сами собой ПУСКАЮТСЯ В ПЛЯС, а рождественский свитер начинает ВОРСИСТО СВЕТИТЬСЯ. На нашу удачу, декорации этого маленького соцветия счастья — «Щелкунчика» — извлекают из театральных загашников под каждое Рождество и Новый год, и кажется, что радости этой никогда не будет конца. Жаль, конечно, Чайковского — его-то радость была лишь недолгой передышкой от мучительной, болезненной подавленности, наблюдая которую друзья композитора гадали, долго ли он еще протянет. В том же году венских знатоков и ценителей музыки привело в бурный восторг первое исполнение новой симфонии Брукнера — Восьмой. Смешно, но, несмотря на возраст — а ему уже под семьдесят, — подлинным мастером Брукнера стали считать лишь после Седьмой. Что также и грустно, поскольку прожить ему оставалось всего четыре года. Его Восьмая, как того и ожидали люди знающие, походит на мамонта: исполнение ее занимает почти полтора часа — если, конечно, у дирижера не назначена где-то неотложная встреча. Вслед за медленной частью Седьмой, написанной в честь Вагнера, покойного идола Брукнера, Восьмая, с ее квартетом Вагнеровых туб и почти совершенным скерцо, также показывает нам в Брукнере верного ученика. Поставьте два эти сочинения рядышком, и вы увидите огонь и камень, лед и пламень, божий дар и яичницу (насчет последнего не уверен, ну да ладно) — могучий молот Брукнера и орешек Чайковского. Для того чтобы слушать их в концерте, требуются и настроения-то совершенно разные. «Щелкунчик» — это такой изящный, наполненный совершенными маленькими мелодиями рейсовый пароходик, вы можете сесть на него на одной пристани и сойти на другой, а Восьмая Брукнера — скорее океанский лайнер, если уж вы поднялись на его борт, плыть вам придется долго. Сойти с него не удастся, зато в пути вас ждут роскошные, изысканные яства, способные всякого привести в совершенное упоение. Ну вот скажите, не полную ли чушь я несу? Впрочем, вы поняли, что я хотел сказать.
1893-Й В СТИЛЕ ОДИННАДЦАТИЛЕТНЕГО ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА. ТОЛЬКО ХУЖЕ
«Восемнадцатьдевятьтри независимоготруда с Кейромгардией и, натевам, франко(масонско?)русские дуальные-дуэлянты ныне душевно посоюзились. Приветебе Гензель, приветот хумпердинга Энгельберта — нихрена имена ГеннриБенцКарлаФорд и наоборот. Ладно, пошли к артнуворишам, поком тамколокол тамтамит: „Гуно загнулся, слышь, Колпорт, и с петриличайковичем не пить нам уже чайку“. В честном Манчестере водоканал по улицам поканал, и мтабеле метелят кого ни поймают. Ну а эта ваша леди Маргарет Скоттгольф есть баба не стоящая внимания на все времена». Отлично. Ясно как день. Хотя позвольте мне все же растолковать одно особенно запутанное место этой литании бессмыслицы, а именно: «Гуно загнулся, слышь, Колпорт, и с петриличайковичем не пить нам уже чайку». Тут имеется в виду примерно следующее: «Гуно[♫] умер (в 1893-м), зато родился Кол Портер, но, правда, и Петр Ильич Чайковский умер тоже». В общем, честно. Чтобы получить в 1893-м одного из величайших песенников всех времен, нам пришлось расстаться с Гуно и Чайковским. В начале этого года Чайки съездил в Кембридж за степенью почетного доктора музыки, а недолгое время спустя продирижировал первым исполнением своей новой симфонии, Шестой, — продирижировал, скорее всего, одной рукой, поскольку другой крепко держался за маковку, дабы избавить слушателей из первого ряда от неприятных переживаний, вызванных упавшей им на колени головой. (Что ж, оно и впрямь было б ужасно, не правда ли? — подумайте хоть о том, сколько денег пришлось бы им снести в химчистку.) Свою Шестую симфонию он назвал «Патетической», и публика, присутствовавшая на первом исполнении, была ею более чем тронута. Впрочем, на этом мы задерживаться не станем. Переберемся-ка лучше на остров Эллис, где недавно высадился Дворжак — и откуда, тоже недавно, отплыл домой Чайковский. Дворжак оказался здесь потому, что твердо решил переселиться в Америку. Дрожь пробирает, как подумаешь, что у него в багаже тоже лежал диплом почетного доктора музыки Кембриджского университета. Итак. Сейчас 1893-й — знаю, знаю, я это уже говорил, — и два очень разных композитора показывают публике две очень разные симфонии. Насчет огня и камня я тоже уже говорил, но вот они вновь перед нами: две симфонии, решительно поднявшие головы над бруствером, словно желая показать и то, какой мешаниной стилей и звуков была на самом-то деле «позднеромантическая» эпоха, и то, как по-разному обошлась жизнь с их создателями. С одной стороны, у нас имеется Шестая Чайковского, «Патетическая», — с цитатой из православного заупокойного песнопения, — симфония, которую считают одним из величайших в этом жанре достижений и описывают словами самыми разными: «гомосексуальная трагедия», «пессимистичнейшее высказывание за всю историю музыки». С другой — Симфония № 9 Дворжака, «Из Нового Света», — с цитатами из негритянских спиричуэл и американской народной музыки, — симфония, переполненная оптимистической радостью перед новым началом жизни.«Патетическая» и «Из Нового Света» — одни их названия уже говорят нам все потребное. Через несколько месяцев впавший в депрессию создатель «Патетической» выпьет — как кое-кто уверяет, намеренно — стакан зараженной холерой воды и умрет. Через несколько лет оптимистичный создатель «Из Нового Света» вернется в Прагу, станет директором консерватории и пожизненным пэром австрийской «палаты господ». Две симфонии, два композитора, с двумя ни в чем не схожими судьбами, но оба — могучие представители высокого романтизма, создающие просто-напросто фантастическую музыку. Не полное, но окончательное отсутствие чувства юмора — вот что такое наша жизнь.
ПЕЧАТЬ ВЕКА
Ух ты, какой, однако, неслабый скачок, — впрочем, я попросил бы почтенных господ читателей еще раз взглянуть на название этой книги. НЕполная! НЕполная! Договорились? Вот и ладушки. Итак, я намереваюсь совершить немилосердный скачок в 1897-й, а пока, с вашего разрешения, приподниму краешек ковра и покажу вам годы, которые проносятся под нами. Я просто обязан упомянуть 1896-й, без коего этот фильм никогда не вышел бы на экраны. Виноват, залез совсем в другие наброски. Я просто обязан упомянуть 1896-й по причине Рихарда Штрауса и одного его сочинения. Речь идет о симфонии, более-менее симфонической поэме в трех частях, если быть точным: первые две минуты ее — это своего рода «Большой взрыв для оркестра» с лучшим из когда-либо придуманных использованием органа как оркестрового инструмента. Название позаимствовано у книги Ницше «Так говорил Заратустра». Часть этого сочинения снискала славу, но не так чтобы состояние, прозвучав в фильме Стенли Кубрика «2001: Космическая одиссея». Этот же год принес нам оперетту Гилберта и Салливана и множество разных событий в Южной Африке — слишком запутанных, чтобы вместиться в одну строку. Ну и разумеется, он соединил множество стран в первых современных Олимпийских играх. Все это плюс одна из величайших, романтичнейших (в «слезливом», я имею в виду, смысле этого слова) опер всех времен. Эта прекрасная опера называется… «Богемой». (Утрите слезы с глаз.) Увы, времени на нее у нас сейчас нет, — может быть, позже. Нам нужно двигаться дальше, запечатывать век. Итак, уже 1897-й — а ловко мы в него проскочили, правда? — и мы продолжаем скользить дальше. Очень скоро настанет новый век, и что тогда с нами будет, а? Но еще не сейчас, — сейчас «fin de siècle», как выражаются в Лидсе, — осенняя пора девятнадцатого столетия. Королева Вика отпраздновала свое семидесятипятилетие, а самым приметным писателем стал Г. Дж. Уэллс. В этом году он перепугал всех «Человеком-невидимкой». а пару лет назад — «Машиной времени», в общем, работает человек. Кроме того, Дж. Дж. Томсон открыл электрон. У меня даже есть стенографическая запись именно этого момента:
…мать честная, какой же он маленький!Здорово, правда? Как будто мы сами там побывали. Добавьте сюда мор в Индии и остаточные явления золотой лихорадки в канадском Клондайке, и вы словно бы ощутите приближение следующего века. Мир искусства пластического тоже перетекает в новый интересный период. Не успел сэр Генри Тейт пожертвовать свою галерею народу Британии, как художники вроде Матисса и Писсарро принялись создавать поразительные полотна. В этом году мы получили от Матисса «Обеденный стол», а от Писсарро — «Итальянский бульвар». Да и Роден тоже продолжает приводить публику в оторопь: в 1897-м — бронзовым портретом Виктора Гюго. Что касается музыки, Брамс, увы, скончался, а Малер стал музыкальным директором Венской оперы. Это, я полагаю, и хорошо и плохо — зависит от того, с какой стороны смотреть. Да, он сотворил с Венской оперой чудеса, но, говоря по правде, с трудом переносил дураков, а язык у старины Гуса был что твоя бритва. Ну хорошо, а что вообще происходит с музыкой в 1897-м? Да много чего, и всякого разного! И дело не только в смешении стилей — но и в смешении языков. Беда не в том только, что в людях не стало согласия по поводу стиля создаваемых звуков или отношения к музыке. Нет. Очень скоро они начнут, если уже не начали, расходиться во взглядах на самую ее СУТЬ — на синтаксис, на язык, на правила, согласно которым музыка строится. Примерно то же происходит в литературе и в пластических искусствах — вскоре музыка вглядится в себя и скажет: «Нет, ну честное слово, что-то я тут ничего не понимаю. Придется вернуться к первоосновам, разобраться в том, как мы относимся к музыке и что ею считаем». И давайте смотреть правде в лицо: это дело такое, что начнешь и уже не остановишься. Впрочем, пока все тихо. Атома никто еще не расщепил, и тональности тоже. М-м, если можно так выразиться. Собственно, если вам хочется убедиться в том, что «музыку» никто пока, что называется, не трогает и в случае чего она всегда окажется под рукой, обратитесь к Джону Филипу Соуза, к его сочинению 1897 года. Сочинение называется «Звездно-полосатый навсегда» и оставляет ощущение чистого, дистиллированного Дяди Сэма в изложении для военного оркестра. Банковскому счету Соуза оно никакого ущерба не причинило, авторские отчисления за исполнение этой мелодии только при жизни принесли ему не меньше 300 косых. Шустрый какой оказался. Ну а нам с вами пора возвращаться в добрую старую Англию — с небольшой остановкой в Париже.
ПЕРЕПРАВА 1: ЗАПУТАННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ 1899 (6)
Прежде чем мы доберемся до 1899-го, остановимся, как я и обещал, в Париже 1897-го. Здесь, в Париже, родился и вырос Поль Дюка. Здесь он и жил, учился в Парижской консерватории, да, собственно, и преподавал в ней композицию до самой своей кончины в возрасте шестидесяти девяти лет. Он принадлежал к числу молодых людей, весьма увлекавшихся музыкой композитора Эдуарда Лало, родившегося в Лилле. Впрочем, к 1897-му Лало был уже мертв, а Дюка работал над симфонической поэмой — да и кто же над таковой не работал? — которая, как он надеялся, принесет ему славу: ему, тридцатидвухлетнему композитору, обладающему собственным голосом. Увы, мы, с нашим неполным, но правдивым подходом, не можем надолго задерживаться на мсье Дюка, не говоря уж об Эдуарде Лало (я, вопреки всему, надеюсь, что он произвел на свет двух дочерей с именами Лулу и Лейла, но доказательств сего не имею), однако о двух моментах упомянуть мы вправе. Первый: в 1897-м Дюка действительно предъявил публике доказательство того, что он обладает собственным голосом, а именно «Ученика чародея», столь любимого всеми поклонниками Диснея, хотя изначально вещь эта задумывалась как музыкальное изложение гётевского «Der Zauberlerhling». «Ученик чародея» — это одно из тех названий, что звучат одинаково поэтично на всех трех языках: на английском ему определенно присущи форма и стиль[*]; на немецком оно обладает внушительной помпезностью; что до французского — тут оно просто роскошно: «L’Apprenti Sorcier»! М-м-м. Прелесть что такое. И второе: с Дюка случилась трагедия — лет через десять после обретения собственного голоса он снова его потерял: когда Дюка было около сорока, он сжег все, что сочинил начиная с двадцати лет. Да, трагедия. Он принадлежал также к тем людям, которые, когда мы узнаем даты их жизни, кажутся нам попавшими не в свое время. Я, до того как узнал о нем хоть что-то, мысленно относил Дюка к поре Брамса и Мендельсона. А уяснив, что он был еще жив в 1935-м, испытал немалое потрясение. Поль Дюка и, ну, скажем… Черчилль, дышащие одним воздухом. В этом есть что-то неправильное, вам не кажется? Но ведь дышали же. Ну вот и 1899-й, самый краешек. Мы замерли не просто на пороге великой неизвестности нового века, но и над зияющей пропастью новой эры. Музыкальной то есть. Со временем она получит название СОВРЕМЕННОЙ — Современная Эра, — что, на мой взгляд, довольно глупо, потому что, конечно, она современная, речь ведь идет о сегодняшнем дне. Какая же еще? Интересно только узнать, как вы назовете следующий период, — когда сожжете мосты, соединяющие вас с «современным»? ОЧЕНЬ современной эрой? ЧЕРТОВСКИ современной? «Такой современной, что слеза прошибает»? Понимаете? Где мы тогда-то окажемся? Ладно, поживем — увидим. А я, с вашего разрешения, помечу галочками эры, какие у меня уже имеются, — пока те, кто ведет у нас учет рабочего времени, самого меня в одну из них не запякали:
 Хорошо. А теперь в любую уже минуту я получу Современную. И отлично, выйдет полный комплект. Не помню, чтобы я так радовался с тех пор, как мне подарили открытки с картинками всего подвижного состава Великой западной железной дороги, на которых стояли подписи машинистов. Бесценная вещь! Но довольно об этом, я как-никак собирался добраться до Англии, а точнее — до Мал верна, что в Вустершире. Ну, вы уже обо всем догадались, — разумеется, я направляюсь к дому замечательнейшего сына Англии, некоего Эдди «Эдельвейса» Элгара.
Да-да, того самого, с подвитыми кверху усами величиной с велосипедный руль — или, как сказал некогда некто: «Не столько с руль, сколько с целый велосипед!» — спасителя английской музыки Элгара. Но где же он? Не географически то есть, а «в общей картине», как иногда говорят о населенном привидениями доме. Что ж, если это способно помочь, давайте испробуем на нем вопросничек из разряда «или-или», один из тех, какими заполняют пустые места в субботних и воскресных номерах газет.
Хорошо. А теперь в любую уже минуту я получу Современную. И отлично, выйдет полный комплект. Не помню, чтобы я так радовался с тех пор, как мне подарили открытки с картинками всего подвижного состава Великой западной железной дороги, на которых стояли подписи машинистов. Бесценная вещь! Но довольно об этом, я как-никак собирался добраться до Англии, а точнее — до Мал верна, что в Вустершире. Ну, вы уже обо всем догадались, — разумеется, я направляюсь к дому замечательнейшего сына Англии, некоего Эдди «Эдельвейса» Элгара.
Да-да, того самого, с подвитыми кверху усами величиной с велосипедный руль — или, как сказал некогда некто: «Не столько с руль, сколько с целый велосипед!» — спасителя английской музыки Элгара. Но где же он? Не географически то есть, а «в общей картине», как иногда говорят о населенном привидениями доме. Что ж, если это способно помочь, давайте испробуем на нем вопросничек из разряда «или-или», один из тех, какими заполняют пустые места в субботних и воскресных номерах газет.
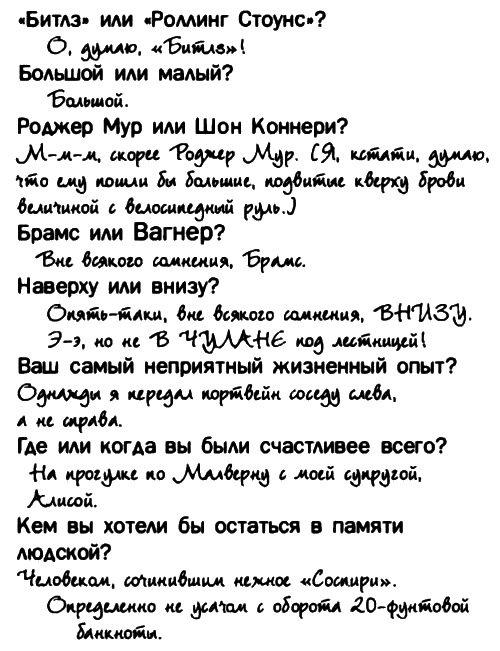
«Битлз» или «Роллинг Стоунс»? О, думаю, «Битлз»! Большой или малый? Большой. Роджер Мур или Шон Коннери? М-м-м, скорее Роджер Мур. (Я, кстати, думаю, что ему пошли бы большие, подвитые кверху брови величиной с велосипедный руль.) Брамс или Вагнер? Вне всякого сомнения, Брамс. Наверху или внизу? Опять-таки, вне всякого сомнения, ВНИЗУ. Э-э, но не В ЧУЛАНЕ под лестницей! Ваш самый неприятный жизненный опыт? Однажды я передал портвейн соседу слева, а не справа. Где или когда вы были счастливее всего? На прогулке по Малверну с моей супругой, Алисой. Кем вы хотели бы остаться в памяти людской? Человеком, сочинившим нежное «Соспири». Определенно не усачом с оборота 20-фунтовой банкноты.Ну как, помогло? Не очень? Извините. Все равно попробовать стоило. Элгар был первым, с тех пор как в 1695-м умер Пёрселл, значительным английским композитором с мировым именем. Собственно, в промежутке между этими двумя Англию называли «страной без музыки». А Элгар все изменил. Он стал первым за многие годы композитором-британцем, не просто признанным «великим», но его музыка ясно говорила о земле, из которой она произрастает. Она звучит так, как никакая другая, — в ней нет красочности и звонкости русской музыки, нет мягкости и пуантилизма французской, нет суровости и непреклонности немецкой. Она звучит ПО-АНГЛИЙСКИ. Что, собственно, перестает удивлять, когда приглядишься к самому Элгару. В 1899-м ему было сорок два. Он родился в Брод-хите, близ Вустера, в семье местного органиста и владельца музыкального магазина, человека, стоявшего в самом центре музыкальной жизни города. «Поток музыки протекал через наш дом и магазин, и я постоянно омывался в нем», — сказал однажды Элгар. Первыми его успешными сочинениями были кантаты — «Свет жизни», «Король Олаф» и «Карактакус». Прелестные, «пропитанные своим временем» хоровые вещи, которым, впрочем, предстояло оказаться в тени того, что было написано в 1899-м и после него. Именно в этом году Элгар создал череду пьес, построенных на одной короткой теме. Он назвал их «Вариациями на оригинальную тему „Загадка“», или, для краткости, «Вариациями „Загадка“». Строго говоря, загадок получилось две. Первая состояла в том, что каждая пьеса представляла собой музыкальный портрет одного из друзей композитора, но сами эти друзья обозначались лишь инициалами либо прозвищами. Так что обществу 1899 года пришлось гадать, кто в какой пьесе изображен. К примеру, самая популярная из них, «Нимрод», относится к издателю Элгара. Каким образом? Нимрод назван в Библии «сильным звероловом», — охотник по-немецки «jaeger», — а издателем Элгара был Август Яегер. Понимаете? Не бог весть как сложно, однако не так уж и плохо. А вот вторая загадка, возможно, более интересна, и сводится она к вопросу: что представляет собой главная тема? Оригинальная ли это тема, сочиненная самим Элгаром, — и точка? Или в ней (ходят такие слухи) запрятана какая-то хорошо известная мелодия? Одни говорят — оригинальная, другие — что это всего-навсего песенка «Забыть ли старую любовь», но только искаженная, третьи же уверяют, будто это «Правь, Британия», а то и «Калинка-малинка»[♫] ☺. Существует даже научная школа — да, тайна сия в ходе лет занимала умы многих музыковедов (или в данном случае правильнее назвать их музыконеведами?), — утверждающая, что тема эта вовсе никакая не тема, а просто мелодия, «построенная» на другой мелодии, причем сама другая ни разу в произведении не звучит. Вы что-нибудь поняли? Нет? Ну ладно. Собственно говоря, оно и неважно. Что до самого Элгара, то, когда его просили пролить на эту загадку свет, он в духе истинно английской школы (начальной) отвечал приблизительно так: «Хрен вам! Не дождетесь!» Виноват, сейчас перефразирую: он демонстрировал редкостную чинность, всю свою жизнь храня совершеннейшее молчание на сей счет, и в конце концов унес тайну «Загадки» в могилу. Но, по счастью, хоть сами «Вариации» нам оставил. 1899-й был также годом, в который молодой венский композитор Ш________г написал сочинение для струнного оркестра, называемое «Verklärte Nacht»[*]. Простите, что утаил от вас его имя — мне просто не хочется пугать лошадей. Понимаете, это имя внушает людям томительное, гнетущее чувство, а при исполнении его музыки зал и вовсе приходится оборудовать дополнительными телефонами доверия[♫]. Впрочем, имя полностью приведено в сноске. Ко времени сочинения Элгаром его «Вариаций „Загадка“» Ш________гу только-только стукнуло двадцать, — и он тоже был сыном владельца магазина, правда, обувного, а не музыкального. Отец его скончался, когда юноше было шестнадцать, и Ш________гу пришлось зарабатывать деньги, дабы содержать семью, нередко балансировавшую на тонкой грани, которая отделяет жизнь от просто существования. В итоге правильного музыкального образования он не получил, хоть уже и играл на скрипке и виолончели. Впрочем, Ш________г нашел для своего врожденного музыкального дара хорошее применение — дирижировал театральными оркестрами и аранжировал — за плату — чужую музыку. Ранние его сочинения, такие, как уже упомянутая «Verklärte Nacht», очень сильно напоминают Вагнера и даже Рихарда Штрауса, так что, если увидите имя композитора в программке концерта, сразу ударяться в бегство не стоит. Все ужасы приключились уже после того, как он написал эту вещь да, собственно, и эпические «Gurrelieder» («Песни Гyppe», датского замка, в котором жил герой этого песенного цикла, король Вальдемар), — кто-то случайно оставил Ш________га в перетопленной комнате, и у него, увы, сбилась настройка/ Ужасно, но правда[♫] ☺.
МИР ФК
Поверите ли? — уже 1901-й. Еще вчера казалось, что это было лишь позавчера. Что ж, мы воистину приближаемся к нашей неполноте, не говоря уж… не говоря… о, так сказать, окончательности. Так сказать. Ну-с, пока мы еще здесь, позвольте мне впитать цвета и звуки MCMI. Оглянувшись через плечо на прошлый год, я вижу малоправдоподобный парный дебют «Дяди Вани» и «Лорда Джима»[*] плюс превосходно поименованное полотно Сезанна «Натюрморт с луковицами». Кроме того, в прошлом году состоялось освобождение Ледисмита и Мафекинга, после чего Британия аннексировала Оранжевое свободное государство и Трансвааль. Мужчина с Усами Величиною с Велосипедный Руль — Элгар — предложил вниманию публики «Сновидения Геронтия», вещицу, о которой Зигмунд Фрейд несомненно нашел бы что сказать в своей главной книге прошлого года — «Толкование сновидений». В другом месте другой Мужчина с Усами Величиною с Велосипедный Руль — У. Г. Грейс — ушел на покой, произведя за свою объявшую почти сорок пять лет карьеру около 55 000 пробежек. Что касается третьего Мужчины с Усами Величиною с Велосипедный Руль — Артура Салливена, — то он, как бы это сказать, умер. О господи. Какое, однако, распространение получили эти «усы величиною с велосипедный руль». Ну и пусть их, вернемся в 1901-й. Великой новостью 1901 года стала, разумеется, кончина королевы Виктории. Да, Женщина с Усами Величиною с Вело… впрочем, нет, ничего, молчание. Так, на всякий случай. Монархиня, правившая Британией дольше кого бы то ни было, воссоединилась наконец со своим супругом, оставив трон сыну, Эдуарду VII. Другие новости: Пекинский мир положил конец Боксерскому восстанию, Теодор Рузвельт сменил павшего от руки убийцы Уильяма Мак-Кинли, а строительство Панамского канала, как ни странно, удалось согласовать, проведя для такого случая переговоры. Превосходная, между прочим, штука — переговоры. По моим представлениям, это что-то вроде исторического варианта корпоративных конференций по продажам. С легкостью могу вообразить себе такую, к примеру, беседу:
— Знаешь, я в прошлом месяце побывал на отличных переговорах! — Да что ты? Где? — Ну, всего-навсего во Франкфурте. (Вздыхает.) Зато в прошлом году — в Вашингтоне, вот там было неплохо! — Фантастика! — Да ну, куда там. Видел бы ты, как босс пытался подписать бумаги! Мороз по коже! — Не может быть… — Уж поверь. (Вздыхает.) М-да. В следующий раз попробую подбить их на Версаль. — Здорово!Что еще? Ну-с, перейдя, — по крайней мере, официально — из века поздних романтиков в век современный, мы примерно таким же манером перешли из века пара в век электричества. Я хочу сказать — более или менее. Вообще говоря, лучше все же делать ударение на «музыке» — так же как и на «веке», — потому что все эти ярлыки: «поздние романтики», «современный» — только одно собой и представляют. Ярлыки. И ничего больше. И точно так же, как никто не переходит из века пара в век электричества за одну ночь, никто не бросает романтический инструментарий и не хватается немедля за современный. Даже наоборот. Романтики еще немалое число лет будут оставаться романтиками. Собственно говоря, можно сказать, что они и теперь никуда не делись, однако этим мы займемся попозже. Если же снова вернуться в 1901-й, так в США становится большой сенсацией регтайм, в Париже начинает голубеть Пикассо — и с немалым успехом, так что «голубым» он останется еще года четыре. (Видимо, зверобоем тогда еще не лечились.) В Италии скончался Верди, разбив тем самым сердца многих итальянцев. Сотни тысяч людей пришли, чтобы проводить его к месту последнего упокоения — в парке дома для престарелых музыкантов, что в Милане, дома, который он сам основал на доходы от своих опер. А вот у Дворжака все пока хорошо, ушедший век, в котором его чествовали как живую легенду, дал ему средства для спокойной жизни и создания множества прекрасных сочинений. В 1901-м он предлагает нам оперу «Русалка» с потрясающей арией «Песнь луне». Если вдуматься, как много хорошей музыки она вдохновила, луна то есть, — Дворжак, Дебюсси, отчасти Бетховен (хотя название придумал не он). Правда, вот в России вдохновить хоть на что-то двадцативосьмилетнего Сергея Рахманинова ей все никак не удается. 1901-й был для него поворотным годом. Вообще говоря, у Рахманинова все шло неплохо. У него имелся в запасе фортепианный концерт, имелась опера, «Алеко», и всегдашняя Прелюдия до-диез минор. Последняя и тогда уже стала для него камнем на шее, Рахманинов хоть и продолжал считать ее превосходной вещью, однако его начинало злить, что, куда бы он ни пришел, к нему неизменно лезут с просьбой сыграть ее. Нужно было сочинить новую. Но тут-то и имелась одна загвоздка. Если честно, загвоздка эта представляла собой коктейль, состоящий на одну часть из критики с публикой и на четыре — из композитора Глазунова. Глазунову доверено было исполнение рахманиновской Первой симфонии, однако услугу он оказал коллеге-композитору прямо медвежью. Исполнение обернулось полным провалом, многие говорили, что Глазунов просто был в стельку пьян. Критика и публика разнесли симфонию по кочкам, а чувствительный Сергей впал в эмоциональную прострацию. Он сжег ноты симфонии — жест, возможно, не лишенный жеманства, поскольку инструментальные партии уцелели, — совершенно разуверился в себе и впал в хандру. Выйти из нее ему удалось лишь после хорошо документированной череды консультаций с гипнотизером, доктором Николаем Далем (друзья называли его «Валидалем» ☺). Одни уверяют, что именно «положительное внушение», или гипнотерапия, вернуло назад музу композитора, другие — что все сводилось лишь к временному творческому тупику, из которого такой человек, как Рахманинов, все равно вышел бы сам собой. Так или иначе, в 1901-м появился на свет результат, остающийся и поныне самым живучим из сочинений Рахманинова, и результат этот был посвящен «Господину Н. Далю». Речь идет, разумеется, о Втором фортепианном концерте. Если честно, сам я по-настоящему распробовал ФК2 — да, собственно, и большую часть музыки Рахманинова — лишь относительно недавно. Моя непосредственная внутренняя реакция на столь ЧИСТЫЙ романтизм всегда была оборонительной. Я предпочитал вещи не настолько «напористые», считая, что музыке не следует насильно тащить вас за собой, когда она переходит вброд поток ею же созданной патоки, с наслаждением в оной плещась. Так я и прожил без малого три десятка лет и вдруг ни с того ни с сего просто-напросто ушел в нее с головой, как некоторые уходят с головой в любимое дело. Я дал себе волю, снес оборонительные сооружения — сначала со стороны Пуччини, которым мы тоже вскоре займемся, а после и со стороны господина Рахманинова. Теперь-то, разумеется, я жить без него не могу, как не могу жить практически без всех любимых мной композиторов, каких вы только сумеете припомнить. Для меня слушать Рахманинова — все равно что наполнить ванну густым, теплым шоколадным соусом и опуститься в нее и лежать, впивая ее содержимое, а после все дочиста подлизать. Ныне я проделываю это довольно регулярно. В музыкальном, то есть, смысле. Второй фортепианный концерт Рахманинова в совершенстве иллюстрирует то, о чем я толковал чуть раньше, — все эти «периоды», «эры» суть не более чем ярлыки. Он написал концерт в 1901-м, через год после удара колокола, возвестившего наступление так называемого «современного периода», и написал, беззаботно и весело, совершенно и полностью романтический, стопроцентно изысканный поток сентиментальных излияний — чем будет заниматься и дальше. И троекратное ему за это ура. Ладно, раз уж мы вспомнили о былых восточногерманских вратарях, — вернее сказать, это я о них только что вспомнил, — давайте попробуем изобразить руку Рахманинова. Чтобы получить некоторое представление о его знаменитой лапище, проделайте следующее. Проведите прямую линию длиной в 25 сантиметров. Впрочем, давайте я лучше сам. Вот, теперь поставьте на каждом ее конце по точке. Это у нас получился размах его левой ладони, расстояние между кончиками мизинца и большого пальца. Ну и ладно, скажут некоторые из вас. А вы не спешите, лучше поставьте на прямой еще три точки, отметив 2,5 см, 7,6 см и 15,2 см. Это точки, до которых доставали его безымянный, средний и указательный пальцы. Что, впечатляет? И не забывайте, ему не приходилось тужиться, растягивать пальцы. Такие аккорды он брал МЕЖДУ ДЕЛОМ, играя какую-нибудь пьеску. А правая рука? Правая изображена чуть ниже. Вот, полюбуйтесь.

ПАРИЖ И ВЕНА — ДВОЕ ЦЕНТРОВЫХ
1902-й. Только что завершилась война с бурами. Переговорами, разумеется. Все съехались в… сейчас посмотрю… в Веринигинг. Не так уж и плохо, по-моему. Наверняка могло быть хуже — помнится, во время последнего перемирия в гостиницах Ханстантона тоже имелись свободные места. Окончательные подсчеты показали, что буры потеряли убитыми 4000 человек, а британцы — 5800, чем, собственно, все и сказано. Что еще? Построена Асуанская плотина, Португалия объявила себя банкротом — все обнаружилось, лишь когда в супермаркете отказались принять ее кредитку, такая была неприятность, — а французский врач Шарль Рише выяснил все насчет анафилаксии (острой аллергической реакции на антигены). Что касается искусства, самыми значительными писателями года оказались, похоже, Киплинг и Конан Дойл, с «Просто сказками» и «Собакой Баскервилей» соответственно, — и увы, zut alors, bof et boni soit qui mal у pense[*], мы потеряли Золя. Стыд и срам. Впрочем, случилось и нечто радостное, у нас появился, большое спасибо Беатрикс Поттер, кролик Питер. Не уверен, правда, о Великий, сидящий на самом верху, что это был честный обмен, но все-таки. Совершенно потрясающий «Мост Ватерлоо» Моне запечатлел, и навеки, Темзу вместе с лучшим, даже теперь, несмотря на огромное колесо обозрения, видом на столицу. Кроме того, Элгар работает над первым из «Пышных и торжественных маршей», Фред Дилиус диктует своему писцу Эрику Фенби ноты «Аппалачей», а всеобщий любимец тенор Энрико Карузо выпускает самую первую свою граммофонную запись. Что и напоминает мне о необходимости вернуться к музыке. Давайте посмотрим, что поделывают в Париже и Вене центровые, так сказать, игроки. Начнем с Парижа — здесь у нас имеется Полностью Современный Клод Дебюсси. Этот бодрый сорокалетний мужчина нисколько, понятное дело, не возражал против ярлыка «современный». Проживая в Париже, центре визуальных искусств того времени, он, вероятно, в большей, нежели другие композиторы, мере был накоротке с новыми формами и идеями. У него имелась даже возможность услышать, ну, скажем, звучание оркестра под названием «гамелан»[♫]. Дебюсси наткнулся на эти инструменты во время одной из тех огромных выставок, что были столь популярными на рубеже веков, и инструменты эти его потрясли. Должно быть, они звучали совсем не так, как любая другая музыка, какую он до сей поры слышал, а ему и хотелось, чтобы его музыка ни на какую другую не походила, чтобы она звучала иначе. Всего несколько лет назад Дебюсси заставил всех ахнуть — своим «Prélude à l’Après-midi d’un faune»[*], в котором постарался расфокусировать музыку, если вы понимаете, о чем я. А я к тому, что Дебюсси попытался проделать с музыкой в точности то, что происходило тогда в живописи. На картинах Моне изображение часто оказывается не в фокусе, так сказать, — не резким и фотографическим, как у художников прежних времен. Дебюсси в своем PAL’AD’UF[♫] проделал примерно то же самое. Теперь же он решил совершить новый шаг. Написал оперу — вариацию на тему как это ни иронично, «Тристана и Изольды», — и сделал это совершенно по-новому, отлично от других. В его опере не было больших мелодичных арий, оркестр по-настоящему драматической роли не играл, а голоса звучали в почти естественном разговорном ритме. Вероятно, оперной публике 1902-го она показалась «неправильной» — пусть и не стоящей, как таковая, учинения серьезных общественных беспорядков, но, в общем, «неправильной», и все тут. И даже скучной, простите мне это слово. Может быть, публика ее не поняла. Публика могла жаждать красивых мелодий, однако и тем, что ей было предложено, в сущности, особо не оскорбилась. Хотелось бы мне оказаться там, просто чтобы посмотреть на ее реакцию. Мне почему-то кажется, что за исполнением оперы последовало недолгое, воспитанное молчание, а затем прозвучало: «Et?..»[*] Что до Вены, там примерно тот же прием ожидал новую симфонию Малера — даром что она была целиком и полностью иной. При последней нашей встрече с Малером он как раз перешел в католичество — главным образом для того, чтобы возглавить Венский оперный театр. И 1902-м, после пяти примерно лет исполнения им этой должности, Малеру удалось наконец завершить свою новую симфонию. Потому мы и поставили его рядом с Дебюсси. Малер и Дебюсси 1902-го. Два совершенно, совершенно разных композитора. Малер, по правде сказать, новатором не был. Он был симфонистом. Несмотря на все созданное Бетховеном, Брамсом и Брукнером, он ощущал себя способным продвинуть симфонию еще дальше — и правильно ощущал. Ему хотелось поднять симфонию до новых высот, до уровня, помеченного: «Романтическая симфония, последний редут, ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ». Малер двинулся путем, полностью отличным от протоптанного Дебюсси, и нет ничего удивительного в том, что — простите за совершеннейшую очевидность дальнейшего, ничего не могу поделать, — пришел в места абсолютно иные. Оба сочинения — шедевры, хотя Малер, быть может, расстается со своими сокровищами с несколько большей легкостью, чем Дебюсси, а о добром старом Густаве такое удается сказать нечасто. Пятая симфония Малера — ибо мы все это о ней говорили! — известная величавым Adagietto, это коричневатое, осеннее, волнующееся море, тогда как «Пеллеас и Мелизанда» — сочинение изысканное, идиллическое, скользящее от такта к такту, точно балерина на пуантах.
«МУЗЫКА В ФИНЛЯНДИИ» — А РАЗВЕ ТАКАЯ БЫВАЕТ?
 В Финляндию мы попадаем в аккурат к Новому году, к 1903-му. Как справедливо выразился прославленный лорд Монти из Пайтона: «Финляндия, Финляндия, Финляндия, страна, в которой я хотел бы побывать — позавтракать там, пообедать или хоть закусить в прихожей!» О да, слова весьма справедливые. Исполненные мудрости. И как водится, столь часто забываемые, пребывающие в столь печальном пренебрежении! Ну так вот, тогда, в 1903-м, человек по имени Ян решил это положение исправить.
Именно в то время слова «Финляндия» и «музыка» начали вместе мелькать в разговорах о человеке по имени Ян. Прежде его звали Юханом, но к 1903-му об этом намертво забыли.
Теперь (тогда) все говорили, что Ян Сибелиус и БЫЛ финской музыкой. Если честно, ничего в этом смысле не изменилось, по крайней мере для большинства людей. Финская музыка была и остается Юханом Юлиусом Кристианом Сибелиусом. К 1903-му он, тридцативосьмилетний, обратился в своего рода местного, национального и во многом всемирного героя. Его «Куллерво» еще лет двенадцать назад сделало Сибелиуса знаменитостью, а «Туонельский лебедь», «Сага» и Первая симфония нисколько таковой репутации не повредили. Он оказался спасителем финской национальной музыки. В 1899 году Сибелиус создал тональную, или симфоническую, называйте, как вам больше нравится, поэму «Финляндия». По моим представлениям, «Финляндия» и определила участь Сибелиуса-триумфатора — в том смысле, что после нее он ничего плохого, на взгляд его страны, сделать просто не мог. Даже если бы Сибелиус начиная с этого времени занимался лишь тем, что обстругивал палочки да «пожинал плоды былого», он все равно еще многие годы мог бы позволить себе пить, сколько душа просит, отказывать блондинкам, возжелавшим завести от него ребенка, и любоваться своим лицом на марках. Последнее, кстати, чистая правда — лицо Сибелиуса появилось на финских марках.
Итак, если жизнь была к нему столь благосклонна, что же грызло старину Яна — ведь что-то же его грызло? Сейчас расскажу. К 1903 году он так и не осуществил мечту своего детства. И если честно, не осуществил ее и позже. Видите ли, еще в 1891 году Сибелиус попросил, чтобы его приняли в Венский филармонический оркестр — ИГРАТЬ НА СКРИПКЕ. Не в дирижеры, не в композиторы, всего-навсего в СКРИПАЧИ. Ему всегда хотелось быть скрипачом, сколько он себя помнил. Скрипачом-то он был хорошим, но, увы, не великим, вот ничего у него и не получилось. Такие дела. Но как же удалось ему примириться с мыслью, что он никогда не станет величайшим, какого мир когда-либо слышал в концертах, скрипачом-виртуозом? Ну, он утешался изысканным коньяком и превосходными сигарами, однако проделал и еще кое-что, почти столь же приятное. Написал виртуозный скрипичный концерт — величайший, по мнению многих, из когда-либо слышанных миром. В 1903 году.
Это концерт, от которого захватывает дух. Яростный. Напористый. Небесный. Даже сердитый, что и неудивительно. Последняя часть кажется выходящей за грань обычного концертного сочинения, обращаясь в десять с чем-то минут музыкального театра. Настоящих практических знаний по части скрипки у меня нет — если не считать того, что в школьные годы мне очень часто приходилось забирать этот инструмент из транспортного бюро потерянных вещей, а после снова забывать в бесчисленных автобусах, — но я всегда считал, что последнюю часть Скрипичного концерта Сибелиуса следует просто-напросто брать приступом. Она так агрессивна, в ней столько всяких «и более того…» — это скрипка, произносящая, грозно помахивая перстом, речь Артура Скарджилла[*]. Потрясающая вещь.
В Финляндию мы попадаем в аккурат к Новому году, к 1903-му. Как справедливо выразился прославленный лорд Монти из Пайтона: «Финляндия, Финляндия, Финляндия, страна, в которой я хотел бы побывать — позавтракать там, пообедать или хоть закусить в прихожей!» О да, слова весьма справедливые. Исполненные мудрости. И как водится, столь часто забываемые, пребывающие в столь печальном пренебрежении! Ну так вот, тогда, в 1903-м, человек по имени Ян решил это положение исправить.
Именно в то время слова «Финляндия» и «музыка» начали вместе мелькать в разговорах о человеке по имени Ян. Прежде его звали Юханом, но к 1903-му об этом намертво забыли.
Теперь (тогда) все говорили, что Ян Сибелиус и БЫЛ финской музыкой. Если честно, ничего в этом смысле не изменилось, по крайней мере для большинства людей. Финская музыка была и остается Юханом Юлиусом Кристианом Сибелиусом. К 1903-му он, тридцативосьмилетний, обратился в своего рода местного, национального и во многом всемирного героя. Его «Куллерво» еще лет двенадцать назад сделало Сибелиуса знаменитостью, а «Туонельский лебедь», «Сага» и Первая симфония нисколько таковой репутации не повредили. Он оказался спасителем финской национальной музыки. В 1899 году Сибелиус создал тональную, или симфоническую, называйте, как вам больше нравится, поэму «Финляндия». По моим представлениям, «Финляндия» и определила участь Сибелиуса-триумфатора — в том смысле, что после нее он ничего плохого, на взгляд его страны, сделать просто не мог. Даже если бы Сибелиус начиная с этого времени занимался лишь тем, что обстругивал палочки да «пожинал плоды былого», он все равно еще многие годы мог бы позволить себе пить, сколько душа просит, отказывать блондинкам, возжелавшим завести от него ребенка, и любоваться своим лицом на марках. Последнее, кстати, чистая правда — лицо Сибелиуса появилось на финских марках.
Итак, если жизнь была к нему столь благосклонна, что же грызло старину Яна — ведь что-то же его грызло? Сейчас расскажу. К 1903 году он так и не осуществил мечту своего детства. И если честно, не осуществил ее и позже. Видите ли, еще в 1891 году Сибелиус попросил, чтобы его приняли в Венский филармонический оркестр — ИГРАТЬ НА СКРИПКЕ. Не в дирижеры, не в композиторы, всего-навсего в СКРИПАЧИ. Ему всегда хотелось быть скрипачом, сколько он себя помнил. Скрипачом-то он был хорошим, но, увы, не великим, вот ничего у него и не получилось. Такие дела. Но как же удалось ему примириться с мыслью, что он никогда не станет величайшим, какого мир когда-либо слышал в концертах, скрипачом-виртуозом? Ну, он утешался изысканным коньяком и превосходными сигарами, однако проделал и еще кое-что, почти столь же приятное. Написал виртуозный скрипичный концерт — величайший, по мнению многих, из когда-либо слышанных миром. В 1903 году.
Это концерт, от которого захватывает дух. Яростный. Напористый. Небесный. Даже сердитый, что и неудивительно. Последняя часть кажется выходящей за грань обычного концертного сочинения, обращаясь в десять с чем-то минут музыкального театра. Настоящих практических знаний по части скрипки у меня нет — если не считать того, что в школьные годы мне очень часто приходилось забирать этот инструмент из транспортного бюро потерянных вещей, а после снова забывать в бесчисленных автобусах, — но я всегда считал, что последнюю часть Скрипичного концерта Сибелиуса следует просто-напросто брать приступом. Она так агрессивна, в ней столько всяких «и более того…» — это скрипка, произносящая, грозно помахивая перстом, речь Артура Скарджилла[*]. Потрясающая вещь.
«Я НЕ СТРЕМЛЮСЬ ИЗМЕНИТЬ МИР, Я НЕ ИЩУ…»
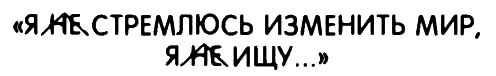 Вам как, сидеть удобно? Тогда я начну. Когда-то давным-давно в далекой стране велось ужасное множество войн и тысячи людей расставались с жизнями. Нет, на сказку это не очень похоже, правда? Хотя для описания 1904 года подходит более чем. В этом году главными воителями были, если честно, Япония и Россия — тут вам и оборона Порт-Артура, и взятие Сеула, и все, что хотите. В научной сфере: Резерфорд и Содди только что постулировали свою теорию радиоактивности, появились первые ультрафиолетовые лампы и — не знаю, по моему мнению, это можно отнести к науке — была основана компания «Роллс-Ройс». Кроме того, Фрейд опубликовал книжицу из тех, что приятно почитать на ночь, — «Психопатология обыденной жизни». Прелестно! Готов поспорить, шла она нарасхват и по всему миру люди читали ее за утренним какао. Что еще? Жан Жорес начал издавать социалистическую газету «Юманите», Хелен Келлер окончила Рэдклифский колледж, а в городе Грац, что в Австрии, состоялась первая музыкальная радиопередача. Что касается Антона Чехова, то он, таки да, умер, ничего не поделаешь. Но, правда, успел написать «Вишневый сад». Добавьте ко всему этому «Двух сестер» Пикассо, «Свадьбу» Руссо и смерть Дворжака — вот вам почти и весь 1904-й.
Почти, да не совсем! О нет.
Нет. До того как 1904-й подошел к концу, дал самый первый свой концерт Лондонский симфонический оркестр. Он полон сил и поныне, даром что побывал в 1912-м на волосок от гибели — решив в последний момент все же не плыть в Нью-Йорк на «Титанике». Чистое везение, разумеется. Но все-таки. Все хорошо, что хорошо кончается.
В отношении музыкальном происходило так много всякого разного, что, наверно, было бы разумным просто поставить бок о бок два сочинения, словно говоря: «Господи, каких только до сумасшествия разных стилей не существовало в то время!» — а остальное все пропустить. Да, пожалуй, так я и поступлю.
Чарлз Айвс. Очень симпатичное имя, очень спокойное, я так всегда думал. Однако за ним, за этим спокойным именем, кроется удивительная жизнь. Поначалу мистер Айвс подвизался в штате Коннектикут в двух качествах одновременно: музыканта и бизнесмена, причем во второй своей ипостаси — не в пример первой — очень удачно. Миллионы нажил. Вы не поверите — на страховании. А когда ему пришлось с композицией расстаться — по причине плохого здоровья, — страховое дело стало его главным занятием. Правда, тоже ненадолго: еще лет через двенадцать он удалился-таки от дел окончательно, но к сочинению музыки более не вернулся. Отец Айвса был капельмейстером, и, думаю, правильно будет сказать, что он не относился к типичным для конца девятнадцатого столетия представителям этой породы. Сплошь и рядом он заставлял сына петь в одной тональности, а сам в это время подыгрывал ему на пианино в другой, просто смеха ради. (Вот занятие, в котором я на голову выше даже самых лучших музыкантов, поскольку с малых лет умел петь в любой тональности — КРОМЕ той, в которой мне подыгрывали.) Когда человек получает воспитание в таком роде, что-нибудь в нем да застревает, и Айвс в своих серьезных, зрелых сочинениях принялся экспериментировать с «битональностью» (так ее именуют узкие специалисты — в буквальном смысле это «две тональности»). К примеру, написанные в 1914-м «Три селения в Новой Англии» исполняются двумя оркестрами, играющими разную музыку и в разном темпе. Говорят, сочинение это было отчасти вдохновлено чем-то схожим, увиденным Айвсом на улице, — два оркестра, играя каждый свое, шагали друг другу навстречу. Наверное, весело было.
А для сорокашестилетнего Джакомо Пуччини этот год стал годом Баттерфляй. Пуччини родился в Италии в такую пору, когда человек, обладающий даром к сочинению задушевной музыки и любовью к опере, мог только преуспеть. Ко времени, когда Пуччини стукнуло двадцать шесть, Верди почти уж одиннадцать лет как исполнял данный им по собственной воле обет музыкального молчания, не написав ни единой ноты, оперной или еще какой. И пока что отказываться от своего обета не собирался. В конечном счете период безвердия растянулся лет на тринадцать. В итальянской опере образовалась прореха. Пуччини представил на провинциальный оперный конкурс свою одноактную оперу «Le Villi» — «Виллисы». И хотя в официальном решении жюри сочинение его даже и упомянуто не было, Пуччини удалось поставить эту оперу на сцене — причем с немалым успехом. К 1904-му он уже был автором трех действительно великих опер — «Манон Леско», «Богемы» и «Тоски», и «Богему» многие считают одной из величайших опер, какие только существуют на свете. Однако в этом году Пуччини написал то, что сам называл потом лучшим своим творением. Оперу, в которой рассказывается о юной гейше по имени Чио-Чио-сан и ее трагической любви к УБЛЮДКУ! — офицеру военно-морского флота США, лейтенанту Пинкертону. Называется она так же, как легшая в ее основу пьеса. «Мадам Баттерфляй».
Эта опера Пуччини не всякому по зубам. Как я уже признавался, было время, когда я и сам к ней даже со взятой наизготовку кавалерийской пикой подходить не желал, — хотя, вообще-то, вы когда-нибудь пробовали заявиться в Королевский оперный театр с кавалерийской пикой? Опера роскошна и одновременно груба — в том смысле, что Пуччини не обинуясь использует материал, от которого другие композиторы могли бы и отшатнуться, опасаясь, что их сочтут «пошлыми» или «louche»[*]. (И даже «пустыми».) Однако Пуччини сказал: «Нет, если опера способна взять людей за живое, я ее напишу» — и написал. Стеснительности в ней мало; она «вульгарна» — такое, помнится, слово было в ходу у знатоков в тот сезон, когда Королевский оперный показывал «Турандот», — и все же она попросту СКАЗОЧНА. Un bel dì?[*] Можете не сомневаться.
Понимаете, вот именно это я и люблю в «классической» музыке — как от нее можно устать, если в ней бок о бок присутствуют «Три селения в Новой Англии» Чарлза Айвса и «Dolce notte»[*] из пуччиниевской «Мадам Баттерфляй»? Можно ли найти на нашей планете что-нибудь столь же не схожее?
Вам как, сидеть удобно? Тогда я начну. Когда-то давным-давно в далекой стране велось ужасное множество войн и тысячи людей расставались с жизнями. Нет, на сказку это не очень похоже, правда? Хотя для описания 1904 года подходит более чем. В этом году главными воителями были, если честно, Япония и Россия — тут вам и оборона Порт-Артура, и взятие Сеула, и все, что хотите. В научной сфере: Резерфорд и Содди только что постулировали свою теорию радиоактивности, появились первые ультрафиолетовые лампы и — не знаю, по моему мнению, это можно отнести к науке — была основана компания «Роллс-Ройс». Кроме того, Фрейд опубликовал книжицу из тех, что приятно почитать на ночь, — «Психопатология обыденной жизни». Прелестно! Готов поспорить, шла она нарасхват и по всему миру люди читали ее за утренним какао. Что еще? Жан Жорес начал издавать социалистическую газету «Юманите», Хелен Келлер окончила Рэдклифский колледж, а в городе Грац, что в Австрии, состоялась первая музыкальная радиопередача. Что касается Антона Чехова, то он, таки да, умер, ничего не поделаешь. Но, правда, успел написать «Вишневый сад». Добавьте ко всему этому «Двух сестер» Пикассо, «Свадьбу» Руссо и смерть Дворжака — вот вам почти и весь 1904-й.
Почти, да не совсем! О нет.
Нет. До того как 1904-й подошел к концу, дал самый первый свой концерт Лондонский симфонический оркестр. Он полон сил и поныне, даром что побывал в 1912-м на волосок от гибели — решив в последний момент все же не плыть в Нью-Йорк на «Титанике». Чистое везение, разумеется. Но все-таки. Все хорошо, что хорошо кончается.
В отношении музыкальном происходило так много всякого разного, что, наверно, было бы разумным просто поставить бок о бок два сочинения, словно говоря: «Господи, каких только до сумасшествия разных стилей не существовало в то время!» — а остальное все пропустить. Да, пожалуй, так я и поступлю.
Чарлз Айвс. Очень симпатичное имя, очень спокойное, я так всегда думал. Однако за ним, за этим спокойным именем, кроется удивительная жизнь. Поначалу мистер Айвс подвизался в штате Коннектикут в двух качествах одновременно: музыканта и бизнесмена, причем во второй своей ипостаси — не в пример первой — очень удачно. Миллионы нажил. Вы не поверите — на страховании. А когда ему пришлось с композицией расстаться — по причине плохого здоровья, — страховое дело стало его главным занятием. Правда, тоже ненадолго: еще лет через двенадцать он удалился-таки от дел окончательно, но к сочинению музыки более не вернулся. Отец Айвса был капельмейстером, и, думаю, правильно будет сказать, что он не относился к типичным для конца девятнадцатого столетия представителям этой породы. Сплошь и рядом он заставлял сына петь в одной тональности, а сам в это время подыгрывал ему на пианино в другой, просто смеха ради. (Вот занятие, в котором я на голову выше даже самых лучших музыкантов, поскольку с малых лет умел петь в любой тональности — КРОМЕ той, в которой мне подыгрывали.) Когда человек получает воспитание в таком роде, что-нибудь в нем да застревает, и Айвс в своих серьезных, зрелых сочинениях принялся экспериментировать с «битональностью» (так ее именуют узкие специалисты — в буквальном смысле это «две тональности»). К примеру, написанные в 1914-м «Три селения в Новой Англии» исполняются двумя оркестрами, играющими разную музыку и в разном темпе. Говорят, сочинение это было отчасти вдохновлено чем-то схожим, увиденным Айвсом на улице, — два оркестра, играя каждый свое, шагали друг другу навстречу. Наверное, весело было.
А для сорокашестилетнего Джакомо Пуччини этот год стал годом Баттерфляй. Пуччини родился в Италии в такую пору, когда человек, обладающий даром к сочинению задушевной музыки и любовью к опере, мог только преуспеть. Ко времени, когда Пуччини стукнуло двадцать шесть, Верди почти уж одиннадцать лет как исполнял данный им по собственной воле обет музыкального молчания, не написав ни единой ноты, оперной или еще какой. И пока что отказываться от своего обета не собирался. В конечном счете период безвердия растянулся лет на тринадцать. В итальянской опере образовалась прореха. Пуччини представил на провинциальный оперный конкурс свою одноактную оперу «Le Villi» — «Виллисы». И хотя в официальном решении жюри сочинение его даже и упомянуто не было, Пуччини удалось поставить эту оперу на сцене — причем с немалым успехом. К 1904-му он уже был автором трех действительно великих опер — «Манон Леско», «Богемы» и «Тоски», и «Богему» многие считают одной из величайших опер, какие только существуют на свете. Однако в этом году Пуччини написал то, что сам называл потом лучшим своим творением. Оперу, в которой рассказывается о юной гейше по имени Чио-Чио-сан и ее трагической любви к УБЛЮДКУ! — офицеру военно-морского флота США, лейтенанту Пинкертону. Называется она так же, как легшая в ее основу пьеса. «Мадам Баттерфляй».
Эта опера Пуччини не всякому по зубам. Как я уже признавался, было время, когда я и сам к ней даже со взятой наизготовку кавалерийской пикой подходить не желал, — хотя, вообще-то, вы когда-нибудь пробовали заявиться в Королевский оперный театр с кавалерийской пикой? Опера роскошна и одновременно груба — в том смысле, что Пуччини не обинуясь использует материал, от которого другие композиторы могли бы и отшатнуться, опасаясь, что их сочтут «пошлыми» или «louche»[*]. (И даже «пустыми».) Однако Пуччини сказал: «Нет, если опера способна взять людей за живое, я ее напишу» — и написал. Стеснительности в ней мало; она «вульгарна» — такое, помнится, слово было в ходу у знатоков в тот сезон, когда Королевский оперный показывал «Турандот», — и все же она попросту СКАЗОЧНА. Un bel dì?[*] Можете не сомневаться.
Понимаете, вот именно это я и люблю в «классической» музыке — как от нее можно устать, если в ней бок о бок присутствуют «Три селения в Новой Англии» Чарлза Айвса и «Dolce notte»[*] из пуччиниевской «Мадам Баттерфляй»? Можно ли найти на нашей планете что-нибудь столь же не схожее?
СИМФОНИЯ ТЫСЯЧИ ДНЕЙ
Если быть совсем уж точным — или это и значит «быть неточным», — заголовок должен выглядеть иначе, скажем: «Симфония тысячи с чем-то дней», но тогда бы он не читался так хорошо. Тысяча (с чем-то) дней — это время, прошедшее между рассветной зарей 1907-го и вечерними сумерками 1910-го, — время, за которое Малер написал одно из значительнейших своих произведений. То самое, из-за которого управляющего мюнхенского оркестра едва не хватил удар, когда он узнал, что число исполнителей придется увеличить до тысячи. (Бедняга. Скорее всего, он так и страдал до конца своих дней нервным тиком — как Герберт Лом в фильмах про «Розовую пантеру».) Итак, 1907-й. Русско-японская война завершилась Портсмутским миром. Портсмутским! Фу! Готов поспорить, высоким договаривающимся сторонам это ничуть не пришлось по душе. Они-то надеялись на Барбадос сгонять! Кроме того, Норвегия отделилась от Швеции (получив Карла Датского), была основана партия Шин Фейн[*], а Альберт Эйнштейн успел к этому времени: а) сформулировать специальную теорию относительности, б) сформулировать закон соотношения массы и энергии, в) создать теорию броуновского движения и г) сформулировать фотонную теорию света. Не приходится сомневаться, что тут кто-то похлопал его по плечу и сказал: «Послушай, Альберт, послушай, голубчик. Знаешь, умников ведь никто не любит, ты понял?» В разных прочих местах Оскар Уайльд напечатал «De Profundis» — из могилы, Пикассо перестал синеть и приобрел здоровый розовый цвет, между тем как Сезанн и Ибсен перешли от здорового розового к менее здоровому землистому. Э-э, то есть умерли. Извините. Хотел уведомить вас об этом как-нибудь помягче. Кроме того, в 1907-м недавно учрежденная Нобелевская премия по литературе досталась Киплингу, а в «художественном» мире много шума наделал кубизм, что и доказывается полотном Пабло «Порозовевшего» Пикассо «Les Demoiselles d’Avignon»[*] — в вольном переводе название это выглядит так: «Ну не нравитесь вы мне!» Что же до божественного мира музыки, так он, скорее всего, пребывает в блаженном неведении относительно козырного туза, который покамест прячет у себя в рукаве Густав Малер. В последнее время жизнь Малера сотрясали бури. Когда умерла от скарлатины одна из его дочерей, Малер отчасти обвинил себя в том, что «искушал судьбу», написав «Kindertotenlieder» — «Песни мертвых детей». Теперь он перебрался из Вены в Америку, где ему еще предстоит дирижировать концертом Рахманинова, о котором я уже говорил. Итак, к 1907-му он работал в «Метрополитен-опера», спарингуясь с дирижером Артуро Тосканини и не испытывая от этого большого удовольствия. Впрочем, у него нашлось время, чтобы закончить Симфонию № 8, уже упомянутую КОЛОССАЛЬНУЮ «Симфонию тысячи». Она состоит из двух просто-напросто ГАРГАНТЮАНСКИХ частей. Первое ее исполнение, состоявшееся в 1910-м в Мюнхене, привело публику в восторг, — со временем к восторгу этому присоединился и весь прочий мир. Во многих отношениях творение Малера выглядит как место последнего упокоения симфонии. Точно так же, как Вагнер показал слушателям место последнего упокоения оперы, Малер направил их туда, «где предстоит покоиться симфониям». «Симфония тысячи» требует практически всех исполнителей, каких только Малеру удалось втиснуть в партитуру, — удвоенного хора, дополнительного хора мальчиков, семерых солистов и пятикратного состава деревянных духовых. Что оставалось делать после этого прочим сочинителям симфоний? Собственно, ямогу вам сказать, что им следовало бы сделать. Закрыть лавочку и разойтись по домам. Вот что им следовало! Бы. А теперь я, с вашего позволения, порезвлюсь вблизи от 1908-го с небольшими передышками в 1909 и 1910-м.
 Фантастический шрифт, вы не находите? Готов поспорить, какие слова им ни набери, все будут выглядеть потрясающе. А ну-ка:
Фантастический шрифт, вы не находите? Готов поспорить, какие слова им ни набери, все будут выглядеть потрясающе. А ну-ка:
 Видите? Он даже список покупок обращает в нечто волшебное, верно? Отличная штука, шрифты. Ну хорошо, 1908-й я пропущу — простите, но надо же довести эту книгу до конца — и направлюсь прямиком в 1909-й.
В Британии Асквит стал премьер-министром, а Ллойд-Джордж — его министром финансов. Луи Блерио за тридцать семь минут перелетел из Кале в Дувр, а век электричества приобрел, если так можно выразиться, младшего братика. Началось производство бакелита, и кое-кто поговаривает, что наступил «век пластмасс». В Лондоне открывает универсальный магазин Г. Г. Селфридж, в Вене раскрывает свои мысли о психоанализе Фрейд, а во Франции раскрывается занавес и «Русские сезоны» Дягилева пленяют сердца парижан. Художник Утрилло, приглядевшись к голубому и розовому периодам Пикассо, добавляет к ним свой собственный, белый, а Василий Кандинский начинает писать первые по-настоящему абстрактные полотна. Что еще? Ну, еще образована Ассоциация девочек-скаутов, и, разумеется, сотням ее, как бы это сказать, новобранок страсть как не терпится опробовать на себе новомодную завивку — удивительный новый перманент. Ой, дорогая, как тебе это К ЛИЦУ!
Ну так вот: девочки-скауты и перманент. Чем все важные достижения 1909-го и исчерпываются. Да, но что же там с «lа musique», как именуют ее в Илкли и Отли?
Музыка все еще силится понять, в какую сторону ей следует двигаться. Малер уже написал последнюю более-менее романтическую симфонию. Да, Рахманинов и Пуччини так и будут, до последнего вздоха, сочинять музыку Рахманинова и Пуччини — их, чистопородных романтиков, ничем не остановишь. Но разумеется, есть и другие. Другие, подобные Дилиусу, своего рода английскому Дебюсси, — музыканту собственной, так сказать, школы. Если композиторы вроде Вагнера создавали целое вероучение и собирали толпы учеников, Дилиус был одиночкой. Этаким шалуном, ни за кем не идущим и своего следа не оставляющим. Со временем он обрел собственный голос — в таких вещах, как «Морской дрейф» и «Бриггская ярмарка», не говоря уж о дух захватывающей «Мессе жизни». «Месса жизни» — это огромный вихрь, образованный из слов Ницше и призрачной, бередящей душу музыки Дилиуса, — еще одно из произведений, которые следует «пробовать» в живом исполнении. Хотя что это я, в самом деле, — ЛЮБУЮ музыку следует пробовать в живом исполнении, это просто-напросто основное условие игры. Однако сочинения, подобные «Мессе жизни», оказываются слишком большими даже для самого лучшего музыкального центра. Если вы впервые слышите тему вроде «О Mensch, gib acht…» — или еще какую-нибудь — на CD, всегда существует шанс, что с вами случится то же, что происходит, когда вы беретесь за новую компьютерную игру. Вы можете получать от нее удовольствие, можете таскать ее с собой повсюду, однако дальше первого уровня вам не пробиться. А послушайте ее живьем, и перед вами откроются самые разные уровни — уровни, к которым ведут двери и нюансы, коих вы с первого раза попросту не заметили. Это очевидно, я понимаю, но музыка — она ЖИВАЯ. Нет, слишком мелкий шрифт. Надо вот так. МжУиЗвЫаКяА. Приглядитесь к этому слову. Оно всегда тут стояло.
А помимо Дилиуса имелись также музыканты вроде тридцативосьмилетних Ралфа «Рифмуется с Альфой» Воан Уильямса и Игоря «Ни с Чем не Рифмуется» Стравинского.
Воан Уильямс — это еще один ни на кого не похожий композитор, хоть и прошедший, в отличие от Дилиуса, порядочную музыкальную школу — частью у Макса Бруха, частью у Мориса Равеля (о котором мы еще поговорим). Сочетание Бруха и Равеля с утонченным (Чартерхауз — Кембридж — Королевский музыкальный колледж) воспитанием породило в ВУ смесь совершенно уникальную. Мне она напоминает о чувстве, с которым разглядываешь фотографию ребенка хорошо знакомой тебе супружеской четы. Очень часто — и это так же очевидно, как слова, которые я сейчас напишу, — ребенок выглядит соединением родительских черт, обладающим, однако же, собственной «младенческой» неповторимостью. Я знаю, знаю, все это лежит на поверхности, но все же поражает меня неизменно. Ну так вот, примерно таким же был ВУ. В его музыке слышен немец Брух. Слышна «французистая» изысканность Равеля. И тем не менее вся она родом из особенно консервативной английскости котсуолдской деревни. Да и вкусна эта музыка необычайно — музыкальный чай со сливками, в который, правда, добавили чуточку не то шнапса, не то абсента.
Стравинский — русский из русских. Даже от имени его меня пронимает радостная дрожь. Это одно из тех имен, что открылись мне лишь с посторонней помощью. Сам я открывать его попросту не желал. Кому-то пришлось насильно усадить меня перед дешевеньким школьным граммофоном, неловко притулившимся на специально для него сооруженной деревянной полке в углу комнаты, и принудительно накормить ранними балетами Стравинского. Но я их и тогда не переварил. Потребовались выжимки из «Симфонии псалмов», чтобы глаза мои расширились и я подумал: «МАМОЧКА… РОДНАЯ!» И все. С тех пор я слышу Игоря Стравинского совсем иначе. Временами он пишет для меня музыкальные картины, временами просто вручает мне комплект сборочных элементов и словно говорит: «На, собирай из них что хочешь». Самый памятный из первых случаев связан с «Жар-птицей» — я понимаю, странно, что не с «Весной священной»! Кто-то дал мне послушать самый конец сюиты «Жар-птица», и я чуть с ума не сошел. Это показалось мне встречей современной музыки с голливудским финалом. Чего я только не услышал — словно кто-то выплескивал одно ведро краски за другим на холст величиною со стену, создавая полотно в манере Поллока. Я знаю, знаю — тут смешение разных эпох, но именно об этом, казалось мне, рассказывает музыка. Однако одолевший все прочие образ возник в моей голове, когда оркестр добрался до последних аккордов. Шествие в духе Артура Дж. Рэнка[*] завершилось, эти трепетные аккорды стали началом конца. Каждый раз — КАЖДЫЙ РАЗ — мне представляется волшебный ковер. КАЖДЫЙ. Как только вступают эти аккорды, я оказываюсь на плоском, экзотическом ковре и мы с ним слегка воспаряем над полом, потом повыше, потом достигаем высокого потолка, чуть-чуть опускаемся, еще чуть-чуть и, наконец, возвращаемся на пол. Мы никуда не летали — даже если вам показалось, что об этом-то я и рассказывал! — мы просто… попробовали. Поднялись над полом, выше, еще выше, затем вниз, вниз и замерли на месте. Именно это, в точности, происходит со мной в финале сюиты «Жар-птица». Надо будет как-нибудь сходить в театр посмотреть, что, собственно ДЕЛАЕТСЯ в этой части балета.
Игорь Федорович Стравинский родился в правильное время и в правильном месте. Получив от отца — баса Императорской оперы — неплохое музыкальное воспитание, он, по счастливому случаю, познакомился с Римским-Корсаковым. Стравинскому было тогда двадцать лет, а пятидесяти восьмилетний Римский успел обратиться в величаво старевший, если уже не состарившийся, столп русской музыки. Стравинский сыграл P-К несколько своих ранних сочинений и ровно через три года стал полноправным его учеником. Они подружились — Стравинскому предстояло написать музыку и для свадьбы дочери Римского, и, впоследствии, для его похорон. Спустя недолгое время он привлек внимание крупной в хореографии того времени фигуры, Сергея Дягилева, и вскоре поразил музыкальный мир своими балетными сочинениями. Но об этом чуть позже.
Видите? Он даже список покупок обращает в нечто волшебное, верно? Отличная штука, шрифты. Ну хорошо, 1908-й я пропущу — простите, но надо же довести эту книгу до конца — и направлюсь прямиком в 1909-й.
В Британии Асквит стал премьер-министром, а Ллойд-Джордж — его министром финансов. Луи Блерио за тридцать семь минут перелетел из Кале в Дувр, а век электричества приобрел, если так можно выразиться, младшего братика. Началось производство бакелита, и кое-кто поговаривает, что наступил «век пластмасс». В Лондоне открывает универсальный магазин Г. Г. Селфридж, в Вене раскрывает свои мысли о психоанализе Фрейд, а во Франции раскрывается занавес и «Русские сезоны» Дягилева пленяют сердца парижан. Художник Утрилло, приглядевшись к голубому и розовому периодам Пикассо, добавляет к ним свой собственный, белый, а Василий Кандинский начинает писать первые по-настоящему абстрактные полотна. Что еще? Ну, еще образована Ассоциация девочек-скаутов, и, разумеется, сотням ее, как бы это сказать, новобранок страсть как не терпится опробовать на себе новомодную завивку — удивительный новый перманент. Ой, дорогая, как тебе это К ЛИЦУ!
Ну так вот: девочки-скауты и перманент. Чем все важные достижения 1909-го и исчерпываются. Да, но что же там с «lа musique», как именуют ее в Илкли и Отли?
Музыка все еще силится понять, в какую сторону ей следует двигаться. Малер уже написал последнюю более-менее романтическую симфонию. Да, Рахманинов и Пуччини так и будут, до последнего вздоха, сочинять музыку Рахманинова и Пуччини — их, чистопородных романтиков, ничем не остановишь. Но разумеется, есть и другие. Другие, подобные Дилиусу, своего рода английскому Дебюсси, — музыканту собственной, так сказать, школы. Если композиторы вроде Вагнера создавали целое вероучение и собирали толпы учеников, Дилиус был одиночкой. Этаким шалуном, ни за кем не идущим и своего следа не оставляющим. Со временем он обрел собственный голос — в таких вещах, как «Морской дрейф» и «Бриггская ярмарка», не говоря уж о дух захватывающей «Мессе жизни». «Месса жизни» — это огромный вихрь, образованный из слов Ницше и призрачной, бередящей душу музыки Дилиуса, — еще одно из произведений, которые следует «пробовать» в живом исполнении. Хотя что это я, в самом деле, — ЛЮБУЮ музыку следует пробовать в живом исполнении, это просто-напросто основное условие игры. Однако сочинения, подобные «Мессе жизни», оказываются слишком большими даже для самого лучшего музыкального центра. Если вы впервые слышите тему вроде «О Mensch, gib acht…» — или еще какую-нибудь — на CD, всегда существует шанс, что с вами случится то же, что происходит, когда вы беретесь за новую компьютерную игру. Вы можете получать от нее удовольствие, можете таскать ее с собой повсюду, однако дальше первого уровня вам не пробиться. А послушайте ее живьем, и перед вами откроются самые разные уровни — уровни, к которым ведут двери и нюансы, коих вы с первого раза попросту не заметили. Это очевидно, я понимаю, но музыка — она ЖИВАЯ. Нет, слишком мелкий шрифт. Надо вот так. МжУиЗвЫаКяА. Приглядитесь к этому слову. Оно всегда тут стояло.
А помимо Дилиуса имелись также музыканты вроде тридцативосьмилетних Ралфа «Рифмуется с Альфой» Воан Уильямса и Игоря «Ни с Чем не Рифмуется» Стравинского.
Воан Уильямс — это еще один ни на кого не похожий композитор, хоть и прошедший, в отличие от Дилиуса, порядочную музыкальную школу — частью у Макса Бруха, частью у Мориса Равеля (о котором мы еще поговорим). Сочетание Бруха и Равеля с утонченным (Чартерхауз — Кембридж — Королевский музыкальный колледж) воспитанием породило в ВУ смесь совершенно уникальную. Мне она напоминает о чувстве, с которым разглядываешь фотографию ребенка хорошо знакомой тебе супружеской четы. Очень часто — и это так же очевидно, как слова, которые я сейчас напишу, — ребенок выглядит соединением родительских черт, обладающим, однако же, собственной «младенческой» неповторимостью. Я знаю, знаю, все это лежит на поверхности, но все же поражает меня неизменно. Ну так вот, примерно таким же был ВУ. В его музыке слышен немец Брух. Слышна «французистая» изысканность Равеля. И тем не менее вся она родом из особенно консервативной английскости котсуолдской деревни. Да и вкусна эта музыка необычайно — музыкальный чай со сливками, в который, правда, добавили чуточку не то шнапса, не то абсента.
Стравинский — русский из русских. Даже от имени его меня пронимает радостная дрожь. Это одно из тех имен, что открылись мне лишь с посторонней помощью. Сам я открывать его попросту не желал. Кому-то пришлось насильно усадить меня перед дешевеньким школьным граммофоном, неловко притулившимся на специально для него сооруженной деревянной полке в углу комнаты, и принудительно накормить ранними балетами Стравинского. Но я их и тогда не переварил. Потребовались выжимки из «Симфонии псалмов», чтобы глаза мои расширились и я подумал: «МАМОЧКА… РОДНАЯ!» И все. С тех пор я слышу Игоря Стравинского совсем иначе. Временами он пишет для меня музыкальные картины, временами просто вручает мне комплект сборочных элементов и словно говорит: «На, собирай из них что хочешь». Самый памятный из первых случаев связан с «Жар-птицей» — я понимаю, странно, что не с «Весной священной»! Кто-то дал мне послушать самый конец сюиты «Жар-птица», и я чуть с ума не сошел. Это показалось мне встречей современной музыки с голливудским финалом. Чего я только не услышал — словно кто-то выплескивал одно ведро краски за другим на холст величиною со стену, создавая полотно в манере Поллока. Я знаю, знаю — тут смешение разных эпох, но именно об этом, казалось мне, рассказывает музыка. Однако одолевший все прочие образ возник в моей голове, когда оркестр добрался до последних аккордов. Шествие в духе Артура Дж. Рэнка[*] завершилось, эти трепетные аккорды стали началом конца. Каждый раз — КАЖДЫЙ РАЗ — мне представляется волшебный ковер. КАЖДЫЙ. Как только вступают эти аккорды, я оказываюсь на плоском, экзотическом ковре и мы с ним слегка воспаряем над полом, потом повыше, потом достигаем высокого потолка, чуть-чуть опускаемся, еще чуть-чуть и, наконец, возвращаемся на пол. Мы никуда не летали — даже если вам показалось, что об этом-то я и рассказывал! — мы просто… попробовали. Поднялись над полом, выше, еще выше, затем вниз, вниз и замерли на месте. Именно это, в точности, происходит со мной в финале сюиты «Жар-птица». Надо будет как-нибудь сходить в театр посмотреть, что, собственно ДЕЛАЕТСЯ в этой части балета.
Игорь Федорович Стравинский родился в правильное время и в правильном месте. Получив от отца — баса Императорской оперы — неплохое музыкальное воспитание, он, по счастливому случаю, познакомился с Римским-Корсаковым. Стравинскому было тогда двадцать лет, а пятидесяти восьмилетний Римский успел обратиться в величаво старевший, если уже не состарившийся, столп русской музыки. Стравинский сыграл P-К несколько своих ранних сочинений и ровно через три года стал полноправным его учеником. Они подружились — Стравинскому предстояло написать музыку и для свадьбы дочери Римского, и, впоследствии, для его похорон. Спустя недолгое время он привлек внимание крупной в хореографии того времени фигуры, Сергея Дягилева, и вскоре поразил музыкальный мир своими балетными сочинениями. Но об этом чуть позже.
ВРЕМЯ ЗАТИШЬЯ
Наступило время затишья, или, как его еще называют, пора зимородка. «Золотые годы», краткий — для истории — вздох облегчения, называйте как хотите, не называйте лишь Китом. Время, по прошествии которого все изменится необратимо. Я предпочитаю обозначать его так: «с 1911 по 1914». Пойдемте же со мной, если хотите, и мы прогуляемся вместе по этим золотым годам. В 1911-м Стравинский снова наделал шума своей музыкой к балету «Петрушка». Тоже сильная была штука. Я знаю, первое представление «Весны священной» вылилось в громкий скандал, однако послушайте, если найдете время, «Петрушку». Поразительная музыка и, должно быть, звучавшая в 1911-м очень странно. Если вы хорошо ее знаете, вспомните «Русский танец» из «Петрушки». Вспомнили? А теперь подумайте о 1911-м. Это год коронации Георга V Теперь снова вспомните музыку — она вообще-то на музыку похожа? И еще раз о Георге V И снова о музыке. Нет, честно, похожа эта музыка на Георга V? Да нисколько! А тогда, готов поспорить, походила еще меньше. Вы меня понимаете? Я хочу сказать, что как-то они не сходятся, верно? В этом-то все и дело. Стравинский… ОСТОРОЖНО: КЛИШЕ! ОСТОРОЖНО: КЛИШЕ! ОСТОРОЖНО: КЛИШЕ! …«опережал свое время». Простите за такие слова, но это правда. «Петрушка», как принято считать, опередил его еще и почище, чем «Весна священная», однако именно «Весна» привела к скандалу, а в итоге и место в афише заняла первое. Кстати сказать, 1911-й — это год, в который Кайзер произнес нечто зловещее о «месте Германии под солнцем», — тот самый, хвала небесам, год, когда тридцатисемилетний Уинстон Черчилль стал Первым лордом Адмиралтейства. В Китае пала Маньчжурская династия, стоявшая у власти с 1644 года. Ух ты! И еще раз: Ух ты! Видите?! Видите?! Ну конечно, перемены происходят всегда, еще бы, согласен. (Вы о «Петрушке» еще не забыли?) Однако на сей раз они происходят гигантскими скачками, словно в бушующем, так сказать, океане. В 1911-м аэропланы были впервые использованы для ведения военных действий — в ходе итало-турецкой, собственно говоря, войны. Сейчас-то это сообщение способно вызвать лишь реакцию наподобие «Да что вы?» или «Ишь ты». Но тогда… Военные аэропланы должны были казаться пришельцами из другого мира — такие устрашающие, такие ни на что не похожие, такие странные. ВОТ КАКОЙ мир отображал в своей музыке Стравинский, не мир «Георга-У-и-мизинчика-указующего-на-сэндвич-с-огурцом». Последнее ни к Стравинскому, ни к его «Петрушке» никакого отношения не имеет. О нет. Он пишет музыку, которая смотрит сквозь этот мир и за его пределы. Музыку, которая говорит… ну что?., говорит: «Брак, художник-кубист». Она говорит: «Пауль Клее»; говорит: «Якоб Эпштейн» — все они создали в 1911 году великие вещи: Брак — «Гитариста», Клее — «Автопортрет», а Эпштейн — надгробие Оскара Уайльда. И если вы снова вспомните, в последний раз, «Русский танец» из «Петрушки», вы, может быть, скажете даже… «Малер умер!». Что он действительно и сделал — и символически, и физически. ДА НЕУЖЕЛИ? М-м-м? А? Что?! Именно так: умер 18 мая 1911 года, если вам требуется точная дата. Взял да и умер. Напрочь. И теперь он мертвее мертвого. Мертв, пребывает во власти смерти. «Ушел путем всех мертвых». (Думаю, стольких «мертв» в разных его вариантах достаточно? Мне просто хотелось подчеркнуть важность случившегося.) И стало быть, ответ на все ваши вопросы таков: да, Малер очевиднейшим образом умер. Как я уже говорил. Но если Малер умер, кто же в 1911-м сочиняет пышную, романтическую музыку? Кто сочиняет нечто отличное от «музыки перемен» à lа Стравинский? Да есть один такой — тот же Стравинский называл его «убогим и жалким». Что ж, Рихард Штраус, выйдите из толпы, сжимая в руке партитуру. Партитура, о которой я говорю, это опера «Кавалер роз». Собственно, для Штрауса она-то и была музыкой перемен — его путем вперед. Рихард Штраус родился в семье весьма музыкальной: отец его был известным валторнистом, игравшим в оркестрах, которыми дирижировал сам Вагнер. Композиторский дар, уже оформившийся, обнаружился в нем до смешного рано — «Праздничный марш» написан им в возрасте десяти лет, — потом он учился в Мюнхенском университете, потом стал ассистентом дирижера Ганса фон Бюлова. Задним числом можно сказать, что Штраус принадлежит, пожалуй, к тем людям, которые, купив автомобиль, заворачивают его в прозрачную пленку и помещают в гараж, где он и стоит в нетронутом виде многие годы. Затем, лет через сто, они извлекают машину из гаража, снимают обертку. Машина блестит и сверкает, но по-настоящему новой не выглядит, если вы понимаете, о чем я. Все признаки новизны у нее имеются, и все же она, ну, не новая. Прибавлю к этому, что не следует принимать все, что говорит Стравинский, за чистую монету. С ходом времени наш Игорь нередко менял свое мнение по большинству вопросов и в конце концов высказывал суждение полностью противоположное тому, какое сообщал о данном предмете раньше. Так или иначе, несмотря на bons mots Стравинского, Штраус, с какой стороны на него ни взгляни, что есть силы держался за стиль и эпоху, о которых все вокруг него твердили, будто они мертвы.
МОРИС ВОЛНУЕТСЯ РАЗ
На следующий год, 1912-й, Морису Равелю исполнится тридцать семь — отличный возраст для композитора, так я считаю, особенно если и со здоровьем у него все в порядке, и впереди еще двадцать пять лет жизни. Именно так, похоже, все и было с Равелем, выполнившим в 1912-м первый заказ «Русского балета» Дягилева, создав тем самым подобие традиции. Новаторская балетная труппа Дягилева работала в Париже, среди танцоров ее числился сам Нижинский (артист, а не конь[*]). Годом раньше как раз благодаря этой труппе Стравинский встал на путь, ведший к истинному величию. Такова одна из самых приятных особенностей «великого» искусства в целом, — говоря общо, одно величие вскармливает другое. До балетной своей музыки Стравинский ничего интереснее Симфонии ми-бемоль мажор не написал — вещь получилась хорошая, но не монументальная. Сочетание же Дягилева, Нижинского, «Русского балета» и, его тоже следует помянуть, Парижа — столицы модернистского движения — заставляло любого человека играть по-крупному. Что, собственно, с Равелем и произошло. Да, у него уже имелись в запасе превосходные произведения — «Павана почившей инфанте», «Игра воды» и «Шехеразада», — однако в 1912-м он создает вещь, которую многие считают лучшим его сочинением, «Дафниса и Хлою». Как ни странно, Дягилеву этот балет не понравился. И публике, присутствовавшей на премьере, тоже. По этой части никаких перемен, как видите, не произошло. Представьте, что вы играете в «Можно я?». Ну вы знаете эту игру — вам дают задание, и, прежде чем за него приняться, вы должны спросить: «Можно я?» Но только на сей раз вы играете в нее в 1912-м. И вам говорят: «Как можно сильнее втяните носом воздух, два раза». Вы с силой выдыхаете, затем набираете полные легкие воздуха — через нос — и проделываете все это дважды. Что вам удается унюхать? Ну… вроде бы потянуло откуда-то… Лениным, Сталиным и «Правдой», а еще я учуял открытие «Вулвортса»… и… и что-то наподобие… первого прыжка с парашютом… да… и вроде как повеяло… это не «Скрипка» Пикассо, нет? По-моему, она. И словно бы от Модильяни сквознячком потянуло… не то «Каменной головой»… не то «Женщиной с длинной шеей». Нет, точно, «Каменной головой». Э-э, и еще я, кажется… что это? Странно… даже не запах, а воспоминание о запахе… это… а-а, это «Титаник». Утонул. Господи, ну и год. Это что-то. Все сказанное, да плюс Дилиус с его «Слушая первую кукушку весной» — симфонической поэмой, ухватившей, казалось, самую суть того времени — сумрачного, расплывчатого, когда и Бог был на небесах, и на земле все еще было в порядке. Ну-с, если вы и вправду взялись играть в эту игру, так давайте, начинайте сначала, — вы же еще «Можно я?» не спросили. Ах-ах, снова стать молодым. Но пока до этого не дошло, заглянем-ка лучше в новый 1913-й год. Вы можете себе такое представить? Начинается обратный отсчет: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… и происходит оркестровый катаклизм — слышатся первые такты «Весны священной» Стравинского. Нервно вздрагивают державшиеся за руки парочки. Одна из них пытается хоть как-то потанцевать под эти аккорды, звучащие точно уведомление о скором конце света. Удивительные аккорды, не столько даже синкопические, сколько аритмичные, и каждый из них походит на гвоздь, вбиваемый в крышку гроба, в котором покоится время затишья. Никто ничего подобного не ждал. На вечеринке такую музыку не заведешь, верно? Хотя, если честно, Стравинский лишь изображал то, что происходило вокруг. Две Балканские войны, арест Ганди, «Сыновья и любовники» Д. Г. Лоренса, «Смерть в Венеции» Томаса Манна и — быть может, наиболее точное попадание — «В сторону Свана», первая часть «В поисках утраченного времени» Пруста, написанная в уютной тиши его обитой пробковым деревом парижской квартиры. В том же 1913-м появляются первые фильмы Чарли Чаплина и рождается Бенджамин Бриттен[*]. И — сопоставление, может, и спорное, но все же — самой популярной песней года оказывается «Долог путь до Типперери». То есть, с одной стороны, у нас имеется «Весна священная», а с другой — «Долог путь до Типперери». Фантастика. По-моему, в этом случае «спеть слова одной песенки под музыку другой» было бы трудновато. Если вы, приглядевшись к главному музыкальному событию 1913-го — я говорю о «Весне священной», не о «Типперери», — решите, что, когда год спустя разразилась война, пьянительный, шумный мир музыки стал еще пьянительнее и шумнее, вам эту мысль простят. Да, простят. 1914-му предстояло произвести на свет два нежнейших, сладчайших произведения во всей той музыке, какую мы называем классической, — «Берега зеленой ивы» и «Жаворонок воспаряющий», — и оба могли быть созданы только англичанами. Оба в значительной мере — порождения своего времени. «Жаворонок воспаряющий» Воан Уильямса — превосходный образчик живописи, с сольной скрипкой, исполняющей роль вынесенной в заглавие птички, падающей вниз, взлетающей, повисающей в небе, сохраняя все это время внутреннюю целостность музыки. «Берега зеленой ивы» — творение друга ВУ Джорджа Баттеруорта, и, опосредованно, Итона, Оксфорда и Королевского музыкального колледжа. Когда он написал самую знаменитую свою вещь, Джорджу Сейнгону Кэю Баттеруорту, если воспользоваться его звучным полным именем, было двадцать девять лет. Едва началась война, он тут же ушел на нее добровольцем. И почти сразу после того, как оказался на фронте, был награжден за храбрость, а следом убит на Сомме. «Военный крест» свой он получил посмертно. Век невинности кончился. Ладно, пошли в 1915-й.
КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ…
Что до контекста, с ним все ясно, главное — война. В прошлом году произошли сражения при Менаре, Монсе, Таннебурге, Марне и первое Ипрское. В этом году опять-таки Ипрское, четыре при Изонцо, высадка в Галлиполи, первый налет цеппелинов на Лондон и атака подводных лодок на Гавр. Поддерживать людей в здравом уме и состоянии занятости помогали фильмы вроде «Ягненка» Дугласа Фербенкса, «Бродяги» Чарли Чаплина и даже «Рождения нации» Д. У. Гриффита. Внес свой вклад и Айвор Новелло, сочинивший песню «Пусть в доме не гаснет огонь», а главными книгами 15-го стали «Тридцать девять ступеней» Джона Бьюкэна и «Бремя страстей человеческих» Сомерсета Моэма. Живопись: Рауль Дюфи пишет «Посвящение Моцарту», Шагал — «День рождения», Марсель Дюшан создает первые полотна, принадлежащие к направлению, которое станут называть «Дада». Собственно, чтобы на минутку отвлечься,
[Редактор, внимание, надвигается шутка: ] …мне всегда представлялось, что… [Да, точно, шутка на подходе] …если б я стал живописцем… [слушайте, слушайте…] …я походил бы на Дюшана… [утрачивая скорость] …потому что… потому что… [замедленно, как в кинематографе] …потому что… МОЕ ИСКУССТВО ОТНОСИТСЯ К ДАДА! [и тут она расплакалась]Извините, мне уже гораздо лучше. Хотя вот еще, последнее, о 1915-м. Вернее, два последних факта. Во-первых, Эйнштейн публикует свою общую теорию относительности. Это уже не милая штучка наподобие Е = mс2. Тут он закручивает, если так можно выразиться, целую концепцию пространства-времени. Позвольте я вам сейчас кратенько все объясню — без подготовки, начерно, — понимаете, в общем и целом, он говорит, что его (пространства-времени то есть) геометрические свойства должны восприниматься как видоизмененные локальным присутствием тела… ОБЛАДАЮЩЕГО МАССОЙ. Так? И что орбита вращающейся вокруг Солнца планеты, наблюдаемая в трехмерном пространстве, образуется из ее естественной траектории в видоизмененном времени (очевиднейшая вещь!), а потому нет никакой нужды — НУЖДЫ НИКАКОЙ НЕТ — вводить понятие тяготения. Э-э, ну вот, как Ньютон. Со стороны Солнца. Которое на планету действует. Довольно просто, согласны? Почитайте книжку «Эйнштейн для болванов». Она, ей-ей, стоит каждого пенни, которое вы на нее потратите. Да, а во-вторых, еще одна большая сенсация 1915-го — имеющая к этой книге несколько более прямое отношение — исходит из Финляндии. Там пытается одолеть творческий кризис пятидесятилетний Сибелиус. Война приостановила его разъезды — он совершал турне по Европе и Америке, — да, похоже, и сочинительство тоже. Ну, отчасти. В конечном счете он написал за всю Первую мировую только одну вещь. Зато какую! Люди, которым нравится клеить ярлыки, говорят о ней «его Героическая». (Я уже задавал в этой книге вопрос: почему каждый непременно должен сочинять свою Героическую? Кстати, хорошо, что вспомнил, надо бы и мою собственную сочинить.) Последняя ее часть просто величественна. Простите, если я вдруг заговорю по-провинциальному, но от нее аж оторопь берет. Вроде как, типа того, что… ну, вы меня поняли — оторопь. Не только от неуследимой мелодии, но и от самого финала. Этакий «Станиславский» финал, головокружительный настолько, что у меня перебивает дыхание и я, слушая ее в несчетный раз, все равно шепчу: «Не верю!» Об этом финале было сказано: «Тор ударяет молотом». И не один вполне почтенный дирижер говорил о нем также: «Тут охренительно трудно добиться, чтобы все музыканты играли ансамблем», впрочем, в эту тему мы лучше углубляться не станем. В целом симфония эта решительно, неколебимо, несгибаемо, непреклонно и неукротимо прекрасна, в самом лучшем смысле последнего слова. Но куда ж нам плыть из 1915-го? Что ж, наиболее очевидным пунктом назначения представляется 1916-й. Заявляю и от заявления этого не отступлюсь, что лучшего начала, чем Парри, нам здесь не найти. Думаю, правильно будет сказать, что сэр Хьюберт Парри стал большой сенсацией 1916 года, если, конечно, не брать в счет «Чу-Чин-Чоу»[*], чего, по моему мнению, делать не следует. Парри, оксфордский профессор музыки, представил публике сочинение, которое не очень справедливо считают его «единственной удачей», — «Иерусалим». Я это вот к чему: что, разве все уже забыли о его музыке к «Гипатии» Олигви? Ну, честно говоря, да, забыли. Несмотря на то что наш Хьюберт оставил внушительное количество песен, кантат и даже симфоний, ныне его, похоже, оценивают лишь по «Иерусалиму» да нечастым концертным исполнениям хоровых сочинений вроде «Я был доволен» или «Благословенная пара сирен». Правда, «Господь, Отец человеков» по воскресеньям все еще ноют, однако множество людей и понятия не имеет о том, что гимн этот написан им. Стыд и позор, с этим что-то нужно делать, и ПРЯМО СЕЙЧАС. Ладно, может быть, немного позже. Простите. Такова жизнь. Ну нет у меня времени на то, чтобы сидеть и печалиться о сельском джентльмене Викторианской эпохи. А кроме того, пройдет всего пара годков — до 1918-го, если точно, — и кампания «Избирательное право женщинам» придаст старику «Иерусалиму» новый блеск. Чему вряд ли стоит удивляться, поскольку одной из самых приметных в этой кампании дам была миссис Парри. И спустя еще несколько десятков лет каждый «Женский институт» страны будет использовать «Иерусалим» как музыкальный боевой клич, стараясь привлечь внимание публики к своим глянцевым календарям и лекциям о приготовлении брокколи. Однако вернемся к войне, уследить за которой становится все труднее. Состоялись сражения под Верденом, на Сомме и — снова и снова — при Изонцо. Война идет себе и идет, а следом за ней поспешают первые теоретические представления относительно «военного невроза», сформулированные Ф. У. Моттом. Другие события: Джеймс Джойс опубликовал наполовину автобиографический «Портрет художника в юности», дадаизм уже выглядит КОЛОССОМ — особенно в Цюрихе, — а джаз вырвался из пределов Нового Орлеана и завоевывает США. Добавьте ко всему этому рождение Иегуди Менухина. Рассказывают, что, когда доктор хлопнул его по попке, он не заплакал, а попросил сыграть ему ноту ля. Теперь уже 1917-й, и нам пора приглядеться к двадцатишестилетнему, сильно смахивающему на карася композитору. Э-э, с сигарой во рту. Нет, правда же, святой истинный крест! Вот, посмотрите на картинку.
 Говорят, он каждые три с половиной секунды забывал музыку, которую только что сочинил. ☺ (Ладно, это как раз неправда.) Зовут его Сергей Прокофьев, в этом 1917 году он создает первую свою большую симфонию, обманчиво названную «Классической». Эта изящно написанная вещь, несмотря на некоторую ее раздумчивость, оказалась музыкой революции — Октябрьской, если быть точным. На самом-то деле, если быть еще более точным, Октябрьская революция произошла в ноябре, 7-го, если быть совсем уже точным, числа. Причина, по которой ее называют Октябрьской, состоит в том, что по старому русскому календарю было все еще 26 октября. (Надеюсь, вам все понятно?)
Чем еще знаменателен год революции? Война, разумеется, так и бушует, теперь в общую свалку влезли и США. Пока члены английской королевской семьи отказывались от своих немецких имен, сражения при Пассхенделе и Камбре собирали страшную дань, и этот самый Камбре стало очень трудно совмещать в сознании с тем, что был некогда центром музыкальной вселенной. А вдали от звона мечей перо Зигфрида Сассуна[*] добавляет последние украшения к «Старому охотнику», и Юнг завершает «Психологию бессознательного». В Париже Пикассо ударился в полный сюр — это его попросили написать декорации к балету «Парад» (совместное производство Эрика Сати, Жана Кокто и Того Самого Дягилева). Честно говоря, Пикассо, скорее всего, лишь отображал далеко не лишенную индивидуальности партитуру Сати. Если вы привыкли к успокоительным тонам его «Гимнопедии» или «Гносьенн», энергичные звуки «Парада» определенно откроют вам новую, пусть и родственную старой, сторону этого самого своеобразного из композиторов. Надо сказать, что партитура его требует использования очень странных инструментов, а именно пистолета, пишущей машинки и, разумеется, полицейской сирены[♫]. Хотя ничего такого уж необычного тут нет. И вообще, раз мы занялись Сати, разрешите мне взять перерыв, пожалуйста.
Говорят, он каждые три с половиной секунды забывал музыку, которую только что сочинил. ☺ (Ладно, это как раз неправда.) Зовут его Сергей Прокофьев, в этом 1917 году он создает первую свою большую симфонию, обманчиво названную «Классической». Эта изящно написанная вещь, несмотря на некоторую ее раздумчивость, оказалась музыкой революции — Октябрьской, если быть точным. На самом-то деле, если быть еще более точным, Октябрьская революция произошла в ноябре, 7-го, если быть совсем уже точным, числа. Причина, по которой ее называют Октябрьской, состоит в том, что по старому русскому календарю было все еще 26 октября. (Надеюсь, вам все понятно?)
Чем еще знаменателен год революции? Война, разумеется, так и бушует, теперь в общую свалку влезли и США. Пока члены английской королевской семьи отказывались от своих немецких имен, сражения при Пассхенделе и Камбре собирали страшную дань, и этот самый Камбре стало очень трудно совмещать в сознании с тем, что был некогда центром музыкальной вселенной. А вдали от звона мечей перо Зигфрида Сассуна[*] добавляет последние украшения к «Старому охотнику», и Юнг завершает «Психологию бессознательного». В Париже Пикассо ударился в полный сюр — это его попросили написать декорации к балету «Парад» (совместное производство Эрика Сати, Жана Кокто и Того Самого Дягилева). Честно говоря, Пикассо, скорее всего, лишь отображал далеко не лишенную индивидуальности партитуру Сати. Если вы привыкли к успокоительным тонам его «Гимнопедии» или «Гносьенн», энергичные звуки «Парада» определенно откроют вам новую, пусть и родственную старой, сторону этого самого своеобразного из композиторов. Надо сказать, что партитура его требует использования очень странных инструментов, а именно пистолета, пишущей машинки и, разумеется, полицейской сирены[♫]. Хотя ничего такого уж необычного тут нет. И вообще, раз мы занялись Сати, разрешите мне взять перерыв, пожалуйста.
ПЕРЕРЫВ НА САТИ
Он не займет и минуты. Я просто хотел сказать, что раз уж мы взялись за Чокнутого Эрика, думаю, правильно будет отметить, что за Сати закрепилась репутация сочинителя лучших названий, какие КОГДА-ЛИБО давались музыкальным произведениям. Он был человеком, чьи издатели не спали ночами из-за его обыкновения писать партитуры красными чернилами и без нотного стана, а также человеком, награждавшим сочинения, которые числились по разряду классической музыки, такими названиями, что лучше и не придумаешь. Я уже упоминал «Вялые прелюдии для собаки», однако была еще «Бюрократическая сонатина» и любимые мной особенно нежно «Три пьесы в форме груши». Прелестно. Ровно то, что доктор прописал. Да, я понял, время снова пошло.
1917-Й, ВРЕМЯ ПОШЛО
1917-й был для изобразительного искусства годом взлетов и падений. Старая Гвардия делала то, что она умеет делать лучше всего, а именно умирала. Роден и Дега — оба ушли в 1917-м. (Хилари Жермен Эдгар Дега заслуживает особого упоминания как обладатель одного из лучших во французском искусстве имен. Чудо что такое.) Но в то же самое время творцы, пока еще молодые, по-настоящему упиваются своей причастностью к одному из золотых периодов живописи: «Сидящая обнаженная» Модильяни датирована как раз 1917 годом. Как и «Обнаженная у камина» Пьера Боннара, и литографическая серия Жоржа Гроса «Лицо господствующего класса». Хороший год, разве нет? В 1918-м наделал шума Пуччини — арией «О mio babbino саго». Роскошная вещь. Если честно, она представляет собой более-менее попурри из трех одноактных опер, называемых «Триптих», или «Il Trittico», и сочиненных просто из желания показать, что итальянцы способны придать фантастическое звучание чему угодно. «О mio babbino саго» — «О мой любимый папочка», в точном переводе — происходит из третьей оперы, «Джанни Скикки», другие две, «Плащ» и «Сестра Анджелика», внимания почти не заслуживают. В марте 1918-го мир лишился также и Дебюсси. Печально, — думаю, ему, миру то есть, было не до этой смерти, поскольку Запад все еще пребывал в тенетах мировой войны. Впрочем, после второй битвы на Марне, отхода немцев на свою территорию, Версальской конференции и провозглашения Германии республикой мир получил — 11 ноября — Перемирие.
ЕСЛИ ВАМ ТРЕБУЕТСЯ ТРЕУГОЛЬНАЯ ГОЛОВА…
1919-й — и этот человек снова здесь. Нет, не тот. Наш человек в тесноватых штанах, Дягилев. Он стал довольно важной шишкой — раз за разом заказывает для «Русских сезонов» то одно, то другое, и в результате композиторы, из ближнего круга его друзей, создают кое-какие из лучших своих произведений. Вот и сейчас он получает заказанное им звуковое сопровождение 1919 года, музыку для балета «Треуголка», сочиненную Мануэлем де Фалья, — или нет, назовем его (я о балете) куда более красивым полным именем: «Еl Sombrero de tres picos». ФАНТАСТИКА! Де Фалья состоял прежде в труппе художников, которые жили в то фантастическое время в Париже, но теперь возвратился в родную Испанию, где и написал то, что стало тремя крупнейшими его произведениями: еще один балет, «Любовь-волшебница» («О, милый, любовь — это такая волшебница! Ооу, мяяу!»), экзотическую вещь для фортепиано с оркестром «Ночи в садах Испании» и, вот в этом самом году, «Модную шляпку». Впрочем, нет, не могу на нем задерживаться, нужно двигаться — год действительно не из маленьких. Теодор Рузвельт умер, да оно, возможно, и к лучшему: медвежонок Тедди уже и глаз один потерял, и шерсть у него повылезла, и нюх стал совсем не тот. Это год Лиги Наций в Париже, Габсбургов в изгнании и Красной Армии в Крыму. Ян Смэтс стал президентом Южной Африки, а леди Астор — членом британского парламента. События всё весьма важные, в том или ином отношении. Основана и построена, именно в этом порядке, школа «Баухауз» — Вальтером Гропиусом. Кандинский, Пикассо и Клее пишут поразительные, мирового класса вещи, а Томас Гарди решил напечатать в этом году вместо романа «Избранные стихотворения». Ах да, помимо этого мистер А. Д. Джуллиард оставил кругленькие 20 миллионов долларов на основание новой музыкальной школы, которая не только получила со временем его имя, но и привела в 80-х к появлению довольно тусклого телесериала «Слава». Очень мило с его стороны. Ну-с, переходим в 1920-й, и… что это я там слышу, не «Вальс» ли?
ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ
Ответом будет, скорее всего, «нет», вы не слышите «Вальса», если, конечно, вы не один из этих… «со странностями». Что? Нет, разумеется, вы не из них. Так или иначе, Равель: «Вальс». Новый заказ все от того же Дягилева. ВИДИТЕ! Умный-преумный, наш Серж. В данном случае он обратился к Равелю, пока к тому еще имело смысл обращаться. Дело в том, что большую часть предыдущих четырех лет Морис Равель водил на фронте санитарную машину. Главным образом под Верденом. Я понимаю, трудно представить себе человека вроде Равеля на фронте, перевозящим больных и раненых. Война обошлась ему очень дорого, да при его тонкой, чувствительной натуре вряд ли можно было ожидать чего-то иного. В конце концов он надломился и подал в отставку — измотанный физически и эмоционально, мучимый бессонницей и нервным расстройством. А после этого фактически затворился от всех в своем любимом доме, стоявшем милях в тридцати от Парижа. Он продолжал писать великие вещи — и «Вальс» из их числа, — но по причине измученных нервов и страшных воспоминаний вдохновение посещало его теперь гораздо реже. Да и то, что Дягилев, которому не понравился финал «Вальса», отверг это сочинение, тоже стало ударом для человека, всего два года как вернувшегося с войны. А вот у Теодора Густавуса фон Холста, который к этому времени — к 1920-му — стал, чтобы не навлекать на себя подозрений в пронемецких симпатиях, называться просто Густавом Холстом, такого рода проблем, похоже, не было. В 1920-м он обнаружил, что сочинил едва ли не шедевр, — и обнаружил это после первого исполнения вещи, которую писал во время войны, а именно сюиты под названием «Планеты». Этому скромному, родившемуся в Челтнеме учителю даже в голову не приходило как-то дорабатывать свое произведение, и потому он просто прождал его премьеры шесть лет. А теперь благослови меня, Отче, ибо я проскакиваю сорок восемь месяцев, чтобы попасть в голубой период Гершвина.
С ДЕТСКИХ ЛЕТ ПОЛЮБИЛ Я СИНИЙ ЦВЕТ
«Голубая рапсодия», или «Рапсодия в стиле блюз». Я что хочу сказать… ну важное же сочинение, ведь так? Первая по-настоящему успешная попытка привести новую музыку, джаз, в концертный зал, предназначенный для исполнения классики. Опять это дурацкое слово. Классика. Прилипло оно к этой музыке намертво, хоть и обозначает, строго говоря, лишь ту, что писалась с 1750-го по примерно 1820-й. Ну да и ладно. Если это главная из наших забот, значит, все у нас идет хорошо. Хотя какая уж там главная. Давайте-ка я вам прямо сейчас и растолкую, что еще заботит меня в связи с музыкой.
ЕСТЬ РАЗГОВОР
Видите ли, у меня имеется подруга, которая мне, ну, все равно как брат. Да. Я понимаю. Но тут дело вот какое… эта подруга, ее зовут… «музыка». М-да. Я понимаю, понимаю… нет, правда, понимаю, со мной такое случается уже не в первый раз, и однако ж… знаете, вы просто послушайте меня, и все, идет? Спасибо. Ну так вот, как я это себе представляю, происходит примерно следующее. Помните, я распространялся о чувствах, которые питаю к Моцарту, сказал, что собака проживает примерно такую же жизнь, как у человека, только в семь раз быстрее. Что-то в этом роде. Так вот, представьте, вы дарите ребенку щенка — что происходит дальше? Разумеется, через семь лет ребенок этот становится старше на — да, правильно, на семь лет, — а щенок, собака то есть? А собаке уже пятьдесят. И сами понимаете, у пятидесятилетнего существа с семилетним мало найдется общего, верно? Да-да, я уже почти подошел к сути дела. Суть в том, что… в том, что… хорошо, забудьте пока о Моцарте. Я думаю, что СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА — это и есть щенок. А ребенок? А ребенок — это ПУБЛИКА. И растут они с разной скоростью. Совсем с разной. В 1925-м композиторы наподобие Альбана Берга (последователя Ш________га) могли создавать вещи наподобие «Воццека» — не знаю, известна она вам? — слушать ее дело трудное, но более чем стоящее. Между тем как широкая публика доросла, ну, разве что до оперетты Легара «Паганини» или, и это в лучшем случае, до юношески переменчивого звучания какого-нибудь сочинения шестидесятилетнего датчанина Карла Нильсена — сходного с другим его творением 1925 года, «Sinfonia Semplice», то есть «Простой» симфонией. Вот в этом-то вся и проблема. Музыка назад поворачивать не собиралась. И уж тем более с тех пор, как Ш________г, пройдя сквозь просветленную ночь, узрел лунный свет. Это я о лунном свете, источаемом марионеткой. Бог ты мой, какой же я временами бываю умный, правда? Я, собственно, хотел сказать — вот этими пышными околичностями, — что, после того как Ш________г послал подальше всякую там мелодичность, которая все же присутствовала в его струнном секстете «Просветленная ночь» (1899), принес ее в жертву атональности — «Это тоже музыка, Джим, просто не та, к какой мы привыкли», — вокального цикла «Лунный Пьеро» («лунный свет, источаемый марионеткой»), в коем он перевалил за грань (музыкальную то есть) того, что представляется непрофессионалу совершенной какофонией, — да, так вот, после этого музыка никогда уже не могла стать такой, какой была прежде. Еще со времени Вагнера композиторы думали о том, в каком направлении им теперь идти, не столько в смысле музыкального «стиля», сколько в смысле самой «музыки». Они искали следующую «музыку», новое музыкальное пристанище, новый «-изм», если угодно, который придет на смену классицизму и романтизму. А ни один и не пришел. Во всяком случае, с точки зрения публики. Тут все то же — ребенок и щенок, растущие с разными скоростями. Композиторы все больше и больше увлекались новыми интеллектуальными методами — методами создания музыки, которая, на слух публики, звучала как-то… как-то неправильно. Неправильная у них получалась музыка. Да вот когда состоялась премьера того же «Воццека», немецкие критики просто ушам своим не поверили. Как выразилась «Deutsche Zeitung»,
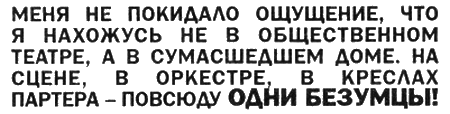 Видите? Ну не нрависся ты мне. И по правде сказать, он им понравится еще очень не скоро. Даже сейчас, когда «Воццек» исполняется довольно часто — во всяком случае, для современного произведения, — подавляющее большинство тех, кто называет себя «поклонниками музыки», старается обходить его стороной. Сам я могу лишь рекомендовать вам раз за разом, пока не посинею, одно: сходите, посмотрите хорошую его постановку — дух захватывает, если, конечно, на сцене все делают правильно. Попробуйте. Знаете, как цыгане поют:
Видите? Ну не нрависся ты мне. И по правде сказать, он им понравится еще очень не скоро. Даже сейчас, когда «Воццек» исполняется довольно часто — во всяком случае, для современного произведения, — подавляющее большинство тех, кто называет себя «поклонниками музыки», старается обходить его стороной. Сам я могу лишь рекомендовать вам раз за разом, пока не посинею, одно: сходите, посмотрите хорошую его постановку — дух захватывает, если, конечно, на сцене все делают правильно. Попробуйте. Знаете, как цыгане поют:
 Вот видите, уже посинел.
Пока я прихожу в себя, позвольте кое-что вам сообщить, в мягкой форме: я проскочил целый год. Простите. Хотя, может, если б я ткнул пальцем вам за спину и воскликнул: «О, гляньте-ка!» — вы ничего бы там и не углядели.
«О, гляньте-ка!»
Вот видите, уже посинел.
Пока я прихожу в себя, позвольте кое-что вам сообщить, в мягкой форме: я проскочил целый год. Простите. Хотя, может, если б я ткнул пальцем вам за спину и воскликнул: «О, гляньте-ка!» — вы ничего бы там и не углядели.
«О, гляньте-ка!»
НЕУРЯДИЦЫ ДВАДЦАТОГО ВЕКА
 Солнце восходит сыроватым, пасмурным утром 1926-го. Последние четыре года? Забудьте. Они были всего только сном, и сон этот миновал. Теперь мы в 1926-м, и позвольте быстренько продемонстрировать вам музыкальное поперечное сечение этого года. Три сочинения появились за двенадцать месяцев, в которые мы получили «И восходит солнце» Хемингуэя, «Метрополис» Фрица Ланга, ну и разумеется, не стоит забывать о ставшей навек популярной «Я нашел в грошовом магазине девочку ценою в миллион». (Ах, они снова играют нашу не стоящую внимания песенку.) В новой Венгрии объявился сорокачетырехлетний Золтан «Лучшее имя в истории музыки» Кодай с его сюитой «Хари Янош» — не хотелось бы говорить, как мы ее называли в школе. Я питаю к этому сочинению определенную слабость, поскольку оно посвящено одному из величайших лжецов на свете, а я написал книгу под названием «Лжец». Сюита, которую Кодай построил на собственной опере, это настоящий шедевр, наполненный отличными мелодиями и прекрасными звуками — довольно упомянуть о чембало и музыкальном изображении громового чиха. В Англии состоялась премьера сюиты «Фасад» двадцатитрехлетнего Уильяма Уолтона, которую величавая, несколько даже устрашающая Эдит Ситвелл сопровождала, стоя за кулисами, чтением своих стихов. Партитура сюиты содержит множество музыкальных цитат — здесь есть кусочек из россиниевского «Вильгельма Телля» и даже из «Хорошо бы посидеть у моря!»[♫]. И наконец, в Польше 1926-го появляется на свет нередко игнорируемая, но временами фантастически прекрасная музыка Шимановского, его переложение «Стабат Матер». Шимановский происходил из теперь уже исчезнувшей среды польского поместного дворянства и, когда в 1917-м его родовое имение разграбили, посвятил себя поискам голоса современной польской музыки. Послушайте как-нибудь его «Стабат Матер», потому что голос этот он нашел.
Итак, троекратное ура музыке двадцатого века. «Гип-гип…»
Я сказал: «Гип-гип…»
Сквернавцы.
Солнце восходит сыроватым, пасмурным утром 1926-го. Последние четыре года? Забудьте. Они были всего только сном, и сон этот миновал. Теперь мы в 1926-м, и позвольте быстренько продемонстрировать вам музыкальное поперечное сечение этого года. Три сочинения появились за двенадцать месяцев, в которые мы получили «И восходит солнце» Хемингуэя, «Метрополис» Фрица Ланга, ну и разумеется, не стоит забывать о ставшей навек популярной «Я нашел в грошовом магазине девочку ценою в миллион». (Ах, они снова играют нашу не стоящую внимания песенку.) В новой Венгрии объявился сорокачетырехлетний Золтан «Лучшее имя в истории музыки» Кодай с его сюитой «Хари Янош» — не хотелось бы говорить, как мы ее называли в школе. Я питаю к этому сочинению определенную слабость, поскольку оно посвящено одному из величайших лжецов на свете, а я написал книгу под названием «Лжец». Сюита, которую Кодай построил на собственной опере, это настоящий шедевр, наполненный отличными мелодиями и прекрасными звуками — довольно упомянуть о чембало и музыкальном изображении громового чиха. В Англии состоялась премьера сюиты «Фасад» двадцатитрехлетнего Уильяма Уолтона, которую величавая, несколько даже устрашающая Эдит Ситвелл сопровождала, стоя за кулисами, чтением своих стихов. Партитура сюиты содержит множество музыкальных цитат — здесь есть кусочек из россиниевского «Вильгельма Телля» и даже из «Хорошо бы посидеть у моря!»[♫]. И наконец, в Польше 1926-го появляется на свет нередко игнорируемая, но временами фантастически прекрасная музыка Шимановского, его переложение «Стабат Матер». Шимановский происходил из теперь уже исчезнувшей среды польского поместного дворянства и, когда в 1917-м его родовое имение разграбили, посвятил себя поискам голоса современной польской музыки. Послушайте как-нибудь его «Стабат Матер», потому что голос этот он нашел.
Итак, троекратное ура музыке двадцатого века. «Гип-гип…»
Я сказал: «Гип-гип…»
Сквернавцы.
ПРОЩАНИЕ С РАВЕЛЕМ
Теперь у нас 1928-й — к вашему сведению, это все-таки моя книга, и если я говорю 1928-й, значит 1928-й, а то ведь я могу все бросить и ничего дальше не писать, — и Равель ломает голову над одним сочинением. Он только что получил от балетной танцовщицы заказ на оркестровую музыку, и это заставило композитора отыскать сделанные некоторое время назад наброски. Простая, короткая мелодия, повторяющаяся раз за разом. В одной тональности. Равель достает рукопись, просматривает ее. Можно ли и вправду растянуть на целых пятнадцать минут мелодию, лишенную какого-либо «развития», да еще и в одной тональности? Ответ? Нет, конечно нельзя — ИЛИ ВСЕ-ТАКИ МОЖНО? Такая вещь стала бы великолепным испытанием для великолепного оркестра, поскольку, если честно, очень немногие композиторы знали, как знал Равель, на что способен оркестр, а на что нет. Более того, именно это он и доказал в 1928-м своим «Болеро». Ну ладно, ладно, оно переходит в другую тональность, под самый конец, и, должен отметить, эффект достигается поразительный. Ныне, разумеется, многие говорят, что оно отчасти запятнано ассоциациями с Торвиллом и Дин[*]. Что ж, этим «некоторым» я могу сказать только одно: «ЕРУНДА и ВРАКИ!» Музыка-то все равно сногсшибательная. Вот так! Вернитесь на землю. У нас тут с этим свободно. Вы ВПРАВЕ, слушая ее, вспоминать о Торвилле и Дин — это территория, свободная от музыкального снобизма. Так что не волнуйтесь. Можете думать даже о катающемся по грязи Тосиро Мифуне из этого, как его… из «Расёмона». Без разницы. Музыка как звучала, так и звучит. И опять-таки, да, это одна из тех вещей, которые в наши дни исполняются очень часто — просто потому, что они обрели популярность. Ну и ладно, испортить ее все равно нельзя. Быть может, в этом и состоит один из признаков великого произведения искусства. Впрочем, я не могу сидеть тут с вами и строить гипотезы. Я должен двигаться. Должен уложить в несколько главок целых сорок лет. Хорошо хоть завтрак с собой прихватил.
ОТ ОПЕРЫ НИЩИХ К ПРОСТОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Да, год, давший нам «Болеро», дал также и новый оперный стиль, и произошло это в Берлине. Текст написал Бертольд Брехт, взявший за основу сочинение жившего в восемнадцатом столетии Джона Гея. (Разумеется, я понимаю: Джон Гей мог бы попасть в эту книгу и сам, так сказать, по себе, но, боюсь, его век и без того уже был переполнен. Я к тому, что места там оставались только стоячие, а Гей, как известно, на ногах держался с трудом.) Музыку же написал Курт Вайль, который, хотьон и стоит во многих музыкальных словарях бок о бок с Антоном Веберном[♫], полагал, что музыка должна быть понятной народу. Музыка для узких специалистов, ученая музыка была не по нем, Вайль считал, что публика должна начинать мурлыкать его мелодии, еще не покинув театра. Разумеется, он не удержался от искушения дать ей ученое имя — «Zeitkunst», или «современное искусство». Ну, не знаю, похоже, они просто ничего с собой поделать не могут Господи боже, чем им просто МУЗЫКА не хороша? Так или иначе, если он стоял на стороне народа, а Ш_________г, Веберн и Берг — на другой стороне, вернее, конце, то между ними, где-то посередке, попрыгивал то в одну, то в другую сторону замечательный, малость чокнутый персонаж: сорокашестилетний Стравинский. Он воплощал, по сути дела, соединение ВСЕХ направлений современной музыки. И никогда подолгу ни в одном не задерживался. Музыка его, как и жизнь, представляет собой череду не столько противоречий, сколько, я бы сказал, поворотов на сто восемьдесят градусов. Он переходил из одной партии в другую, словно по камушкам ступал… Вот только сию минуту он был самым что ни на есть СОВРЕМЕННЫМ композитором, — хотя сам Стравинский произнес однажды известные слова о том, что он современной музыки не пишет, он пишет просто хорошую, — ну ладно, сию минуту был современным, ан глядь — уже сочиняет нечто почти «классическое», или неоклассическое, как сказал бы ученый специалист. Это от греческого «нео», означающего «новый», то есть не обычная классическая версия, а ее пересмотренная и исправленная двадцатым веком редакция. Вот так, в 1930-м он пишет одно из самых известных своих произведений — «Симфонию псалмов». Вещь удивительная — призрачно звучащая кантата для хора и оркестра, способная заставить вас облиться слезами, а через миг вспомнить о фильмах ужасов. Она в каждой своей частности почти так же хороша, как и другой хит 1930-го, «С Джорджией в сердце» Хоуги Кармайкла. А может, и лучше. И как знать, не исключено, что как раз под нее-то К. У. Томбо и открыл Плутон. 1930-й, сами понимаете. Хороший год. Но поспешим в 1934-й.
РАХМАНИЗАЦИЯ
В начале 1934 года Рахманинов, подобно Холсту, Элгару и Дилиусу, был все еще полон сил. Однако, в отличие от Элгара, Холста и Дилиуса, он сохранил силы и к концу 1934-го. К этому времени Рахманинов совершил уже несколько турне по Америке — как пианист то есть. Если вы сравните его сочинение 1934-го с тем, что написано Стравинским в 1930-м, — оба русские, оба осели в Америке, — то увидите две очень разные вещи. Совершенно разные. А почему? Ну вероятно, по причине разного, опять-таки, отношения к слушателям. Стравинский писал для истории, Рахманинов — для публики. И я говорю это совсем не для того, чтобы его принизить. Я лишь хочу сказать, что он, ну вот таким он был человеком. В это время Рахманинов жил в Америке, держал дом в Швейцарии и разъезжал с концертами, зарабатывая деньги. И разумеется, когда ему нужна была новая вещь, он, будучи пианистом-композитором, просто ее сочинял. Как в 1934-м. Вот подумайте. Только что умер президент Германии, Гинденбург, и Гитлер объявил себя фюрером; в Австрии произошла революция и демократов оттерли от власти; тридцатилетний Сальвадор Дали пишет сюрреалистского «Вильгельма Телля». А теперь прислушайтесь к роскошному, пышному и бешеному звучанию рахманиновской «Рапсодии на тему Паганини». Имеет она ко всему этому хоть какое-нибудь отношение? Решайте сами. Проходит еще один год, и нацисты отказываются от выполнения условий Версальского мирного договора, Муссолини вторгается в Абиссинию, а Гитлер создает Люфтваффе. Черчилль, выступая в парламенте, предупреждает о немецкой угрозе с воздуха. И вообразите теперь написанный в том же году балет Прокофьева «Ромео и Джульетта». В одной из сцен музыка и хореография стравливают Монтекки с Капулетти. Если вы не видели этого балета, сходите в театр. А до того времени — может быть, вам удастся припомнить звучание марша Монтекки и Капулетти? Удалось? Подержите его в голове, пока будете читать дальше. В постановке Кеннета Макмиллана два враждующих клана выстроились на сцене один против другого. Они вышагивают, поочередно вскидывая руки, — левую, правую, левую, правую — с этаким надменным видом: левой, правой. И вы вдруг понимаете. Это же тот самый гусиный шаг. Левой, правой. Рахманинов, может, и не отразил 1934 года, но уж Прокофьев-то 1935-й отразил точно. Ну-с, остался еще небольшой вопросик — о Шостаковиче. Скандал, да и только, — я забрался так далеко, ни разу не упомянув о Дмитрии Шостаковиче. Примерно тогда же, когда появился прокофьевский балет «Ромео и Джульетта», Шостакович собрался показать публике новую симфонию. Ему уже двадцать девять лет, и советская власть, просматривающая и поправляющая каждую написанную ноту, сильно его ущемляет. От лап привередливого советского режима страдают многие русские композиторы. У Коммунистической партии имеются очень ясные представления о том, какого рода музыка нужна народу, и, если ваша от нее отличается, считайте, что вы нажили неприятности. Шостакович уже и нажил их со своей оперой «Леди Макбет Мценского уезда», на которую официальная правительственная газета «Правда» налепила ярлык: «Сумбур вместо музыки». Четвертую симфонию более-менее притормозили еще на стадии репетиций, премьера ее так и не состоялась. На него давили и давили, требуя музыки, отвечающей повестке дня, — «социалистический реализм», так это у них называлось. И в 1937-м он показывает Пятую симфонию. Мощная получилась вещь — и хвала небесам за это. Кто бы и что бы ни говорил о ее происхождении, симфония эта чудесна, а медленная часть ее способна покончить со всеми прочими медленными частями. Если по прослушивании ее у вас не возникает желание махнуть на все рукой, бросить работу и заняться сочинением музыки, тогда я просто… Что, нет?.. Не возникает? Ну не знаю… Может, не музыку сочинять, но хоть цветочки засушивать, а? Тоже нет? Ладно, тогда попробуем так. Если по прослушивании ее у вас не возникает желание махнуть на все рукой, бросить работу и… и… и открыть собственное дело — заливка фундамента и укрепление каменной кладки, — которым вы станете руководить прямо из дому, тогда я просто и не знаю, чего вам еще пожелать. А? Что? В самую точку попал, верно? Ха! Так я и думал. Это что касается 1937-го. Теперь разрешите взять вас за руку и провести по улицам 1938-го. Я покажу вам такое, от чего вы немедля задумаетесь, а не поменять ли дантиста. Да, чуть не забыл. Карл Орф, наш человек в Мюнхене. Вообще-то он принадлежит к 1937-му. Ну-с, и какое же место занимает он в схеме современной музыки? Я хочу сказать — вспомните рекламу «Олд Спайс». Там звучит то же, что в фильмах «Омен». Вспомнили? Хорошо вспомнили? Ну? ОТЛИЧНО! Совершенно на 1937-й не похоже, правда? Случилось так, что Орф, которому было тогда сорок два года, положил на музыку довольно-таки похабные слова, сочиненные в Баварии тринадцатого века каким-то довольно-таки похабным монахом, — самые умные из вас могли записать на клейком листочке или еще на чем, что я уже говорил об этом на 60-й странице. Орф положил их на музыку, также похабности не лишенную, и почти сразу обнаружил, что на руках у него — шедевр. Единственный, если честно. Собственно говоря. Орф дожил до 1982-го, а это, по моему разумению, означает, что он почти наверняка слышал свою музыку по телевизору, в рекламе «Олд Спайс». Жуть. Может, и сам этим одеколоном пользовался. Грустно другое: после успеха «Кармины Бураны» — это мы о ней говорим — он велел своему издателю уничтожить все прочие свои сочинения. УУУУУXXXXXXX! Разве не ужас, когда такое случается? Впрочем, я отклонился от темы. 1938-й. Сейчас мы с вами быстренько перекинемся в шахматишки — Е7 на G5… шах… G5 на Е8… шах… Е8 на G6… шах; а теперь G6 может ставить мат. Э-э, так сказать. Я, собственно, хотел сообщить вам о коронации Гeopra VI. Кроме того, Чемберлен стал премьер-министром, а Гитлера «умиротворяют», да все впустую. В 1938-м он назначает себя «военным министром» и вторгается в Австрию, а по самой Германии прокатываются погромы. В этом же году Орсон Уэллс создает что-то вроде паники, поставив на радио «Войну миров» Г. Дж. Уэллса. Одни люди звонили на радиостанцию в полном ужасе, другие — дабы поведать, что к ним тоже вторглись марсиане, но куда больше их звонило, жалуясь, что они еще на прошлой неделе сообщали о некоем таинственном голосе, да только никто их и слушать не стал. Сила звука, а? Кроме того, в кинотеатрах с большим успехом идет фильм Хичкока «Леди исчезает», Лен Хаттон набирает на стадионе «Овал» 364 очка в игре с Австралией, Кристофер Ишервуд говорит «Прощай, Берлин», а в Америке двадцативосьмилетний Сэмюэл Барбер показывает публике маленький Струнный квартет. По чистой случайности квартет услышал великий дирижер Артуро Тосканини, сказавший композитору, что медленная часть этого сочинения, возможно, лишь выиграет, если ее переложить для большого струнного оркестра. Барбер послушно это проделал, и Тосканини впервые исполнил его сочинение в ноябре 38-го. Тут опять-таки присутствует небольшое сходство с Карлом Орфом и его «Карминой Б» — это музыка, которую могли написать только в двадцатом веке, однако язык ее принадлежит другому времени и лишь слегка отдает 1930-ми. Разумеется, публике она понравилась. Да и сейчас нравится. «Адажио» Барбера, так она называется. 1939-й. Взятый сам по себе, «Аранхуэсский концерт» Родриго, в особенности медленная его часть, кажется всего лишь навевающим воспоминания о маленьком испанском городке, да вообще-то, именно таким он задуман и был. Однако, когда вспоминаешь не только то обстоятельство, что тридцативосьмилетний Хоакин Родриго ослеп еще в три года, но и время, в которое писалась эта музыка, меланхоличность медленной части начинает казаться более чем отвечающей тому, что происходит в мире. «Концерт» Родриго БЫЛ написан в самый канун войны, хоть и представлял собой личное подношение Испании, в которую композитор только что вернулся из Парижа. Упоительная вещь. Но знаете, как говорят: «Ариэля сыграть всякому лестно, да ведь прозовут потом „устаревшим стиральным порошком“, не отмоешься». Впрочем, давайте все-таки пошевеливаться. Конечно, если честно, первое, что приходит в голову, когда упоминают о 1939-м, это отнюдь не концерт Родриго. Решительные действия Гитлера, направленные на объединение мира в войне, наконец принесли результаты. Война и вправду началась. Музыкально выражаясь, война сыграет свою партию, сделает, так сказать, свое дело. И это станет особенно ясным, когда композиторы примутся оценивать эмоциональное воздействие шести лет непрерывных сражений. Впрочем, я сейчас думаю еще и о первейшем французском композиторе Оливье Мессиане, который, как только разразилась война, вступил во французскую армию. Ему, родившемуся в Авиньоне в 1908 году и учившемуся в молодости у Поля Дюка, был уже тридцать один год, когда он попал в плен и оказался в Силезии, в немецком концентрационном лагере Гёрлиц. Именно здесь он сочинил то, что нередко называют величайшим из квартетов двадцатого века. Мессиан назвал его, что и неудивительно, если представить себе, какие картины открывались композитору, пока он сидел за письменным столом, «Quatuor pour la fin du temps» — «Квартет на конец времени». К счастью для Мессиана, в 1942-м его репатриировали, он вернулся к работе органиста — в парижской церкви Троицы, на место, которое и занимал до самой смерти, случившейся в 1992 году. Писал во время войны музыку и Шостакович. Поначалу он состоял в одной из ленинградских пожарных команд. Однако плохое зрение композитора исполнению этой должности мешало, и вскоре он перебрался в тогдашнюю советскую «военную столицу», в Куйбышев, где и сочинил новую вещь, Седьмую симфонию, в которой отразилась часть им пережитого. Процитируем самого композитора: «Ни страшные налеты немецкой авиации, ни мрачная атмосфера осажденного города не смогли помешать притоку музыкальных идей». Симфония эта известна теперь как «Ленинградская», и к ней опять-таки приложимо правило маркиза Фрая: чтобы получить по-настоящему сильное впечатление, послушайте ее в живом исполнении. В США выступают плечом к плечу два больших композитора. К 1942-му Аарон Копленд обрел, как принято выражаться в композиторском стане, свой голос. Он прошел через период экспериментов и к своим сорока двум более-менее освоился с интонациями американского фольклора и впустил его в свою музыку. Копленду удалось также выбить дубль — то есть получить, что случается редко, признание и критики, и публики. Кроме того, он указал дорогу киношным композиторам, которым еще предстояло, появившись годы спустя, начать имитировать его аккорды «величиною с Большой каньон» и воспаряющие мелодии, — но об этом позже. Как раз в 1942-м Америку покидает проживший в ней несколько лет Бенджамин Бриттен: он возвращается домой, чтобы предстать перед трибуналом по делам лиц, отказывающихся по соображениям нравственного порядка от несения воинской службы, и внести свой вклад в военные усилия Англии — принимая участие в официальных концертах. Все это он проделал и вскоре после возвращения показал публике одно из прекраснейших — на то время — своих произведений, «Серенаду» для тенора, валторны и струнных. В сущности, это цикл песен на слова английских поэтов, в том числе Блейка, Китса и Теннисона, которые Бриттен переложил на музыку порой возвышенную, порой ожесточенную. В определенном смысле это также и военная музыка. Никогда не забуду слов, однажды сказанных при мне о великом джазовом тромбонисте Джеке Тигардене. Речь шла о его способности сыграть мелодию любого джазового стандарта так, чтобы показалось, будто композитор именно такой ее звучание и задумал. Мне это часто приходит в голову, когда я слушаю «Аппалачскую весну» Копленда. И дело даже не в том, что она звучит так, как задумал композитор, — какой он ее задумал, легко узнать, послушав сделанные им самим записи. Нет, дело скорее в том, что звучит она так, точно была с нами всегда, — а это, в свой черед, напоминает мне рассказ сэра Пола Маккартни о том, как он сочинил свою песню «Вчера». Мелодия приснилась ему ночью и, когда поутру он проснулся, продолжала звучать у него в голове. В конце концов он спросил у кого-то: «Ты не слышал эту мелодию?» — и напел несколько тактов. Тот же вопрос он задавал потом многим, однако никто, похоже, этой темы не знал. И спустя какое-то время сэр Пол вынужден был признаться себе, что это его мелодия и что она ему приснилась. Простите, что талдычу одно и то же, но именно такое впечатление оставляют некоторые места «Аппалачской весны». Да, я знаю, там в середине появляется тема, взятая у «трясунов» — «Боги танца», так мы их называли, — но дело не в этом. Просто мне все время кажется, что Копленд взял да и записал ноты прекрасной музыки, создающей впечатление, будто она существовала всегда. Сделал-то он это, разумеется, в 1944-м. Да, я действительно скачу, сигаю и прыгаю, хватаюсь за первый попавшийся год и сигаю дальше. Это год высадки союзников в Европе, прорыва немцев в Арденнах и падающих на Лондон крылатых ракет «Фау-1». Год, когда маршала Петена заключили в крепость Бельфора, а генералы Гитлера совершили на своего фюрера неудачное покушение. Кроме того, этот же год дал нам «Четыре квартета» Т. С. Элиота, «Стеклянный зверинец» Теннесси Уильямса и «Выхода нет» Жана Поля Сартра. Ну а если ненадолго заглянуть в мир живописи, то выяснится, что мы потеряли Мондриана и Кандинского, зато Пикассо с Браком, похоже, ударились в вегетарианство: один написал «Куст томата», а другой — «Ломоть тыквы». Комитет по присуждению премии Тёрнера только что включил их в число претендентов на звание «Лучший на выставке» (Секция 1, мелкая огородная продукция). А теперь мне и вправду придется попрыгать, и потому держитесь за меня покрепче, если сумеете. Доскакать я хочу аж до 1957-го, так что мы с вами совершим этакое волшебное таинственное путешествие.
ФИРМА «ПУТЕШЕСТВИЯ ФРАЯ»: ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
Проходите, пожалуйста, в глубь автобуса. Рассаживайтесь. Спасибо. Для начала несколько правил: пожалуйста, никакой еды и напитков — это автобус, а не столовая. В проходах не стоять, с водителем не разговаривать — со мной то есть, — композиторам язык не показывать. Да, и еще. Под конец вам придется сброситься на чаевые для водителя — для меня то есть, — так вот, купюры принимаются только крупные. Ну хорошо, поехали. Слева от вас, сильно, на самом-то деле, слева, виднеется Бенджамин Бриттен образца 1945 года. Он занят оперой — меня сзади хорошо слышно? — оперой «Питер Граймс». Вы можете также заметить, сразу за ним, Ивлина Во, размахивающего экземпляром «Возвращения в Брайдсхед», — прошу вас, не надо махать в ответ, вы их только раззадориваете, — а кроме него, новое здание музея Гуггенхайма, возведенное по проекту Фрэнка Ллойда Райта. Справа, в 1946-м, — пожалуйста, не вскакивайте с сидений, — вы видите Дэвида Лина, снимающего «Большие надежды», и Юджина О'Нила, подписывающего экземпляры своей пьесы «Продавец льда грядет», — под конец путешествия вы сможете купить точно такие же у водителя, — а также спящего, на первый взгляд, Джона Лоджи Бэйрда[*]. На самом деле он… ну, в общем, умер. А теперь, с минуты на минуту, пого… — да, это он. Все тот же Бенджамин Бриттен, — господи, до чего же трудолюбивый человек, не правда ли, леди и джентльмены? Хотя, может, он золотую жилу нарыл — в этом году Бриттен заканчивает «Путеводитель по оркестру для молодежи», используя мелодию нашего старого знакомца, композитора Генри Пёрселла. Кит, будь добр, не делай этого с небоскребами, ты не у себя дома. Я знаю, что у тебя дома нет небоскребов, но все равно, перестань. Прямо впереди вы можете видеть улыбающегося Джона Кейджа. Всем видно? Уже, понимаете ли, 1952-й, и если я на минуту умолкну и дам вам послу…
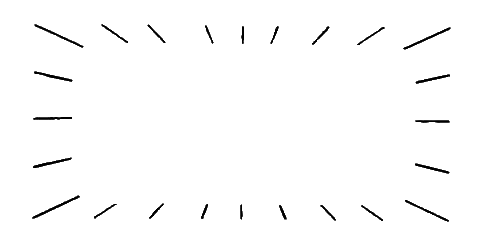 …слышали?
Ну ничего. Niente, как выражаются в Дьюсбери. Черт бы их всех побрал. Pas une sausage. Вообще-то странно. Джон Кейдж, современный композитор сорока двух лет, решает, что музыка — она повсюду вокруг нас. Ну знаете — птички, деревья, машины. И потому пишет произведение — В ТРЕХ ЧАСТЯХ — с указанием для исполнителя: «Tacet». «Молчит». Вы вот представьте себе первое «исполнение», в кавычках: кто-то вышел на сцену концертного зала — по-моему, это был пианист в сопровождении мальчика для перевертывания нотных страниц — и начал ничего не играть. И не играл 4 минуты 33 секунды. Разумеется, Кейдж распорядился открыть окна, так что слышался шум, долетающий снаружи, и все такое. ЭТО И ЕСТЬ МУЗЫКА — полагал Джон Кейдж. Все то, что происходит вокруг. Не сомневаюсь, первое исполнение сопровождалось немалым числом взятых фортиссимо «Вы что, смеетесь?», редкими хлопками в ладоши — ларго. А также (сфорцандо) криком: «ДЕРЬМО!» И знаете, что самое интересное? Эту штуку записывают на пластинки! Ей-ей. Собственно, могу порекомендовать вам версию Фрэнка Заппа. Не знаю, что именно, но что-то в его исполнении есть.
Теперь повернитесь налево: 1953-й, год коронации. Музыка, которую вы, возможно, расслышали, это «Держава и скипетр» — написано Уильямом Уолтоном специально для данного случая. Вон та парочка, видите, в сторонке, стоит «В ожидании Годо» — с прошлого года дожидаются. Прошу вас, не надо бросать ей еду. Под надгробием, что слева от меня, покоится скончавшийся в этом году Дилан Томас, правда, его несколько заслоняет торчащее на переднем плане изваяние — называется «Король и королева», работа Генри Мура. Простите? Да, Дженис, вот этот гнутый каменюга с дыркой посередке. Да, оно уже закончено.
Ладно, проехали, теперь перед нами испанского обличья господин в шортах-сафари и с сачком. Его зовут Жозеф Кантелуб. В общем и целом это Воан Уильямс, только во французском издании. Он собирает французские народные песни — примерно так же, как мы с вами собираем фотографии знаменитостей, лежащих в гробу. Ах, это только я их собираю? Ну хорошо, в этом году господину Кантелубу широко улыбнулось счастье — его новое произведение, «Овернские песни», пользуется огромным успехом. Произведение состоит из мелодий, собранных им во время прогулок по вулканическим горам Оверни, — что довольно странно. На стене за его спиной можно различить плакат одного из самых значительных фильмов этого года — 1955-го, — называется «Зуд седьмого года».
Попытка поместить музыку в контекст может показаться дурацкой затеей — тот же «Зуд седьмого года» с «Овернскими песнями» никак не склеивается. А с другой стороны, она может и пролить па некоторые сочинения определенный свет. Возьмите следующий год, 1956-й. Если вам удастся взглянуть направо, вы увидите бедра Кэтрин Уилл, виноват, бедра Элвиса Пресли, лишь отчасти заслоненные опереттой Леонарда Бернстайна «Кандид». Ну, эта пара, Элвис и Леонард, по-моему, еще туда-сюда. «Кандиду», правда, немного не повезло, уж больно хороша оказалась у него увертюра. И результате куча людей всей остальной его музыки так никогда и не услышала.
И наконец, мы только что въехали в 1957-й, что позволяет мне ответить на два вопроса, которые я получил от вас несколько раньше: да, здесь можно будет остановиться и оправиться и, да, Иден действительно уступил место Макмиллану. За сидящим на скамейке мистером Макмилланом можно различить представителей Шестерки, то есть шести стран, подписавших Римский договор, тем самым направив нас по пути, который неотвратимо приведет к судебному преследованию людей, продающих бананы фунтами. Иными словами, к Общему рынку. В Америке происходят волнения по случаю десегрегации — в штат Арканзас пришлось даже послать воздушных десантников, — а Джек Керуак придумал для своей вышедшей в 57-м культовой книги «На дороге» новое словечко: «бит», или «битник». Все это плюс «Король и я»[*]. Чего ж вам еще? Поскольку сейчас уже 6.30, многим из вас, наверное, захочется подняться в свои номера умыться, прежде чем вы пойдете в концерт, где будут исполнены два сочинения 1957-го — Второй фортепианный концерт Шостаковича и новая вещь Бернстайна. По сведениям, полученным мной из надежного источника, обе очень хороши, хотя мама сказала мне, что слушателю первой и третьей частей концерта Шостаковича не помешает книга или интересный журнал.
Ну ладно, небольшой перерыв. Благодарю вас. Я бы сказал еще, если вы не против, пару слов о Бернстайне.
Он родился в 1918 году в Лоренсе, штат Массачусетс, в семье выходцев из России. После учебы в Гарварде (фортепиано и композиция) Бернстайн занялся дирижированием — сначала в Бостоне, как ассистент легендарного Сергея Кусевицкого, затем самостоятельно, в Нью-Йоркском филармоническом. Дирижерство было для Бернстайна, примерно как для Малера до него, лишь одной стороной медали — оно позволяло ему одновременно сочинять музыку. И в 1957-м он в сотрудничестве со Стивеном Сондхаймом создает главный свой шедевр, «Вестсайдскую историю», основанную на шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта». Эта музыка и сейчас выглядит совершенно роскошной, содержащей, говоря без затей, фантастические мелодии. Вот, я просто считал нужным сказать это.
Хорошо. Перерыв окончен.
Как, собственно, окончена и самая первая из моих экскурсий. Спасибо, что выбрали «Путешествия Фрая». Напоминаю, что на выходе из автобуса производится сбор средств в помощь водителю — то есть мне, — и, кроме того, кто-нибудь, будьте любезны, прихватите с заднего сиденья гигиенический пакет. Благодарю вас.
…слышали?
Ну ничего. Niente, как выражаются в Дьюсбери. Черт бы их всех побрал. Pas une sausage. Вообще-то странно. Джон Кейдж, современный композитор сорока двух лет, решает, что музыка — она повсюду вокруг нас. Ну знаете — птички, деревья, машины. И потому пишет произведение — В ТРЕХ ЧАСТЯХ — с указанием для исполнителя: «Tacet». «Молчит». Вы вот представьте себе первое «исполнение», в кавычках: кто-то вышел на сцену концертного зала — по-моему, это был пианист в сопровождении мальчика для перевертывания нотных страниц — и начал ничего не играть. И не играл 4 минуты 33 секунды. Разумеется, Кейдж распорядился открыть окна, так что слышался шум, долетающий снаружи, и все такое. ЭТО И ЕСТЬ МУЗЫКА — полагал Джон Кейдж. Все то, что происходит вокруг. Не сомневаюсь, первое исполнение сопровождалось немалым числом взятых фортиссимо «Вы что, смеетесь?», редкими хлопками в ладоши — ларго. А также (сфорцандо) криком: «ДЕРЬМО!» И знаете, что самое интересное? Эту штуку записывают на пластинки! Ей-ей. Собственно, могу порекомендовать вам версию Фрэнка Заппа. Не знаю, что именно, но что-то в его исполнении есть.
Теперь повернитесь налево: 1953-й, год коронации. Музыка, которую вы, возможно, расслышали, это «Держава и скипетр» — написано Уильямом Уолтоном специально для данного случая. Вон та парочка, видите, в сторонке, стоит «В ожидании Годо» — с прошлого года дожидаются. Прошу вас, не надо бросать ей еду. Под надгробием, что слева от меня, покоится скончавшийся в этом году Дилан Томас, правда, его несколько заслоняет торчащее на переднем плане изваяние — называется «Король и королева», работа Генри Мура. Простите? Да, Дженис, вот этот гнутый каменюга с дыркой посередке. Да, оно уже закончено.
Ладно, проехали, теперь перед нами испанского обличья господин в шортах-сафари и с сачком. Его зовут Жозеф Кантелуб. В общем и целом это Воан Уильямс, только во французском издании. Он собирает французские народные песни — примерно так же, как мы с вами собираем фотографии знаменитостей, лежащих в гробу. Ах, это только я их собираю? Ну хорошо, в этом году господину Кантелубу широко улыбнулось счастье — его новое произведение, «Овернские песни», пользуется огромным успехом. Произведение состоит из мелодий, собранных им во время прогулок по вулканическим горам Оверни, — что довольно странно. На стене за его спиной можно различить плакат одного из самых значительных фильмов этого года — 1955-го, — называется «Зуд седьмого года».
Попытка поместить музыку в контекст может показаться дурацкой затеей — тот же «Зуд седьмого года» с «Овернскими песнями» никак не склеивается. А с другой стороны, она может и пролить па некоторые сочинения определенный свет. Возьмите следующий год, 1956-й. Если вам удастся взглянуть направо, вы увидите бедра Кэтрин Уилл, виноват, бедра Элвиса Пресли, лишь отчасти заслоненные опереттой Леонарда Бернстайна «Кандид». Ну, эта пара, Элвис и Леонард, по-моему, еще туда-сюда. «Кандиду», правда, немного не повезло, уж больно хороша оказалась у него увертюра. И результате куча людей всей остальной его музыки так никогда и не услышала.
И наконец, мы только что въехали в 1957-й, что позволяет мне ответить на два вопроса, которые я получил от вас несколько раньше: да, здесь можно будет остановиться и оправиться и, да, Иден действительно уступил место Макмиллану. За сидящим на скамейке мистером Макмилланом можно различить представителей Шестерки, то есть шести стран, подписавших Римский договор, тем самым направив нас по пути, который неотвратимо приведет к судебному преследованию людей, продающих бананы фунтами. Иными словами, к Общему рынку. В Америке происходят волнения по случаю десегрегации — в штат Арканзас пришлось даже послать воздушных десантников, — а Джек Керуак придумал для своей вышедшей в 57-м культовой книги «На дороге» новое словечко: «бит», или «битник». Все это плюс «Король и я»[*]. Чего ж вам еще? Поскольку сейчас уже 6.30, многим из вас, наверное, захочется подняться в свои номера умыться, прежде чем вы пойдете в концерт, где будут исполнены два сочинения 1957-го — Второй фортепианный концерт Шостаковича и новая вещь Бернстайна. По сведениям, полученным мной из надежного источника, обе очень хороши, хотя мама сказала мне, что слушателю первой и третьей частей концерта Шостаковича не помешает книга или интересный журнал.
Ну ладно, небольшой перерыв. Благодарю вас. Я бы сказал еще, если вы не против, пару слов о Бернстайне.
Он родился в 1918 году в Лоренсе, штат Массачусетс, в семье выходцев из России. После учебы в Гарварде (фортепиано и композиция) Бернстайн занялся дирижированием — сначала в Бостоне, как ассистент легендарного Сергея Кусевицкого, затем самостоятельно, в Нью-Йоркском филармоническом. Дирижерство было для Бернстайна, примерно как для Малера до него, лишь одной стороной медали — оно позволяло ему одновременно сочинять музыку. И в 1957-м он в сотрудничестве со Стивеном Сондхаймом создает главный свой шедевр, «Вестсайдскую историю», основанную на шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта». Эта музыка и сейчас выглядит совершенно роскошной, содержащей, говоря без затей, фантастические мелодии. Вот, я просто считал нужным сказать это.
Хорошо. Перерыв окончен.
Как, собственно, окончена и самая первая из моих экскурсий. Спасибо, что выбрали «Путешествия Фрая». Напоминаю, что на выходе из автобуса производится сбор средств в помощь водителю — то есть мне, — и, кроме того, кто-нибудь, будьте любезны, прихватите с заднего сиденья гигиенический пакет. Благодарю вас.
НОВИЧКИ
Простите за грубость, но не могу ли я попросить вас на миг воспользоваться закладкой? Запомните строку, на которой вы остановились, закройте книгу и взгляните на ее обложку. Взглянули? Хорошо, надеюсь, вы заметили, что на обложке значится: «НЕПОЛНАЯ и окончательная история классической музыки». На мой взгляд, «неполная» — слово на редкость прекрасное, вам так не кажется? Дышащий совершенством октет, который позволяет нам вкусить — благодаря упоительной точности, с какой он передает содержание следующего раздела, — небесное, недюжинное наслаждение. Не… полная. Нннне… полная. Превосходно, не правда ли? Меня так и подмывает вскочить на стул и заорать на мотивчик «Америка-Америка»: «Не… по-олная… Не… по-олная…» Потряска. Думаю, сочиняя последний абзац, я пытался уведомить вас, что нам предстоит со свистом пронизать целых три десятилетия, не останавливаясь даже для смены лошадей. Итак, вперед. За исключением, быть может, Клиффа и «Шэдоуз»[*], главными новичками 1962-го оказались Бенджамин Бриттен и «Цветное приложение» к газете «Санди тайме». (Ладно, Бенджамину Бриттену было уже сорок девять лет, так что новичком его можно назвать лишь с некоторой натяжкой, зато «Цветное приложение» точно появилось только в этом году.) Невероятно трогательный «Военный реквием» Бриттена представлял собой трогательное соединение латинской службы со стихами Уилфреда Оуэна. Я же говорил, что опыт войны еще скажется в музыке, надо лишь подождать. Премьера «Военного реквиема» состоялась через год после того, как временным центром мира стал залив Свиней, в тот самый год, когда трем тысячам американских солдат и судебных приставов пришлось в первый день учебных занятий проводить Джеймса Мередита в университет, дабы не допустить никаких бесчинств. А почему? Да просто потому, что он был чернокожим. Два года спустя происходит самое, быть может, прославленное из событий, по поводу которых потом еще долго спрашивают: «А что вы делали, когда?..» Этот год навсегда запечатлелся в сознании многих — во всяком случае, в моем. «Вы помните, что вы делали в день… в день, когда Дерик Кук свел на нет амбициозные потуги Малера написать столько же симфоний, сколько их написал Бетховен?» По крайней мере, таким этот день запомнился мне. Да, поразительная история, не правда ли? Какой-то музыковед отыскивает последние наброски Малера и просто-напросто дописывает их. И вы получаете… Десятую Малера. В 1964-м. Со временем кто-нибудь проделает то же самое и с Бетховеном, но, правда, не в ближайшие двадцать четыре года. Что еще? Ну, 65-й услышал «Чичестерские псалмы» Бернстайна, сочиненные по заказу настоятеля Чичестерского, как это ни странно, собора. Премьера их состоялась в один год с премьерой Линдона Б. Джонсона. Хотя, если точно, он, кажется, был не премьером, а президентом. Но все-таки. Ладно, пошли дальше. Время не ждет. 1967-й становится годом Джереми Торпа, возглавившего Либеральную партию; Шестидневной войны; Мартина Лютера Кинга, возглавившего марши протестов против войны во Вьетнаме; и кризиса, постигшего космические программы США и Советского Союза, — гибели космонавтов при взлете и посадке соответственно. Еще в одном месте, а именно в кейптаунской больнице «Груут Шуур», Кристиаан Барнард впервые в мире произвел пересадку сердца. Да, имеется еще парочка симпатичных фактов статистики, которые вам стоит сохранить в архиве памяти под биркой «1967».
 А кроме этого, вспомните, что сказал некогда об изобретенном им телефоне Александер Грейам Белл: «Я твердо верю в то, что когда-нибудь в каждом городе будет по телефону!» Ну так вот, согласно статистике 1967 года, только в США уже имелось 100 миллионов телефонов. Вы можете в это поверить? Итак, все это плюс утрата Дороти Паркер. «Вот книга не из тех, которые легко отодвинуть в сторону. Эту придется отшвыривать, и с большими усилиями». По-моему, чудно, а впрочем, не знаю. С музыкой-то 1967-го все это как-нибудь сочетается? Я об Араме Хачатуряне говорю, об армянском композиторе, — ему тогда уже было сильно за шестьдесят. Помните его «Спартака»? Проиграйте мысленно тему любви Спартака и Фригии, а после скажите мне, похоже это на 1967-й? Не уверен.
Да нет, с Шальными Шестидесятыми мы еще не покончили. Осталось упомянуть, что в 1969-м, как раз когда Нейл Армстронг с ошибками цитировал сам себя, Карлхайнц «Не знаю во что, но я вляпался» Штокхаузен продемонстрировал свое классическое вокальное сочинение «Настройка». Так вот, назовите меня чудаком, но у меня имеется запись «Настройки» — на виниле, чтоб вы так жили! — и я нахожу эту вещь абсолютно баснословной. Прекрасная музыка, ее хорошо ставить после того, как вы примете пару-другую стаканов «Шато Марго» и кто-то как раз начнет разносить напитки. Впрочем, не будем об этом. Спасибо.
17-я строка повестки дня: Разное?
Шостакович добрался до Пятнадцатой. Симфонии, не строки. В 1972-м — да-да, я сказал «в 1972-м» — состоялась премьера Пятнадцатой, каким-то образом проскочившей мимо Коммунистической партии без повреждений. Чего никак не скажешь о Тринадцатой симфонии, текст которой все-таки пришлось изменить. Сейчас он кажется бог весть какой древностью, не правда ли, это я о прежнем советском режиме говорю, — приходится даже напоминать себе, что не так уж давно он и был, верно? А вот это уже о 1972-м. Брюки клеш, «Последнее танго в Париже», «Оскар», полученный Лайзой Миннелли за «Кабаре», и — чтобы вы навсегда запомнили, куда ее поместить, — Пятнадцатая симфония Шостаковича. Здорово. Ну и еще — смерть Пикассо, смерть У. X. Одена и «Смерть в Венеции» Бриттена.
Да, состоялась премьера «Смерти в Венеции», последней оперы Бриттена, — на его процветающем и поныне фестивале в Олдбро. Увы, примерно в это же время здоровье композитора ухудшилось настолько, что он почти перестал сочинять музыку.
1974-й. Ну-с, чтобы вы его себе представляли, то был год, в который Гарольд Вильсон снова стал премьер-министром, Гренада получила независимость, а лорд Лукан исчез после убийства няни его детей. Нет, я его не видел. Вообще говоря, в музыкальном отношении 70-е больше всего походили на кладбище. Когда в 79-м к власти пришла Тэтчер, мы уже успели потерять Мийо в 74-м, Шостаковича в 75-м, Бриттена в 76-м и Хачатуряна в 78-м. А прибавьте сюда утрату (в 77-м) двух величайших певцов мира — Марии Каллас и Элвиса Пресли, — и всякий поймет и простит вас, если вы уйдете к себе и зароетесь в любимую виниловую коллекцию.
Правда, в 1976-м, когда начались полеты «Конкорда», появилась новая симфония польского композитора Гурецкого, но о нем мы поговорим чуть позже. О Гурецком, разумеется, не о «Конкорде». И раз уж я упомянул его, позвольте мне потратить немного времени и на итальянского композитора Лучано Берио. Он не только сочинял всякого рода странные и чудесные вещи для своей жены, певицы Кэти Берберян, и сольные, названные им «Секвенциями», испытания на выносливость для самых разных инструментов, в 70-х у него нашлось также время пересмотреть составленный им в 64-м сборник народных песен. В 73-м Берио довел их до ума, и во второй половине 70-х они не раз и не два исполнялись по всему миру. Причина? Ну, причина, наверное, в том, что звучание их ничем не напоминает попытки настроить коротковолновый приемник. Если вы из людей, уверенных, что музыка двадцатого века им не по душе, послушайте эти песни, они пролагают легкий путь к кое-каким милым старым мотивам, хоть потом и уходят дальше. Я могу ошибаться, но, по-моему, в нескольких местах партитуры обозначены удары по снятым с большегрузных автомобилей амортизаторам. Впрочем, пусть это вас не пугает — «Песни разных народов» Берио прекрасны. Так или иначе. Ладно, вперед. Мне еще нужно заглянуть в 1980-й.
Собственно, в Хой, что на Оркнейских островах. Очень, как мне говорили, красивый городок, где к 1980-му вот уж девять лет как живет английский композитор Питер, а ныне сэр Питер, Максуэлл Дэвис. Он из тех музыкантов, которых часто относят к «Манчестерской группе», потому что все они работали в Манчестере и, несомненно, везде появлялись вместе. Такие, наверное, были крутые на вид ребята — все в темных очках и резинку жуют. А может, и не такие. Как бы там ни было, Максуэлл Дэвис был единственным в этой компании — в нее входили также Александр Гёр, Гаррисон Бритуистл, Элгар Хауарт и пианист Джон Огдон, — кто сочинял вещи, которые можно хотя бы попытаться насвистывать. И вот ясным майским утром 1980-го, пока воздушные десантники штурмовали посольство Ирана, он мирно, ни о чем подобном, надеюсь, не помышляя, дописывал последний такт своего нового сочинения для фортепиано соло, для «Прощания со стрессом». Упоительная вещь, написанная в знак протеста против предстоящего открытия урановых рудников.
Если честно, она нисколько не похожа на такие созданные им в 60-х творения, как «Восемь песен для безумного короля». И раз уж я упомянул о них, скажу еще вот что: если увидите где-то в афише «Песни безумного короля», сходите, послушайте, потому что это замечательный образчик музыкального театра — если правильно с ним обойтись.
А теперь давайте прогуляемся по ужасному, сказать по правде, десятилетию, по 1980-м[♫]. Маэстро, урежьте марш.
А кроме этого, вспомните, что сказал некогда об изобретенном им телефоне Александер Грейам Белл: «Я твердо верю в то, что когда-нибудь в каждом городе будет по телефону!» Ну так вот, согласно статистике 1967 года, только в США уже имелось 100 миллионов телефонов. Вы можете в это поверить? Итак, все это плюс утрата Дороти Паркер. «Вот книга не из тех, которые легко отодвинуть в сторону. Эту придется отшвыривать, и с большими усилиями». По-моему, чудно, а впрочем, не знаю. С музыкой-то 1967-го все это как-нибудь сочетается? Я об Араме Хачатуряне говорю, об армянском композиторе, — ему тогда уже было сильно за шестьдесят. Помните его «Спартака»? Проиграйте мысленно тему любви Спартака и Фригии, а после скажите мне, похоже это на 1967-й? Не уверен.
Да нет, с Шальными Шестидесятыми мы еще не покончили. Осталось упомянуть, что в 1969-м, как раз когда Нейл Армстронг с ошибками цитировал сам себя, Карлхайнц «Не знаю во что, но я вляпался» Штокхаузен продемонстрировал свое классическое вокальное сочинение «Настройка». Так вот, назовите меня чудаком, но у меня имеется запись «Настройки» — на виниле, чтоб вы так жили! — и я нахожу эту вещь абсолютно баснословной. Прекрасная музыка, ее хорошо ставить после того, как вы примете пару-другую стаканов «Шато Марго» и кто-то как раз начнет разносить напитки. Впрочем, не будем об этом. Спасибо.
17-я строка повестки дня: Разное?
Шостакович добрался до Пятнадцатой. Симфонии, не строки. В 1972-м — да-да, я сказал «в 1972-м» — состоялась премьера Пятнадцатой, каким-то образом проскочившей мимо Коммунистической партии без повреждений. Чего никак не скажешь о Тринадцатой симфонии, текст которой все-таки пришлось изменить. Сейчас он кажется бог весть какой древностью, не правда ли, это я о прежнем советском режиме говорю, — приходится даже напоминать себе, что не так уж давно он и был, верно? А вот это уже о 1972-м. Брюки клеш, «Последнее танго в Париже», «Оскар», полученный Лайзой Миннелли за «Кабаре», и — чтобы вы навсегда запомнили, куда ее поместить, — Пятнадцатая симфония Шостаковича. Здорово. Ну и еще — смерть Пикассо, смерть У. X. Одена и «Смерть в Венеции» Бриттена.
Да, состоялась премьера «Смерти в Венеции», последней оперы Бриттена, — на его процветающем и поныне фестивале в Олдбро. Увы, примерно в это же время здоровье композитора ухудшилось настолько, что он почти перестал сочинять музыку.
1974-й. Ну-с, чтобы вы его себе представляли, то был год, в который Гарольд Вильсон снова стал премьер-министром, Гренада получила независимость, а лорд Лукан исчез после убийства няни его детей. Нет, я его не видел. Вообще говоря, в музыкальном отношении 70-е больше всего походили на кладбище. Когда в 79-м к власти пришла Тэтчер, мы уже успели потерять Мийо в 74-м, Шостаковича в 75-м, Бриттена в 76-м и Хачатуряна в 78-м. А прибавьте сюда утрату (в 77-м) двух величайших певцов мира — Марии Каллас и Элвиса Пресли, — и всякий поймет и простит вас, если вы уйдете к себе и зароетесь в любимую виниловую коллекцию.
Правда, в 1976-м, когда начались полеты «Конкорда», появилась новая симфония польского композитора Гурецкого, но о нем мы поговорим чуть позже. О Гурецком, разумеется, не о «Конкорде». И раз уж я упомянул его, позвольте мне потратить немного времени и на итальянского композитора Лучано Берио. Он не только сочинял всякого рода странные и чудесные вещи для своей жены, певицы Кэти Берберян, и сольные, названные им «Секвенциями», испытания на выносливость для самых разных инструментов, в 70-х у него нашлось также время пересмотреть составленный им в 64-м сборник народных песен. В 73-м Берио довел их до ума, и во второй половине 70-х они не раз и не два исполнялись по всему миру. Причина? Ну, причина, наверное, в том, что звучание их ничем не напоминает попытки настроить коротковолновый приемник. Если вы из людей, уверенных, что музыка двадцатого века им не по душе, послушайте эти песни, они пролагают легкий путь к кое-каким милым старым мотивам, хоть потом и уходят дальше. Я могу ошибаться, но, по-моему, в нескольких местах партитуры обозначены удары по снятым с большегрузных автомобилей амортизаторам. Впрочем, пусть это вас не пугает — «Песни разных народов» Берио прекрасны. Так или иначе. Ладно, вперед. Мне еще нужно заглянуть в 1980-й.
Собственно, в Хой, что на Оркнейских островах. Очень, как мне говорили, красивый городок, где к 1980-му вот уж девять лет как живет английский композитор Питер, а ныне сэр Питер, Максуэлл Дэвис. Он из тех музыкантов, которых часто относят к «Манчестерской группе», потому что все они работали в Манчестере и, несомненно, везде появлялись вместе. Такие, наверное, были крутые на вид ребята — все в темных очках и резинку жуют. А может, и не такие. Как бы там ни было, Максуэлл Дэвис был единственным в этой компании — в нее входили также Александр Гёр, Гаррисон Бритуистл, Элгар Хауарт и пианист Джон Огдон, — кто сочинял вещи, которые можно хотя бы попытаться насвистывать. И вот ясным майским утром 1980-го, пока воздушные десантники штурмовали посольство Ирана, он мирно, ни о чем подобном, надеюсь, не помышляя, дописывал последний такт своего нового сочинения для фортепиано соло, для «Прощания со стрессом». Упоительная вещь, написанная в знак протеста против предстоящего открытия урановых рудников.
Если честно, она нисколько не похожа на такие созданные им в 60-х творения, как «Восемь песен для безумного короля». И раз уж я упомянул о них, скажу еще вот что: если увидите где-то в афише «Песни безумного короля», сходите, послушайте, потому что это замечательный образчик музыкального театра — если правильно с ним обойтись.
А теперь давайте прогуляемся по ужасному, сказать по правде, десятилетию, по 1980-м[♫]. Маэстро, урежьте марш.
1981 — КЛАРК, РАЗУМЕЕТСЯ
Н-да, столь о многом нужно рассказать, а времени осталось так мало. 1981-й, принц Чарлз женится на леди Диане Спенсер, и делает это под разливающиеся по собору Св. Павла звуки «Марша принца Датского» Джереми Кларка, сочинения, известного также под названием «Trumpet Voluntary»[*]. В результате эта неправдоподобно короткая мелодия возродилась спустя примерно 280 лет после ее создания. По всей стране новобрачные стали требовать от местных органистов, чтобы те привели на свадьбу друга-трубача, тогда-де «мы сможем повенчаться, как леди Ди». В этом же году мир получил новое произведение Карлхайнца Штокхаузена, композитора слишком безумного, плохого и опасного, чтобы его слушать. Называлось оно «Donnerstag aus Licht»[*] — это одна из образующих семидневный цикл опер, а на ее премьере в миланском «Ла Скала» можно было, среди прочего, увидеть снабженных громкоговорителями трубачей, которые играли на крышах домов, стоящих по другую от театра сторону площади. 1982-й, открываются два концертных зала, один в Торонто, Дания, другой в лондонском «Барбикане». В этом же году умирает Карл «Лей не жалей» Орф. А это действительно «Олд Спайс»? Да, он самый, «знак настоящего мужчины». О сила рекламы. 83-й, на сцену вызывается Рихард Вагнер. Нет-нет, он не восстал из мертвых. Просто наступила его столетняя годовщина, только и всего. Сто лет со дня смерти Коротышки Рихарда, как грустно… И НИКАКИХ еще лет со дня смерти Уильяма Уолтона, отошедшего в мир иной, пока команда «Монти Пайтон» размышляла о «Смысле жизни». Это также год, в котором мы получили CD. Да, 1983-й стал годом рождения компакт-дисков. И смерти великого искусства оформления пластинок. Идем дальше, в 87-й. Маргарет Тэтчер становится первым за 160 лет премьер-министром Британии, избранным на третий срок. Подтверждаются полученные в прошлом году сведения о распространении среди жвачных животных нового морового поветрия, «коровьей чумы». Кроме того, в 1987-м на сцену вызывается Вольфганг Амадей Моцарт. Нет-нет, он не восстал из мертвых. Просто в этом году была продана с аукциона нотная тетрадь, содержавшая записанные его рукой симфонии — с 22-й по 30-ю. Продана за пугающую сумму в четыре миллиона долларов. ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ! Когда он был еще жив и сидел по уши в долгах, ему с трудом удавалось выручить за свои рукописи несколько гульденов, и вот теперь они приносят 4 миллиона долларов! В 1987-м музыкальный мир лишился Жаклин Дю Пре, а в 1988-м на сцену был вызван Бетховен. Нет-нет, он не восстал из мертвых — пожалуй, мне пора остановиться, — просто в 1988-м Королевское филармоническое общество решает учинить премьеру сочинения, которое оно же и заказало старине Людвигу незадолго до его смерти, в 1827-м. До 1988-го существовало лишь несколько набросков. А в 1988-м человек по имени Барри Купер заполнил промежутки между ними и — вуаля! — мы получили новехонькую часть бетховенской симфонии. Не знаю, слышали вы ее, — сам я не вполне понимаю, как к ней относиться. Странно слышать нечто и незнакомое, и легко узнаваемое. По правде сказать, жутковато. 1988-й миновал. Уже 1989-й. Сэр Майкл Типпетт показывает в Хьюстоне, штат Техас, свою новую оперу, «Новый год»; в Восточной Европе более-менее разваливается коммунизм; а мы с вами лишаемся Владимира Горовица и Герберта фон Караяна. Годом позже Америка оплакивает двух из величайших своих композиторов двадцатого века — Леонарда Бернстайна и Аарона Копленда. Копленд, в частности, сделал больше любого другого композитора Америки для того, чтобы у нее появился собственный голос, и он же повлиял на множество других композиторов, пришедших следом за ним. Его наследие слышится в киномузыке еще и поныне — но об этом чуть позже. И даже просидев у телевизора не такое уж долгое время, вы непременно услышите музыку, которой без пионерских работ Копленда просто не существовало бы, — он и вправду начал на голом месте и выстроил всеамериканское звучание, которым ныне столь часто злоупотребляют. Я не могу смотреть сериал «Западное крыло» и не думать о двух вещах: одна — это гармонии в стиле Копленда и широта звучания главной темы, написанной, если мне оно не приснилось, человеком по имени Снаффи Уолден. А вторая, разумеется, — скажет ли Донна всю правду Джошу?
СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ: «КИНОМУЗЫКА — НЕ ЕСТЬ ЛИ ОНА НОВАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА?» ОБСУДИТЬ (НЕ БОЛЕЕ 500 СЛОВ)
Я хотел бы начать с быстрого обзора. Где она — МУЗЫКА.? И где публика? Не кризис ли перед нами? И… Я уже говорил сегодня, что люблю тебя? Ну-с, если желаете знать мое мнение, музыка…
 Рискуя показаться чрезмерно въедливым, я все же про двинусь на шаг дальше. Оглядитесь вокруг. Видите вон там, на горизонте, нечто едва различимое? Ну так вот, это публика, до нее отсюда топать и топать. Классическая музыка — более-менее, с несколькими примечательными исключениями — потеряла ее из виду, публику то есть.
Или не потеряла?
Что ж, с одной стороны, современная аудитория того, что мы привычно называем классической музыкой, мала, элитарна и состоит из знатоков и ценителей — самих композиторов, их пылких поклонников, университетских ученых, людей, которые коллекционируют номера локомотивов, и т. д. Я говорю о людях, слушающих то, что теоретики назвали бы «новой» классической музыкой. То есть о тех, кого можно встретить на премьере сочинения Луиджи Ноно, тех, кто покупает CD с записью новой редакции «Pli selon pli»[*] Пьера Булеза. То есть вещей, которым «серьезные» слушатели официально присвоили звание «сочиняемая ныне классическая музыка». И у меня такое ощущение, что композиторов, подобных Тавенеру[♫], они имеющими хоть какое-то отношение к классической музыке не считают, а считают пустозвонами.
Выглядит все так, будто классическая музыка напрочь забыла, что, ну, что когда-то она тоже была музыкой популярной. Конечно, перемены происходили всегда: появлялись пугающие — шокирующие даже — новые сочинения, от которых публика просто немела и проникалась желанием поскорее убраться домой. Вспомните Вагнера, Бетховена, Баха — все они приводили публику в ужас. Может быть, не так же часто, как в восторг, но приводили непременно. Композиторы же авангардной волны проделывают следующее: они говорят на языке, который не столько ужасает публику, сколько оставляет ее в неведении того обстоятельства, что перед ней — музыка и, стало быть, имеется причина ужасаться. Примерно так же человек может забрести в художественную галерею и нисколько не испугаться, увидев, скажем, груду кирпичей или вспыхивающие и гаснущие прожектора, — просто потому, что НЕ ОБРАТИТ НА НИХ ВНИМАНИЯ. Вот так и музыке в течение какого-то времени просто не удавалось привлечь внимание публики. Утратила ли она присущую ей некогда способность ужасать, или ужасать все еще может, как те мигающие прожектора, но этого никто даже не замечает, вопрос темный. Лично я думаю, что с определенностью можно сказать одно: двинувшись в избранном ею направлении, современная классическая музыка добилась результата двоякого. Во-первых, создала что-то вроде неизбежной отдачи, о которой мы еще поговорим, а во-вторых, и это, быть может, гораздо важнее, позволила немалому числу композиторов, работающих в особом, параллельном мире, обойти ее: тишком подкрасться и предъявить права на звание «великие композиторы нашего времени». Больше того, и еще важнее, тишком подкрасться и предъявить права на публику тоже.
Ну и кто же они — эти мужчины и женщины в масках?
Киношные композиторы. Вот кто.
Итак. Позвольте мне коротко перебрать людей, которым ныне принадлежит, как я полагаю, титул «Народные композиторы», — людей, пишущих музыку для кино.
1985-й, и человек, сочинивший тему, под которую оптический прицел следует за Джеймсом Бондом, создает фантастический саундтрек для фильма с Мерил Стрип и Робертом Редфордом «Из Африки». Имя? Берри. Джон Берри.
Затем в 1989-м… Эннио Морриконе добавляет к своему списку великих кинопартитур, уже содержавшему номинированную на «Оскар» «Миссию» и «Однажды в Америке», саундтрек этого года — «Новый кинотеатр „Парадизо“».
1990-й, снова Джон Берри. Год, в который миллионы людей смотрели по телевизору прямую трансляцию освобождения Нельсона Манделы из тюрьмы, услышал и новый классический шедевр Берри — упоительную «тему Джона Данбара» из «Танцев с волками».
Правильно, мы уже в 1992-м — на частотах 100–102 появляется канал классической музыки, взявший название «Классика FM». Надо сказать, это было своего рода потрясением. Человек из телепрограммы «Повод для смеха» предлагал вам ставить на «Боевого Бетховена», стартующего в 2.30 на ипподроме «Сандаун». И ничего, сработало. 1993-й, счет таков: Джон Уильямс — 2, Майкл Найман — 1.
Джон Уильямс — «Список Шиндлера». Нет слов. Вообще говоря, Джон Уильяме и не мог стать никем иным — только композитором, пишущим для кино, верно? Он обладает поразительным даром сочинять музыку, которая в совершенстве отвечает фильму. Его музыка всегда звучит как сам фильм. Это может показаться очевидным, но таким даром обладают далеко не все композиторы, у многих получается просто наложенный на фильм звук. Вот почему тема из «Списка Шиндлера» ЗВУЧИТ как черно-белая. Совершенное соответствие шедевру Спилберга и в то же время нечто вроде…
Джон Уильямс — «Парк юрского периода»… что ж, вы можете счесть то, что я сейчас скажу, слишком смелым, но, по-моему, в музыке фильма слышны динозавры. Она… огромная, высоченная, эпичная, с оттенком «Не суйся!». Если вы понимаете, о чем я!
Резкий контраст Джону Уильямсу составляет Майкл Найман и «Пианино». Среди кинокомпозиторов Майкл Найман — это своего рода Джек Николсон. Я говорю не о подловатой ухмылочке и общей жутковатостиоблика, я о том, что он неизменно играет себя самого. Музыка Майкла Наймана есть музыка Майкла Наймана есть музыка Майкла Наймана. Как выражаются в мире тройной бухгалтерии. Как выражаются в мире тройной бухгалтерии. Как выражаются в мире тройной бухгалтерии.
А теперь год очень милый. 1994-й. Открывается туннель под Ла-Маншем, Тони Блэра избирают в лидеры Лейбористской партии, а драматург/бывший рассерженный молодой человек Джон Осборн умирает в возрасте шестидесяти пяти лет — все это оказывается таким же сюрпризом, как присуждение «Оскара» композитору лучшего фильма года, «Il Postino»[*], или, как его теперь называют, «Il Consignio», Луису Бакалову.
1995-й. По-моему, интересный год. Ник Лисон в одиночку сокрушает «Барнингс-Банк», Нельсон Мандела становится президентом Южно-Африканской Республики, а Джон Мейджор добивается поддержки Консервативной партии в качестве ее лидера — «О да». Ну, не знаю, не скрывай он от нас своего романа с Эдвиной, глядишь, продержался бы еще дольше. Это также и год Патрика Дэйла с его выдвинутым на «Оскара» саундтреком к «Разуму и чувствам». Роскошная музыка. Кроме того, в 1995-м мы ощутили вкус того, что нам еще предстоит. Помню, эта штука продержалась в «классических чартах» едва ли не месяцы. О фильме все уже позабыли, а музыка к нему так в них и оставалась. Да, то было начало помешательства на волынках, порожденного… Джеймсом Хорнером — «Храброе сердце».
Через год после появления «Храброго сердца», как раз когда после нескольких лет проводившейся Сэмом Уонмейкером кампании открылся наконец-то театр «Глобус», Рэчел Портман получила «Оскара» за «Эмму», а Гэбриел Яред — за «Английского пациента», музыка к которому стала настоящим хитом, в особенности благодаря его положительно медвежьему названию: «Мишка Руперт». Ах, мишки! Разве можно их не любить? Такие милашки. Ну хорошо, 1997-й. Умирает принцесса Диана, Гонконг возвращается Китаю, а «Титаник» проделывает все, что угодно, только не тонет. Я всегда любил слушать, как композитор играет собственные вещи, будь то Максуэлл Дэвис, исполняющий «Прощание со Стромнессом» — купите, не пожалеете, — или даже Роберт Шуман, исполняющий «Грезы», — запись несколько более редкая, — в таких случаях музыка всегда обретает некое качество, заставляющее меня слушать ее словно бы в первый раз. Запись Джеймса Хорнера, играющего свою музыку к «Титанику», — из этого ряда.
Так вот, в этом, 1997-м, Стивен Уорбек вкусил некоторый успех благодаря написанной им музыке к «Миссис Браун», однако то, что он сделал в 1998-м, принесло ему симпатичную, сверкающую, золотую Премию киноакадемии. Она к тому же и очень красивая. Отличный фильм. Отличная музыка. «Влюбленный Шекспир». Великолепно.
Ну-с, перескакиваем в 2000-й. Новое тысячелетие. У нас имеется сага Клинтон-Левински, Элгар таки попал на 20-фунтовую банкноту — тоже неплохо, — а все мы вступили в век «евро». Добавим ко всему этому культовый хит Тан Дуна из «Крадущегося тигра, затаившегося дракона». Прекрасная, хоть и несколько привязчивая музыка.
Ну хорошо, 2001-й, ящур, 9/11. Год испытаний. Болезни и ужасы — даже до этого дошло. Фильмами года, если говорить о музыке, стали, возможно…
Стивен Уорбек — «Мандолина капитана Корелли».
Хауард Шор — «Властелин колец: Братство кольца».
Джон Уильямс — «Гарри Поттер».
Три эти фильма дали новые свидетельства продолжающегося возвышения киномузыки. Если говорить об «Оскарах», Джон Уильямс оказался вторым из получивших наибольшее число номинаций и «Оскаров» композиторов: тридцать семь номинаций, пять премий, первым же стал недавно Хауард Шор. Шор победил и с «Властелином колец: Братство кольца», и с «Властелином колец: Возвращение короля», завоевав «Оскаров» на 74-й и 76-й годовщинах вручения этих премий.
Рискуя показаться чрезмерно въедливым, я все же про двинусь на шаг дальше. Оглядитесь вокруг. Видите вон там, на горизонте, нечто едва различимое? Ну так вот, это публика, до нее отсюда топать и топать. Классическая музыка — более-менее, с несколькими примечательными исключениями — потеряла ее из виду, публику то есть.
Или не потеряла?
Что ж, с одной стороны, современная аудитория того, что мы привычно называем классической музыкой, мала, элитарна и состоит из знатоков и ценителей — самих композиторов, их пылких поклонников, университетских ученых, людей, которые коллекционируют номера локомотивов, и т. д. Я говорю о людях, слушающих то, что теоретики назвали бы «новой» классической музыкой. То есть о тех, кого можно встретить на премьере сочинения Луиджи Ноно, тех, кто покупает CD с записью новой редакции «Pli selon pli»[*] Пьера Булеза. То есть вещей, которым «серьезные» слушатели официально присвоили звание «сочиняемая ныне классическая музыка». И у меня такое ощущение, что композиторов, подобных Тавенеру[♫], они имеющими хоть какое-то отношение к классической музыке не считают, а считают пустозвонами.
Выглядит все так, будто классическая музыка напрочь забыла, что, ну, что когда-то она тоже была музыкой популярной. Конечно, перемены происходили всегда: появлялись пугающие — шокирующие даже — новые сочинения, от которых публика просто немела и проникалась желанием поскорее убраться домой. Вспомните Вагнера, Бетховена, Баха — все они приводили публику в ужас. Может быть, не так же часто, как в восторг, но приводили непременно. Композиторы же авангардной волны проделывают следующее: они говорят на языке, который не столько ужасает публику, сколько оставляет ее в неведении того обстоятельства, что перед ней — музыка и, стало быть, имеется причина ужасаться. Примерно так же человек может забрести в художественную галерею и нисколько не испугаться, увидев, скажем, груду кирпичей или вспыхивающие и гаснущие прожектора, — просто потому, что НЕ ОБРАТИТ НА НИХ ВНИМАНИЯ. Вот так и музыке в течение какого-то времени просто не удавалось привлечь внимание публики. Утратила ли она присущую ей некогда способность ужасать, или ужасать все еще может, как те мигающие прожектора, но этого никто даже не замечает, вопрос темный. Лично я думаю, что с определенностью можно сказать одно: двинувшись в избранном ею направлении, современная классическая музыка добилась результата двоякого. Во-первых, создала что-то вроде неизбежной отдачи, о которой мы еще поговорим, а во-вторых, и это, быть может, гораздо важнее, позволила немалому числу композиторов, работающих в особом, параллельном мире, обойти ее: тишком подкрасться и предъявить права на звание «великие композиторы нашего времени». Больше того, и еще важнее, тишком подкрасться и предъявить права на публику тоже.
Ну и кто же они — эти мужчины и женщины в масках?
Киношные композиторы. Вот кто.
Итак. Позвольте мне коротко перебрать людей, которым ныне принадлежит, как я полагаю, титул «Народные композиторы», — людей, пишущих музыку для кино.
1985-й, и человек, сочинивший тему, под которую оптический прицел следует за Джеймсом Бондом, создает фантастический саундтрек для фильма с Мерил Стрип и Робертом Редфордом «Из Африки». Имя? Берри. Джон Берри.
Затем в 1989-м… Эннио Морриконе добавляет к своему списку великих кинопартитур, уже содержавшему номинированную на «Оскар» «Миссию» и «Однажды в Америке», саундтрек этого года — «Новый кинотеатр „Парадизо“».
1990-й, снова Джон Берри. Год, в который миллионы людей смотрели по телевизору прямую трансляцию освобождения Нельсона Манделы из тюрьмы, услышал и новый классический шедевр Берри — упоительную «тему Джона Данбара» из «Танцев с волками».
Правильно, мы уже в 1992-м — на частотах 100–102 появляется канал классической музыки, взявший название «Классика FM». Надо сказать, это было своего рода потрясением. Человек из телепрограммы «Повод для смеха» предлагал вам ставить на «Боевого Бетховена», стартующего в 2.30 на ипподроме «Сандаун». И ничего, сработало. 1993-й, счет таков: Джон Уильямс — 2, Майкл Найман — 1.
Джон Уильямс — «Список Шиндлера». Нет слов. Вообще говоря, Джон Уильяме и не мог стать никем иным — только композитором, пишущим для кино, верно? Он обладает поразительным даром сочинять музыку, которая в совершенстве отвечает фильму. Его музыка всегда звучит как сам фильм. Это может показаться очевидным, но таким даром обладают далеко не все композиторы, у многих получается просто наложенный на фильм звук. Вот почему тема из «Списка Шиндлера» ЗВУЧИТ как черно-белая. Совершенное соответствие шедевру Спилберга и в то же время нечто вроде…
Джон Уильямс — «Парк юрского периода»… что ж, вы можете счесть то, что я сейчас скажу, слишком смелым, но, по-моему, в музыке фильма слышны динозавры. Она… огромная, высоченная, эпичная, с оттенком «Не суйся!». Если вы понимаете, о чем я!
Резкий контраст Джону Уильямсу составляет Майкл Найман и «Пианино». Среди кинокомпозиторов Майкл Найман — это своего рода Джек Николсон. Я говорю не о подловатой ухмылочке и общей жутковатостиоблика, я о том, что он неизменно играет себя самого. Музыка Майкла Наймана есть музыка Майкла Наймана есть музыка Майкла Наймана. Как выражаются в мире тройной бухгалтерии. Как выражаются в мире тройной бухгалтерии. Как выражаются в мире тройной бухгалтерии.
А теперь год очень милый. 1994-й. Открывается туннель под Ла-Маншем, Тони Блэра избирают в лидеры Лейбористской партии, а драматург/бывший рассерженный молодой человек Джон Осборн умирает в возрасте шестидесяти пяти лет — все это оказывается таким же сюрпризом, как присуждение «Оскара» композитору лучшего фильма года, «Il Postino»[*], или, как его теперь называют, «Il Consignio», Луису Бакалову.
1995-й. По-моему, интересный год. Ник Лисон в одиночку сокрушает «Барнингс-Банк», Нельсон Мандела становится президентом Южно-Африканской Республики, а Джон Мейджор добивается поддержки Консервативной партии в качестве ее лидера — «О да». Ну, не знаю, не скрывай он от нас своего романа с Эдвиной, глядишь, продержался бы еще дольше. Это также и год Патрика Дэйла с его выдвинутым на «Оскара» саундтреком к «Разуму и чувствам». Роскошная музыка. Кроме того, в 1995-м мы ощутили вкус того, что нам еще предстоит. Помню, эта штука продержалась в «классических чартах» едва ли не месяцы. О фильме все уже позабыли, а музыка к нему так в них и оставалась. Да, то было начало помешательства на волынках, порожденного… Джеймсом Хорнером — «Храброе сердце».
Через год после появления «Храброго сердца», как раз когда после нескольких лет проводившейся Сэмом Уонмейкером кампании открылся наконец-то театр «Глобус», Рэчел Портман получила «Оскара» за «Эмму», а Гэбриел Яред — за «Английского пациента», музыка к которому стала настоящим хитом, в особенности благодаря его положительно медвежьему названию: «Мишка Руперт». Ах, мишки! Разве можно их не любить? Такие милашки. Ну хорошо, 1997-й. Умирает принцесса Диана, Гонконг возвращается Китаю, а «Титаник» проделывает все, что угодно, только не тонет. Я всегда любил слушать, как композитор играет собственные вещи, будь то Максуэлл Дэвис, исполняющий «Прощание со Стромнессом» — купите, не пожалеете, — или даже Роберт Шуман, исполняющий «Грезы», — запись несколько более редкая, — в таких случаях музыка всегда обретает некое качество, заставляющее меня слушать ее словно бы в первый раз. Запись Джеймса Хорнера, играющего свою музыку к «Титанику», — из этого ряда.
Так вот, в этом, 1997-м, Стивен Уорбек вкусил некоторый успех благодаря написанной им музыке к «Миссис Браун», однако то, что он сделал в 1998-м, принесло ему симпатичную, сверкающую, золотую Премию киноакадемии. Она к тому же и очень красивая. Отличный фильм. Отличная музыка. «Влюбленный Шекспир». Великолепно.
Ну-с, перескакиваем в 2000-й. Новое тысячелетие. У нас имеется сага Клинтон-Левински, Элгар таки попал на 20-фунтовую банкноту — тоже неплохо, — а все мы вступили в век «евро». Добавим ко всему этому культовый хит Тан Дуна из «Крадущегося тигра, затаившегося дракона». Прекрасная, хоть и несколько привязчивая музыка.
Ну хорошо, 2001-й, ящур, 9/11. Год испытаний. Болезни и ужасы — даже до этого дошло. Фильмами года, если говорить о музыке, стали, возможно…
Стивен Уорбек — «Мандолина капитана Корелли».
Хауард Шор — «Властелин колец: Братство кольца».
Джон Уильямс — «Гарри Поттер».
Три эти фильма дали новые свидетельства продолжающегося возвышения киномузыки. Если говорить об «Оскарах», Джон Уильямс оказался вторым из получивших наибольшее число номинаций и «Оскаров» композиторов: тридцать семь номинаций, пять премий, первым же стал недавно Хауард Шор. Шор победил и с «Властелином колец: Братство кольца», и с «Властелином колец: Возвращение короля», завоевав «Оскаров» на 74-й и 76-й годовщинах вручения этих премий.

ВСЕ СТИЛИ ХОРОШИ, КРОМЕ…
Да, так вот она какая. Киномузыка девяностых и нулевых, пусть и не вся. Не она ли и есть — новая классическая музыка? Очень может быть. Однако, как я уже говорил чуть раньше, возникла и неизбежная отдача на трах-бах-шарах авангардистской музыки — принадлежащие к категории «да какого же..!» творения архимодернистов. А они, в свой черед, породили новое, отличное от прочих, более удобопонимаемое племя композиторов. Есть среди них новые, есть старые, но каждый выглядит на особицу. Композиторы кино? С ними мы уже разобрались. Позвольте мне, если вы не против, быстренько смотаться назад, в 1992-й. В классическую музыку эпохи, да простят мне столь смелое обозначение, наступившей «вслед за явлением „Классики FM“». Куда она движется? О чем она? И так далее и тому подобное. Что ж, попробуем разгадать эту загадку. Покрепче сожмите в руке ваш лук с натянутой на нее струной «соль» — мы отправляемся в путь. 1992-й был годом создания «Классики FM», а спустя совсем недолгое время на свет появился и явственный «хит „Классики FM“». И боже ты мой, какой он был странный. Произошло это в 1993 году. Штеффи Граф побила Яну Новотную и получила третий подряд Уимблдонский титул; Родди Дойл получил Букеровскую премию за «Падди Кларк, ха-ха-ха!». А Гэвин Брайар записал на лондонской улице пение какого-то нищего — короткий куплетец, славящий Господа, — не вполне понимая, зачем ему это понадобилось. Он вернулся в свою студию — видите, это уже ничуть не похоже на композиторов прежних времен — и принялся повторять запись и повторять, повышая уровень громкости и заставляя сопровождение струнных звучать все напряженнее. Результат получился до странного трогательный, у многих вызывающий слезы. И эта музыка опять-таки неделю за неделей оставалась в списках самых популярных вещей, снова и снова звуча по радио. Увы, исполнитель ее ныне мертв, но каждый раз, как мы проигрываем его запись, нам начинают звонить и спрашивать, кто это поет. Название музыка носит странное: «Кровь Христова меня еще не подводила», и, по-моему, она ничем не уступает моцартовской «Ave Verum». В том же 1993-м мы получили и еще один «крученый мяч». Как я уже говорил, не так чтобы очень известный польский композитор Гурецкий написал эту вещь в 1976-м, как раз когда «Кто-то пролетел над гнездом кукушки», и сорвал банк, получив целых пять «Оскаров». Затем Гурецкий сунул партитуру в нижний ящик комода, стоявшего в его доме неподалеку от Освенцима, и, вообще-то говоря, думать о ней забыл. Однако в 1993-м сопрано Доун Апшоу и оркестр «Лондон-симфониетта» сделали новую ее запись. И на сей раз история получилась совсем другая. Меланхолические стенания этой «Симфонии печальных песен», казалось, задели в людях какую-то чувствительную струну, запись разошлась миллионным тиражом и стала одной из музыкальных легенд 90-х годов. Дела классической музыки начали принимать приятный оборот, между тем наступил 1994-й: год чемпионата мира по футболу. И множеству людей не давал покоя не только вопрос «Победит ли опять Германия?», но и «Как нам быть с музыкальной эмблемой?». За четыре года до этого футбольные власти предержащие нашли решение почти гениальное: оседлать, так сказать, волну и взнуздать прилив популярности классической музыки. И обратились в поисках музыкальной эмблемы чемпионата мира 1990 года к Джакомо Пуччини и Лучано Паваротти сразу. «Nessun dorma»[*] могла звучать для многих что твоя японская музыка, однако в 1990-м она вывела Пуччини на футбольные поля. Думаю, Джакомо, народному композитору Италии, это понравилось бы. На «Nessun dorma» оперный театр спотыкался всегда, потому что хитрый черт Пуччини не довел ее до конца — просто торопливо поскакал дальше. В результате, если вам это неведомо и потому вы безотчетно вскакиваете посреди зала, восклицая: «О, вот так да, здорово, браво, а что?» — знайте, выглядеть вы будете как корова не в своем седле. То есть если вас вообще расслышат сквозь трели мобильных телефонов, которые в наши дни звучат, похоже, повсюду. В 1994-м чемпионат мира проводился в Америке, и в его музыкальные эмблемы взяли мелодию из «Вестсайдской истории» Бернстайна, однако до успеха своей итальянской родственницы ей было далеко. А теперь вперед. Еще одна интересная штука появилась пару лет спустя, оставив весьма глубокий, так сказать, отпечаток в песке. Стоял 1996-й. Позвольте напомнить вам, что это было такое: болезнь Крейтцфельдта-Якоба, макабрическим образом связанная с так называемым «коровьим бешенством», унесла жизни десяти человек; «Биг-Мак» начал продаваться за 2,70 фунта, и Англия проиграла Германии по пенальти. Впрочем, последнее вряд ли можно считать точной привязкой к времени. Но перейдем к Карлу Дженкинсу — это такие валлийские, ненатуральной величины ходячие усы, обладающие музыкальностью, за которую и жизнь отдать не жалко, и, что, быть может, существеннее, состоявшие некогда в электронной рок-группе «Софт машин». В ту пору он зарабатывал на жизнь, и неплохо, сочиняя музыку для рекламы. А в 1996-м напал на золотую жилу — музыка, написанная им для Строительного общества Челтнема и Глостера, приобрела ошеломляющую популярность. Со временем она, прилипчивая, как грипп, вышла на компакт-диске под названием «Adiemus»[*] и оставалась в списке хитов номером один дольше всего, что я в состоянии припомнить. Впрочем, то, что намеревался предложить нам 1997-й, отстоит от этой музыки на миллион миль. Если вы ищете нечто вроде «Ну, это НЕ то, что я называю звучащим НА ПОЛНУЮ ГРОМКОСТЬ 1997-м!», я, пожалуй, знаю, что вам предложить. Так сказать. Да, это действительно явное не то. Я про музыку 1997-го. Она представляет собой итог труда двух людей: первым был сэр Эдуард Элгар — английские, ненатуральной величины ходячие усы, за которые любой музыковед с радостью отдал бы жизнь, — а вторым — композитор и вообще ушлый малый Энтони Пейн. В 1997 году мистер Пейн обнародовал законченную Третью симфонию Элгара. Законченную, то есть, мистером Пейном с разрешения наследников Элгара. И стало быть, Эдди «Эдельвейс» Элгар вернулся, через шестьдесят три примерно года после своей кончины, в хит-парады. Очень похоже на Элвиса с его «Чуть меньше разговоров». Только без подергивающихся бедер. У этого самого 1997-го имелась в рукаве и еще пара тузов. Мало того, что Дж. К. Ролинг произвела на свет первого своего Гарри Поттера, один композитор, бывший левша-артропод и вообще милейший человек, сэр Пол Маккартни, продемонстрировал последнее и до сей поры непревзойденное из своих построенных на классике сочинений, «Нерушимый камень». Замечательная вещь. Не обошлось и без горьких минут. Печальнейший из хитов 1997-го вышел из-под пера Джона Тавенера. 5 сентября, на похоронах Дианы, принцессы Уэльской, Линн Даусон пела фрагменты «Реквиема» Верди, а Элтон Джон — свою переработанную «Свечу на ветру». Однако самым востребованным в стране «классическим» сочинением стала в скором времени эзотерическая кантата возвышенного минималиста Джона Тавенера. Его «Песнь Афине». В каком-то смысле популярной она оказалась по причине далеко не самой лучшей, и все-таки это простая и прекрасная музыка. И во многих отношениях очень типичная для пути, который современные композиторы часто избирают, чтобы уйти от шоковых эффектов авангарда и вернуться к своего рода «неоромантизму». Виноват, куда ни сунься, везде ярлыки, но ведь действительно же существуют вещи, которые очень трудно выразить словами. Как «неоклассиков» никто и никогда с чистыми «классиками» не спутает, так и этих «новых романтиков», при всей их красе и мелодичности, за оригинальных романтиков даже ошибкой принять невозможно. 1998-й — он снова с нами. Джеймс Хорнер то есть. Как мы уже знаем из посвященного кино раздела, он в очередной раз вытащил счастливый билет, именуемый на сей раз саундтреком к «Титанику». Я снова упоминаю эту музыку потому, что она провела в числе «классических хитов» невероятно долгое время — миллиарды лет, не меньше. В этом же году умер, дожив до девяносто трех, великий старец серьезной английской музыки, Майкл Типпетт. Пять опер, четыре симфонии, пять струнных квартетов, четыре фортепианные сонаты и многое, многое другое. Я уж не говорю о Дане Интернешнл, победившей в 1998 году на конкурсе «Евровидение» с песней «Дива». Этот год ознаменован также появлением нового таланта, Людовико Ейнауди, с его особой разновидностью наивного минимализма, породившей немало последователей и принесшей ему немало золотых дисков. Однако большой классической сенсацией 1998-го стало вдохновенное соединение средневековой хоровой музыки с современным джазовым саксофоном. Ну кто бы до такого додумался? Внушение свыше! Уверяю вас! «Хиллиард-ансамбль» пел средневековые хоры, а Ян Гарбарек играл на саксе. И получилась музыка, «Officium», просто-напросто возвышенная. Совершенно прекрасная. Нет, это же надо — средневековые хоралы и современный джаз. Кому бы могло в голову прийти, что это сработает? И то сказать, первая затея той же компании, соединение ранних цитр и крумгорнов с индийской рагой, особого успеха не имела. Так, что у нас дальше? Ах да, «прощание», которое, впрочем, ничего общего с Гайдном не имеет. Вот еще одна музыка, обретшая известность исключительно благодаря усилиям совершенно определенных людей. «Прощание с Ашоканом», написанное Джеем Унгаром в честь американского городка Ашокан, стало популярным лишь в новом тысячелетии — в 2000 году (год «Купола», «Лондонского глаза» и Венус Вильямс, побившей Линдсей Дэвенпорт на одиночных женских соревнованиях в Уимблдоне). Замысловатая маленькая вещь, которую мог никто и не заметить, если бы не потрясающая аранжировка Капитана Джона Перкинса. Впрочем, самым популярным композитором года стал Ганс Циммер, написавший музыку к «Гладиатору». Человек, уже хорошо известный благодаря теме телесериала «В поисках золота», создал партитуру, в которой, кажется, нет ни единого недостатка — каждая ее нота отвечает фильму в совершенстве. Ну а последние несколько лет? Что ж, в них преобладают скорее исполнители, чем композиторы. Шарлотта Черч, Лесли Гарретт, расходящийся миллионными тиражами Рассел Уотсон. Впрочем, классическая музыка по-прежнему жива-здорова, Гласс, Тавенер, Райх — все они продолжают сочинять. Да и так называемую «добрую старую классическую музыку» принялись в последнее время воскрешать реклама и спортивные события — в нынешнем году мы видели, как «Сарабанда» Генделя помогала рекламировать джинсы, а «В ясный день» Пуччини — чемпионат мира по футболу. И почему же нет? Вреда от этого никакого. Просто большее число людей временами слышит хорошую музыку, верно? Ну и телереклама тоже протягивает руку помощи. Вот совсем недавно, позавчера, что ли, Джону Тавенеру позвонили из одной телефонной компании и поинтересовались, нельзя ли попользоваться принадлежащей ему кантатой «Агнец» для увеличения продаж ее продукции. Тот же Джон Льюис прибегнул к услугам Людовико Ейнауди, чтобы увеличить продажу своей продукции, а Милен Класс и «Амики Форевер» не оставляют попыток пробить стену, стоящую там, где кончается классическая музыка и начинается совершенно другая. Имеется также итальянский тенор Андреа Бочелли, способный продать что угодно и где угодно, доказывая, что, если правильно взяться за дело, аудитория у классической музыки найдется, да еще и огромная. И разумеется, с нами по-прежнему Джон Уильямс с его саундтреком к фильму о проблемах детского алкоголизма — «Шерри Портер, 3-я порция», — сумевшему возвести настоящую, живую, дышащую классическую музыку в верхние строчки хит-парадов музыки популярной. Боже, храни ДжУ!
Последние комментарии
4 часов 55 минут назад
4 часов 56 минут назад
4 часов 57 минут назад
6 часов 5 минут назад
6 часов 13 минут назад
8 часов 7 минут назад