
ИСКАТЕЛЬ № 6 1976

Виктор ВУЧЕТИЧ НОЧЬ КОМИССАРА
Рисунки И. СМИРНОВА

1
Поезд пришел в Козлов после полуночи. Разбудил Сибирцева щеголеватый адъютант в черной коже, перетянутый скрипучими желтыми ремнями. У него было пухлое, розовощекое, совсем юношеское лицо с кокетливыми усиками и вид отлично выспавшегося человека. Если бы Сибирцев не знал его, то решил бы, что перед ним самый обыкновенный штабной адъютантишка времен недавней империалистической, никогда не нюхавший пороха, но явно бравирующий своей завидной выправкой. Но в том-то и дело, что Сибирцев хорошо знал Михеева. Даже слишком хорошо. Знал по Харбину, по станции Маньчжурия, где нынче окопался «истинный сын трудового крестьянства» есаул Семенов, возведенный Колчаком в чин генерал-лейтенанта. Сказал тогда Михеев, что вот, мол, спит и видит себя новоиспеченный генерал в Москве белокаменной под перезвон всех сорока сороков. Спит и видит. А они с Сибирцевым именно поэтому и не могут спать, не пришла еще пора их спокойных ночей. Да, обманчива бывает внешность. Сибирцев с завистью смотрел в чистые, улыбающиеся глаза и не замечал в них ни капельки сна или усталости. Таков уж он, Михеев. — Вставай, вставай, — тормошил Михеев, — царствие небесное проспишь, господин прапорщик. — Сам ты прапорщик, — лениво огрызнулся Сибирцев и сладко, с наслаждением потянулся на свежих жестковатых простынях, радуясь последним остаткам сна и словно догадываясь, что подобное счастье может не повториться. Не будет больше ни литерного вагона, ни свежих простыней, ни упоительного наслаждения быть самим собой. — А что в этом позорного? — широко улыбнулся Михеев. — Я, ваше благородие, горжусь тем, что в рядах доблестных российских войск имел чин прапора. Уж чего-чего, а первая-то пуля всегда твоя. Разве не так? — Да, храбрости вам не занимать. Умишка бы… — Сибирцев рывком поднялся, едва не стукнувшись теменем в верхнюю полку. — Ну, насчет умишка, товарищ бывший эсер, — капризно надул губы Михеев, — тут вы, конечно, правы. Уж вы-то во-время оценили ситуацию. Хотя, кто знает, были бы у верховного наверняка в чине полковника. Генерала — нет, не потянете. Там, знаете ли, порода нужна. Или уж как наш с вами есаул: «Без доклада не входить, а то выпорю». Во! А у вас какая порода? Лапоть вы сибирский. — Ладно, лапоть так лапоть, — усмехнулся Сибирцев. — Где мы, в Козлове? — Да, — сразу становясь серьезным, сказал Михеев. — Давай-ка, Мишель, одевайся побыстрей, Мартин Янович ждет. Он присел на соседнюю полку и, вынув из внутреннего кармана кожанки металлическую пилку, стал тщательно подтачивать ногти. — Значит, расстаемся, ваше благородие, — задумчиво сказал он. — Хоть вспоминать-то будете?… Хотя зачем? Воспоминания только отягощают нашу и без того суматошную жизнь. Думать мешают. А мы с вами старые боевые кони. И скакать еще, и скакать… «Почему расстаемся? — вдруг дошло до сознания Сибирцева. — Видно, Михеев что-то знает. Но не говорит. Значит, не может…» — Что это тебя на сантименты потянуло? — чуть дрогнувшим голосом спросил Сибирцев, обеспокоенно думая, какие новые загадки подкинула ему нынче судьба. — Так ведь… вот живешь, живешь и… расстаешься. И будет ли новая встреча, кто знает… А хорошо мы поработали. Без похвальбы, хорошо… Он замолчал, исподлобья поглядывая, как Сибирцев одевается, закручивает портянки. — Сапоги-то худые… — вдруг пробормотал Михеев. — А еще топать и топать… Знаешь что, Мишель, — решительно сказал он, — возьми-ка мои. Размер у нас, помнится, одинаковый. — И он тут же стал стягивать свой надраенный до блеска сапог. — Ты что, спятил? — Сибирцев недоуменно поглядел на Михеева. — Не валяй дурака. — Делай что говорю, — словно обозлился Михеев. — Я ему, может, жизнью обязан, а он про какие-то вшивые сапоги. Надевай! Давай сюда свои, до Москвы не развалятся, а там уж как-нибудь обойдусь. У контры реквизирую. Это ты у нас человек высоких принципов, а мне что? Или, на худой конец, жена какого-нибудь богатого контрика подарит. За ласку. Они за ласку что хочешь… А ты — сапоги. Да шучу, — так же серьезно, без улыбки добавил он. — Не делай страшные глаза. Это ты для своих бандитов прибереги. Неужели ты полагаешь, что в Москве для меня пары сапог не найдется? На той же Сухаревке. Или Хитровке. Сапоги Михеева удобно и плотно сидели на ноге. Сибирцев встал, с удовольствием притопнул каблуками по полу, затянул на поясе ремень и с неловкой признательностью взглянул на Михеева, на свои старые, разбитые сапоги, так не вязавшиеся с лощеной внешностью друга. — Вот, значит, как, — смущенно сказал он. — За сапоги, брат, спасибо. В самый, что называется, раз сапоги. — Ладно, — отмахнулся Михеев, — Ступай давай. Я тебя потом провожу. Потирая виски, Сибирцев вышел в коридор и прошел в середину вагона, в просторный салон особоуполномоченного Чека. Он даже зажмурился от яркого света, заливавшего плотно зашторенное помещение. Вытянулся у дверей по стойке «смирно» и хотел было доложить о приходе, но Мартин Янович, бородатый великан, стремительно поднялся из-за стола, заваленного письмами и какими-то документами, поверх которых, свисая на пол, лежала большая карта. Сибирцев сам был росту немалого, но перед Мартином Яновичем всякий раз чувствовал себя подростком. — Явился, богатырь? — без тени иронии, четко выговаривая слова, сказал особоуполномоченный. — Проходи, пожалуйста. Садись вот здесь. — Он показал на широкое мягкое кресло, не совсем вязавшееся со строгой рабочей обстановкой кабинета. — Давай будем говорить. Он снова сел за стол, положил длинные руки с широкими кистями на карту, внимательно и остро взглянул на Сибирцева. — Наш план, — начал он после недолгой паузы, — несколько будет изменяться. Временно. Его жесткое, словно вырубленное из камня лицо, глубокие глаза источали силу и власть. Сибирцев с сожалением подумал, что уж его-то собственная физиономия наверняка такого впечатления не производит, особенно теперь, после сна. Да еще это кресло — мягкое, расслабляющее. Он попробовал выпрямиться, но кресло словно не отпускало. Так и хотелось закинуть ногу на ногу. — Здесь, — продолжал, по-прежнему глядя в упор, Мартин Янович, — я уже имел беседу с председателем Губчека. Он, конечно, жаловался, что положение тяжелое. Коммунистов мало. Просил помощи. «Вот оно что!» — сообразил Сибирцев. От Мартина Яновича не укрылась догадка Сибирцева. — Ты, Михаил Александрович, следует полагать, уже понял, о чем будет разговор. Правильно. Мы должны помочь губернии. — Он встал, прошелся по ковру, устилавшему пол салона, остановился рядом с Сибирцевым. Тот приподнялся. — Сиди, — приказал Мартин Янович. — Положение таково. — Он снова стал медленно прохаживаться по салону, явно тесному для него. Поскрипывали сапоги, поскрипывали ремни портупеи, четко и тяжело, с металлической резкостью падали слова особоуполномоченного… В глубоких снегах, морозах и метелях ушел двадцатый год. Ушел страшный двадцатый с его небывалой засухой, предвестницей еще большей беды. Смерть, разорение, озлобленные орды мятущихся, измученных людей, штурмующих проходящие поезда, — хлеба, дайте хлеба… А хлеб был. Только брать его приходилось с бою, с выстрелами и кровью, с ночными пожарами вполнеба, ценой гибели многих товарищей-продотрядовцев. В каком кошмарном сне, в какой изощренной дьявольской фантазии родились те муки, которые суждено было принять людям, спасающим страну от голодной смерти… Сибирцев знал о великой беде. Знал потому, что сам в течение последнего года отправлял из Иркутска эшелоны с зерном и мороженым мясом, рыбой и одеждой. — Добавь к этому, — говорил Мартин Янович, — что сознательный пролетариат составляет в губерниях явное меньшинство. Разорение коснулось не его, а в первую очередь крестьянской собственности. Добавь сюда повстанческий элемент, который появился в результате демобилизации армии. Наши враги не ждут, когда мы выправим положение, потому что голод для них — средство политической борьбы. У них есть оружие. Много оружия. Еще вчера у них был Кронштадт. — Был! — вырвалось у Сибирцева. — Да, был, — в глазах Мартина Яновича мелькнуло торжество. — Мятеж подавлен. Но… — взгляд его посуровел, и он сказал после короткой паузы: — Это стоило большой крови. Кто может оценить стоимость крови?… Сибирцев перевел дыхание. Ему стали окончательно ясны причины резкой смены маршрута. Значит, теперь Тамбов… Что он знает о Тамбове? Богатые, жирные земли. Богатые поместья… Яша Сивачев был родом отсюда, из Моршанского уезда… Погруженный в свои мысли, он не сразу понял, о чем говорит Мартин Янович. Только слова «Феликс Эдмундович» заставили его сосредоточиться и виновато взглянуть на особоуполномоченного. — …Уже указывал на несостоятельность принципа окружения бандитов небольшими силами. — Мартин Янович медленно вышагивал по ковру и словно забивал гвозди короткими ударами кулака. — Необходимо изменить как организацию, так и тактику борьбы с бандитизмом. На этот счет есть прямое указание Орловскому военному округу. Не разрозненные действия отдельных отрядов, а сильные маневренные группы, которые должны постоянно преследовать бандитов до полного их уничтожения. Только что мы ликвидировали кулацкое восстание Колесникова в Воронежской губернии, но остатки его шайки бежали сюда, к Антонову. Уничтожили банду Вакулина на Дону, но и его недобитые бандиты пришли к Антонову. К нему стягиваются кулаки, эсеры, дезертиры, сгоняется силой крестьянская масса. Идейное руководство восстанием осуществляет так называемый «Союз трудового крестьянства». Можно себе представить, какое это трудовое крестьянство. Но за всем чувствуется рука небезызвестного Виктора Чернова. Тебе что говорит это имя? — Еще бы! Бессменный член ЦК партии эсеров. — Вот так. В настоящее время, по нашим сведениям, антоновская армия насчитывает около пятидесяти тысяч сабель и штыков, имеет свои полки, свою контрразведку, агентуру. Что же получается? По вине нерадивых губисполкомщиков и чекистов Феликс Эдмундович еще в прошлом октябре, то есть полгода назад, получил ложные сведения и докладывал о разгроме кулацко-эсеровского мятежа в Тамбовской губернии, а Антонов в это время, отсиживаясь в лесах, укрепил свои банды и теперь разоружает наши мелкие воинские части, милицию, перерезает железные дороги, забирает зерно и скот, зверски убивает коммунистов и советских работников. Положение нетерпимое. Мне не надо объяснять тебе, Михаил Александрович, какое нетерпимое положение. У тебя есть опыт, партия знает тебя и верит. Мандат, все главные сведения и инструкции — в этом пакете, — Мартин Янович достал из-под карты на столе объемистый пакет и протянул его Сибирцеву. — Иди к себе, ознакомься. Вопросы потом. Времени есть один час…2
Ушел поезд перед рассветом. Ушел, унося с собой тепло и уют литерного вагона, тайну каких-то несбывшихся надежд. Растаял в предутренней дымке фонарь на площадке последней теплушки, развеялась паровозная гарь. Некоторое время еще казалось Сибирцеву, что он различает высокую стройную фигуру Михеева, стоящего на подножке литерного вагона, а потом и это видение пропало. Сама по себе рассеялась толпа, осаждавшая поезд, ушла охрана. Стало тихо. Насыщенный влагой воздух мелкими капельками оседал на меховых отворотах полушубка, дразнил обоняние резким запахом отсыревшей кожи. Сибирцев огляделся. Прямо перед ним возвышалась темная масса вокзала. В редких не заколоченных окнах его дрожали слабые отсветы, вероятно, от керосиновых ламп. Близко от Сибирцева хлопнула дверь, и в светлом проеме на миг обозначился силуэт мужчины с каким-то странным сооружением на голове. Сибирцев вскинул на плечо свой тощий вещевой мешок с несколькими банками тушенки да кульком сахара и пошел к той двери. Взбудораженная отходом поезда людская масса снова обреченно устраивалась на каменном полу зала для пассажиров, на редких скамьях, подоконниках. Едко дымили самокрутки, слышался возбужденный, постепенно стихающий гомон. На вошедшего Сибирцева никто не обратил внимания. Был он еще одним не уехавшим неизвестно куда и вынужденным теперь ждать неизвестно какого счастливого случая. Так, скользнуло по нему несколько взглядов, ну разве что привлекли внимание его добротный черный полушубок и начищенные, справные сапоги. Но и эти взгляды равнодушно погасли. Перешагивая через лежащих на полу людей, Сибирцев добрался до окошка кассы и негромко спросил сонного, небритого кассира в дореволюционной форменной фуражке, как пройти в транспортную Чека. Тот, позевывая, объяснил, что надо в соседнюю дверь с перрона. Почувствовав на себе чей-то внимательный взгляд, Сибирцев скосил глаза, медленно повернулся и увидел мужика, укутанного в непомерно великую ему солдатскую шинель. Он сидел неподалеку на подоконнике и, слюнявя клок газеты, скручивал цигарку. Заметив движение Сибирцева, поспешно отвернулся. На голове мужика был надет бесформенный лисий малахай, из-под которого торчали концы какого-то идиотского яркого бабьего платка. Похоже, что это его силуэт мелькнул в двери, подумал Сибирцев и откровенно широко зевнул. Мог он слышать вопрос к кассиру? Судя по всему, нет. Однако Сибирцев еще постоял недолго, лениво разглядывая пассажиров, а после так же лениво побрел к выходу. Он расстегнул полушубок, с наслаждением вдохнул свежий воздух и окончательно понял, что все, что было, безвозвратно прошло. И снова, как уже случалось не раз, надо начинать с нуля. Он постоял, прислушиваясь к тишине, и только потом шагнул в соседнюю дверь. Молоденький дежурный в потертой кожаной тужурке, но с огромным маузером в новой лаковой кобуре, висевшей на ремне через плечо, привстал было при его появлении, однако крепко ему, видимо, хотелось спать, потому что он тут же сел на место и подпер кулаками подбородок. Не обращая пока внимания на его вопросительный взгляд, Сибирцев прошел к столу, сел напротив, поставив вещмешок у ног, огляделся. В помещении больше никого не было. Только за плотно закрытой дверью в глубине комнаты слышались приглушенные голоса. — Начальство еще здесь или укатило? — спросил Сибирцев со спокойной усмешкой. — А ты сам кто такой? — в свою очередь, задал вопрос дежурный. — Много будешь знать… Так где его найти? Уверенный тон Сибирцева успокоил дежурного. — Они все тут были, — сказал он, потирая по-детски глаз кулаком, — но скорей всего теперь уехали, как поезд ушел. Домой поехали, куда ж еще. — Та-ак, — протянул Сибирцев. — Ну-ка, давай, брат, покрути свою машину, — он показал рукой на телефонный аппарат, — да соедини меня с Нырковым. Названная фамилия окончательно убедила дежурного, что перед ним какое-то неизвестное ему начальство. Он послушно завертел ручкой аппарата, долго дул в рожок микрофона. Наконец станция отозвалась. — Семнадцатый мне! — потребовал дежурный. — Семнадцатый, говорю! — он уже почти кричал. — Полегче, полегче. — Сибирцев положил ему ладонь на плечо. — Так, брат, ты весь вокзал всполошишь. Он забрал рожок и услышал далекий хриплый голос. — Нырков у аппарата. Кто это? — Я это, Нырков. Гость с поезда. Что ж не дождался? Ищи тебя, видишь ли, по всему городу. — Виноват, товарищ, — сразу сообразил, о чем идет речь, Нырков. — Я велю дежурному проводить тебя. Чтоб дал охрану. — Опять не прав ты, Нырков. Ну какой мне резон таскаться по городу? Поступим иначе. Ты давай-ка подходи сюда, обсудим ситуацию и решим, как жить дальше. А что не дождался — сам виноват. Спал бы уже себе спокойно. Сибирцев услышал что-то неразборчивое, и станция дала отбой. Разговор приезжего с Нырковым произвел благоприятное впечатление на дежурного. Он вышел в соседнюю комнату, где слышались голоса, и вернулся с закопченным чайником. Потом достал из тумбочки стола две кружки, дунул в них, сыпанул из кулька по щепотке мелкой розоватой стружки и залил ее кипятком. — Морковь, — объяснил он, увидев вопросительный взгляд Сибирцева. — А-а, не пробовал. Мы брусничный лист заваривали. Душистый чай получался… Охрана? — Сибирцев кивнул на дверь. — Она. Все у нас там. И арестованных держим. — Устрой-ка ты для меня, брат, небольшую проверочку. Этак аккуратно пусть пройдут по залу, посмотрят документы у одного-другого и особо обратят внимание, но без навязчивости на мужика в рыжем малахае. Под малахаем еще бабий платок повязан. Яркий такой платок. И шинель не по росту. На подоконнике он сидел, неподалеку от кассы. — Сейчас распоряжусь, — с готовностью отозвался дежурный и ушел в другую комнату. Через минуту оттуда появились двое солдат и протопали к выходу. — Аккуратно и без навязчивости, — крикнул им вдогонку дежурный. Сибирцев усмехнулся, взял протянутую кружку с морковным чаем и стал пить мелкими глотками новый для него напиток. Но вкуса он не ощущал, какая-то непонятная мысль тревожила. Нечеткая, расплывчатая, но беспокойная. Надо было понять ее, а поняв, успокоиться. В чем дело? Мужик этот, что ли? Платок дурацкий. Физиономия красная, сытая. Нет, не знаком. Взгляд его острый, заинтересованный. Может быть, не просто заинтересованный?… С Михеевым простились еще в купе. Присели на дорогу, помолчали. Молча вспомнили прошлое. Вдоль вагона прошла охрана, поглядела что и как, а за ней вышел и Сибирцев, но с обратной стороны поезда, перешел через пути и выбрался к вокзалу. Не новичок же. Понимает, что к чему. Здесь-то все чисто… Тогда что же? Сибирцев выпил всю кружку, но так и не понял, что пил. Стуча подковками сапог, вернулась охрана. Старший склонился к дежурному и, исподлобья глядя на Сибирцева, вполголоса сказал: — Нет там такого мужика. Дежурный встрепенулся, но, встретившись с глазами Сибирцева, махнул рукой. Ладно, мол, нет так нет. На всякий случай спросил: — Вы внимательно смотрели? — А как же? — обиделся было старший. Дежурный снова махнул рукой. — Отдыхайте. «Вот она, загадка», — подумал Сибирцев. Заметив пристальный взгляд дежурного, он поплотнее запахнул полушубок и спросил, снова кивнув на дверь охраны: — Что-нибудь интересное есть? Дежурный понял вопрос. — Нет, ничего особенного. Мешочники, спекулянты. Мелочь… Утром разберемся. — Мелочь… Ну-ну… Далеко Ныркову добираться? — С минуты на минуту будет… Да вот он сам. Дежурный резво вскочил, вытянулся, услыхав быстрые шаги на перроне. Невольно усмехнувшись, поднялся и Сибирцев. В помещение не вошел, а скорее вкатился невысокий плотный человек в просторном пальто с вытертым бархатным воротником, какие носили еще недавно провинциальные чиновники, и солдатской папахе. Руки он держал в оттопыренных карманах. Мельком взглянув на дежурного, вошедший тотчас перевел взгляд на Сибирцева. И, увидев его добродушное, круглое лицо, стремящиеся быть строгими глаза, Сибирцев почувствовал облегчение. Он шагнул навстречу и протянул руку. — Здравствуй. Извини, что пришлось тревожить. Нырков сжал его пальцы неожиданно жесткой и сильной своей ладонью, взял мандат, не садясь, прочитал его, сложил и вернул Сибирцеву. — Здравствуй, — ответил наконец. — Малышев, — не поворачиваясь, сказал дежурному, — ступай к ребятам. Я позову, когда будешь нужен. Дежурный вышел. Нырков сел на его место, расстегнул пальто, снял папаху, обнажив лысую крупную голову. — Ну, как прикажешь звать-величать? — Михаилом, — ответил Сибирцев, тоже садясь. — Ага, — подтвердил Нырков, — а я, значит, Ильей буду. Неувязка вышла, Миша. — Ничего, оно, может, к лучшему. Зачем лишние встречи, разговоры. — Что мне надо для тебя сделать? Сибирцев вынул из кармана гимнастерки сложенный вчетверо исписанный листок бумаги и протянул. — Ситуация мне, в общем и целом, ясна. Требуется уточнение по ряду пунктов. Я подчеркнул их. Видишь? — Вижу… Ага. — Нырков покачал головой, почесал мизинцем за ухом. — Глубоко хочешь вспахать. — Иначе нельзя. — Чую. Срок какой дашь? — До первого поезда. — Круто. Пожалуй, не получится. — Это почему же не получится? — Да ведь как сказать? Некоторые думают, что в губернии — там главные дела заворачиваются. А у нас уезд. Какие, мол, такие особые? Промежду прочим, не где-нибудь, а именно у нас в Козлове известная тебе Маруся Спиридонова в девятьсот шестом вице-губернатора Луженовского ухлопала. И на каторгу пошла. Очень за это наш Козлов у эсеров-то в чести. Тут осторожный подход нужен. Крепкий мужик у нас. Все у него есть: и хлеб, и скот, и что душе угодно. Кому голод, а кому, сам понимаешь. И за так просто он тебе это дело не отдаст, нет. Он, может, пока и ничейный, а чуть чего — к Александру Степанычу бух в ноги: помоги, мол, большевики одолели продразверсткой. И пошли гулять пожары… А эти твои, — Нырков ткнул пальцем в записку, — сидят себе посиживают. В учреждения ходят — и вроде как ни при чем… Кто-то, может, и ни при чем, да ведь как разобраться-то? Кто прав, кто виноват? Потому и говорю: скоро не получится. — Ждать не могу. — Дак это я вон как понимаю… Решили, значит, по-серьезному взяться? Что ж, это пора… По милиции я б тебе ужо нынче мог дать материал. Кто еще в курсе? — Ты. — Понятно… Возьмешь материалы — и в Тамбов. А мы вроде как уже и не люди, — заговорил он вдруг с обидой. — Мы, значит, так, сами по себе. А ему, — он качнул головой в сторону выходной двери, — может, вовсе и не Тамбов, а Козлов наш поперек горла. «Ему, — понял Сибирцев, — это Антонову». — Нет, ты ответь, где справедливость? Где революционная сознательность? — Нырков произносил букву «р» так, словно ее стояло в слове по крайней мере сразу три подряд. — Как настоящий профессиональный кадр, так дяде. А мне каково? Вон мой кадр! Малышев — вчерашний гимназер. Прошу, умоляю: дайте кадры! А мой собственный профессионализм? Ссылка да Деникин. Это что, опыт? — У меня примерно такой же, — успокоил его Сибирцев. — Это ты брось… Такой же… Слушай, Миша, оставайся у меня. Я тебе чего хошь сделаю. Сам к тебе в помощники пойду. Мне же контру брать надо. А с кем ее брать? — Ну-ну, не прибедняйся. — А я и не прибедняюсь. Обидно. — На кого обижаешься-то? — На кого, на кого… Вон, контрика взяли, снова завелся Нырков. — Полдня бился — и впустую. Нутром чую, что контрик, а доказательств нет. Станешь проверять — неделя уйдет. А где она, эта неделя? Нет ее у меня. На мне вон вся дорога. Чую, что тянется от него ниточка. А как размотать клубок? Опыт, говоришь… За окном посветлело. — Да ты устал, поди? — встрепенулся Нырков. — Нет, ничего. В поезде отоспался… Записку-то убери. Так что ты говорил насчет контрика? — Егерем он был. У Безобразовых. Жили тут такие помещики — не то князья, не то графы. Митька, младший их, был у Деникина. Это я сам точно знаю. Проверять не надо. После, когда Мамонтов рейд сюда делал, с ним шел. Попил кровушки, бандит. За разорение поместья, значит, мстил. И нынче где-то неподалеку обретается. Почерк его чую. Зверь — не человек. Сам ли он по себе, Антонову ли служит, не знаю, но уверен — ходит он вокруг Козлова, момент ловит. В Тамбове хоть гарнизон, а у меня узловая станция. Охрана, правда, есть, но ведь мало. И кадры — сам видел. Небось и документов твоих не проверил? Верно говорю? Сибирцев уклончиво пожал плечами. — То-то и оно, — огорченно отмахнулся Нырков. — Пушку носить — много ума не надо… Слышь, Михаил, помоги мне хоть Ваньку размотать. Егеря этого. Ведь чую, не зря он появился. А я тебе отдельный вагон дам до Тамбова, что хошь сделаю. — Ишь ты, брат, вагон! — усомнился Сибирцев. — Знаю я ваши вагоны. Не на крыше — и на том спасибо… А насчет егеря твоего давай подумаем. — Сейчас я, — рванулся было из-за стола Нырков, но Сибирцев осадил его. — Погоди, не мельтешись. Расскажи-ка, брат, поподробнее, что у тебя есть против него.3
Ивана Стрельцова, бывшего егеря помещиков Безобразовых, неожиданно узнал сам Нырков в вокзальной толчее. Неказистый, тщедушный мужичонка, был он когда-то грозным и опасным стражем хозяйских лесов и вод. Время и революционные бури, казалось, не тронули его. Разве что поредели серые волосы да порыжели от постоянного курения усы. Таким помнил его теперь уже тоже бывший мастер Козловского железнодорожного депо и страстный охотник Илья Нырков. Еще он знал, что Стрельцов исчез с глаз где-то в конце сентября восемнадцатого, когда в Кирсановском уезде поднял восстание начальник милиции Антонов. То восстание разрасталось и по мере приближения Деникина активно пополнялось дезертирами, бежавшими из армии, кулацким элементом. Больше двух лет не было о Стрельцове ни слуху ни духу. Зверствовал в уездах Митька Безобразов, но о егере сведений не поступало. И вот на тебе. Сам. Собственной персоной. Нырков поступил разумно: не стал брать его на вокзале. Проследил лично весь путь до конца и взял буквально у дверей врача Медведева, который в этот момент сидел в городской каталажке по подозрению в хищении лекарств из больницы. Цепочка замкнулась. Стрельцов понял, что опознан, сам узнал Ныркова и был преспокойно доставлен на вокзал, благо он под боком, в комнату охраны. Но, запертый в тесной камере, вдруг взбунтовался, стал плакать, кричать, требовать, просить, умолять, чтоб отпустили. Мол, девица какая-то помрет — и так уж еле дышит, криком исходит. Толком Нырков так ничего и не понял, а Стрельцов словно впал в прострацию. То плакал, то молчал, глядя куда-то в угол дикими глазами. Когда Стрельцова ввели, Сибирцев увидел совершенно уничтоженного бедой старика. — Ну, Ванятка, — строго заговорил Нырков, — давай не тяни. Рассказывай подробно, к кому и зачем шел. Откуда шел. Все говори, как на духу. Цацкаться я с тобой больше не хочу. Пущу в расход, вот как светло станет. И так уж сколько времени потерял. Стрельцов медленно поднял голову, взглянул в совсем уже светлое окно и вдруг с размаху рухнул на колени перед столом Ныркова. Нечеловечески воя, он бился лбом об пол и выкрикивал: — Илья Иванович, милостивец, христом богом молю, отпусти меня. Помирает ведь… Милостивец, родной ты мой, хоть глаза своей рукой закрою… Отпусти… У Сибирцева аж мороз по коже прошел, столько было в этом крике отчаянья. Это не игра. Так не играют. Это действительно смерть. И не за себя боится старик, не свою смерть чует, с этой-то он, видно, смирился. С той, другой, смириться не может… Медленно, словно пересиливая себя, Сибирцев поднялся, шагнул к старику. — Встать! — скомандовал он хоть и негромко, но столько было власти в голосе, что старик будто запнулся, замер распростертый на полу, а потом с трудом поднялся, вздернул заросшее свое, дремучее лицо и застыл так, вперив в Сибирцева незрячие глаза. Сибирцев знал за собой эту силу. Знали ее многие в далеком теперь Харбине. Одним словом, случалось ему утихомирить разбушевавшего семеновца или калмыковца. — Кто умирает? Где? Говорить быстро! Взгляд старика постепенно становился осмысленным, именно постепенно, не сразу. И эту деталь отметил Сибирцев. — Ва… ваше благородие… — залепетал Стрельцов, и глаза его наполнились слезами. — Мария помирает… дочка… — Где она? Ну! — Там, — беспомощно мотнул головой старик. На острове. — Отчего помирает? — Родить не может… Господи, другие уж сутки… — Так. Садись! — приказал Сибирцев, и старик прямо та-ки рухнул на табуретку. — Ну? — Сибирцев взглянул на напрягшегося Ныркова. Давай, Илья, разматывай… Через полчаса из сбивчивого рассказа старика картина почти полностью прояснилась. Прав был Нырков: вывела ниточка на самого Митьку Безобразова. Старик, похоже, сломался и теперь уже ничего не таил, с нескрываемой надеждой почему-то поглядывая на Сибирцева. Картина-то вроде прояснилась, но легче от того никому не стало. Трудная задача встала перед сидящими возле старика чекистами. По-человечески трудная задача. Где-то на острове, в районе гнилых болот, свил себе гнездо бандит Безобразов. Вернувшись в уезд вместе с мамонтовскими головорезами, разыскал он жившего в уединении старого своего егеря, а чтоб покрепче привязать к себе, силой сделал своей любовницей единственную его дочку, о которой до сих пор никто и толком-то не слыхал. Собрал банду, делал налеты, грабил, жег, убивал и использовал старика по прямой принадлежности — назначил его проводником в гиблых болотных местах. Банда невелика: десятка два в землянках на острове, остальные — по деревням. С полсотни дезертиров да мужиков, недовольных продразверсткой. Но вот пришла пора Марье рожать, а Митька и слышать не хотел, чтобы тайно переправить ее в город в какую-либо больницу или хоть к повитухе какой в дом — боялся потерять единственного проводника. Когда начались боли, Митька, отправляясь на разведку в уезд, обещал подумать и найти доктора. И ушел. А Марья кричит, света белого не видит в землянке своей. Тогда старик, посоветовавшись с двумя-тремя мужиками, решил на свой страх и риск смотаться в город, уговорить знакомого доктора. Тут его и взял Нырков. Доктор тот и раньше, бывало, не раз выручал лекарствами, а то и оружием, изредка передавал наказы самого Александра Степановича. Вот какая история приключилась. Старик молчал, совершенно теперь опустошенный. Молчали и Сибирцев с Нырковым. Первым очнулся Сибирцев. — Старика, брат, давай-ка пока в камеру, а сами покумекаем. Вошел охранник, тронул Стрельцова за плечо. Тот послушно встал и, посмотрев на Сибирцева с тоскливой собачьей безнадежностью, сгорбившись, побрел в камеру. — Что скажешь, Илья? — Помог ты мне… Превеликое тебе, прямо скажу, за это спасибо. Тут он, значит, Митька-то. Чуяло сердце мое… Ну, я скажу, полста бандитов — это нам выдержать. Тут нам помощь не нужна. Сами справимся… Ах ты Медведев, сукин сын! Вот ты какой… Теперь помотаем его… — Что выдержите — это хорошо. Не об этом речь. Девка-то его вправду помирает… А я ведь врач, Илья. Диплома только не успел получить, в шестнадцатом на германскую пошел. — А чем мы поможем? Была б она в городе… А штурмовать остров — мертвое дело. — Надо ли его штурмовать? — Да ты что, в своем уме? — изумился Нырков. — Кто ж туда пойдет? Какой ненормальный согласится сунуть голову в самое логово? Они ж бандиты… Может, и она уже… — Боли иногда начинаются за неделю до родов. Перед его уходом он сказал: кровь появилась… Думаю, что сутки еще есть. Больше — вряд ли… Далеко туда? Нырков, оторопев, уставился на Сибирцева и молчал. — Чего молчишь? Далеко туда добираться, до болот этих твоих? — Нет, он спятил! — сорвался на крик Нырков. — Да кто тебе позволит? Меня же за это повесить мало! Ты знаешь, что со мной сделают, если с твоей головы хоть волос упадет?! Нет. Нынче же отправлю в Тамбов. Тебя еще не хватало на мою голову! Как ни странно, крик Ныркова успокаивающе подействовал на Сибирцева. И решение, которое исподволь накапливалось в нем, кажется, уже созрело. Риск? Да, риск большой. Но ведь это Ныркова знает в городе каждая собака, а он человек чужой. Почему не быть ему обыкновенным проезжим врачом? Другой вопрос: выдержит ли игру старик? Он, похоже, уже в полной прострации. Но ведь все рассказал, терять ему, с одной стороны, вроде и нечего, а с другой… Продал своих-то. Есть о чем подумать. Думай, Сибирцев, думай. — Знаешь что, Илья, — сказал он решительно. — Давай сюда еще раз твоего старика. На Ныркова было жалко смотреть. Он совершенно сник, представляя себе, какие беды вызвал этот проклятый егерь на его голову. — Ты послушай меня, — продолжал Сибирцев. — Не скажу чтобы я не боялся смерти. Но мне не впервой. Было дело, расстреливали уже, да только метку оставили на память. Головорезы, которых я видел, тебе, пожалуй, и не снились. Хоть, в общем, все они одинаковые. Знаешь ты их. Но ведь меня-то они не знают. А риск в нашем с тобой деле нужен. Не выходит у нас без риска. Никак пока не выходит. Значит, надо нам, брат, во имя дела рисковать. Разумно рисковать. И смело. Если Митька еще здесь, то банда без главаря не всегда банда. И не гляди на меня, как на покойника. Вот вернусь, ответишь ты на все мои вопросы и отдашь свой мифический отдельный вагон до Тамбова. Как есть, брат, отдашь. А сейчас кличь сюда старика. Я твердо решил. Приведенный Стрельцов словно бы уменьшился в размерах, словно бы совсем усох и сморщился. — Слушай меня внимательно, Иван… как тебя, разбойника, по батюшке-то? — Аристархович он, — подсказал Нырков. — Так вот, Иван Аристархович, доктор я. Понял? — Сибирцев сурово посмотрел на старика. — Господи, батюшка! — Стрельцов попытался было упасть на колени, но они не сгибались. — Милостивец, христом богом!.. — Цыц! — прикрикнул Сибирцев. — Молчи и слушай. Пойдем сейчас с тобой спасать твою дуру. Это ж надо! Любовничка себе выбрала — бандита отпетого! — Не выбирала она! — заверещал старик. — Это он, паразит, споганил ее. Из-за меня он ее так, будь я трижды проклят… — Теперь это меня не интересует, — перебил Сибирцев. — В пути расскажешь, коли захочешь. Сколько времени уйдет, на дорогу? В Стрельцове мгновенно пробудилась надежда, и его понесло. Без пауз, захлебываясь, он стал объяснять, что ежели сперва поездом, так поезда сейчас нет. А ежели подводой, то он сам-то приехал поездом и потому подводы тоже не имеет. Из всего этого словесного потока Сибирцев понял, что если, добираться подводой, то они, пожалуй, еще до вечера поспеют до болот, а уж в сумерках перейдут на остров. Одна беда — вода сейчас большая, снегу много было, и тает дружно. Но старик знает все потайные тропки да кочки, доберутся в лучшем виде. И лошадь будет где оставить. — Я тебя, батюшка, ваше благородие, — захлебываясь, причитал старик, — на руках донесу, ноженьки замочить не дам… Наступила реакция, пенял Сибирцев. Пора было заканчивать разговоры и переходить к делу. Кое-какие детали можно уточнить и по дороге. Но тут вмешался Нырков. — Где сейчас Митька, а, Стрельцов? — строго спросил он. — Здесь он, где ж ему быть? — испугался старик. — Ты точно знаешь, что нет его на острове? Да уж, милостивец Илья Иваныч, мне ль сейчас обманывать-то? Вот, как перед христом богом… — Ладно. Ты мне за этого доктора своей плешивой головой ответишь. Я и тебя, и Марью твою везде найду и к стенке поставлю, как самую распроклятую контру. Понял? То-то… А у кого здесь Митька останавливается? — Где ж мне знать? — вздохнул Стрельцов. Я его только досуха провожаю, а уж дальше он сам. По три дня, не мене, в городе проводит. А у кого? — он снова вздохнул и развел руками. Похоже, и вправду не знает. — Ладно, ступай, посиди еще маленько, позову, когда надо. — Нырков подтолкнул его в комнату охраны. Крикнул в приоткрытую дверь: — Дайте ему хоть кипятку! — и добавил негромко: — Загнется еще по дороге от радости… Передумай, Михаил, — обратился он к Сибирцеву, — ей-богу, передумай! Христом богом тебя, а? — Кончай, брат, свою шарманку, — перебил Сибирцев. — Слушай, что мне надо. Срочно достань пару простыней, марлю, йод, скальпель, пару зажимов и еще… опий. Это на всякий случай. Спирту небось нет, так дай бутылку самогону. Свечей надо. Их побольше, с десяток. Теперь главное. О нашем деле ни одна живая душа чтоб ни слова. Сам представляешь, куда иду. Тех, что в камере у тебя сидят не выпускай. Во избежание болтовни. Вернусь — разберемся. Кое-какие бумаги нужные у меня есть. Дай мне с собой махры-если есть, то моршанской. Это для душевной беседы. А еще мне нужно постановление о добровольной явке дезертиров. Знаешь, о чем я говорю. И последнее. Здесь, — он поднял с пола свой вещмешок, — посылка. Несколько банок тушенки, пара фунтов сахару и часы «мозер». Я их в тряпицу завернул. Не разбей. Найдешь в Моршанском уезде Елену Алексеевну Сивачеву и передашь все это. От сына ее. Мне-то надо бы самому… Но если не вернусь, найди и передай. Мы с Яковом вместе там были. Погиб он… Передай, что геройски. Никого не выдал. Слова не сказал. Оттого многие живы остались… Ну а обо мне, брат, сообщишь, как положено, по начальству. Возьми мой мандат, спрячь. Вернусь — заберу. Все. Доставай подводу.4
Громко стучали плохо смазанные колеса. Телега катилась по схваченной за ночь морозцем дороге. Стрельцов погонял лошадь шибко, торопился больше проехать по утреннему холоду. Позже, как взойдет солнце, дорогу развезет, польют смолкшие было ручьи, и уже не громыхать, а хлюпать станут колеса в вязком жирном черноземе. Снега в полях было уже немного, он оставался лишь в придорожных канавах, в оврагах да с теневой, северной стороны бугров — темный, ноздреватый, уже и не снег, а припорошенные, вмерзшие в лед комья земли. Сибирцев лежал на большой охапке сена, подложив руку под голову и придерживая сбоку кожаный докторский саквояж: где-то умудрился раздобыть Нырков. Глядел по сторонам, вдыхал запах прелого сена, покачивался в такт движению телеги. Машинально перебирал в памяти события последних часов. Инструкции Мартина Яновича были довольно подробны и обстоятельны. Брать их с собой не полагалось, и потому Сибирцеву пришлось изрядно поднапрячь все свое внимание, делая лишь самые необходимые, но безобидные для непосвященного заметки. Главное, по сути, сводилось к довольно разветвленному и хорошо законспирированному эсеровскому подполью. Уж что-что, а по этой-то части они мастаки. Сибирцев сам был когда-то эсером — может, потому и выбрал его Мартин Янович. Кому ж как не ему, Сибирцеву, и знать повадки бывших партийных товарищей. Задание было архиважное. Скоро, теперь уже очень скоро придут на Тамбовщину регулярные войска. Советская власть не могла больше терпеть, чтоб под самым сердцем страны зрел гнойный фурункул — антоновский мятеж. С ним надо было покончить быстрым и решительным ударом. Но удар нельзя наносить вслепую. Этак и жизненно важные органы заденешь, а организм еще не оправился от иной мучительной болезни. Вот так и получилось, что приходится теперь Сибирцеву выполнять роль врача-диагноста. Прощупать, где болит, что болит, давно ли. Подготовить операцию… Причем по возможности оставаясь в тени. Невольно определяя свои врачебные функции, Сибирцев подумал: а не ввязался ли он в авантюру с этой экспедицией? Имеет ли он право? Не кончится ли все самым дешевым провалом и роковым выстрелом где-нибудь посреди вонючих топей? Может быть, он попросту поддался мгновенному чувству острой жалости, а может, невесть из каких глубин памяти всплыли великие слова о долге врача всегда и везде помогать страждущему… Черт его знает как получилось! Стрельцов совсем уж очухался. Даже вроде похохатывает чему-то своему. Сибирцеву было, в общем, понятно его состояние. Нечто подобное видел он, помнится, в июле шестнадцатого в полевом лазарете под Барановичами. Привезли пожилого солдата с напрочь, словно бритвой, отхваченной кистью правой руки. Кто-то еще раньше догадался наложить жгут, и теперь солдат сидел у плетня возле хаты, где расположились хирурги. Словно куклу, укачивал он свою культю и кричал тонко и визгливо. Пробегавший санитар сунул ему кружку со сладким горячим чаем. И случилось неожиданное. Солдат замолчал. Он бережно уложил культю на колени, взял левой рукой кружку и стал пить и даже счастливо улыбался при этом. Допив, аккуратно отставил кружку, снова прижал культю к груди и завопил так, что из глаз его хлынули слезы. Видимо, примерно то же самое происходит теперь и со Стрельцовым. Он добился своего: доктор едет. И он не думает, что там, на острове, с дочерью. Может, ее нет в живых. Главное — доктор едет. Кружка с горячим сладким чаем… Стрельцов уже не раз оборачивался к развалившемуся на сене Сибирцеву, все порывался что-то сказать, но, наверное, не решался. Вот и опять обернулся, и глаза его при этом как-то странно лучились. — Красота-то какая, а, ваше благородие! Благодать… Дух какой от землицы-то! Большая вода — большой хлебушек. Это точно… Н-но-о! — хлестнул он прутом замедлившую было шаг кобылу. — Эх, ваше благородие, господин доктор, нешто это лошадь? Вот, бывалоча, приводили на Евдокиевскую коней! Нынче ведь как раз ей время, ярмарке-то. Она всегда на Евдокию-великомученицу начиналась. Со всей губернии праздник. А потом уж дожидай Троицкой. Та — не так, лето жаркое. Помню, ваше благородие, было дело, черемис у цыгана коня торговал. Уж порешили они, по рукам, как положено, ударили, а черемис все в страхе дрожит, обману боится. Цыган ведь известный народ. «Не верю, — говорит, — тебе, есть в коне обман». — «Ах, — говорит, — не веришь?» — «Не верю!» — «Не веришь, такой-сякой? Ну так набери, — говорит, — полон рот дерьма, разжуй да плюнь мне в морду, коли не веришь!» Ух и смеялся народ-то! Весело было. Одно слово — праздник. — Старик долго хихикал, утирая глаза рукавом своего зипуна, покачивал головой. «Ваше благородие, господин доктор», подумал Сибирцев. Неужто этот старик в самом деле до сих пор ничего не понял? Или дурочку валяет… Надо ж быть полным кретином, чтобы не сопоставить примитивных фактов. Кто такой Нырков, он не может не знать… Или на него затмение нашло?… Вот еще загадка. Нырков предложил одеться попроще, полушубок, говорил, уж больно шикарный. Что шикарный — это как раз неплохо. Отличный полушубок. Если из бандитов острова хоть один бывал в Сибири, вмиг признает полушубок черных анненковских гусар. Тех, кто хорошо умел на руку кишки наматывать… Мол, не простая птица, доктор-то. А для начала это совсем уж неплохо. Гимнастерку свою привычную только сменил на довольно приличный, но тесноватый под мышками пиджак да переложил во внутренний карман свой неразлучный наган. Низкое серое небо придавило все видимое пространство. Размытый синеватый гребешок леса по горизонту, размокающая колея, в которой уже по ступицу увязали колеса, ровная одноцветная равнина по сторонам — все это укачивало, убаюкивало, настраивало на мирный, спокойный лад. Вздремнуть, что ли? Отделаться от всех тревожных мыслей, от неосознанного напряженного ожидания чего-то… Оно-то ясно — чего. И Сибирцев снова в какой-то миг готов был обложить себя соответствующими эпитетами, понимая, что все происходящее вызвано к жизни только им самим. Нет, не испытывал он сожаления или раскаяния по части задуманного предприятия. Каквсякий раз перед ответственной операцией, он и теперь понемногу входил в новую свою роль. Давно забытую им роль. Почему-то казалось, что сами роды осложнения не вызовут. Руки вспомнят, глаза подскажут. Без практики-то оно, конечно, трудновато придется, но ведь, если вдуматься, не так уж и много времени прошло с тех, казалось, навсегда ушедших студенческих времен — пяти лет, пожалуй, не наберется. Это война и революция стали острым и зримым рубежом между студентом Мишей Сибирцевым и его нынешним, резко возмужавшим и, вероятно, постаревшим двойником. Пять лет, а будто целая жизнь. И ранняя седина, и жесткие складки на щеках и подбородке, и, наконец, неотъемлемое теперь право риска. Право на самостоятельные, порой крутые решения. Покачивалась и будто плыла в бескрайность телега, смачно и размеренно чавкали копыта, тонко позвякивали склянки в саквояже — и тишина, особенно чутко ощущаемая от присутствия размеренных посторонних звуков. С этим он и заснул.5
Вечер приполз незаметно. Стрельцов и хорошо отдохнувший Сибирцев перекусили, остановившись у небольшого березового колка, чем бог послал. А послал он им по краюхе хлеба и шматок старого, с душком темно-желтого сала все, что мог дать на дорогу Нырков. Больше ничего не было. Но после долгой дороги эта пища была съедена быстро и до крошки. Запили, зачерпнув горстью воды из родничка. Она пахла снегом и была пронзительно-ледяной. Сибирцев отметил, что старик спокоен и даже нетороплив в движениях, хотя, судя по всему, должен был бы чем-то обязательно выдавать свое волнение. — Ну-с, милейший, — после долгой паузы покровительственным тоном начал Сибирцев. — Где же эти ваши болота? — Он нарочно выбрал такой снисходительно-барский тон, полагая, что ему как доктору он подходит более всего. — Да вы, батюшка, не беспокойтесь, коли чего. Я ж понимаю. «Батюшка, — усмехнулся Сибирцев. — Неужели я и впрямь батюшкой выгляжу? Нет, это прежнее, веками в мужика вколоченное. Батюшка барин — вот что это». — Не извольте сумлеваться, все будет в лучшем виде. Нешто ж я не понимаю, не в бирюльки играть едем-то. Я об вас ни словом, ни духом, ни-ни. Ваше благородие, господин доктор. И все. А как же… Кабы не Марья, ноги б моей там не было. Все она, сиротинка сирая… Телегу-то мы надежно спрячем, а сами кочками, где посуху, а где, уж простите, бродом придется. Вода нынче большая. Ну да не пропадем. Там всего и верст-то с пяток не наберется. Сибирцев слушал, а сам с томительной и теплой тоской думал об уехавшем Михееве, о его сапогах, которые нынче так кстати, о том, что, видно, не избежать лезть в холодную весеннюю воду, и хорошо, если только до голенищ, а ну как по пояс… Ах, Михеев, Михеев! Будто знал, что обязательно должен Сибирцев впутаться в идиотскую ситуацию. Характер, что ли, такой?… Или везение на всякого рода авантюры? Ну насчет авантюры — это, как говорится, бабка надвое сказала. Ничего пока не ясно, так что авантюра это или разведка боем — еще поглядеть надо. Судя по всему, пожалуй, разведка. А риск — он на то и риск, чтоб душа горела. Чтоб тому, кто следом пойдет, тропка была протоптана. Такая работа: на долю первого всегда главный риск приходится. Сибирцев это знал. Знал и Михеев, тоже впереди идущий… А старик соображает, что к чему. Не прост он, этот бывший егерь Стрельцов. И вслушивался Сибирцев больше не в то, что говорит старик, а как говорит. Что ж, хорошо говорит. Можно было бы подумать, что он принял игру Сибирцева. Доиграет ли — вот вопрос. Вероятность срыва, конечно, имеется, но степень риска — так казалось Сибирцеву — все-таки не завышена. В пределах нормы… Правда, норму ту устанавливал не кто-либо, а сами они с Михеевым. И не для дяди, а для себя. Себя-то ведь порой и пожалеть хочется, и слабинку какую не заметить… А надо замечать… Потому что никто другой, кроме тебя самого, не спросит: «Мог или нет?» Если мог, почему не рискнул? Черт его знает, что такое риск. Жизнь это. Полная и… интересная. Сумерки сгущались. Дорога различалась совсем слабо, старик находил ее, видно, нюхом. Резче пахло сыростью и прелью, гнилостным духом пробуждающихся от зимней спячки болот. Сибирцев начал чувствовать легкий озноб, потребность двигаться, размять уставшее слегка тело от долгого лежания в телеге. На какой-то очередной версте, у очередного перелеска, Стрельцов бодро спрыгнул с телеги, взял лошадь под уздцы и повел ее в сторону от дороги, в глубь перелеска. Сибирцев соскочил тоже, пошел рядом. Сапоги скользили и разъезжались на сырой земле; чтоб не упасть, приходилось держаться за край телеги. Так прошли несколько сот метров. Зачернело впереди какое-то строение — не то сторожка, не то большой шалаш. Сибирцев заметил сбоку небольшую пристройку, что-то вроде навеса. Туда старик и завел лошадь вместе с телегой. Быстро и споро выпряг кобылу и увел ее внутрь строения. Потом отнес туда же охапку сена, заложил скрипучую дверь светлой обструганной плахой и негромко сказал Сибирцеву: — Можно б, конечно, в деревне оставить, но лучше, ваше благородие, туточки. Глазелок меньше, разговоров. И нам дорога ближе… Вы не сумлевайтесь, тут место чистое, лишних нет. Пожалуйте ваш энтот-то, — он показал на саквояж. — Мне сподручней. А вы палочку возьмите. Ну, — он вздохнул, — с богом, ваше благородие. Ступайте за мной след в след… Сибирцев не мог сказать о себе, что он был неопытным ходоком, но теперь он где-то подспудно готов был даже позавидовать идущему впереди егерю, тому, как тот легко и безошибочно находил нужный ему бугорок, перескакивал на соседний, слегка позвякивая содержимым саквояжа и поджидая Сибирцева. Следуя за ним, Сибирцев оступался, хватался за скользкие ветки и стволы черных деревьев, хлюпала под ногами вода, сапоги все чаще и глубже проваливались в болота; скоро вода проникла за голенища, и ступням стало совсем холодно и мокро. «Пропадут сапоги, — с сожалением думал он. — Ах, черт, какая жалость… Такие сапоги!» — Тут, ваш бродь, надо с осторожкой, — совсем уже шепотом предупредил Стрельцов.
Вот оно, начинается, понял Сибирцев. Теперь держись, ваше благородие, господин доктор. Он передохнул, стоя на качающейся кочке и опираясь на палку, которая медленно проваливалась в топь, потом, набрав полную грудь воздуха, словно ныряя в глубокий омут, шагнул за стариком. Шагнул, как тогда, в восемнадцатом…
6
В харбинском кабаке «Палермо» шел грандиозный пир. Гуляли калмыковцы, — они, видать, произвели очередную «калмыкацию», то бишь ограбили проходящий пассажирский поезд где-нибудь в районе Гродековских туннелей. Гуляли орловцы. Эти — с горя. По слухам, их собирались расформировать: обнаружилась растрата по хозяйственной части ни много ни мало в полмиллиона рублей. Да и как ей не быть, если у Орлова всего три сотни штыков в отряде, зато два оркестра. Но все это мелочи, потому что Семенов, сидящий на станции Маньчжурия, зарабатывает по два миллиона в день, да плюс звание благодетеля населения. Семеновцы тоже гуляли в «Палермо». Гулял харбинский посланник Семенова полковник Скипетров, ждавший производства в генералы, и с ним хорунжий Кабанов. У этих была серьезная причина. Во-первых, позавчера обнаружили в Селенге труп известного золотопромышленника Шумова, ехавшего в семеновском бронепоезде с большим грузом золота. Что произошло, где золото — никто не знал, но, разумеется, догадывались. А во-вторых, несколькими днями раньше Семенов произвел «семенизацию» в отличие от «калмыкации», то есть реквизировал двадцать девять вагонов кожи и продал какому-то спекулянту в Хайларе. Об этих злополучных вагонах уже шел разговор по городу, громко возмущался сидевший в Харбине Колчак, ждали каких-то ревизоров омского правительства, но разговор разговором, а деньги были. Только у кого? Исчезли куда-то деньги. Семенов рвал и метал. Скипетров приехал за полночь с охраной на пяти казенных автомобилях. В одном из них прибыл в «Палермо» и Сибирцев, доверенное лицо Скипетрова. Когда ж это было? В июле? Нет, еще в июне восемнадцатого. Да, великий был пир… Еще у входа, окинув взглядом тусклый и задымленный огромный зал, среди багровых испитых физиономий «спасителей России» Сибирцев отметил нескольких знакомых и среди них пьяного офицера-орловца. Из того угла, где сидел орловец, слышались крики, хохот, хлопки пробок шампанского. Взгляды встретились, орловец растянул губы в пьяной улыбке, но, видимо, не узнал Сибирцева, тут же отвлекся и стал что-то кричать на ухо соседу. Сибирцев прошел к сдвинутым столам, которые быстро накрывали два суетливых прилизанных официанта, сел наискосок от Скипетрова и стал внимательно оглядывать зал. — Не гляди, сейчас привезут, — прохрипел ему через стол Скипетров. — Я Ваську послал, велел, чтоб мигом доставил. Он знает, где хорошие девки. — Гульнем, значит, господин полковник, — радостно ухмыльнулся Сибирцев. — Гульнем, таку их, не будь я генералом, — захохотал Скипетров. — Тащи живей! — заорал он на официантов. — Все тащи, китайская твоя харя! Пришел Кабанов. Он уже покачивался, его поддерживали под руки двое башибузуков. Грузно шлепнулся на стул, тоже заорал: — Шампанского, живо! — и затуманенными глазами пристально взглянул на Сибирцева. Подмигнул. От соседнего стола повернулся какой-то незнакомый капитан и брезгливо сморщился, увидев Кабанова. Будет драка, понял Сибирцев. Не сейчас, а когда еще подопьют. Дальше все закружилось, завертелось. Пили и ели без разбору, поначалу с каким-то мрачным ожесточением, а потом, по мере употребления, постепенно отваливаясь от стола, стали воинственно поглядывать на соседей, бросая весьма недвусмысленные замечания по поводу их дам. Свои еще не прибыли, и Скипетров пообещал при всех, прямо тут же на столе заголить Ваське задницу и всыпать сотню соленых. Улучив минуту, Сибирцев встал и, пошатываясь, отправился через весь зал в глубину ресторана. Он прошел длинным коридором, откидывая бархатные занавески, вошел в туалет, огляделся. Туалет был пуст. Склонившись над унитазом, всунул в горло два пальца, напрягся, и его вырвало. Когда он, полоща рот, стоял уже у умывальника, в туалет вошел знакомый розовощекий орловец. Мундир его был распахнут, он качался, громко икал и пробовал, ужасно фальшивя, петь: «Без сюр-р-р-тука, в а-адном хала-ате…» Увидев Сибирцева, смолк и, подойдя к соседней раковине, сунул голову под кран и пустил струю воды. — Сильный северный ветер, — пробормотал он вдруг словно про себя. Сибирцев замер, услышав эту фразу, скосил глаза на орловца, так же тихо ответил: Сегодня тепло. — Пазвольте мыла! — вдруг громко, так что Сибирцев вздрогнул, объявил орловец и взял обмылок с раковины Сибирцева. — Благодарю-с! Вместо обмылка осталась лежать в мыльнице маленькая бумажная трубочка. Сибирцев осторожно положил сверху ладонь, прополоскал горло еще раз и вошел в кабинку. Орловец уже умылся и с песней удалялся по коридору обратно в ресторан. Быстро развернул бумажку. Там было несколько слов: «Срочно уходи. Кабанов — контрразведка. Деньги при нем. Найду тебя сам. М.». Тщательно порвал записку и спустил воду, проверив, чтоб не осталось клочков бумаги. После этого пригладил волосы, стряхнул капли воды с мундира и тоже отправился в зал. Компания напилась. Дамы уже прибыли и теперь с визгом и хохотом усаживались рядом с семеновцами. Официанты тащили стулья. Усевшись на свое место, Сибирцев окинул туповатым взглядом опустошенный и разграбленный стол, взялся за бутылку водки. В этот момент кто-то крепко сжал его плечи и, горячо дыша в ухо, прошептал: — Ты куда ходил, а? — Блевать ходил после этого дерьма, — пьяно отозвался Сибирцев, не оборачиваясь. Цепкие пальцы сдавили сзади его шею. — А если я пойду посмотрю, а? — прошипел голос за спиной. — Пошел ты… — скривившись, Сибирцев резко повернулся на стуле. Пальцы на его шее разжались. Перед ним, держась рукой за спинку стула, стоял Кабанов и пристально-пьяным взглядом мрачно сверлил его зрачки. — Сядь, Кабанов, а то… в морду дам, — так же мрачно, но убежденно сказал Сибирцев и крикнул в пространство: — Эй, водки! Кабанов постоял еще, покачался взад-вперед с носков на пятки, потом пошел и сел на свое место. «Что-то случилось. Зря не стали бы паниковать. Значит, надо смываться. А как?» — подумал Сибирцев. Сидевший теперь рядом со Скипетровым незнакомый калмыковец громко и с восторгом рассказывал: — …Весь юридический отдел… И всех — расстрелять. Всех до одного. А почему, я спрашиваю? А? Потому что, — он слегка понизил голос, — много брали. А сдавали мало. Он захохотал. — А чтоб помирать не скучно — водки ведро и отдали им на сутки всех девок… Мы их взяли как большевичек. В разведке. Много взяли. Ха-арошие девки, молоденькие. А потом всех вместе. В расход… За столом поднялся хохот. Приехавшие дамы явно чувствовали себя неуютно. Но это было только начало. — Мальчишки… сопляки… — прохрипел Скипетров. — Без бабы подохнуть не могут. — А на что они нам? — пьяно вскинулся калмыковец. Мы их в плен не берем. Нам это лишнее. Поигрался — и в сопки. — Китайцам… — глядя в упор на Сибирцева, вдруг громко сказал Кабанов. — Китайцам, говорю, надо отдавать… Они мастера, не то что мы, русские. Сперва изволь могилку отрыть, потом тебе по животику — брык! — кишочки наружу — и в могилку, чтоб лежать мягче. На своих-то, на кишочках. А? Ну а потом земелькой сверху присыпают. Мастера… Куда нам, России-то… В глазах Кабанова разгорелась звериная ненависть. Сибирцев внутренне напрягся, но в этот миг произошло неожиданное. Из-за соседнего стола поднялся пехотный капитан, сделал нетвердый шаг к Кабанову и, сорвавшись на визг, закричал: — Пошел вон, скотина! Дерьмо! Убийца! В зале повисла мертвая тишина. Опираясь обеими руками о край стола, Кабанов стал медленно подниматься и вдруг резким, сокрушающим ударом врезал капитану в подбородок. Тот с грохотом рухнул на свой стол. И тут все словно сорвалось. Треск ломаемой мебели, звон битой посуды, истошные крики женщин. Бабахнули выстрелы. В углах погас свет. Было впечатление, что все бьют всех. Казалось, целый зал обрушился на семеновцев. Летели бутылки, сыпались с потолка осколки люстр. Раздавая удары направо и налево, Сибирцев стал пробиваться к коридору. Что-то словно обожгло ему спину. Мгновенно упав на пол, он резко обернулся и увидел Кабанова, целившегося в него. И в тот же миг розовощекий орловец, оказавшийся рядом с хорунжим, ловким ударом сапога взметнул его руку, выстрел грохнул в потолок. Потом раздалось еще несколько выстрелов подряд, какой-то истошный вой, и снова наступила тишина. Публика рвалась из зала, но в центре его уже битва прекратилась. Поднимались с пола окровавленные офицеры, тщетно пытались застегнуть разодранные мундиры, трезвели на глазах, и у всех было видно лишь одно желание — быстро исчезнуть. Все знал Харбин, ко многому привык, но такого… Это даром пройти уже не могло. Все это понимали. И потому зал как-то сам по себе рассачивался. Четверо семеновцев подняли с пола неподвижное тело Кабанова. Один из них неловко выпустил ногу, тело перекосило, и вдруг из кармана хорунжего посыпались деньги, много денег. Все будто оцепенели. Потом чьи-то руки стали хватать эти рассыпавшиеся по полу ассигнации. — Назад! — заревел Скипетров. Прижимая к глазу скомканную салфетку, он смахнул со стола осколки посуды вместе со скатертью и приказал: — Клади его сюда! Кабанова положили на стол. Скипетров залез в один его карман, в другой, расстегнул мундир и отовсюду вынимал толстые запечатанные пачки денег. — Ох ты… — простонал кто-то. — Да тут их целый мильон. — Тысяч на двести, — определил другой голос. Послышался быстрый топот, лязг затворов, и в зал ворвался патруль. — Всем оставаться на местах! — раздался резкий, повелительный голос. Случилось так, что Сибирцев оказался почти рядом с бархатными портьерами коридора. Охрана бросилась к столу с убитым Кабановым, а Сибирцев, воспользовавшись тем, что внимание всех было, приковано к трупу и пачкам денег, лежащим на столе, сделал шаг назад и скользнул за портьеру. — Быстро за мной, — услышал он шепот. Мгновенно обернулся и увидел офицера-орловца, того самого, что заходил в туалет, и того, что ударом сапога по руке Кабанова спас Сибирцева. Ступая на носки, они почти бегом прошли по коридору, свернули за угол, по темной лестнице спустились во двор ресторана и, обогнув его, остались в тени, наблюдая, как патруль начал выводить и усаживать в автомобили арестованных кутил. Сибирцев взглянул на орловца, отметил про себя его откровенную молодость и на всякий случай негромко сказал: — Я твой должник. Кабы не ты, лежать бы мне сейчас там. — Мура, — отмахнулся орловец. — Это ты его? — снова спросил Сибирцев. — А что ж оставалось-то? Под шумок, из кармана… — Лихо! — Дырку теперь зашивать, — орловец сунул ладонь в карман галифе и показал палец через отверстие в ткани. — Ладно, пустяки. Ты, ваше благородие, счастливым родился. Невзлюбил Кабанов, что ты у Скипетрова вроде как свой. Копать начал. Но теперь нет Кабанова. Не только самого убрали, но и большое грязное пятно наложили на твое непосредственное начальство. Не думал я, что с деньгами-то так удачно получится. При полном, что называется, стечении народа. Как теперь твой есаул почешется? А? Славно… Твой уход временно отменяется. А теперь давай-ка и мы с тобой в разные стороны. Ваши автомобили вроде за тем углом, а я пешком, так скорее. Бывай, — он шагнул в темноту. Сибирцев хотел было его окликнуть, но тот вернулся сам. — Михеевым меня зовут. Понял? Самый я что ни на есть натуральный Михеев. У Орлова служу. Мы с тобой знакомы — и только. Но ты на меня не выходи. Сам найду. Бывай, — он тронул ладонью за локоть и растворился в ночи. Вот как они встретились. Много потом было всякого. Так много, что и в думах не помещалось. А теперь вот вспомнилось. Само пришло. Ах, Михеев, Михеев! Был бы ты рядом…7
Сибирцев по-кошачьи зорко следил за шагающим впереди егерем, точно попадал в его следы, однако не всякий раз мог удержаться на ногах. То палка проваливалась, и он окунался в болотную жижу, то скользила подошва — и тогда хоть на четвереньках ползи. Темно, дьявол его забери. Все на ощупь. Хорошо, саквояж у деда, побил бы все давно к чертовой матери. Наконец почва стала потверже, ногам поустойчивее, и напряжение стало спадать. А вместе с тем под одежду пробрался холод, озноб. — Теперь уж рядом, ваше благородие, — шептал старик. — Совсем скоро. Обогреетесь, обсушитесь. Самогонки глотнете для сугреву. Ох, господи, хучь бы Марья жива осталась… Век себе не прощу! — Ладно тебе хныкать. Двигай давай. Спустя какое-то время их окликнули. Стрельцов предостерегающе поднял руку. Шепнул: — Постой тут, я сейчас, — и сгинул во тьме. Сибирцев услышал приглушенный говор, потом различил силуэт старика. — Пойдем, ваше благородие. Митьки нет. И пока порядок. Орет Марья. Жива, значит, кровиночка, — он всхлипнул. — Вы уж постарайтесь, господин доктор, век молить за вас буду… Их встретили двое. Разглядеть лица в темноте Сибирцев не мог. Увидел только, что оба рослые они, пахло от них перегаром, махорочным духом. Молча, изредка глухо покашливая, шли они следом за Сибирцевым по узкой лесной тропе. Вскоре впереди показались отсветы огня, и все влипли на довольно обширную лесную поляну. Посредине горел костер, возле него на бревнах и древесных стволах сидело пятеро бородатых, в наброшенных на плечи шинелях мужиков. На треноге кипел черный чайник. Мужики курили и с любопытством молча рассматривали прибывших. — Доктора привел, — с ходу сообщил Стрельцов каким-то извиняющимся голосом. — Вы, братцы, подсобите, ежели чего. А? Одежу просушить, самогонки бы стаканчик. Застыл ведь их благородие, непривычные они, а, братцы? И столько было унижения и просительности в его голосе, что Сибирцеву стало несколько не по себе. — Подай-ка сюда саквояж, милейший, — приказал он, — да проведи меня к роженице. А вы, — он недовольно оглядел сидящих, — грейте воду. Много воды. И чтоб ни-ни у меня! Этот чайник — ко мне. Его слова произвели впечатление, это он сразу заметил. Как-то подобрались люди, один из них уже нес чугунок с водой, ставил в костер. Другой рогатиной снял кипящий чайник и, обернув ручку тряпицей, стоял в ожидании, куда прикажут нести. — Пожалте, ваше благородие, — засуетился Стрельцов. — Сюда, пожалте. Землянка, в которой лежала дочь старика, была сделана довольно прилично. Не то чтоб Сибирцеву встать во весь рост, но среднему мужику как раз по макушке. Просторная. В углу железная печка с раскаленной трубой, выходящей через потолок наружу. Небольшой стол, два широких топчана. На одном из них в груде тряпья, выставив кверху огромный живот, лежала женщина. От слабого огонька коптилки по мокрому багровому лицу ее метались тени. Из широко открытого рта вырывался хриплый стон. Сбросив на пол тряпье, Сибирцев увидел всю ее, маленькую, щуплую, почти девчонку, с непомерно большим округлившимся животом. Она, слабо подергиваясь, перебирала пальцами, и в глазах ее, казалось, застыла жуткая смертная тоска, ужас от боли, которая терзала ее уже давно. «Зачем ты здесь?» — услышал Сибирцев свой собственный вопрос и тут же отметил, с каким напряженным вниманием следят за ним глаза мужиков, набившихся в землянку. Не на нее — на него глядят. Сурово, требовательно, зло. — Все вон отсюда, — сказал он, но никто не сдвинулся с места. — Тряпье убрать. Приготовить горячую воду. Ну! Живо! — Он повысил голос, и мужики зашевелились, толкаясь, потянулись из землянки наружу. Сибирцев раскрыл саквояж, достал свечи, зажег сразу несколько штук от коптилки и укрепил их на столе, вынул и разложил на чистой тряпке содержимое саквояжа — скальпель, зажимы, марлю, отыскал порошок хины, пузырек с опием, йод, поставил бутылку с самогоном, наконец развернул простыни. Одну тут же скрутил жгутом. Потом он неторопливо, словно каждый день принимал роды, скинул тулуп и шапку, закатал рукава пиджака и вышел наружу. Мужики топтались у входа. — Где горячая вода? — спросил он. Подали чайник. — Остудили? — Остудили маленько, — сказал кто-то. — Тогда лей на руки, да не обожги. Морду набью. Вода была очень горячей, но приятной. Пальцы отходили. Сибирцев только теперь почувствовал, как застыли они. И в сапогах хлюпало. Однако теперь было не до них. — Миска есть чистая? Сюда, живо… Ты и ты, — он ткнул пальцем в двух, как ему показалось, менее угрюмых мужиков, — будете помогать. Там, на столе, — он кивнул одному, — самогон в бутылке. Принеси сюда. Мужик быстро вернулся с бутылкой. — Открывай. Лей на руки… Да не все, еще потребуется. Он услышал чей-то сдержанный вздох. — Так. Теперь кому сказал, со мной, — остальные пошли к чертовой матери. Нет, правильную он выбрал тактику общения. Подействовало. Даже такие вот бородатые, завшивленные дезертиры и те понимают команду. По голосу чувствуют, кто может приказывать, а кому не дано. Уходя в землянку, он услышал вопрос, заданный старику: — Где доктора такого взял, а? Ответа он не расслышал, хотя следовало бы. Но теперь уже действительно было не до этого. Прокипятив на «буржуйке» инструменты и смазав руки йодом, Сибирцев расстелил на топчане простыню, дал женщине выпить хины, похлопал ее по щекам, приговаривая: — Ничего, ничего… Горько, знаю. Надо так, чтоб сперва горько, а потом сладко… Сейчас мы с тобой рожать станем… Ты кричи, не бойся, громче кричи… И реветь тут нечего. Незачем, понимаешь, реветь… По щекам роженицы текли слезы. Боли, радости ли, что доктор пришел, кто знает, отчего эти слезы… Случай, как сообразил Сибирцев, был трудный. Еще бы немного — и считай опоздали. Самый, что называется, критический момент. Опыт здесь нужен, большой опыт, да где его теперь взять… — Значит, теперь так, — приказал он мужикам, боязливо стоящим у входа. — Этим жгутом вы будете давить на живот и помалкивать. И мордами не вертеть по сторонам. Слушать, чего прикажу, нехристи окаянные… Ишь, рожи запустили, тифозники. А ты, милая, — ласково обратился он к женщине, — гляди на меня, слушай и помогай мне, тужься. Поняла? Ну вот и хорошо, что ты поняла. Ну, давай, нажимайте! Давай, давай, давай… Сколько прошло часов, Сибирцев не знал. Он охрип, сорвал голос и теперь уже не выкрикивал, а рычал свое «давай-давай». В приоткрытую дверь землянки стал просачиваться рассвет, гудело пламя в трубе «буржуйки». Сбросили шинели и совершенно уже осоловевшими глазами следили за Сибирцевым мужики со своим жгутом. Обессилела и окончательно потеряла голос роженица, только разевала беспомощно рот, словно рыба на песке, и что-то глухо клокотало в ее груди и горле. И тут… Словно сквозь сон увидел Сибирцев, как показалось сперва темечко, потом головка… Дрожащими руками стал он направлять тельце выбирающегося к жизни ребенка. И больше всего боялся, что руки не выдержат, уронят, разобьют этот хрупкий, мягкий комочек плоти человеческой. Потом уже он с удивлением соображал, как ловко и профессионально работали его огрубевшие, отвыкшие от скальпелей и зажимов пальцы, вспомнил, как от хлопка по маленьким ягодицам раздался тонкий прерывистый писк. Но все это уже происходило не наяву, а было каким-то стершимся в памяти давним воспоминанием. Он обмыл и завернул ребенка в кусок простыни, влажной марлей отер лицо матери, улыбнулся ей и сказал: — Ну вот и все, милая… Теперь живите. Корми его, холь, расти человеком. Умница ты, богатырскую дочь родила, фунтов, почитай, на десять. Молодец. Он заметил, как горячечно заблестели глаза матери, на лице ее появился отек, потом его залила бледность, отдающая в синеву. Теперь все будет в порядке, подумал он и велел принести снегу и положить ей на живот. Ссутулившись, выбрался из землянки. Рассвет еще не пришел. Просто четче стали силуэты людей, деревьев. По-прежнему горел костер. У входа его встретил Стрельцов. — Батюшка, — запричитал он, глотая слезы, — милостивец ты наш, господи… — Будет, — устало сказал Сибирцев. — Счастлив твой бог, Иван Аристархович. Тебя, как деда, поздравляю с внучкой. Славную девицу вырастишь. Ежели только сумеешь… Слей-ка мне на руки. И самогонки дай. Теперь можно. Помыв и стряхнув руки, он раскатал рукава пиджака и пошел к сидящим вокруг костра мужикам. Теперь их было более десятка. Повыползали, видать, из нор своих. Они уже знали, что роды прошли благополучно, и сразу подвинулись, давая доктору место у огня. Стрельцов стремительно вернулся, принес и набросил на плечи полушубок, положил рядом саквояж, шапку, протянул кружку самогонки и прелую, посоленную луковицу. Сибирцев махом опрокинул кружку и, ничего не почувствовав, словно глотнул воды, стал хрустеть луковицей. Мужики молчали и сосредоточенно дымили самокрутками. — Ну что, черти болотные, — сказал Сибирцев. — Чего помалкиваете? Человек родился, радоваться надо… А вы как сычи… Или для вас один хрен, что дать жизнь, что взять? Так, что ли? — Да что радости-то от такой-то жизни? Маета одна. — Сидящий рядом мужик в шинели и лаптях зло сплюнул на землю, швырнул в огонь окурок. — Еще одна на муки свет божий увидела. — Это как глядеть на жизнь, — перебил Сибирцев. — Кому, вот вроде вас, — маета, верно. А кому воля вольная. — Видали мы твою волю, — пробасил мужик, сидящий напротив. — Это где ж видали-то? — усмехнулся Сибирцев. — У Колчака, поди? Или у Деникина? Так один уже рыб кормит, а другому в пору самому горбушку сосать. — Но, но, ты полегче, ваше благородие… — А чего полегче-то? Это вы тут в болоте вшей кормите, а я в мире живу. Мне видней. — Ну и чего ж в твоем-то мире видно, а, ваш благородь? — спросил сосед в лаптях. — Так что видно?… Многое. Опять же и слухи ходят разные. Верные и сорочьи. Всякие слухи. Курите-то чего? К нему протянулось несколько рук с кисетами. Он достал из одного щепоть табаку, положил на ладонь, понюхал. — С корой, что ли? — А где ж ее взять, настоящую? — обиделся хозяин кисета. — Среди людей поживешь, так будет и настоящая, — отрезал Сибирцев. Он раскрыл саквояж, достал кисет с моршанской махоркой, которую расстарался добыть Нырков. — На-ка вот, попробуй. Небось и дух забыл. Протянулось несколько ладоней. Сибирцев отсыпал по щедрой щепоти. Снова полез в саквояж, вынул сложенный лист бумаги, развернул, покачал головой. — Нет, эту бумагу на курево нельзя. Слишком серьезный документ. — Он снова сложил лист и спрятал в нагрудном кармане. Ему протянули клок газеты. Оторвав полоску, Сибирцев ловко свернул козью ногу, насыпал махорки, прижал пальцем и, вытащив из огня горящую веточку, прикурил. Некоторое время мужики сосредоточенно дымили, покашливали, утирая набегавшую слезу. Крепка моршанская. Истинная. — Ну дак, ваш бродь… — напомнил сосед. — Вот я и говорю, разные слухи ходят, — начал Сибирцев, пристально глядя в огонь. — Ну, например, что мужику серьезное облегчение вышло. Отменили продразверстку. Мужики, уставившись на него, беспокойно и напряженно молчали. — Это как же отменили? — заносчиво спросил рыжий мужик с той стороны костра. — А так, — спокойно ответил Сибирцев. — Пришла пора — и отменили. Будет теперь продналог. Сдал что положено, а остальное твое. Хочешь — на базар вези, хочешь — свинью корми. Что хочешь, то и делай. Твое. — Не, врешь, ваше благородие. Как же так отменили? — нерешительно протянул сосед в лаптях. — Не веришь — твое дело. Ваши тамбовские мужики, сказывают, в Москве были. Они и привезли весть. Не сегодня-завтра декрет на каждом столбе висеть будет. — Врет он! — вскинулся рыжий мужик. — Ничего не отменяли. Вот и Митька… — Дерьмо ваш Митька, и вы дерьмо, — угрюмо сказал Сибирцев. — Сами подумайте, на кой ляд России теперь продразверстка? Белых, считай, поколотили. Чего ж дальше-то мужику страдать? На нем, на мужике, ведь вся земля держится. Так я говорю? — Так-то оно так, — буркнул кто-то. — Да только мужику-то все боком выходит. — А вот чтоб не выходило боком, и вводят продналог. — А ты сам, ваше благородие, из каких же будешь? — с издевкой спросил рыжий. — Из тех, которые людям жизнь дают. Вот как нынче, — Сибирцев кивнул в сторону землянки. — А у меня у самого вот, кроме этого полушубка да сапог, нет ничего. Все богатство. — Ну, есть ли, нет, это еще поглядеть надо. С нами-то чего калякать, ты с Митькой нашим покалякай. Он тебе враз все разобъяснит. Остальные мужики помалкивали, пряча глаза. И Сибирцев понял, что этот рыжий у них сейчас главный. С ним и будет разговор. — С Митькой я говорить не стану. Не о чем нам с ним беседовать. Я свое дело сделал, пойду восвояси. Это вы тут сидите, ждите, чтоб слухи какие доползли сюда. Шиш они станут сюда ползти. Нынче слухи не ползают, по воздуху летают. Как шрапнель. А главный слух такой, что каюк приходит Александру-то Степанычу. Мол, пожаловались мужики те в Москве на разбой, что творится в губернии, и теперь идет сюда регулярная армия. А что это такое, вы все должны знать. Воевали, поди. — Не слушай его, мужики, — рыжий вскочил, заорал, размахивая кулаками, — гад он большевистский! Комиссар! Я их за ребра вешал и всегда резать буду!.. Ах ты старая паскуда! — он вдруг увидел Стрельцова. — Ах ты змея! Вот ты кого привел! Ну погоди, сволочь! Дай Митеньке вернуться, он и тебя, и сучонку твою, и этого комиссара за ноги раздернет! Мужики глухо зароптали. — Брось, Степак, чего глотку рвешь?… — Добро ведь человек сделал… — Сядь, не скачи, дай с человеком поговорить. От вас и слова нового не услышишь… — Истинно как волки в логове… Выждав паузу, Сибирцев стремительно поднялся, навис над костром. — Цыц! — рявкнул он рыжему. — Как стоишь, сволочь? Порядок забыл?! Смирно! Волю ему, сукину сыну, дали! За ноги вешать научился. Я тебя, — Сибирцев над костром протянул крепкий свой кулак, — вот этим враз научу. Сядь и молчи, когда умные люди говорят. Рыжий, злобно озираясь и тяжело дыша, снова сел на свое бревно. Сел и Сибирцев, запахнул полушубок. Сказал спокойно: — Угадал этот болван, мужики. Комиссар я. И нет в этом ничего плохого. Ежели кто грамотный, тот знает, что всегда были комиссары, лет триста уже. Только тех власть назначала, чтоб народ смирять и давить, а нас — сам народ, чтоб давить вот так контру, как ваш рыжий Степак. И продразверстку самый главный комиссар лично отменил — Лениным его зовут. И к вам я по своей воле пришел, не шпионить, а помочь. Марье вон его помочь, вам. Не хотите — не надо. Только знайте, не вечно быть большой воде. Лето придет, и выкурят вас отсюда, как злое комарье. Всех начисто выкурят — и не пикнете. Сибирцев взглянул на старика и увидел, как тот делает ему из темноты какие-то знаки. — Ты чего, Иван Аристархович? Подойди поближе. — Да я, ваше благородие, господин… — Брось ты свои благородия. Кончились они… Руки! — снова рявкнул он, мгновенно выхватив наган. — Руки, Степак! Тот медленно потянул руки из карманов шинели. — Кто там поближе, мужики, заберите у него пушку. А то начнет палить сдуру, новорожденную перепугает. Один из мужиков достал из шинели Степака револьвер и сунул себе в карман. Сибирцев тоже спрятал наган. — И последнее, что я вам скажу, мужики, а потом уйду. Дала вам Советская власть неделю на раздумье. Решайте, тут ли гнить, либо хозяйство поднимать. Указ о том уже есть. Вот он, указ, — он вытащил давешний листок, протянул соседу. — Сами прочитаете. Обсудите. Знайте одно: наша с вами власть еще никого не обманула. Она теперь говорит, что те, кто не участвовал в зверствах против населения, должны в течение недели выйти из леса. Они будут прощены. И никаких санкций к ним применено не будет. Дезертир ты там или мужик, запутавшийся в обстановке, обманутый врагами. Кто виновен, получит свое, но Советская власть смертью карать не станет. Убийцам же и тем, кто будет продолжать борьбу, — тем конец один. И главное, Митьку Безобразова-то не бойтесь. Он за свои поместья мстит семьям вашим, а у вас какая месть? Вам дали землю. Ваша она навечно. И мы не позволим ее у вас отнять всяким Безобразовым. Соображайте, мужики. Нате вам махорки, покурите, подумайте. Неделя еще есть. Больше не будет… Пойдем, Иван Аристархович, проводи меня. Все одно без твоей помощи не выйти, а дорогу в этих болотах разве запомнишь? Сибирцев встал, надел полушубок, застегнулся, поднял шапку и саквояж. — Прощайте, мужики. И не бойтесь комиссаров. Я ведь и сам не сразу к ним пришел. Умные люди подсказали, научили. А мы с вами наверняка больше не встретимся. Проездом я тут. Случай свел.
Вместе с ним поднялось трое мужиков. — Проводим, — сказал один. — Ну тогда пошли, — улыбнулся Сибирцев. Он еще раз заглянул в Марьину землянку. Свечи оплыли, мигали огоньками, но он разглядел, что и мать и дочь спят. Вздохнул. Будут жить теперь. На поляне гомонили мужики. Сбочь посмотрели вслед уходящим, а Сибирцев уже не обращал на них внимания. Будут стрелять или не будут, сверлила мысль. Нет, не будут, не должны. Вроде сломилось в них что-то…
8
Старик шел быстро, будто торопился поскорее покинуть опасное место. Уже рассветало, и тропинка различалась хорошо. Сопели сзади провожатые, слышал Сибирцев шорох их шагов, приглушенные голоса. Быстрым шагом вышли к болоту, на последний сухой бугор. Сибирцев обернулся. Троица, шедшая позади, отстала и теперь что-то горячо обсуждала. Наконец, увидев глядящего на них Сибирцева, они подошли ближе. Один из них, тот самый сосед в лаптях, крепкий и вроде бы самый молодой, другие-то постарше, сказал: — Ты уж прости, не знаю, как и звать-то, не то ваш бродь, не то гражданин комиссар… — Там, за болотами, я тебе товарищ. А тут как сам захочешь. — Ты нам скажи, гражданин доктор, — вывернулся мужик. — Только как на духу… Бумажкам-то мы уж отвыкли верить… Правда, что ты говорил? — Правда. — Перекрестись. — Хоть и не верую, нате, мужики. Вот вам крест святой. — И ничего нам не будет? — Ежели крови на вас нет, не будет. — Да-а, — протянул бородатый, постарше. — Ну дак как, а, братцы? — Знаешь что, — снова сказал молодой, — пойдем мы с тобой. Барахла там все едино не было, а винтарь — хрен с ним, пусть сгниет. Возвращаться — пути не будет. — Вот молодцы, — обрадовался Сибирдев. — Самые что ни есть молодцы. Ну, тогда вперед. Двигай, Иван Аристархович… Путь назад хоть и не легче, но кажется короче. Шли быстро, помогая друг другу, поддерживали в гнилых, топких местах. Вышло так, что Сибирцев ни разу не зачерпнул голенищами. Опять же светло. Запомнить такую дорогу — гиблое дело. Тут под ноги смотри, вовремя скакни с кочки на кочку, не жди, пока она уйдет под воду — сразу дальше. И откуда только силы взялись, удивлялся Сибирцев. Будто и ночи жестокой не было. Он поймал себя на том, что ему даже петь хочется, что-нибудь вроде «без сюртука, в одном халате…». — И сапоги высохли на ногах, и не зябко было, хотя временами над болотами проносился пронизывающий, моросящий ветер. Утром вышли к лесу. Запыхались, тяжело дышали, но шага никто не сбавлял. Скоро уж и сторожка должна показаться. Мужики перебрасывались крепкими словцами, оскальзываясь и цепляясь за гибкие стволы осинок. Земля становилась суше, тверже под ногами. Наконец подошли к сторожке, обогнули ее и лицом к лицу столкнулись с молодым человеком, который сидел в телеге, свесив ноги и покуривая папироску. Стрельцов будто запнулся в шагу, так и замер. Как от удара в грудь, отшатнулись и бородачи. Сибирцев мгновенно уловил смятение в их глазах и позах и в упор взглянул на неизвестного. И чем больше смотрел, тем сильнее напрягалось, как для последнего прыжка, все тело. Сибирцев узнал его. Хоть не было на нем рыжего лисьего малахая и бабьего яркого платка не было. И шинель сидела совсем не мешком, а ловко и даже с изяществом. — Так-так, — произнес с ухмылкой незнакомец, перекатывая из угла в угол рта папироску. Круглое женственное его лицо скривилось, один глаз сощурился. — Я, значит, жду его у кривой березы. Ночь напролет. А его нет как нет. Дай, думаю, к сторожке пойду, вдруг там. Кружу, десятки верст без малого, так и есть. Тут он. И лошадь, и телега. Комфорт. Кому ж это, думаю, такой комфорт? Мне разве? Нет, не мне. Так кому же? Отвечай, сучья рожа! — выкатив глаза, заорал он на Стрельцова и легко спрыгнул с телеги. Сибирцев и старик стояли почти рядом, и Безобразов — это он, твердо понял Сибирцев, — медленно подходил к ним, оттопыривая карман шинели дулом револьвера. Шинель портить не станет, быстро сообразил Сибирцев. Вынет револьвер. Пусть только руку потянет. Пусть… Лезть за своим уже не имело смысла. Поздно. Не даст. — Отвечай! — снова заорал Митька. — Доктор это, — совершенно убитым голосом выдавил из себя Стрельцов. — К Марье доктор. — Как? — искренне удивился Митька. — Разве эта шлюха еще не сдохла? Какой такой доктор? Вот этот? Да разве ж это доктор? Это ж чекист. Я его сам наколол. Чекист с поезда. У Ныркова сидел. Вот какой он доктор, голубчики. А вы, — он обратился к бородачам. — Вам тоже доктор нужен? Поносик у вас? Ну хорошо, с вами разговор еще предстоит. А пока, Сергуня, пощупай-ка его, вынь у него пистолетик. И дай мне. Быстро. Молодой подошел ближе к Сибирцеву, но остановился. — Доктор он, Митрий Макарыч. Как есть доктор. Он ить и Марью спас. Девочку родила. С того света своими руками вынес. Отпусти ты его, обчеством просим. — Ах вот как! У вас уже обчество появилось? Быстро. Упустил момент Сибирцев. Успел выхватить револьвер Митька, и теперь ствол его уставился прямо в грудь. — Значит, что же происходит, а? — снова ласково заговорил Митька. — Я велел сидеть на месте, а этот старый козел в город смотался, чекиста привел, дорогу показал. Ну-ну! Марью твою я своей рукой пристрелю, если шевельнешься. И сучонку ее. А этого — этого мы сейчас на осинку вешать будем. Голову ему отпилим, чтоб другие запомнили Митю Безобразова. И на этой телеге Ныркову отправим. Пусть голова в город приедет. А уж остальное тут, тут повисит. Брось сюда саквояж! — приказал он. Сибирцев безразлично швырнул ему под ноги саквояж. Там звякнули инструменты. — А теперь тулупчик-то сними. Хороший тулупчик, чего его портить. Пригодится тулупчик. Сибирцев рывком, так что полетели пуговицы, рванул полы полушубка и, сбросив, швырнул под ноги Митьке. Путь к нагану был свободен. Теперь только не упустить момента. Не сводя с Сибирцева взгляда, Митька ловко обыскал карманы полушубка, на миг опустил глаза, но этого мига Сибирцеву было достаточно. Словно отпущенная пружина, он метнулся в прыжке к Митьке и через секунду, выбитый ударом сапога, револьвер его мелькнул между деревьями. А сам Митька со всего маху грохнулся головой о колесо телеги. Сибирцев поднялся с земли, подхватил свой полушубок, надел, подошел к Митьке и рывком за воротник шинели швырнул его на телегу. Какое-то время все приходили в себя, потом разом загалдели. Стрельцов со сжатыми кулаками, крича и плюясь, ринулся к Митьке. Рванулись к нему и бородачи. Окружили телегу. А Сибирцев почувствовал вдруг дикую усталость и опустошение. Словно навалился на плечи тяжкий груз всех последних лет. Стали ватными руки и ноги. Он не слушал и не слышал, что кричали мужики, даже не глядел в их сторону. Потом, пересилив себя, подошел к телеге, взглянул в разбитое бабье лицо Митьки Безобразова и услышал, что кричал старик: — А хучь бы и комиссар, и чекист! Он тебя, паразита, не побоялся. К человеку шел! По горло в воде. А ты его, паразит ты проклятый!.. Да ты без меня шагу в этих болотах не сделашь, ах ты, будь ты трижды проклят!.. — Тихо, мужики, — негромко, через силу сказал Сибирцев. — Безобразов — враг Советской власти, и судить его должен народ. Вы — народ. Вот вы и судите. За всю кровь и пожары, за всех им лично замученных, сожженных, забитых насмерть. Судите его… Прощайте, мужики. Он повернулся и медленно пошел по дороге между глубокими колеями тележных колес. Он не видел, как провожали его взглядами мужики, не видел, как шевельнулся в телеге Митька и потянулась к голенищу его рука, и не слышал выстрела. Только почувствовал сильный удар в спину и увидел, как стремительно рванулась ему навстречу земля…9
Пришел вечер. Плыла, качалась телега порасквашенной дороге, каждым рывком своим вонзая раскаленный штык меж лопатками Сибирцева. Гулко, толчками долетал до него неясный, бубнящий говор мужиков, их неторопливый, тягучий разговор. Вцепившись пальцами в края телеги и широко раскрыв глаза, Сибирцев смотрел в небо. К закату оно очистилось, и только в самой далекой, темнеющей глубине его, словно малиновая пряжа, тянулась к северу узкая тропинка облаков.Николай КОРОТЕЕВ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Рисунки П. ПАВЛИНОВА

Дверь дежурки распахнулась, и Сергунька Зимогоров, задыхаясь от бега, лягушонком шлепнулся на пол. — Сем… Семен… Вас… — хватал он ртом воздух. Инспектор выскочил из-за стола, посадив кляксу в какую-то графу отчета, чертыхнулся и бросился к мальчонке. Тот извелся совсем — был очень бледен и потен, губенки посинели. Не застегнутая, а завязанная модным узлом на животе пестроклетчатая ковбойка открывала по-мальчишечьи тощую грудь, и видно было, как меж ребер истово колотится Сергунькино сердце. — Ты дыши, дыши, — приговаривал Шухов. — Не взахлеб, глубоко-глубоко вздохни — полегчает. — Она там, — Сергунька мотнул выгоревшей на солнце головенкой. — Она там… На Змеиный порог… пошла. — Кто она? — стараясь не торопить паренька, спросил инспектор, потянулся к графину дать Сергуньке попить, но невольно задержал руку, услышав дикую весть. — Лариса… на Змеиный порог… пошла. — Понесло? Течением поволокло? — хотел уточнить инспектор, заметив про себя, что недобрые предчувствия все-таки, бывает, оправдываются и история с геологом Пичугиной не окончилась год тому назад, как думалось многим, а только началась. Она была представителем одного из институтов Ленинграда, который несколько лет подряд вел в этом районе работу, неожиданно ставшую параллельной с изысканиями местных геологов. «Методика Пичугиной» нежданно оказалась настолько плодотворной, что позволила Ларисе в одиночку добраться до таинственной руды, которую в течение десяти лет тщетно пытались обнаружить работники местной экспедиции. Однако, сделав столь удачное открытие, Пичугина не вернулась к своим товарищам в Ленинград, а перешла в местную экспедицию. Конечно, по приглашению, по настойчивому приглашению. С этого и начались се злоключения. Она осталась чужой среди местных и предательницей для своих, тех, кто доверил ей собственные мысли и соображения, кто провожал ее в путь, надеясь на ее счастье геолога. — Сама через порог пошла! — выкатил глаза Сергунька. — Зачем? — спросил старший лейтенант, понимая всю бестолковость вопроса. — Сама? Мальчишка закивал, и чувствовалось, что он собирает последние силенки, стараясь не расплакаться. Ведь Сергунька видел, как человек, которого он искренне считал настоящим героем, сам пошел на верную гибель. А Лариса для него — герой из героев. И жила она не где-то, а в одном поселке с ним, и видел он ее не на фотографии в журнале, хоть были у него и снимки — красивые, цветные, из столичных журналов, — а вот так же, как Семена Васильевича. И с этим героем из героев можно было пройтись по улице, чувствовать ее руку на своем плече и знать — все наслышаны об их дружбе, или отправиться с героиней-геологом на реку ловить хариусов. Герой, она же Лариса Анатольевна, или попросту Лариса — не желала она слышать «тетю», — умела за минуту сделать из медвежьей щетинки прекрасную искусственную «муху» для приманки и спиннинг забрасывала так, как и отец Сергуньки, егерь Федор, не смог бы, пожалуй. Лариса знала названия всех камней и минералов на свете и могла рассказывать о них настоящие сказки и всякие чудесные истории. И самое-самое главное — этот герой отличил именно Сергуньку среди всех поселковых мальчишек, считал его смелым, отважным, потому что Сергунька спас ее от щитомордника. А она сама потом призналась, что до жути боится «всяких пресмыкающихся»… — Сама! Сама пошла! — снова крикнул Сергунька, прижавшись к кителю Семена Васильевича. Он уже не сдерживал слез, и плечи его мелко дрожали. — Подожди, подожди… — Не доводилось еще инспектору слышать, чтоб кто-то в округе решился играть в такую орлянку — «жизнь — смерть», потому никак не мог он взять в толк Сергунькины слова. — Сказала: «Пройду и уеду». — Когда это было? — Сейчас, я с реки. — Знает же она — никто никогда не проходил Змеиного! — Знает! И пошла! Подняв с пола Сергуньку, инспектор сел на стул, посадив мальца на колени. — Черт знает что… На чем она пошла? — спросил Семен, будто именно это и было самым важным, хотя понимал — не в том суть. Пока он просто не понимал, как ему нужно действовать. — На нашей оморочке пошла. Ну, на пироге! — Доигрались… — пробормотал Шухов. — Она меня к вам послала сказать, — маясь душой, воскликнул Сергунька. — «Сил моих нет больше, — сказала. — Пройду и уеду». Вот. — Рехнулась? — спросил сам себя инспектор. Он не оттягивал времени для решения. Сам он уже ничего не успевал сделать. — Почему ты не домой, не к отцу побежал? Он на моторке, поди, давно бы догнал ее. — Не пойдет отец… — Сергунька потупился. — Ерунда какая! — придерживая Сергуньку одной рукой, инспектор взял телефонную трубку. — Чего ты выдумал? — Не пойдет отец. Он вчера сказал ей: «Тонуть будешь — руки не протяну!» — Чепуха! Чепуха! — кричал Семен в трубку. — Не вам! С кордоном! С кордоном соедините! — Никакая не чепуха! Он сказал: «Тонуть будешь — руки не протяну!» Но инспектор уже не слушал Сергуньку: — Федор? Федор! Пичугина на порог пошла! Нет! Сама! Догони! Останови ее! Потом! Потом! Догони, она на оморочке! Потом объясню! С полчаса как ушла! Хорошо… — И бросил трубку. Перестав плакать, Сергунька во все глаза смотрел на инспектора. — Пошел? — Конечно, пойдет. Мало ли что отец сгоряча скажет… — Догонит? — Пожалуй. — задумчиво сказал Шухов, а про себя договорил: «Пожалуй, поздно…» — Батька догонит, — успокоенно, прерывисто вздохнув, проговорил Сергунька. — Коль пошел — спасет. Он такой. «Поздно…» — повторил про себя Шухов. Его подмывало кинуться к реке, вскочить в какую-нибудь лодку, дать мотору полные обороты и помчаться к порогу, догнать и удержать Пичугину от сумасбродного и бессмысленного поступка. — Где она тебя высадила? — поднявшись со стула, Шухов поднес легковатого для своих восьми лет парнишку к карте, висевшей на стене. Поселок Горный мелким кружком обозначался на узкой перемычке у большой петли, которую делала река, обходя солидный скальный массив. Синяя ленточка на карте уходила от поселка круто вверх и в сторону, чтобы только через пятьдесят километров вновь вернуться к его окраине. — Так где она тебя высадила? — Вот, — мальчишка ткнул пальцем в карту, показав на окраину поселка. — Она перевезла меня с той стороны и высадила… «Выходит, Лариса не хотела, чтоб Сергунька домой побежал, — отметил про себя Шухов. — Хотя догадался бы Сергунька взять от причала любую лодку. Бывало. И назад пригонял. Все зависит, насколько Федор разобрался в сложности положения, — подумал инспектор. — Точнее, смог ли я убедить его в этом по телефону… Обычно он понимал меня с полуслова. А сегодня?» — Знаешь, Сергунька, я уверен, что Лариса догадается выбраться на берег раньше, чем ее поволочет на порог. — Она не шутила! — Когда говорила с тобой — не шутила. А ты подумал, что значит пойти на порог? — Распотрошит он Ларису… — Никто через Змеиный не проходил! Сергунька опустил глаза: — Никто не проходил… Семен Васильевич представил себе, как на первом же перекате легкую берестянку разнесет вдребезги, а человек… Если искать, то только то, что от него останется. И идти на поиски нужно сейчас от правого края поселка. Тихо-тихо идти вверх по реке к порогу, чтоб не прозевать ненароком тело. Если, конечно, его не поволочет по дну… Тогда останки выбросит где-нибудь километрах в ста от поселка на галечную косу. Может быть, найдут их, к счастью, чтоб предать, как положено, земле. «А нет, так нет…» — подумал Шухов и будто увидел, как, придя в себя после дурманного настроения, Лариса может попытаться направить лодчонку к берегу, а засасывающая струя неодолимого скорого потока, предпорожной быстрины, помимо желания, воли и сил ее, повлечет берестянку в пасть Змеиного. И тут он ощутил, именно ощутил, а не просто вспомнил, как он, старшина второй статьи Семен Шухов, подвахтенный рулевой, смытый громадой волны за борт, погрузился в океанскую пучину. Это случилось, когда крейсер, на котором он служил, неожиданно попал в тайфун, словно в мышеловку. Вот уже много лет происшедшее не будоражило его память. Теперь же оно ощутилось Семеном мгновенно, и все целиком, и в мельчайших подробностях, точно взрыв воображения. Пережитое охватило его душу столь сильно, так ослепляюще ярко, что потрясло его не меньше, чем в те минуты истинной смертельной опасности. Семен зажмурился, когда падал за борт в струе, но, оглохнув под толщей воды, вытаращил глаза и уже не мог закрыть их — жуть охватила его. Чувство предела своей жизни было так неизбывно, что Семен едва непроизвольно не открыл рот и не заорал от ужаса. А про себя-то Семен вопил; стенала и томилась в безысходности его душа. Даже боль молчала в избитом теле — ведь волна волокла и шибала его о палубу, о какие-то предметы на баке. Он помнил, что пытался схватиться за что-то, но не мог удержаться, а клубящаяся масса потока швыряла и колотила его обо что ни попадя, и искры сыпались из глаз, и радужные круги полыхали перед взором. Затем — невесомость, состояние взвешенности в туго сжимавшем пространстве; тошнота, подкатившая к гортани; потеря ориентировки — где верх, где низ? И он увидел зеленую толщу воды, пронизанную лучистым мерцающим светом, серебряные пузырьки воздуха, застывшие перед его лицом. Так продолжалось долго, так долго, что мышцы меж ребер начали судорожно сокращаться, требуя воздуха. А волна круг него точно замерла, вздыбившись, и он висел в ее толще, будто распятый. Потом вода стала жать на плечи, вдавливая его вглубь. Цвет волны стал меркнуть, отливать синевой, а следом и сталью. И вдруг он вынырнул из серой тьмы ногами вверх под слепящие боковые лучи солнца. Над ним распахнулось чистое и яркое, хрустальной синевы небо, огромный, в несколько миль, круг его, огражденный срубом из туч и ливня, свинцовой плотности и цвета. Ветер низвергался с небес. Поток его был плотен, как водяной столб. Семен едва не захлебнулся им — спасла новая волна. А потом, вынырнув, он пил воздух сквозь стиснутые зубы. Он опять увидел круг ясного неба, огражденный тучами и ливнем. Колодец, на дне которого он находился, оказался таким глубоким, что оранжевый зрак ярого полуденного солнца замер на краю «глаза тайфуна». Громады волн здесь не катились. Они вздымались и проседали сами на себя. Воды дыбились в тиши, образуя вулканический конус, из которого извергалась пена. Клочья ее, будто живые, метались меж вершин. Ему, наверное, только казалось, что стояла тишина. Семена вдруг опять потянуло волной в сторону, вбок, едва не перевернуло вверх ногами. Но, успев схватить глоток воздушной струи, он поднырнул вроде, постарался уйти чуть глубже. Его снова сковала жуть. Только теперь он не орал про себя, а пытался уговорить свое ноющее сердце, старался сообразить, как поступать: «Держись… Держись и подныривай, чувствуй волну, движение воды… Первый раз под водой страшно… С первого раза страх костенит… А потом держись, понимай воду… Ты же пробка — вынырнешь… Дыхание держи…» Он действовал расчетливо, и снова и снова его выносило на поверхность. И он увидел корабль — игрушку у подножия пирамидальной волны. Грива ее тряслась высоко-высоко над клотиком, над его огоньком. А у нока рея трепетал на паутинке фала флаг «червь» — синий лоскуток с желтым ромбом посредине: «Человек за бортом». «Заметили! Заметили, что смыло!» — Дыхание перехватило от несбыточной, призрачной надежды. Крейсер шел кабельтовых в трех от Семена. Шаровый цвет корпуса становился все менее заметен в тени от водяного горба. А сама пирамида горбилась все выше, пеной взорвалась над кораблем. Дико, неправдоподобно это выглядело. Семену стало видно, как тело водяной громады начало задирать нос крейсера. Потом пред ним предстала вся палуба, и крохотные фигурки на ней, фигурки в серых рабочих робах, которые вроде замерли и не двигались, завороженные страхом. Так, по крайней мере, Семену почудилось. Но флаг «червь» трепетал ведь у нока рея! Шухов, рулевой Шухов, понимал: корабль находится в таком же бедственном положении, как и он сам. Достаточно неверного, слишком рискованного маневра, и тогда крен крейсера сложится с дифферентом от качки, тогда судно потеряет остойчивость, перевернется. Ему на миг даже представилось это, он словно воочию узрел, как среди темной воды ярко засветится красное, покрытое суриком днище. Однако и про себя он не смог крикнуть «Нет!» и пролепетал: «Что ж… вы… делаете?…» — когда увидел: корабль начал поворот, находясь на скате волны. Ошметок пены залепил лицо Семена. «Осторожнее… держись, старшина», — сказал он себе. Но, окунув лицо, он побоялся тут же открыть глаза. Ведь только сказочное мастерство командира или чудесное везение могло спасти корабль от гибели. Только тогда Семен как бы забыл о себе, о собственной неминуемой гибели, о своем безвыходном положении. Корабль, только живой корабль мог спасти и всех, и его, прежде всех пусть не его. А пока крейсер боролся с тайфуном, пока каждый матрос на его борту делал все возможное, чтоб работали машины, а палуба была твердым островком суши в бесноватом океане, надежда выжить и ему самому оставалась. Даже скройся судно за горизонтом или исчезни из поля зрения, Семен наверняка и в самые последние секунды свои, перед тем как холод воды остановил бы его сердце, продолжал бы считать и верить: продержись он еще, еще чуточку, вот-вот, — и корабль вернется и все-таки спасет его. Увидев же гибель корабля, старшина второй статьи Шухов мог лишь резко выдохнуть весь запас воздуха и опуститься так глубоко, чтоб уж не выплыть, как ни захоти. Тогда-то вот, может, и оставалось ему сделать последний свободный выбор — пойти на сознательную гибель или терпеливо ждать, когда она придет сама. Находясь в центре тайфуна, в доброй тысяче миль от берега, в ледяной сентябрьской воде океана, без шлюпок, никто и не смел помыслить о спасении. Даже если бы того захотел сам бог. Это мог сделать только «второй после бога», как говаривали старые морские волки, командир корабля, капитан первого ранга Шкворень. И, вынырнув, Семен хватил здоровый глоток воздуха от удивления — за какие-то секунды судно оказалось уже в кабельтове от него. Крейсер шел прямо на Семена. Он увидел на носу и на корме по нескольку матросов. Они стояли у лееров и держали в руках спасательные круги и куртки с привязанными к ним концами, чтоб бросить их Шухову, а сами тоже были хорошо подстрахованы товарищами у надстроек. Тут коварная громада сулоя стала вскипать под днищем корабля. Движение массы воды потянуло Семена вроде бы к борту, а на самом деле расстояние между ним и судном почти не сокращалось. Стоячая волна росла на глазах. Она возносила крейсер прямо к небесам, и оранжевый свет пронизывал зеленую стену вздыбленной воды. И одновременно Семена проносило мимо корабля. Шухову стали видны винты судна, вращающиеся в воздухе. Однако теперь не полоса воды, а высота волны отделяла Семена от борта. Кто-то нетерпеливо бросил круг со снастью в его сторону. Тот упал, не долетев и мотаясь в воздухе, словно плод, до которого нельзя, невозможно дотянуться. Но Семен не мог отвести взгляда от него. И тут что-то стукнуло его по голове. Шухов едва инстинктивно не поднырнул, чтоб увернуться от опасности. Однако понял: «Круг! Ведь это круг!» — и вцепился в него мертвой хваткой. Его было опять поволокло куда-то в сторону, но он уже успел влезть в круг, чувствовал его под мышками, но и пальцев не разжимал. Корабль, огромная махина крейсер, весь, по стойки на бортах, погрузился в пучину и накренился так, что орудийные дула едва не тыкались в хлябь, а надстройки вроде бы рушились на Семена. Палуба стала на дыбы, и он смотрел на нее словно сверху. Тогда по стоящей почти вертикально палубе, от надстроек к борту, то ли в прыжке, то ли в падении, на ходу выбирая слабину, скатился боцман — рыжий молодой парень. — Витька! Витька! — благим матом завопил Семен, не слыша своего голоса и видя одно — его несет к кораблю. Какой-то метр — да меньше! — разделял их: Семена за бортом и боцмана, перегнувшегося через леер, чтоб схватить Товарища. Только Семен уже не мог ждать. Он рванулся к кораблю, промахнулся мимо леера, вцепился в боцманскую штанину. Подскочили другие ребята, с трудом протащили Семена меж туго натянутыми леерами Боцманскую робу Семен так и не мог выпустить из рук. И в тиши госпитального отсека, в тепле, среди родных и знакомых лиц, Семен все равно не мог ослабить хватку пальцев. Мышцы свело, он ощущал боль и ничего не в состоянии был сделать, пока не влили ему в рот сквозь стиснутые судорогой губы полстакана спирта. Он вдруг как-то обмяк и заснул. Его заставили проспать несколько суток. В полусне он пил бульон и шоколад, так ему рассказывали. Очнулся, когда входили в родную гавань. Врачи на берегу опасались, что он больше не сможет служить на корабле, никогда уже не выйдет в море — такие потрясения не проходят бесследно. Семена действительно долго мучили ночные кошмары. Особенно детали, неподвижные изображения: серебристые пузырьки воздуха, застывшие в зеленоватой волне; зрак солнца на краю колодезного сруба из туч и ливня, а он глядит на все это со дна; огонек клотика на мачте и трепещущий флаг «червь» на паутинке фала у нока рея. А на корабль он вернулся, хотя медики долго не соглашались, и что стоило опрокинуть их прогнозы, знали только он да командир корабля с замполитом. Потом Семен хотел остаться на сверхсрочную, но тут врачи взяли реванш… — Дядя Сень, дядя Сень! — Сергунька совал ему в руку телефонную трубку. — Мамка вас просит. Мамка звонит. — Сейчас… — выдавил инспектор, вытер холодный пот со лба, чувствовал: при одном воспоминании о случившемся с ним в океане оторопь его берет и рубашка прилипает к спине. А ведь Ларисе придется пережить на пороге не менее жуткое, и рядом никого не будет. — Сейчас, сейчас, — заторопился Шухов, словно от разговора с Марией Ивановной могло что-то зависеть. — Слушаю… Сам толком ничего не знаю… Сергунька молодцом. Ушел Федор? Моторку слышите? Добро. Я Сергуньку к Стеше отведу. Марья Ивановна, я не могу не верить Сергуньке… Шухов поднялся, все еще продолжая держать на руках мальчонку. — Опустите меня на пол. Отдышался я. — Да, да… Они вышли на залитую солнцем улицу. Сергунька было потянул в сторону переволоки, где заводь, откуда ушла на Змеиный Лариса, а инспектор повел его в другую — к школе, что находилась на берегу уже вышедшей из ущелья реки. — Семен Васильевич! Вызовите вертолет! А? — затормошил инспектора Сергунька. — Летчик даже из самого порога может ее вытащить! — Вертолет поздно вызывать. Пока-то он сюда доберется. Понимаешь? — сказал старший лейтенант. — Сдается мне, сидит Лариса у реченьки на камушке, словно Аленушка. Помнишь такую картину? — Помню… Только не сидит Лариса на камушке. — Сидит, — постарался совсем уверенно сказать Семен Васильевич. — Постращала… «Что ж еще тебе, малыш ты хороший, скажешь?… подумал Шухов. — Нечего больше сказать. Зачем только она, эта Лариса, тебя вестником своим выбрала? Не иначе как по-дружески. «По-дружески»… Слишком много у тебя друзей, коли так ими швыряешься! Бывает, видно, такое несчастье с человеком, что от обилия дружбы и ласки паршивеет…» — Она не стращала. Она не стращала, — твердил Сергунька. — Она прямо на порог. Я кричал, кричал… Потом испугался — и к вам. «Подарочек…» — крутнул головой инспектор. И случись же так, что вот уже год у него на глазах, можно сказать, разыгрывалась эта драма, вмешаться в которую он не имел никаких оснований. — Семен Васильевич! Семен Васильевич! Я говорю, говорю, а вы не слушаете, — Сергунька теребил Шухова за рукав. — Что? — Я давно ей плохого не говорил! — Как это — «плохого не говорил»? — Лариса спрашивала: «Ну, что обо мне говорят?» — Она всегда спрашивала тебя про то, что о ней говорят? — Да, — солидно кивнул Сергунька. — Ее сначала, ну, давно, совсем никто не знал. Потом очень-очень полюбили, а потом совсем разлюбили. — Это Лариса так говорила? — Она спрашивала и молчала… — А ты передавал ей все, что слышал? — Ведь ее потом никто-никто не любил. Совсем даже водиться перестали. — А ты? — Мы стали дружить, когда ее разлюбили. — Почему же ее разлюбили? — Она сказала: «Я добрая и дура». — А что ты ей говорил? — Все. — Что ж это за «все»? — Все, что слышал. — Она просила тебя подслушивать? — Зачем? Она спрашивала: «Ну, так что обо мне говорят?» Я и отвечал. Все про нее говорили… — За это она тебе и берестянку смастерила? — зло вырвалось у Семена. Сергунька остановился и, вытаращив голубые чистые глаза, посмотрел на инспектора снизу вверх, раскрыв рот от удивления. — Прости, малыш… Не за то она, наверно, тебе «пирогу» строила. — Семен, Семен! — услышал Шухов голос жены будто издалека, а она стояла рядом, за штакетником, что огораживал школьный двор. — Что случилось? На тебе лица нет. Сергунька мокрый — тонул он, что ли? Сердце чуяло — доиграется он с Ларисой. Инспектор провел ладонью по лицу. Пичугина на порог пошла… — Свихнулась? — Нет! — крикнул Сергунька. — Она сказала: «Пройду — вернусь к своим в Ленинград». Стеша вскликнула было, да прикрыла ладонью рот. Инспектор сказал: — Федор догоняет ее. На моторке пошел. А ты?… — проговорила Стеша и кивнула в сторону берега, где река, уже вырвавшись из ущелья Змеиного, снова разливалась широким, зеркально-спокойным плесом. Витька догонит ее! Догонит! — кричал Сергунька, вцепившись в штакетник и дергая доски что было сил. — Догонит! Обязательно догонит, — заторопилась Стеша. — А мы с тобой здесь подождем, хорошо? — Семен Васильевич! Семен Васильевич, не ходите туда! Не ходите к выносу из порога! Батька обязательно догонит ее! Мне к Антипу надо. К деду Антипу. Понимаешь, Сергунька? — Не ходите туда… пожалуйста… — Я по другому делу. Вы, пожалуйста, Семен Васильевич, спасите, пожалуйста, Лирису. Она хорошая, она до-обрая-предобрая… — плакал Сергунька, уткнувшись лбом в штакетину. — Иди, Семен, иди. Я успокою, присмотрю… Да что же это такое! Ты сам-то в себя приди, Семен. Инспектор спорым шагом двинулся к реке. — Найдет тебя Федор как пить дать на прибрежном камушке… Ей-ей, найдет! На пятнадцать суток за мелкое хулиганство упеку. Вот так-то, Лариса Анатольевна, — бормотал под нос себе старший лейтенант.
* * *
Ларису со вчерашнего вечера, с той минутки, как она вскрыла и прочитала письмо Прокла Рыжих, била внутренняя неуемная дрожь. Хотелось реветь белугой, да слез не было. Письмо она изорвала в клочки, бросила на пол и долго топтала их, будто они живые и каждое слово кричало. Тогда Лариса собрала клочки, сожгла их, но помнила все письмо наизусть, словно нарочно вызубрила. С Проклом она вместе училась, не один год ходила в «поле», их считали закадычными друзьями. Теперь Рыжих вернулся из Афганистана, где работал три года, и тут же по старой дружбе послал ей весточку. Начиналась она так: «Все мы крепки задним умом. Теперь я твердо уверен, что тебя нельзя было отпускать тогда в «поле» одну, возлагая столь радужные надежды…» «Ну что, что ты понимаешь, Рыжик! Ведь я сама добивалась пойти в одиночку. И если бы вы так же верили в успех, как я, то, конечно, не пустили бы меня одну. Я твердила о свободном поиске и вероятной удаче. И преуспела. Вы были добры и ночи напролет просиживали со мной, обсуждая маршрут, детали поисков, возможные варианты того или иного состава шлихов, а я-то знала уже наверняка, каким образом пойду и что встречу на маршруте. Вы-то там, куда я шла, не ходили, а мы с Садовской те места облазили, только Садовская не участвовала в обсуждении, занималась своим малышом. И если честно, я радовалась, что она не присутствовала на сборищах, где я утаивала от вас многое, не желая вселять в вас свою уверенность в удаче, в «столь радужные надежды». Вот когда я начала подличать…» Дальше Прокл писал: «Не верю в умную поговорку: все понять — все простить. Но я хочу знать из первых рук, от тебя самой, что произошло, почему ты, мягко говоря, оставила нас в час своей и институтской славы. Кириллин сказал: «Предают всегда любимые ученики». Может быть, он, как твой научный руководитель, имеет на это право. Не мне судить его. Только я ни во что не верю и никому не поверю, пока не узнаю все от тебя. Мы делили с тобой и последнюю банку консервов, и крошки от сухарей, две недели шли голодные на плоту и сумели проскочить порог и выжить. Ты не откажешься сказать мне правду. Всю до конца, какая бы она ни была…» Больше всего ее поразило, что честолюбивые мотивы, жажда славы, именно ее, Ларисы Пичугиной, славы, вот эти-то канаты сейчас вроде бы перестали существовать, держать ее здесь на привязи. Честолюбивые мечты словно растаяли, не выдержав напора дружеского участия и товарищеской требовательности. Но когда она подумала о том, что придется быть откровенной не ради прощения, а во имя душевной честности и чистоты, действительно рассказать все и не вилять, Лариса поняла — не сможет. Язык не повернется ни правды всей сказать, ни солгать. Однако, скажи она полуправду, скрой хоть пятнышко в душе — и тогда никуда не нужно ездить, глядеть в глаза товарищам. Лучше уж остаться здесь, среди людей, в коллектив которых она так и не смогла войти. Сначала этому мешала слава и глупая фанаберия исключительности и почитания, а потом смешная обида на тех, кто не захотел подарить ей частицу своего труда, на который она не имела никаких прав. Было и такое. Разве она не пыталась за информацию и собственное мнение требовать включения своего имени в работы магнито-, сейсмо- и гравиразведки? Она ли это была? Что она сама с собой сделала? Как дошла до жизни такой? Но ведь это было! Было!.. И тут Лариса почувствовала какую-то животную жуть страха и стыда — гнева, обращенного внутрь себя. Письмо Прокла — первая и единственная весточка оттуда, из Ленинграда, — словно разрезало мешок горечи, накопившейся у нее в душе. Она ощутила себя нагой и грязной. А то, что казалось забытым и отринутым, нити, которые связывали ее со многими людьми в институте, с тем, что принято называть коллективом, оказались живыми, не порванными, как ей представлялось. Письмо Рыжих словно отбросило ее к тем временам, когда, добывая крохотные сведения, капелюшечную информацию своим потом, скитаниями и лишениями, она презирала чванливых чинуш, которые строили из себя интеллектуалов на том основании, что они «осмысливали» чужие труды, а «полем» для них были Невский и Садовая. В ту бессонную ночь она с какой-то оторопью вглядывалась в себя сегодняшнюю — мелочную, придирчивую и завистливую, и не понимала, каким образом стала такой, искренне не понимала. Но и вздохнуть полной грудью не могла. Мешал страх перед той минутой, когда она приедет и свой институт, глянет в глаза своим товарищам и начнет говорить о себе. Без этого не обойтись, если она действительно хочет вернуться к своим. Лариса страдала тоскливо, до сердечной сосущей боли, когда хоть бейся головой о стену, а легче не станет. Мысли ее метались. Она то видела в воображении участливые лица, то вдруг они перекашивались гримасой презрения. И Рыжих первым бросал ей: «Зачем же ты приехала? На что надеялась?» Пичугина, пошатываясь и постанывая, ходила в темноте из угла в угол своей комнатушки и умоляла самое себя расплакаться, разрыдаться, надеясь успокоиться. Может быть, успокоилась бы, да слезы точно подперло плотиной. Глаза оставались сухими, их резало, как от горстки песка. Вдруг она стала перед ночным окном и ударила себя по лицу. Вновь, и вновь, и вновь — и снова. Щеки запылали, но ощущение тоскливой боязни стыда перед самой собой не прошло. «Ты не откажешься сказать мне правду. Всю до конца, какая бы она ни была…» Лариса не повторяла слова письма, она слышала голос Прокла, живой, чуть хрипловатый и жесткий. Он умел говорить так, что его нельзя было не послушаться. «Мы делили с тобой и последнюю банку консервов, и крошки от сухарей, две недели шли на плоту и сумели проскочить порог и выжить…» Да, сумели. Проскочили, забыв на несколько часов о голоде, обо всем на свете. Они работали правилами как бешеные, обуянные жаждой жизни. А порожек-то был плевый, если сравнить со Змеиным. Тут мысли ее словно стали на якорь, как говаривал Прокл Рыжих. Женщина сильного и порывистого характера, приняв решение, она шла к цели без оглядки и любой ценой, не стесняясь в средствах, важным оставалось одно — добиться своего сразу и непременно быстро. И Лариса сказала себе: «Плевый порожек заставил нас забыть о голоде и усталости… Змеиный выбьет из тебя, Лариса, весь страх перед признаньем и весь стыд за самое себя. Ты должна пройти Змеиный — и уехать. Должна! Клин клином вышибают, страх — страхом. Вот так!» Идти на верную гибель — такого у нее и в мыслях не было. Она первая осмеяла бы человека, который сказал, будто Пичугина пошла на Змеиный за смертью. В мыслях ее настала ясность. Она должна преодолеть непроходимый порог, преодолеть и действительный, Змеиный, и в себе, в своем сердце, своей душе. Где ей было думать об осложнениях, которые могли возникнуть для других, коли ее затея кончится крахом. Но Лариса не собиралась погибать. Да и при чем тут другие? Они для нее не существовали. Она идет на самое себя. Это самая отчаянная, самая высокая и подчас самая безнадежная схватка. Измученная мыслями, Лариса села, облокотилась на стол, положила голову на руки на минутку, перед тем как пойти и взять оморочку. Холодные клешни, сжимавшие сердце, чуток отпустили. Она уснула сразу и крепко. И снился ей Петродворец. Они приехали туда с Проклом ясным золотым осенним днем. Они вырвались из злой таймырской пурги и удачно, за двенадцать часов, добрались до Ленинграда. Фонтаны еще работали. Пестрота толпы спорила с осенним нарядом парка. Снежные струи бьющей вверх воды обдавали радужной пылью золото статуй. Редкостное синее безоблачное небо сияло янтарным солнцем. Людской гомон не мог заглушить ни водяного плеска, ни сухого шума листвы под ветром с Финского залива. С террасы дворца они долго смотрели на Большой каскад «Геркулеса со львом» и «Наяд с тритонами»; долго бродили по парку, любуясь «Чашей» и «Пирамидой»; павильонами Большого дворца и их отражением в зеркале вод… Ларису разбудили косые лучи солнца, поднявшегося над сопками. Она проснулась сразу и заторопилась, словно опаздывала, и отправилась к реке, к заводи, где стояла оморочка, берестянка, которую она смастерила для Сергуньки. Она шла быстро, а перед глазами ее все еще проплывали видения Петродворца: трепетный фонтан «Ева», романтичный дворец «Марли», в окружении меднолистых дубов. Вдруг около заводи, у кустов, где стояла спрятанная оморочка, она увидела озябшего, с синими губами Сергуньку, в легкой рубашке, полы которой были завязаны модным узлом на животе. — Лариса, ты не сердишься? — бросился он к ней. — Ты о чем? — Отец тебе вчера наговорил… ругал. — Вчера? Ах да, — вспомнила она. — Чепуха это, Сергунька. — А я боялся… — Ерунда. Я вот порог хочу пройти и уехать. Мальчишка вытаращил глаза. Потом ринулся к ней, обхватил за бедра, прижался: — Ларисочка, Ларисочка, не надо! Не надо!* * *
Федор осторожно положил телефонную трубку на рычаг и резко повернулся к Марии Ивановне. — Пичугина на порог пошла… — сказал он тихо. — Чего ей там делать? — Жена кормила молочной кашей шалуна Васятку, который норовил ткнуться в ложку носом. — Поиграть задумала бабенка… — Она Сергуньку к Семену Васильевичу послала. Велела передать: «Пройду через порог и уеду». — Сергуньку? — всполошилась Мария Ивановна. — Вот стерва! Так чего ж он не домой, дом рядом, а в поселок к инспектору побежал? Вот пострел! — Она послала! — ответил Федор уже из сеней, где натягивал болотные сапоги. — Где телогрейка? Мария Ивановна подскочила к дверям, в сени с Васяткой на руках: — А Сережка безголовый? — Он-то нет, а вот я ее вчера шуганул, чтоб она с ним не путалась, не смущала мальца. — Слова-то выбирай! — Она у Березовой заводи шалаш с Сергунькой построила, берестянку ему оборудовала — пирогой называла. В индейцев американских стали играть. — Связался черт с младенцем! — выругалась Мария Ивановна — Ты толком говори, Федор. — Некогда! — бросил Федор, пытаясь сунуть ногу в голенище. — Чего туда насовали? — Он стащил сапог, залез в него рукой и вытащил пластмассовую кеглю и шар. — От дьяволята. — А я игрушки искала! Вон Васятка куда их засунул. Ты, а, Васятка? Вопрос был праздным, говорить Васятка еще не умел, но с радостью потянулся к ярким вещицам. — Черт те что, — вдалбливая ногу, обернутую портянкой, в сапог, бормотал Федор. — Надо и второй проверить… — Можешь ты толком объяснить? — рассердилась Мария Ивановна. За последние годы фигура высокой женщины расплылась, и теперь Федор рядом с ней казался маленьким и узкоплечим. — Что ты ей наговорил? Коль на верную смерть решилась… — Ну, говорю же, шуганул! Чтоб и духу ее около Сергуньки не было. — И это она из-за твоей-то брани на порог пошла? — Ты, Марья, о Сергуньке подумай! Как она такое мальцу доверила? Зверь, а не баба. — За Сергуньку не боюсь. Он святой еще — всякому слову верит. Даже твоему дурному. «Шуганул»… Медведей тебе шуговать, да и то один разозлился, бока тебе намял. А тут малец да непутевая. — И тут же без перехода: — Не колотись ты, Федя. Поиграет бабенка, да и к берегу, на камушек. Кому придет в голову кончать жизнь на пороге… — протянула она вослед Федору, который надел наконец сапоги и, схватив с вешалки ватник, опрометью бросился к реке. Она поблескивала меж редких деревьев неподалеку от кордона. — Бензин-то! Мало в баке! — кричала вдогонку мужу Мария Ивановна. — Говорила вчера — заправь! Федор отмахнулся и опрометью, минуя спуск, спрыгнул с высокого берега на прибрежный песок, вскочил в лодку и оттолкнул посудину. Мотор послушно забил частой дробью. Развернув моторку и выведя ее на стрежень реки, Федор ясно представил себе, что он должен сделать для спасения Пичугиной. Он настигнет ее неподалеку от начала порога, на широком плесе, где течение еще невелико, обгонит берестянку и, ошвартовавшись к ней, возьмет Пичугину к себе на борт. Зимогоров прикинул время и решил, что так оно и будет, если… Но вот это-то «если» его и смутило. Однако не сразу. Ведь если Сергунька успел добежать до поселка, рассказать обо всем случившемся Семену Васильевичу, и тот, может быть, не сразу сообразил, как предупредить несчастье, то прошло уже не менее сорока минут. Возможно, Семен Васильевич и не спросил Сергуньку, откуда именно, с какого места пошла эта Лариса на порог. Добро бы от заводи, где они с Сергунькой построили шалаш и сделали берестянку. «Тоже мне речники, — досадливо поморщился Федор. — Ну она ладно. Она за себя в ответе. А коли Сергунька отправился бы в такое путешествие? Мальчонка запросто мог не рассчитать своих силенок. Пошел бы в берестянке в заводь перед порогом и то ли подошел близко к горлу порога, то ли попал бы в сильную струю — и не справился с течением. Сергунька мог отправиться в плавание и без ведома Ларисы этой Анатольевны. И погиб бы сам! Запросто!» Нет уж, такого Федор и в мыслях допустить не мог. Подумать — и то оторопь берет. Сколько раз говорил он Марье: «Следи покрепче за Сергунькой». Это за Васяткой особого пригляда не требуется. Мал еще. Самое большее — нос, споткнувшись, расшибет. А за Сергунькой нужен глаз да глаз. У Марьи же все наоборот. Шляется Сергунька один-одинешенек по тайге, по берегу — ей и горя мало, лишь бы глаза не мозолил. Сколько раз спрашивал Федор у жены: знает ли она, чем Сергунька занимается? Она ж одно: «Здесь, около, шляется; крикну — прибежит». Являлся. А про шалаш и берестянку молчок. Ну, шалаш — ладно. Но лодка во владении мальчишки — забава опасная. Хуже ружья. Змей повадился бить. Он: «Зачем?» А мать: «Смелее будет». Смелее-то смелее, да не ровен час… Поздно обретя семью, Федор относился к первенцу с особой, суеверной любовью. Сорок лет за плечами — не двадцать, и будь у него на то время, не отходил бы от Сергуньки, а тут за двоих работать приходилось — и за егеря и за охотоведа. С год обещали нового прислать, да не шлют и с Марьи обязанностей не снимают. Вот и кололись. Зарплата ей идет, значит, и дело не бросишь. Деньги — они тоже сами собой с неба не сыплются, намотаешься по тайге ой-ей… Зато семья! Придешь, думаешь, и дух вон, а ребятенки медвежатами облепят. Марья чарку поднесет, так усталость только что тяжестью в пятках ноет. Васятка свое лепечет, Сергунька своими находками хвастает: то про малинник ему неведомый, то про корягу, на олененка похожую, а тут днями женьшень приволок. Граммов на десять. Не следовало бы его пока вырывать, лишь бы место отметить. Пусть бы еще подрос. Да ведь понять мальчонку можно. Взрослый и тот, поди, не удержался бы. Ведь и слава — сам нашел! А не сам? Так вот Лариса-то и помогла. Она и нашла небось непотерянное. Везет. Только Сергунька про Ларису молчок. Действительно, не знал сын ничего о женьшене. Корни — те видел. Ягоды же и листья — нет. И нашел. Непременно Ларисин подарок. Но про нее самое молчок. Научила мальчишку хитрости, увертливости. Это как болезнь — к каждому запросто пристанет. Не водилось раньше за Сергунькой такого. Вправду святой, как Мария говорит, был: что в голове, то и на языке. Нынче, похоже, не то. Да не «похоже», точно. Вон сколько тайн развелось! Тоже мне — старатель-корневщик. Тайны в мальчишеской душе что взрывчатка, настоящая мина: и неведомо для самого парнишки, когда взорвется… Про шалаш-то он вроде говорил мне что-то. Говорил… Эка невидаль. Значит, поставил его Сергунька до встречи с Ларисой. Значит, вот когда тайна начало взяла! Не хотел Сергунька говорить, что с Ларисой подружился. Слышал, дома не очень-то хорошо о ней говорят. А куда в доме от детей денешься? Обо всем на кухне за перегородкой не переговорить. Она ж этакой тихоней прикидывается, да втихаря с одного вола семь шкур содрать хочет. Однако как ей были рады поначалу. Потому что вроде бы с ее переходом якобы сама экспедиция, ее геологи, клад-руду нашли. Да ну ее! Бывал я у геологов в партиях. Вечером так полаются, ну, думаешь, враги навек, ножей в руках не хватает. А утром в один маршрут идут. И хоть бы что. Похоже, нервы эти у Пичугиной соскочили. Ничего, перед порогом придет в себя. Как увидит, что вода, будто кривое зеркало, прогнулась и тихо так валится, словно в преисподнюю, — очухается. К бережку подастся. За тихость порог Змеиным и назван. Это потом он в ущелье за поворотом грохочет, а вползает туда тихонько, исподволь. Коварная штука, порог. «Горный»-то — усеченное название, укоренившееся и официально закрепленное на географических картах, а полное — Горное-Перевалочное. По узкой пятикилометровой перемычке — низине — у основания речной петли издавна перетаскивали охотники-промысловики свой нехитрый скарб, плоскодонки и баты, чтоб идти в верховья, в таежные дебри, богатые пушным и мясным зверем, обратно возвращаясь с добычей. За долгие-долгие годы смельчаки не раз пытались одолеть Змеиный порог сверху вниз на лодках, плотах, да только губили души. В память о погибших и в назидание будущим охочим удальцам на скальной плите у выхода из порога писали, кто чем мог, имена сгинувших без следа, а те, которых нашли, изловили в реке, покоились под вечными лиственничными крестами неподалеку от горла Змеиного. Волоком перетаскивали посудины и первые геологи. А потом охотничьи бригады и экспедиции, партии геологов стали забрасывать в глубинку вертолетами. Снизу вверх по течению, говорили люди, удавалось пробраться бечевой до второго изворота, до раздвоенного «языка», перед которым находился выбитый водой в слабой породе грот. Дальше хода не было из-за непропусков, или, как еще называли эти места, «щек», где отвесные каменные берега стискивали реку так, что она будто кипела, пучилась и пенилась от бессильного бешенства. А всего Змеиный порог тянулся на семь верст, как по старинке говорили все. Бечевой к гроту полвека тому с гаком добрался Антип с товарищами, когда их во время гражданской войны прижала к порогу казачья банда. В гроте бойцы и отсиделись до подмоги. Поминать тот случай Антип не любил, отвечал обычно: «Прижжет, так и по потолку, ровно муха, проползешь…» Пройдя кругой кривун на реке, Федор вывел моторку на широкий плес, первый, как считали, до порога. По его предположениям, Пичугину он мог увидеть у следующего «прижима», меж скалистых берегов. Но берестянки не было. Федор пристально оглядел тихие, с мягкими очертаниями заводи, поросшие стрелолистом. Он даже сбавил ход, чтоб ненароком не проглядеть, где, может быть, все-таки притулилась берестянка. Яркость солнечного дня мешала, игра света и теней обманывала. Федор принял было за лодку часть выброшенного на берег ствола березы. И тогда Зимогоров снова пустил мотор на полную мощность.* * *
Лариса сделала несколько сильных гребков, положила весло перед собой. Берестянка пошла по инерции, и стало слышно, как тихо плещется вода, рассекаемая острым носом легкой лодчонки. — Лариса! — донесся до нее голос Сергуньки. — Вернись! Пожалуйста, вернись! Она заставила себя не обернуться. Лодка выплыла на стрежень реки. Секунду-другую еще слышался колокольчиковый лепет струй у форштевня Сергунькиной пироги. Стих. Теперь только слабое течение повлекло легкое, словно перышко, белое тело берестянки к широкому, зеркального покоя плесу перед Змеиным порогом. Эхо катило мальчишеский голосок по узкому проходу скал еще спокойной реки, такой задумчивой, с четким отражением скал и деревьев по берегам, будто не эта же самая река через несколько километров, распластавшись сначала широченным зеркальным плесом, обрушится вниз извилистым порогом — Змеиным. — а-а-а… а-а-а… — неслоэхо. И пропал голос мальчонки. «А что я ему? — лениво подумала Лариса. — Утешится. Все всегда во всем утешаются. Мать я ему? Сестра, наконец? Тетя? Тетя, да чужая. Случай нас сдружил немного… Вот и все…» Был свободный день в начале этого лета. Лариса ушла за реку, подальше ото всех глаз. Она брела в чаще, не выбирая дороги и не обращая ни на что внимания. Как вдруг увидела мальчишку, вроде бы следовавшего за ней, и в ту же секунду услышала змеиный шип и увидела щитомордника совсем рядом, завизжала от неожиданности и испуга. Она закрыла ладонями лицо, и когда отняла, то увидела, что маленький мальчишка схватил щитомордника около головы и крепко сжал тело змеи, так что пальцы побелели. Змеиный хвост болтался в воздухе, норовя обхватить победителя. Но это продолжалось несколько секунд. Серега выхватил из ножен у пояса нож и резким ударом отсек щитоморднику голову. Темная змеиная кровь брызнула тугой струей, тело свертывалось и разворачивалось, будто пружина, хвост хлестал мальчишку по икрам, но он словно и не замечал ударов, стоял, широко расставив ноги.
Лариса прижалась спиной к осине, и ей казалось, что она вот-вот сомлеет от ужаса. Потом парнишка-спаситель отбросил еще живое, конвульсивно дергающееся тело змеи в сторону, вытер травой руки: — Вот и все, тетенька… Тогда Лариса почувствовала — надо ответить, но не смогла заговорить сразу. Она потерла рукой шею, чтобы освободить горло от спазма: — Как же ты… не боишься? — Я боюсь, — ответил Серега» — Боишься? — Очень. — Н-не понимаю… Ты ради меня… — Да, — кивнул мальчишка. — И еще мама говорит, что страх надо побеждать. Боишься, а все равно иди. Лишь теперь, когда Лариса как бы снова обрела способность видеть, она заметила, что спаситель ее бледен и уголки его губ непроизвольно подрагивают, выдавая его проходящий постепенно страх. Желая подбодрить мальчонку, Лариса спросила: — А папа что говорит? — Он… Он сердится, когда я просто так нападаю на щитомордников. — Как это — «просто так»? — Увижу и нападаю. Отец говорит — это жестокость. А мама говорит: «Когда припечет — и воробей храбр». Отец смеется: «Покажи мне лицензию от господа бога, что тебе разрешается убивать всякую тварь, которая не по душе». Я спрашивал, а при чем здесь какой-то бог, но они сказали, мол, подрасту — узнаю. Вы, тетенька, не знаете, при чем здесь бог? А? Он что ж, вроде председателя райисполкома? — Вроде… — согласилась Лариса. — Так бы и говорили. Я же все знаю. А тут еще — «подрасти надо». Мама, наверно, правду говорит, мол, отец все усложняет. — Может быть… — кивнула Лариса. — Я посижу немного. — Садитесь, садитесь. Меня тоже ноги не держали, когда я первого щитомордника убил. Тошнило прямо. — Ты все знаешь… — тихо, для себя, проговорила Лариса, и ей захотелось приласкать этого всезнающего и отчаянного человека. Но по тому, как он стоял в нескольких шагах от нее, по тому, как держался, она догадалась, что ее спаситель не из тех детей, которым за все можно отплатить лишь лаской. Тут от нее потребуется настоящая дружба, верная и преданная. Либо ничего, кроме простой благодарности. Это был всезнающий и гордый человек, который, как и все остальные люди, не ведал лишь одного: каким образом можно получить у господа бога лицензию на убийство. — Я вас знаю. Вы — Пичугина. Зовут вас Лариса Анатольевна. Правильно? — Конечно. Ты же все знаешь. — А вы? Лариса огляделась, словно для ответа ей нужно было согласие окружающего мира. Вокруг маялись под ветром намертво прикованные корнями к земле светлостволые осины, золотистые ясени, серокорые ильмы. По редкой траве бродили блики солнечного света, пробившиеся сквозь кроны, и листья и стебли выглядели разнотонными: то ярко-зелеными до прозрачности, то непроницаемо плотными. Где-то поблизости размеренно поскрипывал старый ствол. Лариса ответила наконец: — Я слишком много знаю. — Так не бывает! — твердо сказал Сергунька. — Вы к нам шли? Вздохнув, Лариса ощутила щекочущий запах сухих прелых листьев и аромат цветущих трав. — Нет. Просто гуляла. Думала. — Вам скучно? — Скучно? — Мама говорит, что ей скучно без работы. Она у меня охотовед. Да вот Васька маленький у нас. Годик только. Мама говорит, что через год горшки перебьет — и в тайгу. Идемте к нам. Мама всякому живому человеку рада. — Мне не обрадуется. Переступив с ноги на ногу, Сергунька посмотрел на Ларису круглыми глазами: — Обрадуется. Она добрая. — И он протянул Ларисе руку, чтобы помочь подняться. И хотя Сергунька знал, что совсем недавно мать собственноручно сняла со стены красочный, вырезанный из журнала портрет улыбающейся Ларисы Пичугиной, он был твердо уверен, что в приеме Ларисе не откажут, потому что мать назвала ее «бедной». — Нет, — сказала Лариса. Сергунька очень пристально поглядел на свои босые ноги, пошевелил пальцами на них в одну сторону, потом в другую, поскреб землю и предложил: — Тогда идем ко мне. — К тебе? — У меня шалаш на берегу. И чай есть. Котелок. Мне спиннинг отец купил. Настоящий. — И тогда Сергунька вспомнил, что отец, Федор Фаддеевич Зимогоров, заметил как-то о Ларисе, мол, нельзя так человека отшвыривать, даже если он и натворил глупостей. А поскольку он и сам часто творил много глупостей, как утверждала мать, то Сергунька почувствовал искреннюю симпатию к человеку, равному отцу хоть в этом. Взяв ладошку Сергуньки, Лариса сделала вид, что тот действительно помог ей встать: — Твой шалаш у переката? — Да. Мы и хариусов наловим, уху сварим. Ты искусственных мух умеешь делать? — Конечно. — У меня еще плохо получается. Я сначала был маленький, а потом меня в интернат отправили — вот и не научился толком. — Я научу. — Для ухи у меня пшена маловато, а картошка есть. Ну, вместо луку мы черемши положим. — Правильно, — кивнула Лариса. — А Мария Ивановна не рассердится на тебя? — Она даже Степке Вислоухому разрешает к нам приходить. А тот прошлым летом отметелил меня и удочку отнял. Меня-то вы предавать не станете? Вы же просто бедный человек, который натворил много глупостей. Лариса остановилась, а Сергунька по инерции прошел еще несколько шагов и лишь тогда удивленно обернулся: — Вы сердитесь? Я правду сказал. — Ты всегда говоришь правду? — Мама сказала, за правду не станет наказывать. Что бы я ни натворил. — И ты уверен, что сказал обо мне правду? — Да. Так даже Семен Васильевич думает. — Ну, если Семен Васильевич так думает… — усмехнулась Лариса. — Не пойду я с тобой. — Как хочешь, — пожал плечами Сергунька. Он стоял напряженно и в то же время спокойно, готовый уйти через мгновение, через секунду, уйти от нее навсегда и не пожалеть об этом, и не вспомнить, может быть, никогда, что он ее спаситель, и не потребовать от нее ни признательности, ни благодарности. Лариса оторопела от простодушного бескорыстия мальчонки. Он ни в житейский грош не ставил ни своего мужества, ни самоотверженности, потому что не торговал ими, а жил ими, пользуясь, как птица крыльями. — Почему ж ты собираешься со мной дружить? Вот с такой… — Вы же знаете, что натворили. Знаете. А за правду наказывать нельзя. — А если я такое натворила, что меня надо наказать? — Ну… Если я знаю, что натворил, то сам иду в угол. — Сам? — Сам. — Но ведь ты-то твердо знал, что делаешь плохо? Потому сам и шел в угол. — Знал, — вздохнул Сергунька. И посмотрел в сторону. Он стоял босой, в порванных на коленях техасах, выгоревших и обтрепанных, в пестроклетчатой ковбойке, не застегнутой, а завязанной узлом на животе, и глядел на нее теперь с обезоруживающей прямотой. — Знал! — Лариса подняла палец и словно погрозила им. — И делал! — Вы про Степку Вислоухого? Без камня мне бы с ним не справиться. Он большой. В пятый класс пойдет. А про Алиску… Она сама у меня задачку сначала попросила списать, а когда я… наябедничала. Маленький рыцарь, стоявший перед Ларисой, белоголовый, загорелый и обветренный, взял стволик лещинового куста и поковырял его, потом снова взглянул на Ларису: — Человек зна-ает, когда он не то делает… Все знает. Залитый играющими бликами солнечного света мальчонка казался Ларисе почти нереальным, странным и жестоким и добрым лесовичком, вещавшим ей о высокой правде и справедливости, какие ей самой в голову не приходили, да и не могли прийти, потому что она была занята собой, только собой одной. И Лариса пошла с Сергунькой к его шалашу. Они порыбачили, сварили уху из хариусов. И с того дня их часто видели вместе в поселке. Сергунька был едва ли не единственным человеком, который заходил в гости к Пичугиной.
* * *
Семен Васильевич шел спорым шагом к реке. Поселковая улица была пустынна. Стояла жара, и даже куры прикопались, словно наседки на яйцах, в песок у изгородей. За плетеной тальниковой изгородью добротного дома инспектор услышал тупое тюпанье топора. Во дворе жилистый поджарый парень в белоснежной майке тесал бревно. — Евгений Петрович! — окликнул его Шухов. Парень неохотно разогнулся и посмотрел на инспектора, прищурившись, словно ему солнце било в глаза. — Здравия желаю, товарищ старший лейтенант, с нарочитой певучестью отозвался бородатый и длинноволосый малый. — Ларису на порог в лодке потянуло! Поможешь мне, коли что?… — По-тя-ну-ло? — как бы прислушиваясь к слову, переспросил. — Кто сказал? — Сергунька Зимогоров. — Ну и подла же баба, коли на глазах мальчишки решилась. — Не об этом речь. Пойдешь? — Форма на мне не та. Я не при исполнении… — Я прошу. — Я бы покрепче добавил, да хозяйка молода… — Женька кивнул на открытые окна. — Эх, морячок… Совести нет. — Я не Христос, — нахмурился Женька. — Ладно… — пробормотал рассердившийся Шухов и, оттолкнувшись от изгороди, словно только для того, чтобы придать себе сил пойти дальше, отправился к реке, крутояр которой уже виднелся. Женька долго смотрел в спину инспектора, пока тот не дошел до конца изгороди. На душе у него было муторно и противно до гадливости. Совсем не хотелось ему обижать Семена Васильевича, однако идти вылавливать там или спасать Лариску ух как не хотелось. Чтоб там с ней ни случилось — не хотелось. Да так крепко, точно сапоги пудовыми стали, от земли не оторвешь. «Ну потянуло — так потянуло… — лениво этак рассуждал он. — Мудрено туда без охоты заскочить. Не маленькая. Ну а коли решилась — ее дело». Размышляя, Женька переступал с ноги на ногу, будто готовился к бегу. Затем он внимательно оглядел бывший в руке топор, как бы удивляясь, откуда он у него взялся. Потом ему захотелось рубануть по бревну, чтоб и топорище вдребезги. И наконец он глубоко вздохнул, положил топор у бревна, а сам будто исподволь двинулся вслед за инспектором. Шел он небыстро и не ускорил шага, когда Семен Васильевич покосился на него через плечо. Со стороны могло показаться, что каждый идет но своему делу, независимо один от другого. Воспоминания человек может просматривать с любой скоростью, с какой ему вздумается и позволяет время. Захочет — остановит течение мгновений и каждым станет любоваться, будто драгоценностью, его гранями, оттенками и переливами. Время точно замрет, исчезнет в настоящем, а прошлое будет ярче и радостней. Только бывает так редко. Чаще воспоминания для человека — работа, тяжелый, до кровавого пота труд. Потому что от правильности расчета прошлого, опыта зависит его следующий шаг. А еще чаще воспоминания кажутся человеку тяжким грузом: нести трудно, бросить жалко. И рад бы не ощущать, как давит, гнетет груз тот не спину, грудь, да силы нет. Обманутый и даже обманувшийся человек редко вызывает симпатии. Сочувствуют ему еще реже. А Женька отошел от Ларисы задолго до того времени, когда она подпала под категорию обманутой или обманувшейся — ему все едино. Но то, что Семен Васильевич задел душу, обозвав его «морячком», для Женьки пока являлось чрезвычайно важным. Любой упрек был бы ему нипочем, только не этот. И еще — играть в орлянку с порогом! Ведь это только в болтовне можно бросить, как она в клубе ненароком: «Мне все равно — что обратно в Ленинград возвращаться, что на порог!» Так ведь и пошла! Пошла! Правда, сподличав, выбрав послом ни в чем не повинного, по-детски влюбленного в нее Сергуньку Зимогорова. «Эх, Ларисочка, — подумал между прочим Женька, — была у меня однажды отличная возможность тебе харю набить. И желание имелось… Пожалел. Впрочем, жалеть-то не о чем. Как бы у нее с ним ни сложились личные отношения тогда, прошлой осенью, через месяц он выдал ей весь заряд четкой береговой брани, узнав — сподличала она». А какое было времечко той осенью!* * *
Тогда ранняя метель обрушилась на лагерь экспедиции нежданно-негаданно. Седые космы, подгоняемые ветром, протянулись средь ярких, желтых и красных листьев. Мокрый снег осел на деревьях и почти весь растаял на земле. Потом дохнул холодный верховик при солнце и голубом небе. А ночью пришел мороз, и из дебрей стали доноситься хряс и хруст сучьев, которые ломались под тяжестью льда. Охотники поутру потянулись к палатке, где жили Лариса и старик Антип. Курили, сплевывали, молчали. Восемь мужиков, промысловых охотников, боясь потерять сезон, пришли брать расчет. Они и так две недели лишних проторчали у «начальника», а срывать сезон им никак негоже. Не подфартило «начальнику» — что ж, бывает. С кем не случалось? За все время работы ни один из охотников не называл Ларису по имени, не сказал ни разу «она». «Начальник» — и баста. Правда, Женька величал ее «атаманшей». Под улыбки мужиков. Женька стоял позади всех и даже чуток поодаль. Молчаливое решение промысловики приняли еще вечером, ничего не обсуждая, потому как и обсуждать-то нечего — охотники они, а не по набору. Согласились на уговоры — одно, откайлили положенное по уговору — другое, а промысел — их хлеб, и тут никто им не указчик: ни царь, ни бог и ни герой. И само собой, считали они начальника-атаманшу за бой-девку. Ломила Лариса наравне с мужиками, и однажды хмурый Авраам, стеснявшийся своего имени и поэтому особенно грубый, сказал при ней: — Нашего начальника с виду соплей перешибешь… Взяться не за что, да в работе черту не уступит. Только почет почетом, уважение — изволь, а без охоты, без промысла они что холощеные. Из палатки доносились голоса, слов не разобрать: один высокий — Ларисин, и бубнящий — Антипа. Подъема в железяку еще не били, и начальство не торопилось выйти, хоть явно знало о решении рабочих. Наконец полог отдернулся, и Лариса вышла. В ковбойке, в ватной фуфайке, наброшенной на плечи, джинсах, заправленных в сапоги. — Ты их пойми… — послышался из палатки голос Антипа. Распадок еще полнился синими сумерками, а верхушки сопок уже полыхали розовым. Лицо Ларисы со смелым разлетом бровей, распаленное спором в палатке, было взволнованным и красивым. Став фертом, широко расставив ноги, Пичугина вскинула подбородок, чтоб вглядеться в лица мужчин попристальней. Промысловики глядели на начальство твердо и спокойно, не чуя за собой никакой вины. — Расчет, начальник. Нам пора, — мягко этак сказал Авраам. В подтверждение своих самых искренних сожалений он даже руками развел: мол, им свое дело не резон оставлять. Она тряхнула головой, и капли воды, запутавшиеся в волосах, видимо, когда она умывалась, смело блеснули. — Бунт?! — не спросила, а бросила как обвинение Лариса. Авраам хохотнул: — Атаманша… Слышь, Женька, и впрямь атаманша. — Неделя осталась, мужички. Совсем уж подступились к руде. — Тут атаманша вроде сникла и по-простецки добавила: — Не губите, а? — А нам потом ломаться по сугробам к своим участкам? Не пойдет, начальник. Срок отбыли по уговору, урок сделали. — Лодку не дам! — вскинулась атаманша. «Не к месту кричать, — подумал тогда Женька. — Хоть плачь, атаманша. Плачь хоть перед камнями, хоть перед охотниками. Тут промысловики не уступят, не упустят своего. С ними ошибаться на неделю нельзя. У них уговор что приговор». — Тю! — нахмурился Авраам. — На плотах уйдем. — Наряды не закрою! — Тряхнула головой Лариса. — Все… — Ты, девка, супротив нас не иди. — Паскуда, — глухо сказал кто-то. Не заметил Женька, кто. Да и наплевать ему было. Со всеми собирался.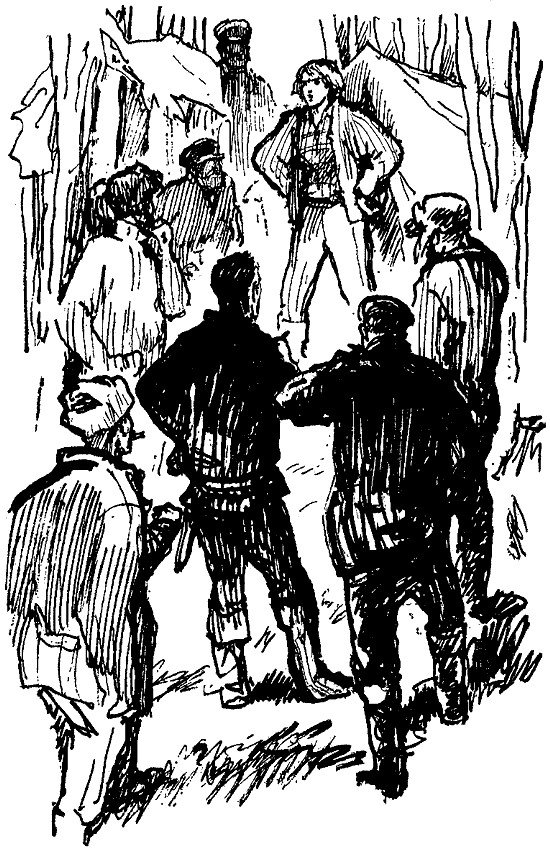
Мужики стали разбредаться, оглядываясь сбочь да искоса. Женька стоял, глядел на разгневанную Ларису. Больше прежнего она ему нравилась. Он улыбался безотчетно и широко. И не заметил, что остался с ней один на один. — Ну? — бросила Лариса с запальчивостью отчаяния, пошла на Женьку и остановилась, едва не упершись грудью в его ватник. Женька молчал, скосив взгляд на старенькую ковбойку — материал посекся на торчком выперших грудях. Рядно осталось. Белело что-то сквозь него, просвечивало. — Выставилась, — ухмыльнулся Женька. — Дело до конца надо доводить… — До чьего? — гмыкнул Женька. — Кобель. — Да и ты, видать, понимающая… — Катись со всеми вместе, благодетель. — Остаться, может, а? — А ну тебя к ляху. Тут вся жизнь насмарку. Все гибнет, рушится в тартарары. — Руда не соболь, тут и будет до нового сезона. Пролежала тысячи лет в берлоге — и ничего. Годик подождет. — А я? Как же я? Мое открытие!.. Не-ет! Всю зиму зубами стану шурфы грызть, а до руды дойду. Либо сдохну, либо докопаюсь. — Челюсти поломаешь… — посмеиваясь, сказал Женька. — Мой час! — тихо, сквозь зубы проговорила Лариса. Слова-то вроде обыкновенные. Только как Лариса их сказала! В ногах бы она у Женьки валялась, на день умоляя задержаться, — не остался бы. Эка невидаль — в их районе геологи столько всего пооткрывали, впору железную дорогу специально строить, чтоб вывезти. И какое дело было Женьке до Ларискиного открытия. Только взял его за душу голос девки. Да и девка-то лядащая — кожа да кости, одно, что груди выперли. С чего они у нее такие занялись? Денег Женьке было не надобно. С прошлого охотничьего сезона не прогулял. Да и бумажек не будь — остался бы. Охотники собирались недолго, уезжали как-то весело, щурились, глядя на Женьку: «Не проморгай!», «Он своего не упустит». Авраам на прощанье — Женька и перевез их на другую сторону широкой реки — сказал: — Спокойней в поселке будет. Хотел Женька ответить, мол, нe журись, приду, твою жену повеселю, но как-то сдержался. Нечто небывалое, а может, просто забытое разгоралось в душе Женьки час от часу, с той минуты, когда, поддавшись сердцем, он согласился остаться с Пичугиной и Антипом, годным лишь, чтоб похлебку варить. — Остался все-таки… — встретила его на берегу Лариса. — Надо же лодку было пригнать… — вяло и невпопад отозвался Женька. За последние несколько часов лицо Ларисы точно подсохло, стало строже и старше, взгляд потвердел. Не приходилось еще Женьке видеть такой перемены в людях. А может быть, не обращал он на такое внимания. Или не до людей было. Тогда Женька задался мыслью: а почему это он «остался все-таки». Для души — понятно. А чего хотела его душа-то? Она любопытствовала и немного завидовала: как же человек свой час встречает, бьется за него, чтоб настал он, час, ради которого он, может, и на свет родился? И почему не пришел к нему этот «мой час»? За что достается он? Или он и у Женьки был, только свой, совсем непохожий на те, которые у других? «Черт те что лезет в голову, — думал Женька. — Чего меня разморило?» Они с Ларисой подошли к костру, на котором Антип варил «пшенку с тушенкой». Привалившись около костра, Женька вздохнул и тут же искреннейше пожалел, что не подался вместе с другими охотниками в поселок, где не в пример веселее, а вечером, если бы захотел, он мог пойти к доброй бабе Лосихе, которая никогда не прочь и выпить с ним, и приголубить его. Дернула его нелегкая пожалеть «атаманшу». Добро бы она хоть намеком, хоть взглядом пообещала приласкать. Тихая скука окружила пляшущие языки пламени, которые в тот день на желали слушаться опытной руки Антипа. Сучья горели неровно, взбалмошно, хотя ветер тянул от гольцов как бы на одной ноте. Мерно позвякивали обернутым в заледеневший снег ветви, тяжело и невпопад мотаясь. — Идти, что ли, кайлить? — тоскливо протянул Женька. — Нет. — То как на пожар, то валяйся… — Женька взглянул на Ларису недовольно. Пичугина колдовала над пикетажкой. Женьке было видно, как она карандашом рисовала какие-то значки на желтой сетке миллиметровки. Ватник сполз с ее плеч, худеньких, острых. Женька скользнул взглядом к тонкой талии, перехваченной широким солдатским ремнем. «И в обхват-то два вершка, — ухмыльнулся он, — а поди ж, и кайлом бьет, и лопатой махает будто большая. Откуда в пигалице силенка? А девка, видно, хороша…» Словно почувствовав его взгляд, Лариса обернулась: — Чего уставился? — Мечтаю… — Поломают тебе мужики ноги, Женя. — Работы нет, вот на всякие там мечты и тянет. Антип, орудовавший у костра, справился наконец с капризничающим огнем. Пламя подобралось и стало гореть жарко и высоко. Дотянувшись до широкого солдатского ремня, едва не вдвое обтянувшего фигурку Ларисы, Женька игриво подсунул под него палец и расхохотался: — Нет, атаманша, старшины на тебя! Он бы подтянул тебя, как положено. Не оборачиваясь, Лариса хлестанула его сильно и звонко по руке. — Быть тебе вдовицей! — прошипел парень. — Следующий раз щеки подкрашу. — Борода у меня густая — самортизирует. По-прежнему не отрываясь от пикетажки, что-то вычерчивая или подсчитывая, Пичугина проговорила ровно, будто нехотя: — Еще хамнешь — выгоню. — Я и сам уйду. — Что ты меня дразнишь! — вдруг взорвалась Лариса и вскочила. — Что мучаешь? Убирайся! Мотай, пока не поздно. Своих успеешь догнать. — Она наступала на Женьку, вымещая на нем всю скопившуюся в сердце злость, на себя, неудачницу; на охотников-сезонников, понимая тем не менее в душе, что правы они, негоже им из-за ее дела свой сезон терять; на Женьку-бабника, который, как поговаривали в поселке, положил на нее свой глаз; на прятавшуюся от нее руду; на догадки-подсказки своих друзей; на погоду; на сломавшийся карандаш; на то, что она осталась без завтрака; на всю свою жизнь, глупую, пустую, никчемную. А Женька со ржаньем покатился от нее в сторону. Лариса готова была с кулаками броситься за ним вдогонку, да остановил ее оказавшийся на пути дед Антип: — Ну полно, полно… Садись лучше перекуси… Что с ним, с кобелем, сделаешь? И то — ломается, поди, человек. Да и холодно, накинь-ка ватник-то. Ты, Лариса Анатольевна, тех, кто вот так ржет да лезет, не бойся. Это совестливые мужики. Вроде бабы-балаболки. Один руками, другая языком… — Что мне его совесть? — нагибаясь за ватником, фыркнула Лариса. — Ни рук, ни языка ему распускать нечего. — Будет тебе куролесить, Жень, — подался к парню Антип. — Чего ты на себя напраслину напустил? — Не баба она, что ли? — поднявшись, сказал Женька, не сводя глаз с Ларисы и не разгадав ее поведения. Слыхивал он и не такие отповеди, да на поверку выходило иначе. — Умотался человек, а тебя на баловство… — заметил старик. — Да чего я? И пошутить нельзя? — совсем негромко бормотнул парень. Последние слова Антипа вразумили его, и Женька не мог не согласиться со стариком. Одно дело — он кайлил полтора месяца, другое — эта девчонка-тростинка; ее не то что подмять, прижать как следует и то боязно. — Ладно. Чего там… Ты, атаманша, не сердись. Снова склоняясь над пикетажкой, Лариса ответила: — Не до тебя мне… — Не взорвись она минуту назад, возможно, и злоба ее не прошла бы. А теперь стало чуть совестно за свою слабость. Ведь держалась и сдерживалась же она эти последние чертовы полтора месяца, хоть спуску себе в работе не давала и своим упрямым упорством подавала пример даже бывалым мужикам-таежникам, людям, злым на дело. — Поешь… — позвал Антип. — Потом… ужо… — кивнула Лариса. — Чифирку, может?… — предложил Женька. — Давай попробуем. Только ты, Жень, лучше отоспись сегодня. Сегодня мне подумать надо. Кайлить не станем… — И уж совсем для себя Лариса добавила: — Есть тут мыслишка одна… Мыслишка пришла к ней не сию минуту и не в этот день, только вот поверить в нее до конца было боязно. Казалось, не удайся она — всему делу каюк, а кто ж легко расстается с надеждой, да еще последней. Не всяк способен решиться сразу поставить все на карту. Для Ларисы же, с одной стороны, ничего другого не оставалось, но с другой, пока она не приняла твердого решения, пока не вскрыла шурфом самое что ни на есть последнее перспективное место на разработанном плане, пусть эфемерно, пусть в мечтах, однако оставался еще намек на удачу. Характер у нее был таков, что собиралась она, словно поднималась на высоченную гору, ну а катилась с нее без тормозов. Антип сам вызвался приготовить для Ларисы чай. Женька не спорил, отправился в палатку, забрался в спальный мешок и, пошевелившись раза два, чтоб улечься поудобнее, заснул, сладко присвистывая носом. Когда вскипел чай, геолог подсела к костру, молча приняла из рук Антипа эмалированную кружку и стала прихлебывать из нее громко и со вкусом. Переваливая через оснеженный бугор сопки, ветер, подобный ленивому, но плотному от полноводья потоку, стекал в широкую долину, звенел сосульками на рыжих, еще не осыпавшихся лиственницах. Их жидкие ветки печально провисли. Несколько темных елок на самом дне долины совсем заледенели. Они таились в глубокой тени и выглядели издали недвижными, хотя порывы там были особенно сильны. Чтоб не мешать Ларисе разговорами, Антип старательно разглядывал окружающее и старался приметить в нем хоть намеки на скорую перемену погоды. Но чистое небо, спокойное солнце, ясное, без ореола, не предвещало близкую непогодь, которая могла принести тепло в облаках. — Прихватит землю, — вполголоса, будто про себя, вздохнул старик. — Неглубоко, но прихватит. — Может, оно и лучше… Грязюка в шурф не потечет. А то не поймешь, то ли воду лопатой, что решетом, черпаешь, то ли грунт выкидываешь. Это хорошо, влаги поменьше будет. — Оно и вправду так, — согласился Антип, обрадованный ответом геолога. Очень не любил старик, когда люди вот так наглухо замыкались в себе, даже ненадолго. Антип переставал чувствовать и понимать их. А это всегда его раздражало, настораживало, он слишком привык к тому, что люди, среди которых он жил свою долгую-долгую жизнь, не таились и не прятались в молчании — надобности не чувствовали, а желания их были так просты и естественны, что не представляли ни для кого секрета. Тайны же были у каждого охотника, корневщика — искателя женьшеня, а в старину старателя. Только в них не лезли, если и не уважали, так боялись: платить-то приходилось жизнью. Вдруг Лариса спросила: — Не уйдет он? — Женька-то? — кивнул Антип в сторону палатки, из-за брезента которой слышался ровный присвист. — Ты ему не как баба нравишься. Этого добра у него теперь и в поселке и в райцентре девать некуда. Морды царапают из-за него бабы друг другу. Не знает парень, куда прибиться. Случилось у него в жизни что-то. Что — не говорит. А мается. Он мне говорил: «Найдет атаманша — ты, значит, — руду, при деле останусь». — А чего ж это теперь? — полюбопытствовала геолог. — Чего? — Ну… морды друг другу… — Так с той поры, как экспедиция в поселке обосновалась, много вашего брата понаехало. Конторские, столовские… А мужики народ все больше одинокий да пришлый. Тебе он поверил. — С чего бы? — Так ведь и я тоже поверил. С упрямства твоего, видать. Вон в прошлом годе вдвоем с Садовской колупались. И так ведь в этом годе одна решилась бы пойти. Неспроста. Силу за собой чуешь… — Силу? — удивилась Пичугина. — Какая ж сила? — В дело свое веришь, как в утреннее солнышко. А людей таких ой мало. Ты не красней. Я к слову сказал. — Я не смущаюсь, дед Антип. Просто вы многого в нашей работе не понимаете, — ополоснув кружку из ведерка, Лариса повернулась спиной к костру и еще часа четыре проколдовала над пикетажкой. Потом ушла на сопочный склон, к шурфам, и пробыла там долго, до темноты. — Вот теперь я похлебала бы чего-нибудь, — сказала она, усаживаясь у негасимого костра. — А Женька все спит? — Раза два перевернулся, — ответил старик. — Раз так со вздохом. — Со вздохом… — хрипло, со сна пробасил Женька из-за брезента. — Ужин-то есть? — А как же, а как же… Что от обеда осталось, то и доедим. — Чего ж это? — заинтересованно пошевелился Женька. — Да вот, — продолжал Антип, — ты спал, а мы не ели. — А-а-а… Иду, — хохотнул Женька. — Иду! Вечером Лариса была весела вроде, но рассеянна, задумывалась вдруг. Перед тем как забраться в свой спальный мешок, сказала: — С зарей поднимемся, Жень. — Решилась? — прищурившись, оборотился к геологу Женька. — На что? — искренне удивилась Пичугина. — Решилась… — констатировал парень. — Да что ты заладил? — раздраженно потупилась Пичугина. — Была у тебя, Лариса Анатольевна, задумка какая-то хитрая. Ходила ты вокруг нее, ну будто кошка вокруг горячей сковородки. И взять хочется, и взять боязно. Я в партиях-то не впервой. Подбиралась ты к одному местечку, ну вроде медведя обкладывала. Похоже, плохо будет тебе, коль не выйдешь на руду-то… А? Лариса замерла, точно затаилась, а потом скользнула в спальный мешок. И все молчком, словно не слышала Женькиных слов. — То-то… — наставительно этак гмыкнул Женька. — А чего боялась? Шла бы напропалую. Давно бы все знала. Лариса ничего не ответила, лишь улеглась поудобнее. Ее поразили слова поселкового парня. Мало ли, что он работал в геологических партиях. Работа — одно, но чтоб вот так разобраться в ее думах и намерениях — совсем иное дело. Значит, не умеет она хранить своих тайн, и ее хитрости, уловки даже в мелочах видны любому. И жаль стало Пичугиной самое себя и то, что приняла она решение испытать судьбу напрямки только сейчас. Теперь, после сказанного Женькой, ее хитрость с самой собой представлялась Ларисе действительно глупостью, недостойной взрослого человека. Однако она понимала: без проделанной ею предварительной работы она не смогла бы утверждать, что открыла промышленно важное месторождение. Антип просидел у костра всю ночь. Спального мешка у него не было. Он покряхтывал около огня, но к утру, когда холод пробрал до костей, встал и попрыгал. Однако это мало помогло, и он отправился рубить дрова на весь день, согрелся кое-как. Вернулся к палатке, почаевничал вволю. Однако озноб не прошел, стало ломать кости. И все ж Антип бодрился и не подавал вида, что, похоже, заболел. Среди следующего дня в их табор неожиданно прилетел Бондарь. Начальник экспедиции сделал порядочный крюк, чтоб узнать, как у них дела. Старик знал Бондаря хорошо, и, судя по виду, начальник не огорчился и не обрадовался, что у них нет приятных новостей. Скорее все-таки даже обрадовался, хоть и старательно скрывал это за заботливостью и настойчивыми предложениями заканчивать и без того затянувшийся сезон. Он предложил тотчас забрать их с собой на вертолете. — Я все дела сделал, — приговаривал Бондарь, прохаживаясь меж пустых шурфов, — так что давайте, Лариса Анатольевна, решайтесь. Машина пуста, вполне могу вас всех с собой в поселок забрать. Больше оказий не предвидится. — Я все-таки подожду, — сказала Пичугина. — Что дадут вам десяток-другой шурфов? Да и их-то вы не успеете пробить. Хорошая погода вряд ли вернется. А выбираться отсюда, сами понимаете, очень трудно… — Все-таки я постараюсь выполнить намеченный план. — Жаль… — Что я все-таки выполню план? — Вашей нерасчетливости. — Это я переживу, — резко сказала Лариса. Женька, который случился рядом с ними, удивился, почему же Пичугина не сказала начальнику экспедиции, что пошла, так сказать, ва-банк, в нарушение инструкций по разведке. Если бы Бондарь приехал дня на четыре позже, он и сам смог бы убедиться в самовольстве молодого геолога. Пока же по расположению шурфов еще нельзя было судить о том, как они пойдут в дальнейшем. Потом появление Бондаря в стороне от обычных трасс его экспедиции, столь большая забота этого вечно занятого и, как считал Женька, расчетливого человека не настроили рабочего на разговор с высоким начальством. Да и сами отношения Женьки с Бондарем были сложноваты, во-первых, Пичугину не хотелось подводить, во-вторых, а в-третьих, он и остался здесь с Пичугиной только для того, чтоб убедиться, права ли эта настойчивая девка. Очень хотелось Женьке, чтоб Лариса утерла нос всей этой экспедиции. Хотелось, чтоб фанатизм одиночки победил и в этом деле. Ведь только ради этого он и согласился посередь лета пойти к Пичугиной рабочим, он, охотник-промысловик, который и думать забыл о прежнем приработке. — Ну что ж, как говорят, была бы честь предложена, — сказал Бондарь прощаясь. — Ждем вас с победой! И попомните о нашем разговоре. — Даже если я потерплю поражение? — усмехнулась Пичугина. И по этой усмешке Женька, да и Бондарь поняли, что она не боится осечки — ее просто не может быть. Иначе она не вела бы себя так. — Вот видите… — многозначительно протянул Бондарь. А душа Женьки ликовала — он видел, как спесивый Бондарь предлагал Пичугиной свою поддержку, свое покровительство, он заманивал Ларису Анатольевну к себе, в свою экспедицию, потому что этот Бондарь знал, что справиться с задачей, найти ускользавшую от всех руду могла только она одна, вот эта девка. — Видите, — потянул Бондарь, — вы настолько уверены в своем успехе, что сомневаетесь в неудаче. Главное, вы получите полную возможность спокойно работать. Мы предоставим вам все необходимое. И уже больше и не заикаясь о том, чтоб взять крохотную экспедицию на борт, Бондарь направился к стоявшему неподалеку вертолету, задумчиво опустив голову. Ни Лариса, ни тем более Женька не пошли провожать его. Зачем? Коли такой ас разведки приходит с поклоном, признает свое поражение, просит о помощи. Что говорить — свет победы затмевает не одну сомнительную тропинку к успеху. Пилот распахнул перед Бондарем дверцу кабины. Начальник устроился в кресле, взглянул на убеленный склон сопки. Там, рядом с кучей грязи, выкинутой из шурфа, стояла крохотная женщина в сером изгвазданном ватнике и таких же грязных ватных брюках, от которой зависело будущее его и еще очень многих людей, ученых, ученых с именами. Но только в том случае, если эта девчонка схватит удачу, как медведя за хвост. «Лишь бы схватила! — подумал Бондарь. — Лишь бы схватила, да не своих, а нас позвала на помощь. Мы поможем. Мы-то уж поможем наверняка… И себя не забудем…» А Женька, бывший рядом с Ларисой, положил ей на плечо ладонь и сказал: — Так пошли дальше долбить, Анатольевна? — Назвался груздем — полезай в кузов, — ухмыльнулась Пичугина. И они вкалывали до последнего света, когда узкая полоска тревожной пурпурной зари погасла будто вдруг, а как раз над тем местом над сопкой вспыхнула яркая пульсирующая звезда. Сразу сделалось темно, сверху опустился холод, а звуки стали вкрадчивыми. Антип у костра сидел скрючившись. Он с трудом повернулся к подошедшим. Увидел улыбающиеся лица. — Удача, стало быть? — Еще нет, — тряхнул головой Женька, — но будет. — Некуда ей больше деваться, — подтвердила Лариса. — Приготовил, приготовил я еду… Женька подсел к старику: — Да ты никак сдал? А? Что с тобой, дед Антип? — Заколдобило малость. — Кой черт! — разозлилась Пичугина. — Почему не улетел? Что мы с тобой здесь делать будем? — Ты не шуми, Лариса Анатольевна, — сморщился дед Антип. — Разошлась, как прежде моя старуха. — Видно, и она вас за дело ругала, — стараясь скрыть раздражение, проговорила геолог. Но хорошее настроение после удачной работы, после появления на дне шурфа «чего-то похожего» было испорчено безвозвратно. Лариса скорее ожидала землетрясения, чем вот такой глупой истории. Коли дед заболел серьезно и из-за своей глупой амбиции или еще чего не захотел улететь в поселок, убраться в больницу, то придется все бросить, а его тащить до поселка. Черт те что! Что делать-то будем, Анатольевна? — спросил Женька с досадой. — Неча меня… — поднялся у костра Антип. — Неча меня в расход списывать. Я еще ого-го! — воскликнул он, но покачнулся на ослабевших ногах и завалился бы прямо в пламя костра, не подхвати его Женька. — Ну вот… — протянул парень. — Ты б уж не хорохорился, старый. Ты теперь молчи да слушай. — Поваляюсь, вылежусь… Ты сам таежник, Евгений Петрович. Нервы Ларисы были напряжены до крайности. Вот теперь, почти что ухватив за хвост жар-птицу, уходить не солоно хлебавши? Такое не снилось ей в самом жутком сне. И, сжав кулаки, она застучала ими по коленям и едва не взвыла, не разжимая зубы: — Да что ж это такое? Как быть-то, Петрович? Оказавшись вдруг в центре внимания, Евгений Петрович, которого по отчеству называл за последние годы разве только судья, когда Звонарев выступал в качестве ответчика по делу о незаконной охоте на медведя, — так вот, оказавшись в центре внимания столь нежданно-негаданно для себя, Женька почесал на затылке шрам, оставленный на память медведем, вздохнул и сказал: — По закону уходить надо… Пичугина сложила ладони у груди и, оборотившись к Антипу, жалобно, совсем по-детски, произнесла дрожащим голосом: — Дедушка Антипушка, родной, потерпи денек… Ну два… Два всего денечка потерпи. Петрович, ну ты попроси его. — По закону уходить надо, Анатольевна. В тайге закон свят. — Ник-куда вы не пойдете! — твердо, как мог, сказал старик. — Не решился я вас одних оставить, так нечего мне душу выматывать. Три дня пути — коль суждено, оно по дороге помру. Нет — и здесь выкарабкаюсь. Одно — не гадал, что в тяжесть стану. — Уходить надо по закону! — словно выругался Звонарев. Был он зол и не глядел ни на кого, потому что не ему такие дела решать, не ему в судьях ходить. Словно догадавшись о мыслях Звонарева, Пичугина отрезала: — Два дня будем здесь. Антип всплеснул руками: — Вот молодец! — Ты вот что, Анатольевна… Ты в пикетажку себе это впиши. — Что? — переспросила Пичугина. — Это он о смерти моей, — пояснил Антип. — Коль преставлюсь, значит, как старухи говорят, чтоб он в стороне остался. — А-а… Запишу, запишу… Женька покряхтел, положил себе каши в котелок, как это делалось, когда в таборе народу было много, и тихо так сказал: — Не боюсь я, дед, ни хрена… Только душу твою в укор своей совести не поставлю. И вот еще что… Ты, браток, — обратился он к Ларисе, — ты, браток, свой короткий спальный мешок деду болящему отдай, а мы и вдвоем поместимся. Мой просторный. Уткнув глаза в котелок, Лариса не поднимала взгляда ни на старика, ни на парня, и лишь последние слова Женьки заставили ее посмотреть на таежника. — Повеселей ничего не придумал? — Ты не ершись, браток. Понял? Опустив на мгновение веки, Лариса замерла, а затем ресницы ее вспорхнули, и она ответила, глядя в крохотные кругляшки зрачков Женьки: — Понял, Петрович… Понял. — И чего удумали? — всполошился было Антип. — Ты, Петрович, спирт возьми у меня в рюкзаке. Да, натри хорошенько деда. И внутрь дай. Легкомысленная улыбочка чуть что не выскочила на губы Звонарева, но он сумел сдержать и спрятать ее. — Добро, браток, добро. Потом старик долго и со вкусом кряхтел за брезентовой перегородкой, пока Женька растирал ему грудь и спину спиртом, а затем, блаженно ухнув, старик принял спирт внутрь и помычал, закусывая. Улегся уж и Звонарев, принялся знакомо посвистывать носом, а Лариса все сидела над пикетажкой, хоть и надобности в том не было. Однако сон брал свое, и она, стараясь недолго размышлять, забралась в мешок к Звонареву. Там было жарко и крепко пахло мужичьим потом. Уснула она быстро, даже еще не согревшись толком. Утром долго не хотела просыпаться от разморившего тепла и вдруг вскинулась, почувствовав под щекой шевеление подушки. Оказалось, ее голова на плече парня, а он все не решался побеспокоить Ларису. Заметив, что она проснулась, Звонарев тихо сказал: — Не шуми. Продрых Антип. Самим надо костер зажигать и чай и завтрак мараковать. Выскользнув из спального мешка, Лариса накинула на плечи ватник и вышла из палатки. Чуть влажный ветер тронул ее лицо, и на воле показалось теплее, и снег под ногами приятно пружинил, когда она сбегала к ручью умыться. И ей подумалось, что именно сегодняшний день непременно принесет ей удачу, огромную, ради которой только и стоит родиться на свет. И сбудется все и сполна, о чем она тайно и с пугливой страстью мечтала в одиночку вечерними сумерками, не зажигая в комнате света, потому что мать не любила, когда к ней приходили играть подруги, впрочем, так же, как не любила она, чтоб и ее дочь «шлялась по чужим домам». Чего только теми долгами вечерами не приходило девчонке в голову. Но чем взрослее становилась Лариса, тем тверже зрела в ней идея стать геологом. Она была уверена, уж в этой-то науке удача, открытие, счастье приходят только по воле одного человека и к нему одному. Потом, в институте, мираж растаял. Но так же, как и мираж имеет источником реальный предмет, пусть несхожий, но реальный, так и в душе Ларисы желание славы, вспоенное непреклонным честолюбием, не пропало, а лишь ждало часа, своего часа, чтоб дать росток. Когда уже за полдень Лариса вытянула из шурфа бадейку с породой и увидела три первых куска руды, она даже не удивилась, и, самое странное, радость ее была тихой. Только пальцы трепетали, вынимая камушки из бадейки. Из шурфа слышалось шарканье лопаты Женьки, следом тишина, тяжелый дых парня, его голова у ее ног, голос: — Чо молчишь, браток? Накрыли? — И Звонарев сел на край шурфа, протянул руку к бадейке и взял такой же серый кусок руды. — Вот это? — в голосе его прозвучало недоверие. Действительно, что, казалось, может скрываться в таком сером невзрачном куске камня?… Зачем десять лет без продыха сотни людей думали о нем, искали путь к нему, месяцами шатались по тайге и болотам, обрекая себя на съедение мириадам кровососущих, рисковали? Лариса улыбнулась и посмотрела на Звонарева: — Ты знаешь, что я держу на ладони? — Руду, поди… — Не-ет, — протянула она и помотала головой. — Откуда ж мне знать, браток? — Мечту. Меч-ту…
* * *
На повороте тропы, почти у самого берегового обрыва, инспектор глянул через плечо и увидел — к реке за ним идет Женька, которого Семен Васильевичуж и не чаял взять в спутники. Инспектор подивился — как это упрямый моряк изменил свое решение? Женька, что раненый вепрь, обычно шел напролом. Но вспомнив о старике Антипе, Семен Васильевич посмотрел на происшедшее по-иному. Уж куда было семидесятилетнему охотнику подыматься ни за что ни про что с уютной лежанки да топать в тайгу кашеваром, а ведь пошел, когда Лариса его попросила. Правда, после уговоров, но пошел, и не оставил ее, как и Женька, в беде; все до конца вынес старик, даром что потом едва не всю зиму корежила его лихоманка. Пришлось Антипу и в больнице полежать. А вот если бы Антип не попал в больницу… — остановился на мысли Семен Васильевич. Если бы Пичугина, может, к нему за последним советом пришла? Тогда как обернулось бы дело? Вся ее жизнь как бы дальше потекла? И все-таки старик ее любил. Привечал. Он, пожалуй, один из немногих, кто не охладел к молодому геологу. Ну а ты сам, инспектор? Ведь кабы не форма на тебе, не твоя должность, не пошел бы ни за какие коврижки на поиски этой сумасбродной девки. Не явился бы даже и в красный уголок экспедиции, где поставят гроб с ее телом. Закрытый гроб. Потому как на то, что останется от Ларисы Пичугиной после того, когда она пройдет порожные водовороты, смотреть невозможно и даже ненужно — так это страшно и безобразно. Ты к этой Пичугиной относишься плохо, инспектор. Ясно. И эта неприязнь идет не от долга по службе. По долгу службы ты, инспектор, идешь то ли спасать, то ли искать то, что от нее осталось… Сознавать, что это именно так, было неприятно. И Семен Васильевич продолжал спускаться крутой и извилистой тропкой к реке. С год уже прошло, поди, думал Шухов, когда он, инспектор, сидючи с секретарем парткома экспедиции на диване в кабинете Ивана Павловича, обсуждал мелочи дел. Старшему лейтенанту нужно было пробраться на вертолете в дальние партии, с людьми поговорить, узнать о нуждах дружинников, общественных инспекторов. Сам Иван Павлович только недавно вернулся из глубинки, и он в меру сил помогал Шухову в его делах, во всяком случае, интересовался ими непременно, а бывая в партиях, куда больше, чем инспектор, знал о порядках и ладах и неладах между людьми многое. Оборвав Ивана Павловича на полуслове, в кабинет, широко распахнув дверь, вошла Пичугина. Берет на ее голове был надет, будто мужское кепи, и уже по одному этому инспектор догадался — настроена Лариса Анатольевна воинственно. — Мне надо серьезно поговорить с вами, Иван Павлович. — Сию минуту? — Секретарь парткома чуть повел головой в сторону инспектора, давая понять Пичугиной: мол, видишь, беседую я. Но Лариса захлопнула за собой дверь, всем своим видом показывая, что не намерена откладывать свой разговор ни на секунду, и ей все равно, есть кто в кабинете, нет ли, и секретов у нее ни от кого не имеется. И еще про себя инспектор отметил, что Пичугина была не столько искренне взволнована, сколько взвинтила сама себя перед предстоящим разговором и старалась не растерять заготовленного пыла. — Я не помешаю? — спросил инспектор. В конце концов, делом хозяина кабинета было — либо разрешить ему остаться, либо попросить обождать в коридоре, если суть беседы с Пичугиной того требовала. — Нет, — бросила Лариса. — Совсем не помешаете. — Ну, коли так… — Иван Павлович развел руками. Он поднялся с дивана, жестом пригласил Ларису садиться, и сам прошел за стол. Пока шла беседа между секретарем парткома и инспектором, комната незаметно наполнилась сумерками, и они не замечали этого. Но теперь, словно вдруг, оказалось, что Семен Васильевич не смог различить цвета куртки, в которую одета Пичугина. И лица ее тоже толком не было видно. Иван Павлович зажег лампу на столе. Свет словно ударил по глазам. Инспектор заметил, как Лариса нервно поморщилась: — Что за привычка — сидеть без света. — Мне она не мешает, — спокойно сказал Иван Павлович. «Лучше уж мне уйти, — подумал Семен Васильевич. — Разговор начинается не совсем мирно», — и поднялся было. — Сидите, сидите… — остановил его Иван Павлович. — Так вот… — начала Лариса. — Начальник экспедиции сказал, будто вы категорически возражаете против создания мне условий для моей научной работы. Так? — Исключительных условий. — Нормальных для меня. — Исключительных по сравнению с другими. — Вы забыли, что экспедиция пять лет сидела здесь и ничегошеньки не сделала! Я принесла вам открытие на тарелочке с голубой каемочкой — и все затраты оказались оправданными. Мне обещали… — Я вам ничего не обещал. — Не знала, что начальник экспедиции и вы служите разным богам. Он-то сулил мне золотые горы. — И только из-за них вы перешли к нам? — А вы ничегошеньки не знали? — Возражал. Как и сейчас. А вы перед переходом на работу в нашу экспедицию посоветовались со мной? — Вас не было… — Ведь вы знали — я против того, чтобы вы переходили. Вспомните наш разговор на аэродроме! Тогда я пожелал вам успехов и счастливого пути… Куда? В Ленинград! Согласитесь — большего я не мог сказать. Ведь «ничегошеньки», как вы говорите, еще не было известно. А говорить, простите, прямо, значило обидеть вас. Может быть. — Почему вы против меня? Ведь я ваша, — потянула она это слово, — ваша теперь. Понимаете вы? Я все отдала вам. Все! — Подождите, Лариса Анатольевна. Вернемся к истории. — Мне история не нужна. Мне нужны сотрудники. Мне нужны сегодняшние материалы о разведке, новая информация. Мне уже нельзя топтаться на месте, да еще прошлогоднем. — Подождите… Вы вели работу ленинградского института. И ваша теория поисков себя оправдала, дала большой практический эффект… Пичугина хотела что-то сказать, но Иван Павлович остановил ее движением руки. — Так вот — большой практический эффект. Чего своими методами экспедиция в ту пору не достигла. Правильно? — Ну… — буркнула Лариса. — Вы вернулись с «поля». Привезли образцы. Успех полный. Мы попросили вас сделать краткое сообщение о путях ваших поисков. — Я не обязана и даже не должна была так поступать! — Почему? Вы по-товарищески поступили. Ведь результаты скрыть нельзя! Месяц, два от силы оставались бы мы в неведении. Но вы поступили по-товарищески. И никто не предъявлял бы к вам претензий. Вы бы сели в самолет и с рюкзаком славы вернулись в свой институт, в Ленинград. — А Бондарю, и бывшему главному геологу, и вам пришлось бы… — Пришлось бы, не спорю! И того больше. И просклоняли и проспрягали бы… Но Бондарь, администратор и человек деловой — заметьте, деловой человек, а не человек дела! — Бондарь предлагает вам… — Сделку. — С ним, то есть с экспедицией… и вам со своей совестью. — В ваших интересах. Простите, в интересах экспедиции. Рюкзак славы, как вы изволили сказать, остается здесь. Вместе со мной. — Мы отошли от самой истории с вами. Вы работник нашей экспедиции. Метод вашего института, ваша удачная находка подталкивают наших геологов на новые обобщения. Идет как бы цепная реакция открытий. И теперь вы хотите, чтобы вся информация о нынешних успехах каким-то образом непременно спрягалась с вашим методом… — Он был катализатором! — Методом ленинградского института, — договорил Иван Павлович. — Так. В котором вы не работаете. Но наши товарищи уже отошли от него. Ни магнитные, ни гравитационные аномалии не лежат в основе метода института. Почему же вы требуете плоды чужих трудов? Вы же и свою научную работу еще не закончили. — Мне информация нужна… — Вы хотите обобщить все касающееся месторождения данного района. Это дело коллектива. Не одной вас. Займите то яркое, но скромное место, какое вам подобает. Вы претендуете на роль научного руководителя целого коллектива. Разве это не понятно? — Почему вы против меня? Почему? — Лариса Анатольевна! Вы сейчас рассуждаете, как старатель. Не токмо, мол, золотишко принес, а про жилку сообщил. Так уж не забудьте про то… — Дайте мне все необходимое для научной работы. — Человек довольствует вожделения свои на обоих краях земного круга. Я не могу позволить обеспечить вас всем необходимым вплоть до лаборантов, а другим показать кукиш… — Тот же Козьма Прутков изволил заметить — вряд ли польза действия обусловливается совокупностью обстоятельств. — Он же сказал — спокойствие многих было бы надежнее, если бы дозволено было относить все неприятности на казенный счет. Не сдержался инспектор, прокашлялся. — Ах да, товарищ старший лейтенант милиции, и вы здесь. Совсем вроде забыла. Но раз уж начался разговор при вас, то пусть он и продолжается. Я прошу лишь того, что вы сами бы дали другому человеку, который сделал бы то же, что и я, но был бы вашим человеком, работником вашей экспедиции, Иван Павлович. Согласитесь… — Может быть… Может быть. Ваше, как вы говорите, открытие и так вам лично не принадлежало бы. Много людей вложило в него свой труд. Я говорю прописные истины. Что ж, и их надо повторять, пока они не станут стереотипом мышления. Открытие не ваше. Сделано оно на деньги государства, а не на ваш страх и риск. А вы стараетесь использовать тот факт, что оно завершено лично вами, и превратить открытие в предмет для добывания «золотого пота» лично для себя. — Я прошу необходимое для научной работы. Для завершения методики поисков по новому способу, — упрямо продолжала Лариса. — Она нужна не лично для меня. — Хорошо. Будем говорить напрямки. Для меня вы человек, предавший своих товарищей. — Ради вашей экспедиции. — Я ее не имею. Не хочу и не буду иметь. Понятно! А ваше поведение закон не в силах покарать, а мораль — оправдать. — Я не прошу ни оправдания, ни защиты. Не возражайте, и все. — Не возражать, и всего? — И всего. — Не могу. Совесть не позволяет. — Посочувствуйте! — И не обязан, и не хочу! — Вы жестоки. — А вы? Вы не были жестоки, когда предавали товарищей? — Ради вас. — Только ради себя. Не наобещай вам Бондарь золотых гор, вы вряд ли пошли бы на предательство. — Но теперь-то я ваша! И я не хочу слышать таких слов. Если бы я знала… Эх, люди… — Надо быть человеком! Сбив на затылок берет, Лариса уткнулась в рукав куртки и глухо рыдала: — Не могу… Не могу я так больше… Все меня презирают. Зачем же уговаривали? Зачем? Заманили. Обманули. А теперь иди на все четыре стороны. Хоть в реку головой… — У вас есть выход. — Какой выход? Смеетесь? Выход — на реку, на порог. Да? — Вернитесь к товарищам. К тем, с кем вы начинали. И не бойтесь делить славу. Это единственная вещь, которая увеличивается при делении. — Иван Павлович, неужто вы серьезно сейчас сказали? А? — Лариса подалась вперед, ткнула себя пальцем в грудь. — Это я, паршивая собака, — и к ним? К ним! Думаете, они добрее вас? Такие же… Сорвав с головы берет, она кинулась к двери и, ухватившись за ручку, вдруг обернулась: — Значит, мне платить за все перебитые горшки? Иван Павлович поднялся. У двери замерла Лариса. Инспектор видел, как нервно мяла она зажатый в руке берет. Звонко защелкал по настольному стеклу карандаш, брошенный Иваном Павловичем: — На половине мы не сойдемся! — Крепко она вам насолила, — проговорил Шухов в задумчивости, когда Пичугина выскочила из кабинета. — Себе она насолила, Семен Васильевич, прежде всего себе, — твердо сказал парторг. — Думаете, я ее терпеть не могу? — Да, уж конечно, не любите. — Ценю этого человечка. Личность, несмотря ни на что. Шухов даже крякнул от неожиданности: — Неужто? — Смелый, настойчивый и работящий человечек, — крутя карандаш на стекле, покрывавшем стол, сказал Иван Павлович. — Я ведь с ней за нее самое дерусь. Сочувствовать ей действительно не сочувствую. Выйдя из-за стола, парторг пересел на диван рядом с Шуховым, заложил ногу за ногу и, обхватив колено руками, заговорил негромко, доверительно: — Может, в будущем люди и сделаются такими, как современная архитектура: прямолинейными, с пересечениями под углом в девяносто градусов, из стали, стекла и бетона. Только ведь сейчас-то они не такие. Не с такими мы строим наше прекрасное будущее. А возможно, и никогда люди не станут такими, о каких мы мечтаем. Останутся такими или почти такими же. — Как Пичугина? — Не так уж она и плоха. Совершить ошибку, крупную оплошность в жизни, потерять доверие товарищей не так уж трудно. А вот признать свою неправоту, найти в себе силы, и волю повиниться ой как тяжело. Для многих невозможно. И тогда вся жизнь их идет наперекосяк, одни сходят с рельсов, другие с круга, винят всех и вся, весь мир, лишь не себя. — Сдается мне, Иван Павлович, что Пичугина-то так не думает. Знает кошка, чье мясо съела, — заметил Шухов. — Вот это-то здоровое и правильное понимание обстановки, обстоятельств, которые создала она сама, и оставляет у меня в сердце место для надежды: она может стать человеком. Ведь что получилось, как все произошло? Пичугина — хороший минералог. А в Ленинградском институте, где она работала, специалисты по минералогии экстракласса. Тема, которой занималась Лариса, пересекалась с нашей. И после первого года «поля» Пичугина, сама ли, нет ли, теперь уж не разберешь, натолкнулась на интересную мысль — провести тщательный сравнительный анализ ряда известных в мире месторождений подобных руд и тех шлихов, что они привезли отсюда. Лариса загорелась этой идеей. Ей помогали и делом и советом. Но ведь любой совет оценивается или приобретает ценность не в тот момент, когда его дают, а тогда, когда он принес успех. Лариса получила очень много очень полезных, очень умных и очень разнообразных советов. Она сумела воспользоваться самыми важными, отобрать лучшие, построить четкую логическую цепь, и успех упал ей в руки, как спелое яблоко. Однако не без труда, и огромного. То, что мы ей помогали, чем могли, — дело обыкновенное. Возвращалась из тайги она через Горный. Существуй иной путь: мы узнали бы об открытии из газет, а тут она сама вкратце сообщила. И в экспедиции все до рабочего поняли, что Пичугина нужна тут словно воздух. Меня не было здесь, когда ее уговаривали и уламывали. Я вернулся, ее уж на руках носили и едва лишь не молились. Ларису буквально расхватали. Ее советы, мнение требовались и минералогам, и магниторазведке, и сейсмикам, и гравиметристам. Так продолжалось до следующего полевого сезона, когда сейсмо-, и грави-, и магниторазведка не только подтвердила, но и дала новые ошеломляющие данные. Пичугина попробовала на правах удачливого советчика вступить в долевой контакт со специалистами, которые добились таких огромных успехов в разведке. Те вежливо заметили, мол, совет советом, а дело делом. Пичугина начала настаивать. Ей напомнили, что на нее в свое время работали мозги целого института, а первооткрывательница — она одна. И тут Лариса стала действовать, закусив удила, обвиняя всех в обмане, переманивании. Отсюда и пошло к ней пренебрежительное отношение. Вы знаете, Семен Васильевич, я как-то спросил довольно солидного корреспондента, что было бы с ним, если бы он поступил, как Пичугина. Он ответил: его стали бы презирать коллеги в любом печатном органе и его карьера журналиста была бы окончена. И надо отдать ему справедливость, он в своем материале оказался самым объективным. Шухов спросил: — А если бы Пичугина не согласилась перейти в вашу экспедицию? — Мы целиком бы зависели от материалов и информации ее института. Однако тема Пичугиной, ее минералогическая проблематика стала бы проблемой номер один всего института. А сейчас ее требования об увеличении ассигнований на минералогические аспекты проблемы мы удовлетворить не можем. Мы занимаемся комплексными исследованиями и разведкой. — Иван Павлович, а если вдруг Пичугина не шутит и с отчаяния, ведь ей есть от чего отчаяться, и с отчаяния действительно пойдет на порог? — Проще уехать в Ленинград. — У меня такое мнение, что ее поступки трудно предвидеть. Пройти Змеиный она не сможет. И тогда… Иван Павлович только руками развел: — Я не откажусь ни от одного своего слова. — Согласитесь, — настойчиво продолжил Шухов, — вы, ваша экспедиция получила большую, выгоду от перехода в нее Пичугиной. — И да и нет. Да — в том моральном смысле, что экспедиция занималась поисками, и поиск закончил ее сотрудник якобы… Нет — в том смысле, что мы сейчас имеем дело со многими институтами, и Пичугина не может заменить весь свой институт. У нее на руках пока еще ценнейший материал, который она одна не осилит, не осмыслит. Однако пройдет еще год, и другие коллективы ученых раскусят проблему. Тогда Пичугина опоздает, безнадежно опоздает и в этом. Сейчас она, по-моему, хорошо разобралась в ситуации. Медлить не станет. — Я того и опасаюсь… — Чтобы эта работящая — ведь она работы просит, а не почета и славы — и такая молодая женщина пошла на явную гибель? Невероятно! Ради чего? Она не слабенькая, не хлюпик. Этакий-то человечек — и бултых в воду. Нет! — Но если она все-таки решится, то и за перебитые горшки, и за нее самое отвечать перед законом придется и вам…* * *
Серые, будто седые, базальтовые скалы, проточенные рекой, теснились по берегам предпороговой заводи. По верху скал стояли корявые от ветров флаговые старые-престарые кедры. Приземистые и толстостволые, они не столько стремились вверх, как положено деревьям, сколько распустили по камням в поисках почвы блеклые щупальца корней, и многие из них, так и не найдя пищи ни себе, ни дереву, остались висеть безжизненными шнурами. Но те, что проникли в глубокие трещины, забитые занесенной туда землей, одеревенели, обматерев, стали толстыми и плотными и казались руками, которыми дерево обнимало камни. На крохотной базальтовой площадке у самого жерла порога стояла молоденькая глупенькая березка. Она была так мала, что ветки ее, каждый листик даже тянулся только вверх — не то в мольбе, не то в отчаянии. Вдали полированная гладь заводи там, где начинался порог, выглядела зазубренной. Вода рушилась в тех местах вниз, и отражение береговых скал уродливо растягивалось и кривилось. «Вот и модель искривленного пространства, — усмехнулась Лариса. — Риманова геометрия… Геометрия Лобачевского… Нет, просто Эвклидова: прямая — самое короткое расстояние между двумя точками. Как это у Хайяма: «В обители о двух дверях…» При чем тут Хайям? Разве мне так уж было плохо? Пусть все косились, но у меня был такой друг!» По выходным ранним утром уходила в дальнюю заводь к Сергуньке. И никто не знал, куда она девается из поселка и что делает. А идти туда было далеко — переправляться через реку, а потом долго топать вдоль берега по бурелому, наваленному по урезу, перебираться через скалы, каменные завалы. Но радость встречи с лихвой окупала все трудности пути, и она была обоюдной. И эта не разгаданная никем тайна их общения таила в себе сладкое ощущение почти нереальности происходящего там, у заводи и близ, их игры, разговоры. Мальчонка все сильнее привязывался к Ларисе. И она, будучи с ним, занимая и обучая всему таежному, что только знала сама, испытывала непонятное для нее и чудесное чувство материнства, что ли. Потому что, кроме товарищества, меж ними присутствовало и другое — ее самозабвенное ощущение нежной заботы о Сергуньке. — Трудно тебе каждый день сюда добираться, — сказал как-то Сергунька. — А мы лодку построим. — Ло-одку? — Лодку, — сказала Лариса уверенно и сама удивилась, почему раньше не догадалась, и тем более тут же укрепилась в необходимости скорейшего осуществления решенного. — Какую лодку? — Берестянку. — Настоящую? — А как же я в понарошной плавать буду? — Сумеем? — Я строила. Совсем хорошая лодка Получилась. Я на ней из тайги выбралась. Ушла одна в маршрут, а до того видела, как Петька Волосатый и Мишка-Баюнчик лодку строили, и им помогала… — И построили? — Построила. Теперь у нас с тобой еще лучше выйдет. — А когда? — Сейчас и пойдем. Вот стоят отличные березы. Поодаль на каменном взлобке высилось несколько белоствольных красавиц. Они возвышались как бы отдельной купиной, и меж ними было совсем светло, не то что в остальном чернолесье. Когда они подошли к громадным деревьям, Сергунька вдруг весело рассмеялся: — Как же мы срубим дерево? — Не станем рубить. — А как же? — А ты посмотри. Мальчонка глядел добросовестно и долго, но лишь пожал плечами. Лариса объяснила, что тут березу и не надо рубить, но если бы понадобилось, то она сумела это сделать. А так береза стоит очень близко к скале. Меж камнями и стволами метр-полтора. Она срубит несколько толстых орешин, закрепит в камнях и окажется довольно высоко от комля, где кора уже годится для берестянки. Сергунька, оглядев дерево, стал хвалить его, а Лариса, вскинув руку с топориком, неожиданно высоким голосом завела странную диковатую мелодию:— «Дай коры мне, о Береза!
Желтой дай коры, Береза,
Ты, что высишься в долине
Стройным станом над потоком!
Я свяжу себе пирогу,
Легкий челн себе построю,
И в воде он будет плавать,
Словно желтый лист осенний,
Словно желтая кувшинка!»
До корней затрепетала
Каждым листиком береза,
Говоря с покорным вздохом:
«Скинь мой плащ, о Гайавата!»
И ножом кору березы
Опоясал Гайавата
Ниже веток, выше корня,
Так что брызнул сок наружу;
По стволу, с вершины к корню,
Он потом кору разрезал,
Деревянным клином поднял,
Осторожно снял с березы…
* * *
Летом уже, то ли поздним вечером, то ли ранним утром, в те дни, когда одна заря другую стережет, инспектор по обычаю провожал вертолет в крайцентр. Это так говорилось — в крайцентр, а на самом деле — до ближайшего аэродрома, откуда и уходил самолет в большой город. Сумеречная ночь приглушила краски. Вдали туман выполз из речного каньона и пластался по-над землей. Было странно видеть купины кустов и верхушки деревьев без стволов. А стоило спуститься пониже к поселку, как под пологом, словно под низкими облаками, стояли в полутьме только комли, и будто обрубленные кусты, и дома, будто срубы, — крыши их пропадали в тумане. И тишина там теснилась глухая, дышалось тяжело от застоявшейся влаги, но сильно пахло сеном, уже сметанным в копешки. Совсем не то на взгорье, где находилась взлетная площадка. Тут небо оставалось чистым, блекло-лазурным и прозрачным. На нем проступило несколько очень ярких звезд. Негромко и с особой ясностью позвякивали инструменты, которыми механики что-то проверяли в вертолете. Провисшие над машиной лопасти делали ее похожей на нахохлившееся существо, дремлющее и недовольное, что беспокоят. Прохлада на взгорье ядреная, колкая. Легкий, приметный в сумерках парок вырывался из уст людей при разговоре вполголоса, и это выглядело таинственно, как и желтый, неживой свет ламп-переносок около темной махины вертолета. Из окошка избенки-аэровокзала, на завалинке которой примостился инспектор, доносились сдавленные покрикивания и писк рации, создавая в душе Семена Васильевича впечатление необыкновенной отдаленности мира, куда улетают люди с этой принакрытой туманом земли. Семен Васильевич любил бывать в такие ночи на аэродроме, как торжественно именовали взгорье в поселке. — Да поймите, не могу я этого для вас сделать! — услышал вдруг инспектор голос начальника экспедиции Бондаря. Широкоплечий, в кожаном реглане, Бондарь стоял перед Пичугиной, что медведь перед Аленушкой — сказочной маленькой девчушкой. — Неужели это так трудно? — чуть нараспев, с затаенным смешком протянула Лариса Анатольевна. — Не-у-же-ли? — Нет у меня причин снимать начальника партии и вас назначать. И что за фантазия? — с какой-то затаенной болью прорычал Бондарь. — Что за фантазия? — почти пропела Пичугина. — Не фантазия. Я объясню. Я все могу объяснить. — В разгаре сезона! — почти простонал Бондарь. — Я вас очень уважаю, Лариса Анатольевна… И поймите меня правильно… — Я все понимаю, — с тихой безнадежностью промолвила Пичугина. — Я все понимаю. Понимаю — вы все можете. Даже в разгаре сезона. — Но зачем? Зачем?! — Бондарь даже руками взмахнул. — Согласитесь, Лариса Анатольевна, я сделал все, что вы хотели. Вы хотели заниматься прежде всего научной работой. Разве вы ею не занимаетесь? — Прекрасно знаете — не совсем так, как хотелось бы. — Экспедиция не НИИ. — Вы могли бы сделать больше. Вы обещали — ни в чем отказа не будет. Разве не так? — В рамках возможного. В рамках возможного! — Мне сейчас нужна должность… До зарезу нужна должность начальника партии на разведке и определении запасов. — Ну и ну… Не только открытие, но и разведку и определение запасов хотите сосредоточить в своих руках… Оставьте и нашим товарищам… Так просто нехорошо. Поймите! Так нельзя. — Давайте совсем откровенно… — очень мягко, почти вкрадчиво сказала Лариса. Начальник экспедиции пожал плечами: — Разве я бывал с вами неоткровенен? — Я не об этом. — Тогда не понимаю… — Открытия-то нет. — Какого открытия нет? — Моего. — Что за чушь? Перестаньте. Вы переутомились, может… — Одни ссылки — на одного, на другого, на третьего… Жутко. — Ни один, ни второй, ни иже с ним своих указаний, замечаний и прочих наблюдений не публиковали. И раз уж вы решились… Раз пошли ради себя к нам… Надо иметь либо чистую совесть, либо чистое отсутствие таковой. Так, поди, и колесо, — заторопился Бондарь, — не один-разъединственный человек открыл. Вся наука стоит и держится на чужих костях. В прямом и переносном смысле. Вы, Лариса Анатольевна, чересчур щепетильны. Так нельзя. Успокойтесь. Ведь никто не оспаривает вашего приоритета в открытии. Добро бы Садовская была с вами. Ну тогда непременно возник бы спор. Вы же одна в «поле» находились. И разве в самую трудную минуту мы вам не помогли? Нечего вам сомневаться. Мало ли чьи мысли вы использовали! Мне тогда как руководителю и газет читать нельзя. А я их читаю, читаю внимательно. Несерьезно все вами сказанное… Смешно даже, право. Семену Васильевичу показалось, что Лариса взорвется, наговорит тысячу глупостей. Но она то ли сжалась, то ли лишь пожала зябко плечами. — Мне нужно было этой весной брать партию — и в тайгу. На доразведку, на определение запасов. А не торчать тут в лаборатории. Не копаться в чужих мыслях. Назначьте меня начальником партии. Ну выдумайте такую, хоть бы в помощь тем, кто там уже работает. Бондарь снова сказал очень спокойно: — И весной на это не пошел. Что ж мои-то геологи тогда делали? Те, кто десять лет не ждал, а дорывался до своего часа? Им последний шаг оставалось сделать. Да вы опередили. Не задержись вы тогда на месяц сверх положенного срока, — вдруг вскипел Бондарь, — так мы весной вышли бы сами. Сами! — Так вы и весной бы меня не назначили? — Лариса приблизилась вплотную к Бондарю. — И весной — нет? Подождите! — Лариса вскинула ладони, едва не зажав рот Бондарю. — Подождите… Если бы я осенью, той осенью, поставила условием, что весной — непременно, непременно в «поле»… и все сама до конца доведу?… — Не взял бы я вас. Упрашивать перестал. Мне нужно было защитить честь моей экспедиции. Недаром же мы десять лет хлеб ели! — Вы предвидели и этот разговор со мной? Предвидели? Да? — В известном смысле, конечно… — Мне надо скорее… Скорей! Понимаете? Денег нужно еще. Еще двух, всего двух лаборантов. — Приеду — посмотрим… Но вряд ли… Поднажмите сами. Извините, на посадку пора. Бондарь круто повернулся. Скрипнул блестящий, хорошо отреставрированный реглан, кожа которого выглядела совсем как новая. Широко расставив ноги, будто морячок-салага, стояла Лариса, глядя в спину начальника экспедиции. Потом она сунула в косо разрезанные карманы замшевой куртки руки, сжатые в кулаки, и круто, так же как и Бондарь, повернувшись, пошла прочь. Но не к поселку, а в сторону скошенного луга, в туман… «Ну и что? Кому и на что этим разговором глаза откроешь? Ничегошеньки разговор не дает», — подумал Шухов. …Взволнованный пережитым воспоминанием, Семен Васильевич вышел к реке. Она торопливо скользила по наклонному каменному ложу русла, шепелявя в прибрежных валунах, закручивалась спиралью в заводи, где стояли у хлипкого причала поселковые лодки. Отбитые течением, они пугливо жались к настилу из горбылей, словно дворовые цепные собаки, — позвякивая время от времени ржавыми швартовами. Ступив на причал, инспектор увидел из-за скалы на противоположном берегу деда Антипа. Тот только что выволок из реки здорового, в полпуда, тайменя. Рыба отчаянно билась на окатанных камнях, изгибаясь и выгибаясь, а дед норовил ударить ее по голове обушком топора, да промахивался. Стука издали было не слышно, и эта немотная борьба Антипа с тайменем в другое время вызвала бы у Семена Васильевича невольную улыбку, только теперь старческая неловкость как-то больно резанула по сердцу. И кричать Антипу было бесполезно — после болезни, которую он подхватил в последней экспедиции с Пичугиной, старик стал туг на ухо. А едва завидев Антипа, участковый тут же понял, что старик ему тоже понадобится: пусть идет по берегу вдоль уреза воды, хотя, по мнению Семена Васильевича, тело Ларисы вряд ли могло прибить к той стороне — тут дело в течении. Да кто все знает? А второй свидетель в таком случае совсем не помешает. Инспектор впрыгнул в свою лодку, быстро, с первого рывка, запустил мотор. Течение само вывело моторку из стаи сбившихся посудин. Шухов дал полные обороты. Мотор взревел, лодка задрала нос, будто встала на редан, говоря морским языком, и, оставляя за собой серповидный пенный бурун на темной воде, вывернулась на быстрину. Там она сразу замедлила ход под напором стремительного течения. Попадая в коловерти и водовороты, моторка плюхала днищем о поверхность реки, поднимая брызги и дрожа. Антип заметил инспектора, когда тот уже выскочил на берег и оказался шагах в пяти от старика, который все никак не мог оглушить едва ли не метровую литую радужную рыбу. Ошалелоглазый таймень был прекрасен: розовые его грудные плавники часто шевелились, а красные хвостовые, как и сам широкий пунцовый хвост, бешено извивались. По изумрудному телу, казалось, бродили розовые пятна. Краски, неожиданные, играющие, живые, существовали вроде бы сами по себе на чешуе, покрытой коричневыми веснушками. Таймень подпрыгивал и извивался на серых окатышах. Он отчаянно и безуспешно боролся за свою жизнь. Семен Васильевич видел, что прочный самодельный крючок, проглоченный рыбой, разорвал жаберную крышку и торчал наружу. Измотанный, запыхавшийся старик, державший намертво в пальцах толстую капроновую леску, бил топориком уже как попало. Топор звенел бодро, и странно было слышать прерывистый хрип дыхания вконец уставшего Антипа. Подняв крупный камень, инспектор быстро примерился и оглушил рыбу. Бросив топор, Антип сел прямо на камни, опустил руки меж колен и долго не поднимал головы. Он дышал тяжело и взахлеб. — Экое полено… — выговорил старик, отирая ладонью лицо. — Давно такого не видел, — поддержал Антипа участковый. — Меня таким не видел, то да… А таймень так себе. Рыбина как рыбина. Не из больших. — Отличная рыбина! — настоял на своем Семен. Как-то странно, перевалившись сначала на бок, а потом уже поднявшись на ноги, Антип проковылял к воде, зачерпнул ладонью, омыл лицо. — Случилось чего? А? Ты здесь, а Женька там чего-то караулит. Дело ко мне, что ли? Когда Семен Васильевич наскоро сказал Антипу о случившемся, тот вскинул редкие бровишки, собрал гармошкой сухой старческий лоб, но начал не о ней: — Как Сергунька-то, как его голуба душа пережила? — Утешил как мог… Только чем утешить-то было? — Нечем… — согласно кивнул Антип. — Молода… Молоденька Лариса, — снова заговорил Антип. — Молодому умирать — все равно что и не родился вовсе — не жаль. Для него важней всего, чтоб в мире по его было, как он хочет. Непременно, чтоб как он. И никак иначе. Иначе жизнь не в жизнь. Не хочет мир жить по его, так и мира ему не надо! — Знать не хочу, чего она хочет, — вспылил инспектор, — а натворила она черт те чего! — Не думала она ни о ком, — покачал головою Антип. Махнув рукой в сердцах, Семен Васильевич, не зная, как кончить разговор, попросил старика: — Ты по берегу-то, Антип, сможешь пройти? Тут непропусков нет, а ее, может, в заводь занесло. Я и не увижу с реки. И Семен Васильевич пошел к лодке. Он попробовал утешить себя ленивой мыслью о том, что всегда, в любой момент, когда ты ешь, или спишь, или любуешься тихим закатом, где-то в тот же миг другой страдает или уже погиб, но дума эта была слишком умозрительной, не трогала сердца. — Се-е-мен! Се-е-мен! — кричал Антип. Кричал и махал к себе. «Что еще там?…» — досадливо подумал инспектор, возвращаясь. — Да что с тобой, Семен? — торопливо спрашивал Антип, помогая инспектору подтянуть моторку к берегу. — Руки у тебя дрожат. Вспотел. Жар у тебя, что ли? Не в себе ты. — Пройдет, — хрипловато отозвался Шухов, сам удивляясь тому, что творится с ним. Он вроде бы действительно приболел и боялся признаться самому себе, что, как много лет тому назад, боязнь воды всколыхнула глубины его сознания. Диковатое это было состояние, когда происходящее и воспринимаемое им окружающее как бы чередовалось с воспоминаниями. И они, эти воспоминания о давно пережитом им в океане во время тайфуна, оказывались такими яркими и впечатляющими, что затмевали сиюминутные ощущения и переживания. В воображении, обрывая связность мысли, вздымались и проседали сами на себя громады конусообразных волн, и из вершин их извергалась в небо пена, клочья которой косо метались меж хребтов сулоев, будто раненые птицы. — Пройдет, пройдет, — твердил Шухов, вытирая пот со лба. — Зачем звал-то, Антип? — Нечего пастись перед порогом, —положив корявую старческую руку на плечо Семена, говорил тот. — Надо за залом пробираться. — Где залом? — не сразу сообразил Семен. — Как где? Да за поворотом залом. Забыл нешто? На последней ступени Змеиного всегда коряг да стволов набито видимо-невидимо… — Хорошо. Давай по порядку. Не пойму я дела никак. — Тьфу! Вези меня на ту сторону, к Женьке вези. — Антип Аристархович, дело давай! Упустим Ларису. — Не упустим, если в толк возьмешь, чего тебе твердят, товарищ старший лейтенант! — сердито рявкнул Антип. Семен Васильевич глянул на старика. Сивые брови Антип вздернул чуть не на середину лба, сведя их над переносьем, резкие морщины на впалых щеках обозначились необычно резко. Редкая бороденка клином торчала вызывающе строго. А в глазах была грусть. Тогда, чтоб не видеть этих грустно сожалеющих глаз, Шухов нагнулся, зачерпнул пригоршнями студеной воды и плеснул себе в лицо раз и другой. Зашлось сердце, словно не в лицо, а в глубину груди плеснул Семен льдистую влагу. — Ничего… Ничего… — пробормотал инспектор. — Клин клином вышибают. — Садись, — сказал Антип, когда Шухов разогнулся. — Садись давай. Присаживайся на борт лодки да в толк бери. — Ну… — Вот те и ну! Ну, даст бог дуре удачу — пронесет через порог, а внизу, у последней-то ступеньки, западня. Залом! Через него надо перейти, лодку перетащить. Иначе, и минуй Лариса Змеиный, погребет ее в сетях бурелома. Оттуда-то уж не вырвешься. — Надо туда идти. — Не идти, а лодку переволочь. Сам не можешь — Женьку послать нужно. — Сам. — «Сам», «сам»… Не больно-то храбрись. Да с тобой-то что произошло? А? — Произошло… Старое за новое зашло. Ты-то хоть понимаешь, что будет, если Лариса… — Не понимал бы — не гоношился. Не сразу, а вот как увидел, пасешь ты ее перед заломом, так уж сообразил. От девка отчубучила! — Ваша любовь… Садитесь, к Женьке подадимся. А оттуда потянем моторку к залому. — Человек-то она неплохой, да глупый… Старый солдат пропустил мимо ушей едкое замечание Семена — «ваша любовь» — надо было пропустить. Не мед инспектору столкнуться с тем, что человек сам решился отказаться от жизни. Да еще совсем молодой… и славный человек, с царем в голове. Котелок у девки варит дай бог каждому. А соблазнов тьма-тьмущая. И не знал ведь инспектор, что бывал, бывал Бондарь у них в партии перед открытием, не раз бывал. Или знал? Да не время его спрашивать. Дело совсем не в том, что она девка, — и у мужика голова закружилась бы. Где ж ей-то в ее годы знать: не всякому дано вынести счастье. Не каждому по плечу ноша. Слепнут от счастья особой радужной слепотой, какая бывает и пострашнее, попогибельнее черной немочи. В темноте-то на ощупь идешь, за стенку, за бревнышко цепляешься, а тут летишь — все нипочем, на всех меня хватит, и нет человека, который не любил бы меня. Ан нет! «Нужно, же было мне, старому дурню, тогда, осенью еще, в лагере заболеть! Ведь верхним чутьем брал — не вернется девка из тайги пустой. Может, потому как убедила она меня? Нет. Тут не в убеждении дело. Я ведь по характеру видел — сорвется Лариса, не выдюжить ей славы: на жизнь жадна. Из ведра норовит хватить, не из стаканчика. Так и пошел с ней, потому как видел! Потому я за нее и в ответе. А когда ей нужен был, не оказалось рядом меня. Меня бы она послушалась. В больницу наведывалась, не пустили сначала. Потом-то уж поздно. К Женьке, говорят, кидалась, а тот… Что с кобеля взять? Ну а невзлюбил-то Звонарев ее потом, когда она ни за понюшку табаку оставила своих товарищей ради лишнего глотка славы. От одиночества ее промах. Одна пыталась и выкрутиться. Ан нет! И с горем человек в одиночку не воин. Хотя, может, и сам, по собственной воле, залетел в трясину…» Антип вместе с Семеном столкнули лодку на глубь, попрыгали в нее. Затрещал мотор. Ничего не ответив, Шухов повел лодку к противоположному берегу, чтоб с помощью Женьки Звонарева переволочь моторку через залом. Он вспомнил теперь, что Антип был единственным человеком в Горном, который когда-то, еще в гражданскую, прятался с товарищами из красного отряда от казачьей банды в теснине за неприступной ступенью порога. Как им удалось тогда миновать ее, Шухов не знал, а Антип не любил распространяться на этот счет. Да вот, видно, пришел час открыть старику свой секрет. А то, что секрет был, никто не сомневался. «Что ж, — подумал инспектор, — раз Антип расщедрился, похоже, верит — пройдет Лариса через Змеиный. Пройдет… Давно, поди, догнал ее Федор, а точнее, снял с прибрежного камушка!» И уж не сердитесь, Лариса Анатольевна, придется вам ответить за это мелкое, как гласит закон, хулиганство! Но так ли это или не так, а с соображением Антипа следует считаться. И подстраховать Пичугину перед последней ступенькой порога, перед деревянным неводом залома просто до зарезу нужно… И хоть бы перестали руки дрожать от старого, сто раз пережитого страха. Ничего, инспектор, держись! Женька, долговязый бородач, похожий на молодца-первопроходца, нетерпеливо топтался у уреза воды, встречая лодку. Он, очевидно, ожидал уж самого худшего, но, когда Антип объяснил, зачем они явились, Звонарев гоготнул: — Это ты прав, Антип! Девка прошла огни, воды и медные трубы, так и на чертовы зубы ей наплевать. Зыркнул на него старик, да смолчал. С интересом поглядел на Женьку инспектор. Азартному, захваченному исходом поединка Ларисы с порогом Звонареву уже было ни до кого, ни до чего: все — после, все остальное — потом, а сейчас важно, пройдет ли она, сумеет ли, победит ли во что бы то ни стало. Он, пожалуй, оставил бы для Пичугиной и более чем непреодолимое препятствие — ловушку залома. Но уж, соверши она такое чудо невероятное и сверх того, Женька тогда простил бы ей все: и бывшее, и что хошь на всю жизнь вперед. — Надо нам Семену помочь, — сказал Антип. — Один он пропадет. Не выдюжит. — Давай я пойду! — пригнувшись, глянул в лицо Шухова восторженный Женька. — Давай? Хочу посмотреть! Это ж надо! А? Антип охладил его пыл: — Мы со старшим лейтенантом тебя, кобла, не выведем на лодке. Шутишь? Да и по всем статям инспектору туда надоть… Положено. Проговорил это старик твердо, и ни Женька, ни Шухов не стали спорить, хотя Семену Васильевичу осталось совершенно непонятно, по каким «статям» и почему именно ему «положено» идти за залом и ловить там Пичугину. Тут сыграло другое — Антип таким тоном выговаривал «старший лейтенант», будто сам он имел звание полковника. Когда приспичивало, старик умел командовать. — Доставай, Семен, моток капрона. Была у тебя веревка. Сколько в ней? — Сто метров. — Что надо. Вяжи к носу моторки один конец. А ты, Женя, давай козлом дуй вон туда, к флаговому кедру. Не отседа поднимайся, а по расселине. Там через нижний сук веревку перекинешь. Будем подтягивать да подстраховывать инспектора. Звонарев хмыкнул было: мол, на кой ляд ему-то по расселине козлом подниматься, да Антип и слушать бы его не стал. И столько твердой веры в правоту распоряжений чувствовалось в речах старого солдата, что возражать не приходило в голову. Времени оставалось в обрез, чтоб выполнить приказ Антипа. — Так, — прикинул на глазок Антип расстояние до кедра, — метров семьдесят верных. Ну, остальной кусок еще пригодится. Как минует Шухов залом, ко второму кедру перейдешь. Видишь? — Да. — Вон оттуда помогать станешь, пока старший лейтенант не пройдет на моторе вдоль отбойного берега. Потом подтягивать будешь, когда Шухов на залом лодку толкать начнет. Да сил не жалей, Женя. Иначе засядет старший лейтенант с дюралькой со своей на корягах. Женька сматывал веревку из бунтика на локоть: — А ведь выйдет. Так легко можно залом миновать. Хитер ты, Антип. — Хвалиться будем, когда с рати поедем, — буркнул старый солдат. — Ты давай жми к кедру, — и обернулся к Шухову: — Взял в толк? — Понял. А пройдя залом, задержаться надо. Подождать, пока Звонарев ко второму кедру подойдет да закрепит конец, чтоб меня опять на буксире тянуть. — Инспектор кивнул в сторону реки и посмотрел туда. Тут он, собственно, впервые за все это время и разглядел залом и оценил, сколько ему потребуется сил и сноровки, чтоб преодолеть его, хотя с того места, на котором они стояли, виднелась лишь часть «баррикады». Пока Антип командовал да распоряжался и Шухов слушал его дельные советы, у Семена не оставалось времени ни на что иное, кроме как соображать да прикидывать выгодность и осуществимость задуманного старым солдатом. И инспектор неприметно для себя обрел спокойствие и уверенность. До этих минут во всей сложившейся ситуации он ощущал себя лицом как бы страдательным, переживающим за другого, нежели действующим. Его вины в том не было. Не мог же он в самом деле знать или предположить всевозможные варианты спасения Пичугиной. Кстати, он и теперь не оставлял мысли, что жизнь Ларисы уже вне опасности: догнал ее Федор или снял с прибрежного камушка. Однако исключить самого плохого он тоже не мог. Опасность для жизни Ларисы, как бы к ней сам инспектор ни относился, требовала от него самых решительных действий. И Шухов пошел бы на самый отчаянный риск ради спасения Пичугиной. Сейчас же от спасения Ларисы — если она все-таки удачно пройдет Змеиный — зависела честь и доброе имя многих. Залом, поднимавшийся перед Шуховым в теснине и от которого ему предстояло защитить и спасти Пичугину, коли ей повезет, — этот настоящий залом на реке был и велик и страшен. Узкую горловину меж скальными берегами перегораживала высокая, метра в три, плотина из бревен, полуразбитых лесин, корней и корневищ, вывороченных с корнями деревьев. Весь лом, стволы и пни, ветви и остовы переплелись, сцепились и застыли, словно в мертвой схватке. Уже никто и никогда не смог бы разобрать, где та первая валежина, перегородившая путь остальным. И важно ли это, если даже ревущая река не в силах была протолкнуть кляп, отбросить его, освободиться. Вода в бешенстве подныривала под древесную плотину и вырывалась из-под нее вся в яростной белой пене, и ошметы пены, будто мертвые птицы, плыли вниз и то ли истаивали, то ли тонули. А тем временем Женька Звонарев, чуточку обиженный раскомандовавшимся Антипом, лез на скалу, похожую на утюг, что вдавалась в реку. Около нее-то как раз и образовывался почти извечный залом из плавника с верховьев. На боках ее аршинными буквами выведены имена удальцов и сумасбродов, в разные времена пытавшихся преодолеть Змеиный и погибших. А тут девка хочет их за пояс заткнуть. Не по отчаянной надобности, по своей воле решилась она сделать это. Веревка, по-альпинистски намотанная на предплечье, мягко соскальзывала виток за витком. Ее осталось много, чуть больше половины, когда, подтянувшись на руках, Женька закинул обутую в кирзовый сапог ногу на верхнюю площадку скалы, где стоял кряжистый флаговый кедр. Привыкнув не доверять в тайге ни одному крепкостоящему дереву, Женька плечом что было силы боднул ствол кедра. Тот не шелохнулся. Звонарев потер плечо, дотянулся до нижней ветви, повисел на ней, пробуя крепость, и только тогда перекинул капроновую снасть через сук. Потом подумал: «Не тонковат ли линек? Капрон, впрочем. Сам-то, пожалуй, выдержит, да не перережет ли он сука, когда придется подваживать лодку к залому и помогать инспектору волочь ее через залом? Подстраховать бы…» Женька снял широкий флотский ремень с брюк, обмотал ветку кедра у основания и остался доволен собой. С отвесного края скалы-утюга маленькая заводь с правой стороны у ее подножия блестела на солнце. Там у лодки стояли Антип и инспектор, ожидавший Женькиного сигнала: мол, можно двигать. Многометровая высота Звонарева не смущала. Он тщательно прикинул, не захватит ли где капроновую снасть коварная щель в камне. Остался доволен проверкой — не должно прихватить. Оглядел и чертолом, наискось перегородивший течение. Сверху эта самообразовавшаяся плотина выглядела хрупкой, ненадежной, редкой. И непонятным казалось, как это пенная от напора вода не в силах отбросить со своего пути хаотический ворох бревен. Присмотрел Женька и местечко, где, по его прикидке, полегче было преодолеть залом. Инспектору и Антипу из-за носа скалы-утюга всю дьявольскую перегородку не было видно. Оказалось, под самой-то скалой лишь несколько кряжистых пней с корнями сдерживали напор. Да и сила течения здесь, на резком повороте, приходилась на противоположный каменный склон. Но сюда Звонарев не смог бы помочь подвести дюралевую лодку инспектора, слишком велик угол образовался бы между носом моторки и оконечностью выступа скалы. Сам же инспектор вряд ли справился бы с течением. Пришлось Женьке дать отмашку ожидавшим внизу и карабкаться на вторую скалу, где росло дерево, которое можно было использовать как опору. Чертыхаясь и ободрав до крови колени, Звонарев устроился наконец на втором выступе. Капронового линя едва хватило. В руках у Женьки осталось метра два. Знаками он показал Шухову, что можно начинать штурм залома и где удобнее идти. Наконец Женька стал выбирать слабину. Мотор наверху был слышен слабо. Потом лодка на минуту скрылась из виду, лишь по направлению натянутой веревки Звонарев мог судить о пути лодки с работающим на полных оборотах «Вихрем», пока скорость течения и дюралевой плоскодонки не уравнялась. Тогда Звонарев принялся тянуть, тяжестью всего тела вываживая моторку. Он понял, что инспектор вывел плоскодонку на самую быстрину, преодолевает стрежень. Неожиданно натяжение ослабло. Женька едва не загремел с выступа. — Был бы номер… — выматерился он. Обернул двумя витками веревку за ствол, свесился через край выступа. Обругал себя, увидев, что лодка проскочила стрежень и осторожно пробирается под самой скалой к тому самому месту залома, где он ниже. — Обормот, — сказал себе Женька. — Сила есть — ума не надо. Надо ж самому было рассчитать, сколько веревки вытяну, пока инспектор стрежень минует. И Женька сплюнул в ту сторону от скалы, куда чуть не загремел по собственной глупости, опять начал осторожно выбирать слабину. В слабой струе течения лодка шла на моторе, сама, очень медленно, метр за метром отвоевывая расстояние. Пока у мотора хватило сил. Потом слабины не стало. Женька глянул за край площадки и увидел с высоты лодку у самых коряг, из-под которых, выгибаясь по-кошачьи, била тугая струя. — Поможем… — скомандовал сам себе Женька и принялся снова тянуть всем корпусом линь, но теперь уж ходя с веревкой через плечо сбочь ствола, чтоб успеть схватиться за него, не завалиться в реку. Опять остановка. — Дотянул вроде, — пробормотал Звонарев, закрепив линь, и заглянул вниз. — Порядок. Нос лодки был у самого бревна, через которое с громким хлюпаньем перекатывалась вода. Инспектор выключил мотор. Линь натянулся до звона, передавшегося металлическому корпусу. Семен Васильевич понял, что пора поднять из воды винт подвесного мотора. Плоскодонка прыгала и скакала на пульсирующей струе, словно необъезженная лошадь. Нос моторки в это время коснулся бревна, и Шухов почувствовал, как истерической дрожью забился корпус. На мгновенье Шухову подумалось, что от этого прикосновения лодки к бревну залом сейчас разойдется, рассыплется, громадные пни с щупальцами корней обрушатся на него вместе с бревнами, застрявшими между ними. Корпус отошел от бревна. Дрожь пропала. «Что за чертовщина? А ты спокойней, инспектор…» Он слишком резким движением завалил мотор в лодку, и она, подпрыгнув, чиркнула бортом. — Спокойно, спокойнее. Плавно надо двигаться. Здесь в оба надо глядеть, а чувствовать свою скорлупку за пятерых. Держась за борта, инспектор не спеша и очень осторожно продвинулся к носу дюральки. Потянулся к корню, плетью свисавшему сверху, дотронулся и отдернул руку. Корень напряженно и упруго дрожал, ему передавался трепет всего залома, содрогавшегося под напором воды. Семен взглянул на свою руку — твердую, уверенную — и улыбнулся. — Когда сам у черта в лапах, так и вы успокаиваетесь. И память вам не мешает. Ишь вы какие! Так уж не подведите, — и схватился за плеть корня опять. Понадобилось несколько секунд, чтоб освоиться с трепетом залома. Сбоку от Семена торчала свежая ветка, видно недавно прибившегося дерева. Солнце просвечивало листья, дрожь в них ощущалась особенно сильно, и было неприятно на них смотреть. Шухов отыскал взглядом надежный ствол в заломе, хотел уж ступить на него, да поостерегся. Ненадежной показалась вспученная кора. Тогда он для проверки ударил кованым каблуком по стволу. Брызнули фонтанчики, послышался легкий треск, шелест, и прямо на глазах лесина была ошкурена течением. — Вот так, инспектор, — поблагодарил себя Шухов. Потом он перелез, держась за шнур корня, из лодки на дрожащий залом. Теперь Семен ощущал трепет переплетенного в плотину бурелома подошвами ног. Выбравшись повыше, он нашел среди ветвей и валежин узкое местечко, где способнее переволочь лодку, помахал рукой Женьке, чтоб тот ослабил линь. Плоскодонку требовалось подать ближе к скале. Только теперь инспектор обратил внимание, что уровень воды за заломом выше чем на метр. Течение там вроде спокойнее, лишь у самого края бродят по поверхности, возникая то там, то тут, воронки водоворотов и ныряют под бревна с противным сосущим хлюпаньем. — Давай, давай побыстрее, Семен, — поторопил он сам себя. Пропустив веревку через спину и схватив ее обеими руками, инспектор с трудом вытянул плоскодонку на намеченное для волока место. Ступать приходилось очень осторожно, пробуя прочность коры на стволах. Поскользнись он — и нога попала бы в капкан.* * *
Трясогузка, цвиркнув, села на слегка приподнятый берестяной нос оморочки. Лариса перевела взгляд с раннего желтого листка березы, плывшего рядом, на нежданную гостью. Сероголовая и желтобрюхая, с зеленой накидочкой на спинке, она кокетливо качалась на тонких ножках, словно никак не могла найти устойчивого положения, помахивала черно-белым хвостом. Дергая головой, птица присматривалась к недвижно сидящей Ларисе темной бусиной глаза, то одного, то другого. «Чего Сергуньке нравятся эти птицы? — подумала она вдруг. И тут же: — Скоро этот проклятый порог? — И снова: — Нравятся вот Сергуньке трясогузки… Веселые и хитрые, говорит. Почему хитрые?» Тишь, подчеркнутая ровным шумом порога вдали, и яркие берега в цветном разнотравье… Покой небес и зеркальное отражение деревьев и скал в покойной воде… И эта веселая и хитрая птаха… Пахнущая березой и кедровой смолой оморочка-пирога… Все само по себе. И она, Лариса, сама по себе. Будет, не будет ли стоять на выступе та дальняя березка, свались в реку вон тот камень со скалы, тот, что похож на нос, пропади пропадом пичуга-трясогузка или она, Пичугина, — ничего-то во всем мире не изменится. И есть я, нет ли меня — все едино… Дар напрасный, дар случайный, жизнь… Да скорей бы уж порог — и думы прочь. И ничего не изменилось, поиграй она с Сергунькой еще час ли, другой. Хорошо-то как с ним… Чего тебе, глупая трясогузка? Совсем она не веселая и не хитрая. И брови у нее белые, глупые, совсем как у меня. А Сергунька спросит о чем-нибудь, один глаз прищурит, вторым из-за переносья косит-пытает… Ох Сергунька… Была Лариса слишком молода, чтоб всерьез поверить в свою неминуемую гибель на пороге. Любой и каждый мог сгинуть, только не она. Да и люди много старше и поопытней ее, даже глядевшие в оскал смерти, понимают: «Она пришла…», может быть, только в последний момент или миг. И то, вероятно, не каждый. Очевидно, потому, что себя невозможно представить без мира, без неба и воздуха, который так привычно и просто вдыхаешь, без ощущения самого себя. Лариса огляделась, попыталась ощутить отчаяние, безвыходность своего положения. И не смогла. Что ей, в конце-то концов, за дело до того, кто и как к ней относится? Плохо? Пусть плохо. Ни жарко ни холодно. Иное — противно ощущать себя виноватой. Тошно стало. Она переживала вину, сознавала свою неправоту. Разве ее согласие на уговоры Бондаря случайное решение? Разве она не радовалась, когда узнала, что Садовская не пойдет в «поле»? Разве не ясно стало ей — она одна пойдет в тайгу и сделает открытие одна? И это вопреки, казалось бы, всем прогнозам и разговорам: мол, в нынешнее время большие дела не творят одиночки. Да, не творят. Не творят. Используют опыт, предположения, догадки десятков и сотен умов, которые мыслили до них. И в этом смысле наука всегда была коллективной. А она, она оказывалась одиночкой! Пусть у победы тысяча родственников, но все равно победитель один! Он единствен. Как ни кинь. И пусть потом, после ее имени, идет перечисление той тысячи. Она-то первая, была и останется одна. Единственная! Только ведь она твердо рассчитывала — никто не догадается о ее глубоко тайном, подспудном, заранее определенном выборе пути! Ее переход должен был выглядеть случайностью, ничем не обоснованной. Пусть даже капризом! Пусть прихотью. Слабость можно простить, понять, объяснить. Вот почему при мысли о прежних товарищах ощущалась тяжесть под ложечкой и ныло, ныло сердце. Ныло, словно нарывало. Так она решила сыграть в орлянку. Не с порогом Змеиным, сама с собой. Цвиркнув, вспорхнула трясогузка и косо, будто нехотя, подалась дерганым летом, то пуская в ход крылья, то складывая их. Пусто кругом. С опушек не слышалось трепета листьев. Кривились отражения берегов в воде перед порогом, а шум его стал вроде глуше, дальше. Оморочка будто не двигалась, и сухой лист стоял рядом, почти на том же самом месте, только хвостик черенка его повернулся в сторону скал. Скучно… Тоскливо на реке без Сергуньки. Лишь с ним, в окружении его беззаветного обожания, Лариса ощущала покой, становилась для самой себя прежним человеком, далеким от расчетов и нудных отношений с другими людьми. И подарок свой отняла, чтоб разбить, уничтожить даже память добрую о себе. Никто же не переубедит, не сможет переубедить Сергуньку! Кто скажет и кому он поверит, что виновата-то во всем происшедшем сама Лариса, она одна, и никто больше! Бедный Сергунька… — Зачем я погнала его к инспектору? — отрешенно и вслух спросила себя. — Вот будет шуму-то!.. Так иду или не иду я на порог? Комок под ложечкой сжался до боли. Хотелось взвыть в голос. Не видеть ни солнца, ни неба, не думать о себе самой и людях. Лариса пошевелилась, так невмоготу сделалось ей сидеть будто прикованной. Странно — она не увидела желтого рано облетевшего листка березы, что плыл все время рядом с лодкой. Оглянулась. Лист отстал, бабочкой, едва касавшейся воды, держался позади оморочки. «Ветром его, что ли, отнесло? — подумала Лариса. — Да ветра нет. Ни дуновенья. Лодка-то тяжелее. Быстрее ее тащит, разгоняет течение!» Глянула вперед — порог совсем неподалеку. Отражения скал и деревьев уж не кривились, а растягивались в зеркале вод, растягивались и тянулись по натяженной поверхности к зеву Змеиного. В испуге Лариса подалась назад. Оморочка закачалась. Скорее вроде пошла. Схватив весло, Лариса попыталась отвернуть лодку, направить ее к берегу. Но лодка лишь рыскнула в сторону и опять пошла прямо. «Тянет… Тянет! Тащит на порог! Что ж я? Ведь я хотела. Сама пошла!» — билось в мозгу. А руки как бы сами по себе гребли и гребли веслом. — Не хочу, не хочу туда! Не хочу… ту-уда-а-а! — закричала Лариса. Берестянка стала боком. Однако уж никаких усилий Ларисы не хватало, чтоб вывести лодку из лавины речного течения, стремительно катившегося к порогу. Тогда в ощущении обрушившейся на нее тишины, немого отчужденного безмолвия Лариса услышала тонкий пчелиный звон лодочного мотора. — Успел, успел Сергунька! Предупредил! Милый… — бормотала она. — Знала, не оставишь… — И поняла: она действительно все это время ждала, ждала — кто-то успеет, кто-то подойдет; не может же так быть, чтоб она сгинула. Она, обернувшись на звук, закричала: — Скорее! Скорей!* * *
Федор теперь гнал моторку, не задерживаясь в заводях. Он не смотрел по сторонам в надежде увидеть сидящую где-либо на прибрежном камушке Ларису. До порога оставалось каких-то пять километров, и он уверил себя — пошла Пичугина на порог. Не могла не пойти, потому что слишком большой груз переживаний взвалила она ненароком на Сергунькину душу, издевкой было бы после этого отступить от своего страшного замысла. Передуманное Федором сводилось к тому, что он с минуты на минуту все яснее и отчетливее представлял себе отчаяние и жуть своего маленького сына, на которого обрушилась столь дикая весть. Для него ж Сергунька был всем, и любил Федор его — так казалось ему — даже больше своей жены Марьи, которая подарила ему такое счастье, почти нежданное уже — прожил Федор бобылем за тридцать, думал, и дальше так останется. И вот сторонняя девка присосалась к Сергуньке, к малышу-то, отвадила от родителей, от Федора, главное, какими-то играми да сказками. А теперь решившая сгинуть и оставить Сергуньку с искалеченной душой, потому что никто не сможет доказать мальчишке — она сама, сама Лариса виновата в своей собственной судьбе. Но вот это-то и должна сказать Лариса малому Сергуньке, признаться ему в своей подлости, чтоб малый не думал, будто звери люди, будто они довели Ларису до края. — Так ведь, так ведь он и думает, — шептал Федор. Раскатилась боком моторка еще на одном кривуне перед Змеиным. И здесь гладь воды была чиста, и до следующего поворота оставалось ждать встречи. В том, что он настигнет и изловит Лариску, Федор не сомневался. Он не мог в том сомневаться. Как же тогда Сергунька его станет жить с веригами на душе? И в воображении Федор ясно представлял себе: достигает он Лариску, хватает ее за шиворот и втаскивает в свою лодку, приговаривая: — Стерва! Что ж ты, стерва, делаешь? Что делаешь? А она плачет горькими, виноватыми слезами, простить ее просит. Вот и последний поворот. За ним километровая заводь, которая обрывается порогом. Хилые березки на мысу, подмытый обрывчик. Федор, срезая поворот, прошел у самого берега, рискуя разбить винт подвесного мотора о гальку. Мысок сзади. Впереди еще покруче, погорбатей. Снова Федор прижал лодку к самому урезу. Он экономил секунды. Он боялся, что Лариса уже свалилась за порог. А ему чертовски нужно было выручить ее. Моторка выскочила на плес. Федор увидел берестянку невдалеке от порога. Федор принялся жать сектор газа, едва не выворачивая ручку. Все, что можно было взять от мотора, егерь давно взял. Теперь уж ни на сантиметр он не мог увеличить скорость. Он видел — Лариса обернулась. Стала махать руками. Она звала или предостерегала его, Федор не понял. Для него важным оставалось одно — догнать и уберечь Ларису. Лишь секунды спустя Зимогоров понял — Ларису потащило на порог. Она не в состоянии собственными силами отвернуть берестянку, вывести ее из потока, что засасывал пирогу в жерло Змеиного. Федор привстал в лодке. Сидя, он плохо видел, далеко ли осталось оморочке до той мягкой, отсвеченной солнцем черты, за которой бешеная вода, клыки осколков и лобовины окатышей, частые зубья скал, отбойные плиты поворотов. И, привстав в лодке, Федор быстро и точно отметил про себя, что самая призрачная надежда перехватить Ларису и выручить ее еще оставалась.
Надежда была на ловкость и смелость, на расчет маневра самого егеря, на безотказность не единожды проверенного мотора. Ничего не стоило по прямой настигнуть Пичугину, пусть и в нескольких метрах у порога. А дальше? Справится ли сила мотора, придающего лодке движение, со скоростью и напором водяного потока? Вряд ли… Оставалось одно: зайти на скорости со стороны и сбоку, опередить оморочку и пойти к ней уже встречь с расчетом подойти на ходу, когда лодка, пересекающая поток, и безвольная берестянка как бы столкнутся, окажутся на несколько секунд рядом. Вот тогда, в этот короткий промежуток времени, Ларисе придется не зевать и побыстрей перескочить в моторку. Тогда она спасена. Конечно, скорость моторки, стоит Ларисе пересесть в нее, снизится. Насколько? Оставалось только гадать. И вывезет ли мотор двоих против течения, тоже неизвестно. Приходилось идти на отчаянный риск. Однако раз Федор пошел выручать Пичугину, то теперь, когда егерь видел ее, видел, как отчаянно она махала руками и молила о помощи, Зимогоров уже не принимал в расчет никаких соображений, кроме одного — выручить, избавить Ларису от смертельной опасности. Он прикидывал скорость потока и соизмерял ее со скоростью лодки. И требовалось учесть дрейф. Когда моторка пойдет поперек течения, чтоб приблизиться к Ларисе, ее начнет сносить. Держа правую руку на рукояти мотора, Федор подался вперед, словно это могло хоть на сантиметр ускорить движение. «Эх, дура, — думал Федор, глядя, как мается в лодке Пичугина. — Черт тебя понес! Чего ты на бережок-то не выплыла? Поди, все думала шутки шутить. Эх, безголовая, бедолага…» — Держись! Сиди тихо! Перевернешь оморочку! — завопил он, перекрикивая стрекот мотора. — Тихо сиди! А себе он пенял: «Напрасно я заводи по пути обшаривал — время терял. Как бы пригодились сейчас те минутки. Теперь уж на секунды счет идет!» Подавая моторку в сторону, он правильно рассчитал, что у берегов течение помедленнее, и лодка, развернувшись, почти не сбавила скорости. Берестянка Ларисы оказалась впереди и чуть левее от Федора. Но с каждым метром продвижения к берестянке моторка все замедляла и замедляла ход. Нос моторки сносило правее, приходилось увеличивать угол подхода к берестянке. Ведь никто здесь подобных эволюций не совершал. Федор надеялся лишь на свою интуицию. Лариса видела, как медленно приближается к ней помощь, как Федору приходится все круче и круче идти против потока. — Скорее! Скорей! — голос Ларисы сорвался на визг. Она вскочила на ноги, когда моторка была еще метрах в десяти от нее. — Ну же! Ну! — Сядь! — не своим голосом крикнул Федор. — Сядь! Да было поздно. Юркая на воде оморочка перевернулась, Лариса свалилась в реку. — Держись! Держись! — вопил егерь. Тут же рядом вынырнула голова Пичугиной с огромными глазами на бледном лице. — Глаза! Глаза не закрывай. Открой и гляди! — успел прокричать ей Федор. Потом ее голова с вытаращенными глазами вновь скрылась под водой. Он развернул лодку поперек течения, чтобы не упустить Ларису. Моторка тут потеряла скорость, течение с маху ударило ее по носу, грозя перевернуть. Яркий берет с головы Пичугиной проскользнул метрах в двух от моторки. Но больше Ларисы он не увидел. — Пропала девка… Свернув вправо рукоятку мотора, Федору не сразу удалось вывернуть лодку прямо против течения. И сделал он это почти инстинктивно, приметив краем глаза, что до начала перепада воды в порог оставались считанные метры. А на светящемся под солнцем гребешке перепада уж мелькнуло нечто темное. — Пропала девка… — снова будто в рассеянности пробормотал егерь и, отвернувшись от зева Змеиного, глянул вперед, на воду, бегущую навстречу моторке и создававшую обманчивую иллюзию движения. — Минуткой, минуткой бы раньше мне прибежать… Не верилось все… Да и ей самой не верилось. Не кричала бы иначе… Потом Федор глянул сбочь и удивился — кусты и деревья по берегам не перемещались относительно друг друга, как обычно бывает, когда лодка на полном газу мчится по реке. В какой-то момент егерю показалось, что, хотя двигатель истошно вопит и течение бежит стремительно под днище, лодка его в действительности осторожно так подается назад, к порогу. Зимогоров хотел довернуть рукоятку газа, но она оказалась уже подкрученной до упора. — Та-ак… — протянул егерь. — Туго… Черт заставил ее вскочить. Он опять глянул на берег и понял: не ошибся — его тянет, неумолимо тянет назад на порог. — Ну нет. Нет! А глаза-то видели — да… Только егерь не оглядывался. Он твердо держал лодку против течения. Это все, что он мог делать, пока не увидел: нос лодки вздыбился в небо и стал стремительно валиться на него. — Не может быть… Не может! Как же так? А в следующий миг Федора швырнуло на дно лодки, сверху обрушилась какая-то черная громада и оглоушила его.
* * *
«Глаза… Глаза… открытыми!» — в сознании Ларисы беспрестанно повторялся крик Федора. Этот непонятный для нее, истошным голосом отданный приказ, выполняемый ею бессознательно, — все, что осталось от того безмятежного мира, каким она жила всего несколько минут назад. Да, именно безмятежного. Ее испуг перед порогом был началом совсем иного существования, пребывания в мире, ревущем и раздирающем ее тело, парализовавшем ее волю и силы. Она не сознавала, что надо делать и можно ли что-либо предпринять в ее положении. Она будто скатилась в преисподнюю, где привычная, ласковая, мягкая вода сделалась жесткой, вязкой и тяжелой, точно жидкий камень. Лариса оказалась как бы связанной, спеленатой туго-натуго в низвергающемся потоке, блистающем пронизанным светом. Потом тьма — и удар, тупой, тяжелый, боком о каменное ложе реки, и следом новый, скользящий, который подбросил, завертел ее и швырнул вверх, и все это в той, вязкой, непреодолимой массе, не позволявшей ни шевельнуться, ни вздохнуть. Удар оглушил ее, и какое-то непомерно длинное или бесконечно повторяющееся слово: «Все-ее-е…» — гудело и гудело в голове. Но приказ Федора действовал как зарок, и глаза она не закрыла, не смогла закрыть, даже если б захотела. Может, это и спасло ее в первые секунды поединка с порогом от цепенящей жути, от панических судорожных рывков, бесполезных и лишь истощивших бы ее силы. На какое-то мгновенье перед ее взором, совсем-совсем рядом, мелькнули камни на дне в прозрачной, нашпигованной продолговатыми серебристыми пузырьками воздуха воде. Лариса отдала себе отчет в том, что ее тащит вниз лицом, ногами вперед. Тут же ноги потянуло вверх. Она до странности безболезненно ударилась лбом о гальку. Затем ее перевернуло, подбросило, и голова ее оказалась на воздухе. Лариса вздохнула раз и два и успела выпростать из пенного водоворота руки, словно собралась плыть стилем «дельфин». Плотно облепивший тело легкий тренировочный костюм не стеснял движений. «Жива еще… — пронеслось в сознании. — Жива!» Она увидела и отметила про себя столь многое, что ей самой показалось невероятным. Река, наклоненная ложем вниз, стремилась как бы навстречу Ларисе, а не от нее; и пена летела в глаза; и следующий удар пришелся в грудь, опрокинул, подвесил вверх ногами; и снова ее проволокло до странности безболезненно лицом по каменистому дну. Но там, наверху, кроме потока, текущего словно вспять, она заметила совсем рядом блеснувшее белое дно Сергунькиной оборочки. Легкая берестянка была непотопляемой, слишком легкой и пружинистой, чтоб разбиться о камни. Она, как поплавок, держалась на потоке, и даже клубы чумовой, завернутой в «мертвые петли» воды — почему и казалось, что поток бежит вверх по руслу, — этот клубящийся поток оказывался бессильным завертеть и раздавить скорлупку из коры. Потом Лариса клялась, что ощущение испуга было самым сильным перед падением, отрешенная жуть охватила ее при первом ударе о дно, и, упади она не боком, а ногами или головой вперед, ее переломило бы как тростинку. А затем, когда ее вынесло на поверхность с открытыми глазами и она сориентировалась, страха не было: «Времени бояться не осталось». Нет, страха не было, на него действительно не оставалось времени. Сцепив пальцы рук, вытянутых впереди себя, Лариса предельным усилием воскресшей воли к борьбе заставила себя расслабиться. Она теперь всем телом прислушивалась к движению и поведению мощной струи, в которой ее несло. И когда вдруг увидела впереди, в зыбком переливе вод треугольник камня, сумела обтечь его, словно выскочившего навстречу ей быка. А потом тут же, управляя своим движением с помощью сцепленных ладоней, приметила валун с верхушкой, будто обрубленной поверхностью воды, потому что он возвышался над потоком, и берестянку, задержавшуюся около него. Она решилась на опасный маневр — резко отвернула вытянутые руки в сторону. Поток послушно развернул ее, понес в нужном направлении. Пользуясь руками, словно рулями глубины, Лариса выскользнула ящерицей на окатанный скользкий лоб валуна рядом с оморочкой. Так она одержала первую победу. Прежде чем вздохнуть, Лариса схватила за борт берестянку и лишь потом припала к камню, ощутив и боль в рассеченном лбу и ободранных локтях. Из ран сочилась кровь и, редкими каплями скатываясь в воду, расплывалась рыжими разводами и тут же исчезала, уносимая течением. Лежать на камне, окатываемом пульсирующим потоком, было трудно. Раскинул ноги, она половчее зацепилась, будто крючьями, носками кед за неровные края валуна. Ее грозило ежеминутно смыть, сбросить в бурлящую реку, а следовало отдышаться, прикинуть, что делать дальше. «Ничего… ничего… сама того хотела, — неожиданно разозлилась на себя Лариса. — Терпи, стерва, терпи… И спасибо Сергунькиной оморочке, которую ты ему подарила и у него украла». Она ощутила противную сухость во рту, припала к холодной воде и с наслаждением ощущала, как большие глотки прокатываются по гортани. Потом ее била мелкая дрожь, то ли оттого, что она озябла, то ли оттого, что прошло самое большое нервное напряжение. Ей еще предстоял длинный путь, и немало опасностей подстерегало. Но не о них Лариса думала. Она казнила себя за бессмысленность и глупость своего решения пройти порог. Будто этот поступок мог оправдать, обелить ее в собственных глазах, словно риск, пережитый страх и боль, испытания, которые еще ждали ее, могли хоть как-то примирить ее с собой. «А ты думай, думай! — твердила она себе. — Если ты знаешь, а ты знаешь, не права, не пытайся себя щипать, а потом радостно утверждать — я сама сделала себе больно, и мы — вот так! — квиты. А коли понимаешь — иди в угол, как говорил Сергунька. Сергунька, Сергунька! Уж его-то ты, стерва, предала совсем ни за что! Куда же мне от себя деться?» Неожиданно ее чуть не смыло вдруг прилившей водой. Она едва не выпустила из рук борт оморочки. «Потом… все потом, — одернула себя Лариса. — Надо выбираться отсюда». В скалистом каньоне с неприступными берегами царил утробный грохот потока. Но он не мог заглушить вкрадчивый шепелявый шелест пенистых бурунов. Пичугина окинула взглядом широкую, метров на сто пятьдесят, беснующуюся над каменной осыпью реку. Она выглядела составленной из тысяч поблескивающих поверхностей. То взбудораженная вода, вспучиваясь, текла на крошечных участках вкривь и вкось, поперек и вспять — и все-таки вниз по руслу. Далеко у крутого поворота реки, на гладком гребне очередного резкого перепада уровня мелькнуло что-то темное и скрылось. «Бревно какое-то, топляк… — подумала Лариса. — Надо быть поосторожнее. Прищучит такой ствол к камню или стенке — не выберешься». Пичугина подтянула оморочку поближе, попробовала приподнять ее, оторвать от воды. Удалось. И хотя она знала — удастся, новая проба сил обрадовала ее. Лариса, держась за оморочку, как за спасательный круг, могла теперь не бояться, что ее засосет водоворот. И следовало еще выбрать «дорожку», которой она могла бы придерживаться. Лишь на первый взгляд река выглядела хаосом водяных стремнин и вспучиваний. В постоянной изменчивости ее, если быть очень внимательным, можно заметить как бы удачно расположенные водяные плоскости, отстоящие в нескольких метрах друг от друга. Если заранее рассчитать свой путь хотя бы примерно, то река сама погонит перевернутую оморочку, а за ней и Ларису к определенному месту на берегу. Задержаться около него надолго нечего и думать, но выбрать новую «дорожку»… Лариса отвергла этот план. Река-то погонит, но и скорость будет большой, равной течению, и попадись на пути неожиданность — не отвернешь! Надо идти наискось, как под парусом ходят в бейдевинд, круто «к ветру», к течению. «Галсов» больше, но скорость будет гаситься как бы сама по себе. Она вздохнула полной грудью. Самое жуткое позади. Страх, парализующий животный ужас перед, казалось, неминуемой гибелью отхлынул от груди и лишь легонько холодил спину. Первый, самый большой перепад порога грохотал сзади. Но обернуться и посмотреть на эту падающую стену воды Лариса не могла себя заставить. Слишком живо оставалось в воображении чумовое верчение в бешеных струях, в пластах воды, которые мчались независимо и даже встречь друг другу, готовые расщепить лодку, переломать бревно, не говоря о хрупком теле человека. Там, впереди, оставалось еще три перепада, но не больше метра. Коварных, с зубьями скал внизу и поэтому очень опасных. Однако дороги назад не было. Оставалось идти только вперед. Самое главное — оморочка цела. Вот она лежит на валуне около ее ног. Если перевернуть ее вверх днищем, она, словно поплавок, она протащит Ларису по любой стремнине; в потоке оморочка сама обойдет каменный зуб, надо только не мешать ей, и она вывезет. Метрах в двадцати слева от Ларисы по белым бурунам всклокоченной порогом пенной воды проплыл какой-то странный предмет. Пичугина вздрогнула от неожиданности, не сразу поняла, что это лодка с развороченной кормой. И в ней, застряв между банкой и днищем, находился человек в расстегнутом ватнике, с окровавленной головой. «Кто ж это?» — оторопела Лариса. Обрубленную, без кормы, лодку стремглав несло мимо. Одна рука человека болталась над банкой и безжизненно дергалась, когда беспомощную посудину било о буруны. «Да это Федор! — поняла наконец Лариса. — Федор! Мотор не преодолел течения. Федора снесло на порог!» — Фе-дор! Фе-дор! — закричала Лариса. Полуразбитую лодку несло к отбойному берегу, к трещиноватой скальной стене. «Федор, конечно, это Федор… — как-то отрешенно думала Лариса. — Его снесло на порог… Снесло и убило…» И руки у нее опустились, она не могла сообразить, что нужно делать. А лодку с телом Федора тащило на скалы.* * *
Женька устал ждать. Со скалы, на которой торчал флаговый кряжистый кедр, ему была видна бурлящая на камнях река. Метров на триста, не больше. Она вырывалась в относительно спокойную заводь под скалой из узкой теснины и здесь разворачивалась размашистым водоворотом, весьма спокойным на вид. Если бы не хилое деревце, вымытое с корнем где-то в верховьях, что описывало круг за кругом в этой речной западне, то течения, наверное, совсем не ощущалось. Сквозь прозрачную толщу воды просматривалось дно, устланное пестрой галькой. Ветерок едва тянул, и в пустынном небе далеко-далеко за началом порога, на фоне серой от дымки горы маячило крохотное, бесформенное,расплывчатое облако. «Подняли тревогу понапрасну… — подумал Женька. — Ну я-то ладно, взобрался, как козел, на одну скалу, на другую и слежу, что твой стервятник… Жертву поджидаю… А вот инспектору было не до хорошего. — Звонарев затянулся погасшим окурком, глянул на него и щелчком отправил его со скалы в реку, вздохнул, почесал свою красивую русую бородку, прошелся пятерней по длинным волосам. — Щи, поди, Дашка давно сготовила. Перепреет капуста, станет что мочалка… Щи ладно. А вот Семену-то Васильевичу каково будет, когда узнает, что Федор Лариску перехватил?… Да, может, и ремнем отходил за дурость. А старший лейтенант рисковал быть перемолотым в заломе». Женька вспомнил, как у него дух зашелся, когда водяной напор с треском ошкурил валежину под ногой инспектора. Было бы из Шухова крошево, не удержись он за корень, свисавший веревкой. А что поделаешь — должность! Поднявшись, Женька шагнул к обрыву и заглянул вниз. Шухов, пригнав лодку в заводь, держал мотор на самых малых оборотах. Он был готов по сигналу Женьки выскочить из заводи-засады, как Звонарев прозвал ее, выскочить на стрежень и помочь Ларисе выбраться, чтоб под залом не угодить. Конечно, если Ларисе удастся живой проскочить по Змеиному. — Не видно? — услышал Женька голос инспектора. — Пусто… — ответил он, бубня себе под нос, что одна дура сбрехнула сдуру, а они, дураки, из-за нее, дуры, мучаются. И он крикнул вниз: — Пусто! — чтоб услышал и не волновался инспектор, сидевший в лодке у каменного карниза, у входа в грот, полузаваленный плавником. «Да хоть и решила девка счеты со своей собственной жизнью свести — кто ей помешает? Не на порог, так и в петлю могла… Тут не остановишь. Она всегда была чумовая. Хоть бы и, прошлой осенью. Только ведь поддался я на ее уговоры. Поддался… И «братком» ее посчитал, а не бабой тогда. Надо ли было так? А все ж позавидовать можно: держал человек на ладони свою мечту Не каждому дано… Не…» Глянув на реку, Женька увидел вроде бы плывущий камень. Потом догадался — ватная стеганая телогрейка так выглядит средь белых бурунов и серых проплешин отсвечивающей воды. А следом чуть подальше от этого плывущего камня появилась у скальной стены отбойного берега смоляная лодка. Нет, часть ее, без кормы. И виден был ему желтый излом досок. «Что за ерунда? Лариса же на оморочке пошла… — подумал он. — Откуда же лодка?» — Лодка, инспектор! Телогрейку несет! — заорал Женька и, ухватившись за длинный натянутый линь, которым была принайтована к суку кедра лодка, перегнулся вниз. — К какому берегу ближе? — спросил Шухов. Снова Женька впился глазами в реку, отсвечивающую на солнце. Лодку он нашел взглядом сразу, но плывущего камня не было. — Пропала куда-то! Нет, вон плывет! — Да где же? Не вижу! — В заводь, в заводь несет! — Жива? — Что? Телогрейка-то? — Какая телогрейка? — Телогрейка плывет! Телогрейка! Теперь и инспектор приметил: в блестящей пороговой зыби перекатывается что-то темное, похожее на камень. — Трави линь! — крикнул он наверх Женьке. — Подождите! Не хватит! — отозвался тот. — Трави! — И инспектор повернул рукоятку газа. Дюралевая плоскодонка чуть подсела на корму и рванулась вперед. «Только бы не промазать, не проскочить мимо! — молил про себя Семен Васильевич. — И не потерять этот камень из виду…» Инспектор не сводил взгляда с плывущего темного вспученного бугра. Сбоку от лодки шлепнулся в воду отпущенный Женькой конец, но Семену было не до того. Он протянул руку к стеганому, промасленному бугру телогрейки, схватил рывком, потянул на себя, в лодку.
Женька ничего не понимал. С ума спятил инспектор, что ли? Ведь кричал же, предупреждал он его! Не хватит конца! Так нет, понесся, оглашенный. А теперь уставился на утопленницу, словно привидение перед ним. За чем пошла, то и нашла. От дуреха, да уж не дуреха, а просто труп. Но что Семен-то думает? Вот-вот потянет лодку под залом, проскочит она мимо заводи с гротом. А он и в ус не дует! Мотор выключил? Выключил! Ну дела! Линь болтается посередь заводи, угодил на деревцо… Да что ж такое? Потоптавшись, Женька сплюнул, скинул сапоги: «Ну дура, она дура и есть. Чего убиваться. А ты-то что, инспектор? Право, сбрендил». — Семен! Семен! — орал Женька что было мочи. Ему еще думалось, что инспектор обернется на его крик, поймет, что происходит. Не тут-то было. Тащит телогрейку в лодку, того гляди перевернет ее… Надо прыгать. Надо! Женька потоптался, примериваясь, и, выругавшись от всей души, сиганул в заводь со скалы. Он вошел в воду ровно, почти без всплеска, вынырнул, отплюнулся, выругался коротко, саженками подался к деревцу, на котором болтался конец линя. Не обращая на инспектора внимания, Женька, зажав линь в зубах, так же быстро добрался до карниза у входа в грот. Выбравшись на камни, он вытянул слабину линя и намертво принайтовил его, обмотав вокруг обломка скалы. Женька, все еще матерясь, обернулся к реке. Инспектор копошился в лодке. Ему, Наверное, было совсем наплевать, куда тянет плоскодонку. Пораженный таким безучастием Семена к своей судьбе, Звонарев закричал! — Мотор, мотор включай! Однако Шухов и тут не обернулся, а все копошился в лодке. Тогда Женька принялся тянуть лодку инспектора к карнизу, молча и озлобленно. Капроновая веревка резала руки, и пришлось отступить в грот, чтоб упереться ногами в камни. Наконец моторка ткнулась кормой в карниз. — Какого ты рожна?… — вскинулся было Звонарев, да осекся. — Кровь вот на телогрейке. Запеклась. Стало быть, уж потом ее скинул. После ранения, — сказал Шухов. — Догнал Лариску егерь возле самого порога. Обоих и затянуло. Сгинули и он и она, — помрачнел Женька. — Пошли отсюда. Без толку ждать. — Нет ни берестянки, ни обломков от нее… — Ну и что? — не унимался Звонарев. — Нет их обоих, погибли. А оморочку и в расселину какую могло загнать. — Пока не увижу обломков оморочки, будем ждать. Ждать! — И у меня сердце шерстью не поросло… Только к чему травить душу-то? — Я сказал, будем ждать! — резко бросил инспектор. — По мне, хоть год! — разозлился Женька и сел на камень.
* * *
Лодка с обломанной кормой наскочила на окатанный валун, въехала на него и накренилась. Воздетая рука Федора запрокинулась. И Лариса увидела, как тело его стало выскальзывать из-под банки, а ноги Федора, обутые в сапоги, погрузились в поток. Пичугина вышла из оцепенения, затопталась на месте, не зная, что предпринять. Одно дело — спастись и пройти стремнины порога, его перепады самой, в одиночку, иное — выручить Федора и вместе с ним, вдвое рискуя, выбраться из пасти Змеиного. Какое-то мгновение ее занимала мысль: «Я его могла и не видеть… Не видеть ничего…» Но тут же она громко, во весь голос, закричала сама себе, подбадривая и принуждая себя пойти на этот двойной риск: — Стерва! Стерва, плыви, выручай! Из-за тебя он погибает на пороге! Лариса еще не знала, каким образом она будет действовать. Однако прежде всего следовало добраться до Федора. Если Лариса не успеет и тело его выскользнет из-под банки через разломанную корму в поток, то, даже будь сейчас еще живым, захлебнется. Тогда всякая ее попытка выручить Сергунькиного отца заранее обречена. Федор и так, поди, нахлебался воды, когда моторка ухнула в вымоину за перепадом. Ведь Лариса сама мучилась в водовороте едва не минуту, а у нее были открыты глаза, и она помогала себе как могла. Разбитая корма накренившейся на окатыше лодки покачивалась на пульсирующем напоре потока. Безжизненное тело Федора с каждым покачиванием все больше сползало в воду. «Может, он уж мертв? — мелькнуло в мозгу. — Чего ж рисковать ради мертвого… — Но тут же Лариса усилием воли прогнала эту мысль. — Все равно выручай, паскуда! И не твое дело жив он или нет! Выручай! Любой ценой выручай! Остальное потом!» Она ухватилась за корму оморочки и шагнула в поток. Но, прежде чем он подхватил и понес ее, Лариса успела прикинуть, как ей ловчее и удобнее подобраться к Федору. Решив выручить его во что бы то ни стало, она уже не думала о себе, и мысли ее занимало одно: успеет ли она к полуразбитой лодке вовремя, сумеет ли точно подойти к огромному окатышу-валуну, не пронесет ли ее мимо? Ведь она не сможет возвратиться к камню, если проскочит. Держа легкую берестянку перед собой, Лариса соскользнула в реку. Нос оморочки тут же потащило потоком вниз, под бурун, образовавшийся от завихрения воды. Тогда, тяжестью всего своего тела нажав на корму, Лариса вздыбила острый форштевень лодки. И клокочущая пена, вместо того чтобы подмять оморочку, уволочь ее в глубину, собственной же силой перетащила берестянку и Ларису через свой горб. Почувствовав — она в силах хоть немного, хоть кое-как управлять движением лодки на поверхности стремнины, Лариса направила берестянку чуть наискось бешеного течения. Оно стало как бы послушным Ларисе. Оморочку с ходу вынесло на окатыш справа от полуразбитой лодки. Лариса стала на камень. Быстрая вода лишь по щиколотку заливала ее ноги. Зажав меж колен упругие борта берестянки, чтоб ее не унесло, Лариса ухватила Федора за плечо, за ватник и принялась вытягивать из-под банки. Мокрый, набухший ватник налез на голову егеря и был тяжел. Подтащив Федора к борту, Лариса стянула с него ватник и отбросила в сторону. Тогда Лариса увидела глубокую рваную рану на затылке. Холодная вода остановила кровотечение, и рана с припухшими краями выглядела очень глубокой. — Как же это ты, спасатель, опростоволосился? — бормотала Лариса, подтягивая щуплое тело Федора к оморочке. — Перевязать тебя нечем. Сердце-то бьется? Стучит потихоньку. Может, очнется… О, веревка в лодке. Пригодится… В немолчном гуле, шипении и плеске потока она едва слышала сама себя. Она уложила егеря в оморочку, хотела подложить ему под голову ватник, да тот уплыл. А пока Лариса поудобнее пристраивала Федора, все еще находившегося без сознания, в тесную даже для него берестянку, поток смыл с валуна лодку с обломанной кормой. Лариса только рукой махнула ей вслед. — Вот так, Федор, — приговаривала вслух Пичугина, словно егерь слышал ее. — Теперь думать станем, как дальше идти. Очнулся бы ты, а? Присоветовал чего… Ладно, лежи. Лишь бы нам остаток пути живыми пройти. Теперь я больше за тебя отвечаю, чем за себя. Вот так-то, Федор… Затем Лариса привязала к острой, как и нос, корме оморочки веревку. — На всякий случай… — бормотала она. — Кто знает, как дело обернется. Потом некогда будет. Считая приготовления к переходу законченными, она выпрямилась и снова, будто в первый раз, огляделась. Ее опять поразило круто и косо наклоненное русло пенной от бешенства реки. Оно все состояло из водоворотов, завихрений, и потому что каменистое дно отбрасывало поток, казалось, вода течет вспять, а не вниз по наклонному ложу. У скалистого крутого поворота река будто скатывалась набок, взгляд замечал это отчетливо. Там, у отбойного берега, где явно находилось самое глубокое место, а поток особенно стремителен, высокие волны с силой ударяли о скальный берег и выглядели морскими. — Нас как раз туда и потянет, — снова проговорила Пичугина, едва слыша свой голос. — Нельзя нам в ту сторону. А как же быть? Если от валуна к валуну перебираться? Выйдет ли? Оморочка теперь тяжелая. Вряд ли я смогу управлять ею хотя бы немного… Тяжелую оморочку понесет — только держись! Она снова и снова приглядывалась к ухабистой, крутой и наклоненной водной дороге меж высоких скальных берегов. Лариса пыталась найти если не тайну, то хоть секрет этого хаотичного движения, который позволил бы ей надеяться, только надеяться на благополучный исход ее теперешней схватки с порогом. Главное состояло в том, чтобы провести оморочку с Федором подальше от отбойного берега. Хрупкая берестянка не выдержит столкновения с острыми челюстями прибрежных камней, и тогда спасти Федора она уже никак не сможет. Лариса немного успокоилась, почувствовала холод и воды и ветра, который тихо и неслышно тек меж скал, поежилась. После долгого, пристального и, казалось, бессмысленного глядения вдоль мелководного берега с более медленным течением она отметила одну особенность, не особенность, но радостную для себя закономерность: если отталкиваться от валунов в сторону скал на мелководье, то можно приблизительно рассчитать траекторию движения лодки в потоке — он же виден на глаз — и направлять ее от валуна к валуну, от скального обломка к скальному обломку. Она прикидывала и рассчитывала про себя движение лодки несколько раз. Наконец Лариса уверила себя: этот единственный шанс стоит испытать. И тогда она сильно толкнула оморочку в воду наискось против течения, наметив ближайший валун, к которому ее прибьет. Опыт удался. Она начала действовать смелее, и все пошло хорошо. Лариса благополучно преодолела поворот вдоль берега со сравнительно медленным течением. Она осталась довольна собой. Федор по-прежнему был без сознания. Но дышал он ровно, хоть и очень часто и резко, словно запыхавшись после быстрого бега. — Ничего, Федор, ты дыши, дыши, — приговаривала Пичугина. — А то что я Сергуньке скажу?… За поворотом грохот порога усилился. Перед новым поворотом, примерно в километре от нее, поперек реки четко обозначилась белопенная полоса еще одного перепада. Валунов и торчащих из воды камней на этом участке было совсем немного. Однако глубина и здесь оставалась незначительной. Лариса решилась на рискованный шаг. Столкнув берестянку в реку, она, чтоб продлить движение лодки наискось течения, время от времени опускалась под воду, не отпуская борта, и толкала оморочку в сторону. Маневр удался как нельзя лучше. Лариса привела хрупкую посудину к первому, очень далеко отстоящему валуну. Так она прошла до самого перепада. И здесь Ларисе тоже очень повезло, во всяком случае на ее взгляд. Напротив многоводного отбойного берега уступ порога оказался особенно высок — больше метра. Но поток здесь тек с ленцой, толстой, но еще прозрачной занавеской. Внизу, на ровной каменной плите, выбоина была совсем незначительной. Однако пустить берестянку даже с метровой высоты вместе с Федором нечего было и думать. Лариса решилась на отчаянный шаг Она подвела берестянку к самому порогу, где она, будучи тяжелогруженой, притормозила днищем о каменную плиту водосброса. Затем Лариса спрыгнула за перепад. Вода здесь доходила ей до колен. Нос оморочки пришелся немного выше плеча. Она стала потихоньку стаскивать лодку с Федором с каменной плиты, предварительно намотав на руку веревку, привязанную к корме. Так постепенно она перекладывала тяжесть берестянки себе на спину. И все шло хорошо, но когда она готова была неторопливо и осторожна согнуться и поставить оморочку на воду, то поскользнулась и плюхнулась лицом в реку, а груженая лодка едва не придавила ее ко дну. Лариса в кровь разодрала колени и ладони о камни. Чертыхаясь, она вылезла из-под оморочки, но дело было сделано. Они благополучно миновали второй перепад Змеиного. Участок за ним оказался довольно прям. Но ложе в теснине меж скал особенно круто. Поток мчался по нему с таким неистовым бешенством и буруны за камнями и окатышами оказались столь высоки и пенны, что Ларису взяла оторопь. — Не пройдем… — сказала себе, и не только не услышала своего голоса — ей подумалось, будто она и не произносила этих слов вслух, а лишь мысленно оценила обстановку. — Не пройдем! — уже закричала она. Однако и теперь голос ее потонул в грохоте, громогласном шипении и плеске. Некоторое время она стояла в душевном смятении. Наклонилась к Федору, потрепала его по щеке, напрасно пытаясь привести его в чувство. Если бы Федор очнулся, подумалось Ларисе, то она не испытывала бы такого глубокого ощущения отрешенности и отчужденности от мира, от людей. Никогда ей еще не приходилось испытывать столь безнадежного одиночества. Мельком припомнилось ей письмо Прокла Рыжих и он сам: хмуроватый, не очень-то разговорчивый и предельно упрямый. «А ты бы прошел здесь? — мысленно спросила она Прокла и ответила: — Ты-то, да. А вот я как? И ведь не одна… Ладно. Хватит скулить. По что пошла, то и нашла. И иди, черт тебя побери! Любой ценой выручай Федора, которого загнала в ловушку…» Не спеша, теперь уже более опытным взглядом оглядев реку, Лариса решила: идти по-прежнему от камня к камню и собой, своим телом стопорить берестянку, чтоб та ни в коем случае не набирала скорости течения. Тогда Лариса не справилась бы с груженой лодкой, и оморочка стала бы совершенно неуправляемой, и ее наверняка разнесло бы в щепки о прибрежные скальные стенки. «Если бы я шла одна, то наплевала бы на самолюбие, гордость там, осталась здесь, у перепада, в относительной безопасности и ждала бы помощи, — подумала Лариса. — Вертолета… Ведь догадается в конце концов Шухов ли, Бондарь ли послать на поиски вертолет. Только когда это будет? А что с Федором — я не знаю. Может, чтоб он выжил, дело в часах или в минутах! Я не могу ждать. Не могу!.. Пусть риск, пусть… Хуже того, но ждать нельзя!» И все-таки она продолжала слепо верить в свою счастливую звезду. Ни на мгновение мысль о гибели не посетила ее, не смутила ее разума. Она считала себя будто заговоренной — по молодости, по складу характера, по вере в себя. Она еще постояла, продрогла на холодном тягучем ветру в теснине. Оглядела поверху скалы, на которых по краям, словно любопытствующие зрители, толпились кое-где хилые березки, флаговые кедры, кряжистые корявостволые. «Ну, хватит тянуть, — подумала Лариса. — Иди!» В последней надежде она глянула на Федора, лежащего в берестянке. Он по-прежнему дышал очень часто, будто загнанный. И еще она очень удивлялась, что Федор до сих пор не пришел в себя. Это не предвещало ничего хорошего. Значит, человек действительно сильно пострадал, если столько времени находится без сознания. Желая основательно подстраховаться, Лариса принайтовила веревку к корме оморочки, а второй конец намертво обвязала вокруг пояса. «Надежнее быть не может, — сказала она себе, — теперь, что бы ни случилось, мы останемся вместе». И пошла, выбрав направление на ближайший обломок скалы, у которого решила сделать первую остановку. Течение все-таки сильно разогнало лодку, и, когда Лариса, словно якорь, уцепилась за обломок, ее чуть не сдернуло в поток. Однако она удержалась. Подтянула оморочку к себе и, выбрав солидный окатыш, двинулась к нему. Но с него разогнавшаяся лодка все-таки сдернула Ларису. Она нахлебалась воды, окунувшись глубоко в реку, едва откашлялась и сумела задержаться у торчащего неподалеку куска скалы. Потом она перестала считать купанья и промахи. Эти километры пороговой быстрины стали для нее крестным путем, вымотали и обессилили. Последний отрезок перед третьим перепадом она действовала то наобум, то инстинктивно, и счастливый случай и случайная удача были милостивы к ней. Они оставили ее у порога. Оморочка, подхваченная капризной струей потока, неожиданно для Ларисы проскочила мимо намеченного ею обломка скалы у берега, и берестянку понесло прямо на середину порогового гирла. Вода там точно кипела, она ярилась и бесновалась. Все, чего хотелось Ларисе в те сумасшедшие секунды, — зажмуриться, плотнее плотного сжать веки и не видеть ничего, что произойдет. Но она сумела пересилить себя. Она не закрыла глаз. Мертвой хваткой вцепившись в корму берестянки, Лариса вместе с ней скакала с одного водяного бугра на другой, а там, где поток, окатывающий камень, бывал особо крут, или там, где пространство меж окатышей вскипало чересчур высоко, повисала на корме и, пусть лишь по видимости, только для собственного успокоения, не позволяла берестянке зарыться носом в стремнине. Лариса ладонями чувствовала — лодка скрипит и постанывает от предельного напряжения. И всякий раз скрип и постанывание берестянки Лариса ощущала собственным сердцем, которое замирало, ныло, и тиски, сжимавшие его, отпускали, когда очередная опасность оставалась позади. Лишь проскочив перепад, Лариса позволила себе на какое-то короткое время прикрыть воспаленные, режущие от напряжения, захлестанные водой глаза. И жестоко поплатилась за это. «Проскочили! Проскочили! — ликовала она. — Отличную оморочку построили мы с Сергунькой! Просто чудо-берестянку соорудили!» А когда Лариса открыла глаза, то увидела: стрежень реки, разогнав лодку, бросил ее, словно снаряд, наискось течению и несет в узкую каменную щель, в глубине которой крутится и вскипает серо-грязная пена. Вход в нее был так мал, что оморочку непременно расплющило бы, а затем доломало лавиной потока, ударившего бы в ее борт под острым углом. Тогда Лариса решилась на отчаянную крайность. Быстро перебирая разбитыми руками вдоль по левому борту, она добралась до носа берестянки и легла поперек форштевня. Лодка шла со скоростью потока, и это нетрудно было сделать. Она совершила это в каком-то неясном для себя порыве, может быть, впервые в жизни не подумав о себе. Плечами и икрами ног она сначала ощутила мягкий удар, а потом лодка все сильнее и сильней стала давить на грудь и живот Ларисы. Ведь она, словно живая плотина, преградила путь части воды. Ларису согнуло в дугу. Она почувствовала, как острый каменный выступ впился ей в затылок, надорвал кожу и точно сдирал скальп. И тогда Ларисе захотелось сдаться. Сдаться на милость порога. Ослабить напряжение мышц — и все. Нос оморочки втиснет ее в расселину, водоворот затянет вглубь. — Ты не одна! Ты не одна! — завопила она себе. И, сдирая кожу на затылке, опершись полурассеченными икрами в другой край каменной ловушки, она выдержала напор еще в течение нескольких секунд. А тем временем поток развернул своим напором корму оморочки и вывернул лодку вместе с Ларисой из расселины-западни. Когда Лариса, едва не теряя сознания от боли, глянула вдаль, то увидела в километре от себя, у подножия скалистой стены, Шухова в милицейской форме и еще кого-то. Их ждали.Юрий ТУПИЦЫН ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙ[1]
Рисунки Ю. МАКАРОВА

9
Когда Ревский заговорил об Альте, его, Федора, жене, Лорка отвел взгляд от старого космонавта, лицо его помрачнело. Настырный дождь там и сям налил в саду большие лужи. Вода в них под каплями дрожала и рождала веселые пузыри, чем-то похожие на огромные лягушачьи глаза. — Я как-то не думал об этом, — наконец невесело признался Лорка. — То-то… Слишком мы стали благодушны и беспечны, избаловались. Как же, цари и господа всея вселенной! Уже хмуро он продолжал: — Игорь прав. Чужой, могучий разум может пристально следить за нами и даже, по возможности незаметно, вмешиваться в наши дела. Конечно, необязательно такое вмешательство должно быть враждебным. Во всяком случае, встречи с сапиенсами на других планетах чаще всего проходили дружелюбно. — Верно, — согласился Лорка и добавил сухо: — Но гиперсветовик Тимур Корсаков погиб не в космосе, а на Земле. — Да, конечно, — задумчиво подтвердил Ревский. — Но, чтобы допустить земное присутствие инопланетян, не хватает фактов. Есть, конечно, кое-что, я копался в фильмотеке. В двадцатом веке гипотеза о пришельцах была довольно популярна, но аргументация разрозненна, бессистемна, а порой наивна. — А все-таки? — Интерпретация библейских и шумерских легенд, загадочные рисунки и надписи, статуэтки, похожие на людей в скафандрах, неопознанные летающие объекты. — Летающие тарелки? — усмехнулся Лорка. — Они самые, — Ревский поморщился, — неубедительно. Особенно если говорить о тайных контактах и тайном вмешательстве. Эти экстравагантные тарелки сразу привлекли бы к себе всеобщее внимание. Какая уж тайна! Прошу предположить, что на Землю заброшены роботы — андроиды. — Ничем это не лучше. — Это почему же? Даже земная техника позволяет изготовить искусственную биомеханическую подделку под человека. Пообедаешь за одним столом и не отличишь. Такие опыты ставили, и чаще всего успешно. — За несколько минут, может быть, и не отличишь, — согласился Лорка. — Но что сделает тайный агент за несколько минут? А за несколько часов, а тем более дней он саморазоблачит себя непременно. У нас ведь чудовищная тонкость восприятия всего человечного, Теодорыч. Мы узнаем знакомых по силуэту или походке за сотни метров. Мы чувствуем настроение близких по выражению лица и тембру голоса. Как уж тут не распознать какую-то дурацкую подделку — робота? Сохраняя суховатое выражение лица, Ревский внимательно слушал Лорку. Под монотонный шум дождя хорошо думалось. Этот шум приглушал все остальные звуки, даже рокот взволнованного моря, даже остервенелый лягушачий концерт, звучавший сейчас в непривычной минорной тональности. Стало быть, тайная инопланетная агентура — идея несостоятельная? — спросил вслух Ревский. — Почему же? — улыбнулся Лорка. — Я бы, например, решил эту задачу очень просто — воспользовался косвенно услугами наших меньших братьев, животных. Он сделал паузу, с удовольствием наблюдая, как меняется лицо Ревского, и продолжал: — Мы очень чутки ко всему человечному, но разве к животным мы приглядываемся так внимательно? Если даже мы привязаны к своим собакам, кошкам или птицам, если даже любим их, то это любовь олимпийцев к простым смертным, ребенка к своей игрушке. Мы легко разоблачим человекоподобного робота, но разглядим ли мы робота под шкурой собаки или перьями сороки? Лорка покосился на Ревского — не насмешничает ли, но космонавт слушал внимательно и с интересом. — В детстве я одно время подозревал, что наш ленивый пушистый кот инопланетянин. Уж очень он любил во время наших семейных разговоров усесться где-нибудь в сторонке и таращить свои желтые глаза то на одного, то на другого. Время от времени кот таинственно исчезал дня на два, на три, а потом являлся истощенный, грязный и очень ласковый. Мне думалось, что в эти дни кот бегает на свою, тайную базу — сдавать собранную информацию. — Итак, неземные коты-агенты? — с подчеркнутой серьезностью уточнил Ревский. — Почему же обязательно коты? Если ориентироваться на твое вино, то это скорее птицы или муравьи. Котам вряд ли сподручно транспортировать рибонуклеиды. Ревский прямо скривился, услышав про свое злополучное вино, и Лорка пожалел, что напомнил о нем. — Ладно, — примирительно проговорил Ревский, — ты сам предлагал временно забыть о моем напитке. Вернемся к твоей инопланетной версии. Есть в ней какая-то изюминка. Чем черт не шутит, может быть, тот филин, что вылетел из оврага и до смерти напугал Альту, на самом деле замаскированный кикианин, пытавшийся нацепить тебя на рогатину! Но, видишь ли, чтобы проверить правильность твоей версии, надо перетряхнуть буквально все живое, что есть на Земле, а это задача нереальная.
— Зачем же так, в лобовую? Надо подставить этим проблематичным пришельцам какую-то приманку, ловушку, чтобы они сами туда полезли. Вот там-то их и прихлопнуть с поличным! — Ну-ну, — поощрил старый космонавт, — у тебя есть что-то конкретное? Лорка засмеялся: — Ты слишком многого от меня хочешь, я ведь все-таки не по отлову инопланетян. Подумать надо. — Думай, — отрезал Ревский, — а пока думаешь, главная твоя задача — Соркин. Кстати, и при разработке инопланетной версии он может быть полезен. Голова у него светлая. — Соркин так Соркин, — покладисто сказал Лорка, задумался и поскучнел. — Хотя Тима всей этой мышиной возней не воскресишь. — А если воскресишь? — буркнул Ревскир, погруженный в свои мысли, и осекся под холодно блеснувшим взглядом Федора. — Ты что сказал, Теодорыч? — тихо спросил Лорка. — Я? Ничего. Так, подумал вслух. — Теодорыч, ты не шути такими вещами, — еще тише сказал Лорка. — Что с Тимом? — Мало ли что болтнешь иногда языком? — Темнишь ты что-то, Теодорыч. — Не мудрствуй, — отмахнулся Ревский и не совсем логично добавил: — А если и темню, так мне по штату положено. Я ведь председатель Совета, не забывай об этом, милый друг. Он помолчал и уже совсем серьезно добавил: — Береги себя. И Альту. Где гарантия, что над вами не занесен незримый дамоклов меч?
10
Свежий ровный пассат все пытался сдуть жесткие кожистые кроны кокосовых пальм, словно это были пушистые головки одуванчиков. — Доброе утро. Лежащий в шезлонге Лорка повернул голову и увидел Соркина. Тот стоял с шезлонгом в руках — массивный, хорошо сохранившийся для своих лет. Длинные светлые волосы Германа Петровича струились по ветру. Здоровый бронзовый загар покрывал лицо. — Доброе утро, Герман Петрович. Соркин поставил шезлонг поудобнее. — Не помешаю? — Мешайте, — улыбнулся Лорка. Шезлонг заскрипел, принимая на себя груз массивного тела. — Люблю океан, — пробормотал Соркин, устраиваясь поудобнее. Могучие водяные валы один за другим катились к берегу. Их прозрачные сине-зеленые тела венчала белая пена. — Что вы сказали? — не расслышал Лорка. Соркин искоса взглянул на него. — Счастливый вы человек, Федор. — Вы уверены? — Уверенность — сестра ограниченности, — Соркин движением головы откинул волосы. — Сколько видели вы разных океанов? Тридцать, сорок? — Я как-то не занимался такой статистикой. Но если включить в перечень океаны жидкого гелия, кипящие ртутные моря и прочую экзотику, то около сотни наберется. — Вот видите. А я, прожив чуть ли не вдвое больше вашего, видел лишь земные океаны. Разве это справедливо? И разве вы не счастливее меня? — И, не давая Лорке ответить, добавил: — А у меня к вам деловой разговор, Федор. — Вот совпадение! — удивился Лорка. — У меня тоже. Соркин внимательно взглянул на него, но Лорка, закрыв глаза, мечтательно улыбался, подставляя лицо утреннему солнцу. — Вам рекомендован новый напарник, — продолжал Соркин после паузы, — Виктор Хельг. Я прихожусь ему дядей и после гибели родителей Виктора в какой-то мере заменял ему отца. — Я знаю, — безмятежно сказал Лорка, не меняя позы. Но внутренне он весь подобрался. — Рассказали бы вы мне про Кику, Федор. Интересно знать, куда забрасывает Виктора судьба, — он секунду помолчал и добавил, словно оправдываясь: — Конечно, я знакомился с этой планетой по официальным документам, но одно дело сухой текст, и другое дело живой разговор с командиром экспедиции. — А что вас интересует больше всего? — Лорка открыл глаза и повернул к Соркину голову. — Комплекс сведений о планете многообразен. Лицо Соркина было сосредоточенно, даже сумрачно. — Как вам сказать? Пожалуй, больше всего меня интересует, насколько опасна предстоящая экспедиция. По вашей личной оценке. Конечно, вопрос Соркина выглядел вполне естественно. — Трудно ответить однозначно, Герман Петрович. С одной стороны, Кика если не родная, то двоюродная сестра Земли. Там можно обходиться без скафандра, можно купаться в морях и озерах, есть многие овощи, фрукты и мясо зверей. Кика не Тертар и не Стикс с их экстремальными условиями. — Именно это меня и успокаивает, — пробормотал Соркин. — И напрасно, — жестко сказал Лорка. — Защититься от открытого удара куда проще, чем от удара в спину. На Стиксе человек все время находится в состоянии наивысшей готовности, на планетах типа Кики такое состояние поддерживать в себе очень трудно. Сбитый с толку сходством с Землей человек рано или поздно расслабляется. Это сходство коварное, оно похоже на провокацию. Образно говоря, под одной и той же вывеской на Земле может быть санаторий, а на сходной планете — ловушка. А человек очень часто действует по голым стереотипам и, случается, попадает в ситуацию, откуда нет выхода. — Лорка говорил неторопливо, спокойно, точно размышляя вслух. — Что произошло на Кике с поселянами и самим Петром Лагутой? Только ответив на этот вопрос, можно решать, насколько опасна или безопасна Кика. — Есть официальное заключение о причинах их гибели, — заметил Соркин, — смерть от ужаса, от паралича сердца. Лорка резко повернулся к нему. — Петр Лагута, опытнейший гиперсветовик, как ребенок, умер от страха? Чепуха! — Несмотря на свою уникальную надежность, сердце — капризный механизм. Лорка упрямо покачал головой. — Дело не в капризах сердца. Кика хранит какую-то тайну. И может быть, разгадку ее стоит поискать на Земле. Лорка сделал этот намек по наитию, без заранее обдуманного намерения. Но тут же осознал, как это своевременно, и с острым вниманием ждал реакции врача. К его удивлению, Соркин пропустил намек мимо ушей. — Значит, Кика по-настоящему опасна, — Соркин обеими ладонями провел по лицу. — А тайна Кики крайне интересна прежде всего для меня, психолога и психиатра. Может, сойти с ума на старости лет и отправиться с вами? Вместо Виктора. Это было полушутливое-полусерьезное предложение, но за шутливостью стояли напряжение и боль — Лорка почувствовал это сразу. Почувствовал и решил еще больше обострить ситуацию. Оглядев врача, он негромко, но уверенно сказал: — Нельзя вам на Кику, Герман Петрович. — Почему? — Стары, — отрезал Лорка. Соркин засмеялся открыто, но несколько принужденно, была в этом смехе и дань уважения за откровенность. — Да вы и сами знаете об этом, — продолжал Лорка, — уже не та реакция, не та выносливость, настрой мыслей. Соркин досадливо поморщился и снова провел ладонями по лицу. — Федор, — в голосе врача звучали непривычные просительные нотки, — ведь от вас в конце концов зависит, пойдет Виктор в экспедицию или нет. — Совершенно верно. — Так вот, я прошу вас, убедительно прошу — откажите ему. — Почему? — довольно резко спросил Лорка. Соркин шумно вздохнул, очевидно подавляя внезапное раздражение. — Все очень запутано. Просто я никогда не прощу себе, если с Виктором на Кике случится несчастье. — Так, — жестко констатировал Лорка. — Стало быть, ради вашего спокойствия я должен покривить душой. Обеспечить Виктору спокойную жизнь на Земле, а вместо него на опасное дело взять другого? Лорка ждал бурной реакции, но ошибся. На крупном лице Соркина появилось беспомощное, даже жалкое выражение. — Все так запутано, — безнадежно повторил он. — Вы правы, Федор. Достаточно того, что я покривил душой, когда так настойчиво рекомендовал Виктора в экспедицию. Скосив глаза, Лорка наблюдал за Соркиным. Тот сидел, откинув крупную голову. Его лицо казалось темным, почти черным. — И все из-за Эллы? — негромко спросил Лорка. — Да, — тяжело ответил Соркин, — она совсем смяла меня. Хотя я не устаю благодарить судьбу за встречу с ней. Лорка подумал о том, как хитро все запутано в этом чудном и чудном мире. Как незаметно крохотная ложь оборачивается недоразумением, а недоразумение — драмой. — Не терзайте себя понапрасну, — мягко сказал Лорка. — Если Виктор и не пойдет сейчас на Кику, он пойдет потом на другую, может быть, еще более опасную планету. Мир отваги, риска и удачи — его стихия, он рожден для него. А вот как сделать экспедицию на Кику более безопасной, стоит подумать всерьез. И тут, Герман Петрович, вы можете сказать очень веское слово. — Слушаю вас, — без особого воодушевления ответил Соркин. Лорка понимал, как трудно ему сразу перестроиться, отвлечься от тяжких мыслей, поэтому вел свой рассказ неторопливо и очень пространно. Соркин довольно быстро «отошел» — Сказывалась многолетняя тренировка — и активно заинтересовался странной судьбой кикианской экспедиции. — Меня самого удивляла цепочка несчастий с кандидатами, — признался он, — но я считал это случайностью. — На этот счет есть и другое мнение, — дипломатично не останавливаясь на земной версии, Лорка со всех сторон обрисовал космическую. Соркин слушал внимательно, но без особого энтузиазма, отдавая традиционную дань скептицизму в отношение инопланетного вмешательства. Однако он мгновенно насторожился, как только Лорка упомянул о таинственном рибонуклеиде, найденном в вине. — Я осведомлен о контрольных опытах, но и понятия не имел, откуда взялся этот странный стимулятор, — Соркин задумчиво поглаживал свой квадратный подбородок. — Все рибонуклеиды действуют мягко, я бы даже сказал — деликатно. Они могут обострить память, эмоции, лишить сна или, наоборот, усыпить, но заставить человека галлюцинировать, а тем более кинуться в бушующие волны или в овраг — это исключено. Несмотря на безапелляционность заключения, Соркин еще не высказался до конца. — Расскажите-ка мне еще раз, как вас угораздило нырнуть в овраг. Он выслушал, не перебивая, и глубоко задумался. — Так-так, — пробормотал он и вдруг спросил: — Вы очень любите летать? Лорка усмехнулся. — Если бы не любил, кой бы черт понес меня в космонавты? Соркин покивал головой, но чувствовалось, что ответ его не удовлетворил. Он поиграл пальцами в воздухе, точно пытаясь поймать нечто невидимое. — Я не о том. Я имею в виду первозданную жажду птичьего полета в голубом просторе. — Понимаю, — вздохнул Лорка. — Какими только способами я не пробовал летать! Прыгал в воду как только мог, прыгал с обрывов на мягкие песчаные склоны. Но, увы, летать, как птица, мне удавалось лишь во сне. Лорка покосился на Соркина. Тот слушал внимательно, терпеливо. — Впечатления от этих волшебных полетов во сне были у меня пронзительно яркими. Наверно, моим дальним предком, архипрабабушкой, была сильная и ловкая обезьяна, как птица летавшая с дерева на дерево. Иначе откуда все это? — Вот вам и объяснение, Федор. Рибонуклеид может сыграть роль превосходной смазки, растормаживающей родовую память. Мощная волна наследственных впечатлений на короткий срок может полностью затопить сознание. — И заставить человека прыгнуть в овраг? — быстро спросил Лорка. — И в овраг, и в море, и через расщелину, — уверенно ответил Соркин. — Но почему же, — Лорка размышлял вслух, хмуря брови, — почему же я не начал взбрыкивать сразу после того, как выпил вина? Соркин пожал плечами. — Какое-то время нужно для усвоения. Не исключено, что у рибонуклеида длинная экспозиция. Кроме того, соединения типа РНК охотно вступают в реакции. А даже легкие трансформации таких соединений могут менять их активность в сотни и тысячи раз. Разумеется, это предположение, и только. — Разумеется, — согласился Лорка, но сразу вспомнил Эллу. И ее рассказ о том, что ее укусила не то муха, не то пчела. Впрочем, эту проблему можно было отложить и на потом, чтобы обдумать и рассмотреть ее со всех сторон. Была другая, откладывать которую Лорка не хотел. — Герман Петрович, — сказал он негромко, — вы врач, член комиссии по отбору космонавтов. Вы не можете не знать, что случилось с Тимуром Корсаковым. Что? Почему из его смерти делают тайну? Соркин великолепно владел собой. В его лице ничего не изменилось, оно как было, так и осталось несколько сумрачным, четко вылепленным лицом. Но Лорка сейчас, когда он начал разговор о Тиме, был похож на тончайший психологический инструмент. Он сразу понял, что его сомнения имеют под собой какую-то почву. — Герман Петрович, — он говорил теперь почти умоляюще, — Тимур был мне другом. Самым близким другом. — Я могу сказать вам только одно, — проговорил Соркин, — не торопитесь с выводами. Подождите. Лорка повернулся к нему так резко, что шезлонг покачнулся. — Подождать? Чего? — Просто подождать. Все разъяснится само собой. — Вы что-то знаете, — уверенно сказал Лорка. — Знаю, но это не моя тайна. Герман Петрович, я прошу вас! — Это не моя тайна, — негромко, но твердо повторил он. Шло время, и слышался шум волн. — Все, что я могу для вас сделать, — вдруг нарушил затянувшееся молчание Соркин, — это дать один совет. Вы знаете, кто такой Латышев? Профессор Латышев? — Геронтолог? — Тот самый, — с легкой улыбкой подтвердил Соркин и, помолчав, раздельно сказал: — Так вот, мой совет — поговорите с ним о Тимуре. Это было странное утро и странный разговор, полный неожиданных поворотов. — Поговорите, — настойчиво повторил Соркин в ответ на молчаливое удивление Лорки, — это все, что я могу посоветовать. И поверьте — это много.11
Труды и эксперименты Латышева в области геронтологии столь же оригинальны, сколько и популярны — не знать о них было просто невозможно. В отличие от классической школы геронтологии, которая видела свою задачу в своеобразной консервации дряхлеющего организма, Латышев разрабатывал сложнейшую систему юнизации — систему активного омолаживания, которая позволила бы самых дряхлых стариков превращать в молодых, полных сил и здоровья людей. Но какое отношение юнизация могла иметь к погибшему Тиму? Прямо с пляжа Лорка отправился в фильмотеку, решив просмотреть о работах Латышева все, что было ему, неспециалисту, по зубам. Лорка шагал торопливо. В душе его теплился легкий огонек надежды, даже не самой надежды, а ее предтечи. Велики были возможности реанимационной техники двадцать третьего века, регенерации и восстановительной хирургии. Конечности, части лица и скелета, любые внутренние органы — все могло быть создано человеку заново. Все, за исключением мозга, средоточия человеческого чувства и разума, этой сложнейшей «машины» — результата миллиардолетней эволюции живой материи. Треть часа, двадцать минут — вот короткий, предельный срок, который отпустила врачам слепая природа для ремонта и восстановления этой «машины». Через двадцать минут, а иногда и раньше в высших отделах мозга, хранилищах мысли и разума, наступали необратимые изменения, человеческая личность гибла безвозвратно. Но, робко думал Лорка, ведь юнизация — это не только восстановление, но и коренная переделка всех живых тканей; может быть, это открыло перед врачами такие возможности, о которых они и не подозревали? В фильмотеке Лорку ждало разочарование: гавайский курортный центр не специализировался по геронтологии, поэтому не удалось найти ни одной оригинальной работы Латышева. Популярной общедоступной полемики по проблемам юнизации было предостаточно. Идеями Латышева и восхищались, и критиковали их с самых разных позиций. Жизнь и смерть, говорили оппоненты Латышева, существуют в диалектическом единстве. Смерть являетсяестественным и необходимым завершающим жизненным этапом. Бороться со смертью как таковой бессмысленно, ибо это борьба и против самой жизни. Лорку интересовала не полемика, а сами идеи Латышева. Он было уже почти совсем отчаялся найти что-либо принадлежащее его перу, когда в отделе, весьма далеком от геронтологии, в отделе переписки, наткнулся на открытое письмо Латышева своим оппонентам. «Я никогда не посягал на полное отрицание смерти, — писал Латышев, — я работаю над юнизацией организмов, а вовсе не над бессмертием. Любое живое существо, в том числе и якобы бессмертное, погибает самым вульгарным образом, если случайно упавшее дерево размозжит ему мозг. Я и не думал отрицать, что старение и старческая смерть являются естественными процессами; они столь же естественны, как зачатие, рождение и развитие. Могу признаться, наконец, я согласен и с тем, что смерть носит необходимый характер, хотя знаю, что это рассердит тех, кто приписывает мне противоположные взгляды. Однако в это бесспорное утверждение я вношу небольшую коррективу: необходимость смерти носит не общий, не философский, а частный, биологический характер. Естественное старение и смерть не фатальный процесс, изначально присущий живому, а всего лишь один из способов, с помощью которых увеличивается видовая жизнестойкость. Зависимость между видом и особью сложна и противоречива. Известно, что короткоживущие, слабые, казалось бы, совершенно беззащитные существа могут образовывать процветающие виды поразительной жизнестойкости, а могучие гиганты, которым, казалось бы, никто не страшен, бесследно вымирать. Очень часто видовая жизнестойкость достигается окольными путями: прямого или косвенного паразитизма, симбиоза и содружества, аномальной интенсификации размножения. Одним из таких древних, как и сама жизнь, способов является естественное ограничение продолжительности жизни отдельной особи для обеспечения процветания вида в целом. В самом деле, чем короче жизнь отдельной особи, тем быстрее свершается смена поколений, тем быстрее совершенствуется и приспосабливается к обстановке и вид в целом. Поразительная жизнестойкость одноклеточных предопределена именно этим фактором. Однако, прежде чем сойти со сцены, старое поколение должно породить новое, защитить его в фазе становления, а иногда и воспитать. Нетрудно показать математически, что каждый вид живых существ в заданных экологических условиях имеет некоторую оптимальную продолжительность жизни отдельных особей. Она и закреплена естественным отбором. Такова природа естественной смерти. Применимо ли все это к человеку? Да — к его истории, и нет — к настоящей его действительности. Развитие человеческой личности в наше время строится на принципах, которые страшно далеки от тех, что породили фатальную неизбежность смерти. В коммунистическом обществе смерть перестала быть необходимой, а поэтому с ней не только можно, но и должно бороться…» Лорка снял микроочки, помассировал уставшие глаза и задумался. Все, что писал Латышев, было интересно, а замыслы юнизации просто фантастичны. Но, черт возьми, какое отношение имеет это к гибели Тима? Может быть, Латышев с согласия родных использует тело Тима для некоего эксперимента? Такое случается, но возможно ли, чтобы родные Тима не посоветовались с ним, с Лоркой? И вообще непонятна эта завеса молчания и тайны, которой посчитали нужным окутать смерть его друга. Покинув фильмотеку, Лорка пошел сквером, чтобы выйти на радиальный экспресс-эскалатор, ведущий на стоянку аэротакси. Сквер был своеобразной рощей. В ней росли карликовые вековые деревья: дубы, сосны, кедры, кипарисы. И все тут было карликовым, вплоть до мостиков и переходов. Люди, ходившие здесь каждый день, наверное, привыкли к этому загадочному миру, сделанному по канонам древнего садоводческого японского искусства. Но Лорка, бывавший здесь редко, всегда испытывал странное ощущение сказочной двойственности рощи. То она представлялась ему настоящей рощей, в которой росли высокие раскидистые деревья. Тогда декоративный ручеек казался ему большой рекой, холмик — горой, а сам он, Лорка, — могучим былинным великаном. И вдруг из-за бабочки, перепорхнувшей на вершину дуба, иллюзия мгновенно исчезла. Мир, созданный усилиями садоводов-искусников, мгновенно приобретал реальные масштабы, и от этой молниеносной метаморфозы слегка кружилась голова. — Лорка? Он обернулся и увидел девушку, сидящую на скамье с альбомом микроснимков на коленях; очки для их просмотра лежали рядом. На ней была полуспортивная одежда: легкие туфли, плотно облегавшие ногу, длинные брюки из мягкой и тяжелой вязаной ткани и почти невесомая блузка, оставлявшая открытыми руки до самых плеч и шею, которая казалась особенно стройной из-за короткой стрижки. Когда Лорка обернулся к ней, девушка медленно поднялась со скамьи и проговорила уже утвердительно, с нотой не то боязни, не то растерянности: — Лорка. Альбом соскользнул с ее колен и упал на песок. Лорка подошел, поднял его, положил на скамью и улыбнулся: — Да, я Лорка. А что? Она не ответила на улыбку. Просто стояла и смотрела на него большими и спокойными светло-карими глазами. Это была совсем обыкновенная девушка, но чем больше Лорка смотрел на нее, тем больше им овладевало если не беспокойство, то неясное смущение. Девушка казалась не совсем реальной, двойственной, как рощица, окружившая их, — и маленькая и огромная в одно и то же время. — Вы меня не узнаете? — спросила она после долгой паузы, как-то трудно, хотя совсем негромко выговаривая слова. Вглядываясь в ее лицо, Лорка вдруг отдал себе отчет в том, что девушка очень красива. И тут же подумал, что, будь он не зрелым мужем, а юнцом, вряд ли бы он заметил эту неброскую, но законченную, в своем роде совершенную красоту. — Знаете, на кого вы похожи? На Афину Лемнию. Ее смугло-золотистые щеки чуть порозовели. — Не надо придумывать, — с укоризной сказала девушка, но было видно, что она польщена таким сравнением. Лорка смотрел на нее с возрастающей симпатией. Во-первых, она была знакома с древним и вечно юным искусством Эллады, которое любил и сам Лорка. А во-вторых, она действительно походила на эту юную богиню — олицетворение мысли и целомудрия. — Вы меня так и не узнали, — в раздумье сказала она, и к Лорке тут же вернулось его странное беспокойство, похожее на смущение. — Кто же вы? — Я Ника, — сказала она. Лорке стало немножко смешно, она сказала это с таким видом, будто все, а тем более Лорка, должны знать, кто скрывается под этим коротким именем. — Ника? — с улыбкой переспросил он. — Ника, — подтвердила она, по-прежнему не отвечая на его улыбку, — та самая Ника. Лорка испытал мгновенное психологическое потрясение. Он перестал видеть город, небо, рощу и даже лицо Ники — он видел теперь только ее глаза. — Так вот ты какая, — сказал он, беря ее за руки. — Да. Она сказала это с тенью гордости, гордости за то, что ей не стыдно показаться ему на глаза. А Лорка смотрел уже не на нее, а мимо нее, в прошлое. Губы его плотно сжались, лоб прорезала глубокая морщина страдания, а на губах застыла улыбка. В душе Ники метнулся страх — однажды она уже видела это лицо. Ей тогда было всего пять лет. Она поднимала мяч с зеленой травы, когда услышала какой-то гулкий выстрел. Она выпрямилась, не выпуская мяча из рук, и увидела над собой сказочного могучего гиганта. Лицо его было искажено тяжким страданием, мускулы вздулись резкими узлами и буграми. Он был так могуч, что казалось, мог удержать само небо на плечах, как это делал Атлас. Но держал он совсем не небо, а какую-то нелепую громадину с металлическими полозьями, и эта громадина безжалостно гнула его мощное тело к земле. — Вам тяжело, да? — спросила она с беспокойством и страхом. Не отвечая, сказочный гигант грубо отшвырнул ее ногой, и Ника и рядом с ней мячик покатились по траве. Когда обиженная и возмущенная Ника приподнялась на локте, сказочный гигант уже лежал на спине. А на него валилась громадина. Это было нелепо и непонятно потому, что с голубого неба светило теплое солнце и зеленела трава. Раздался хруст костей. Солнечный воздух вдруг задрожал от чьего-то неистового крика. Но кричала не Ника. И не поверженный человек, он просто не мог кричать — так крепко были стиснуты его зубы. Металлический полоз громадины вонзился человеку в живот. А сама она ткнулась в землю, едва не задев голову человека, перевернулась раз, другой и застыла в тупом бессмысленном покое.
Ника хотела закричать, но не могла. Она вскочила на ноги, но земля и весь мир вдруг опрокинулись, синим озером блеснуло и разом погасло небо. Это было тогда, а сейчас Лорка почувствовал, как отяжелели ее руки, заметил поблекшее лицо и прикрытые глаза. — Что с тобой? Ника со слабой улыбкой покачала головой. — Ничего, сейчас пройдет. Лорка бережно посадил ее на скамью. Он хорошо знал, что с ней — она вспомнила. Им недаром не рекомендовали видеться, воспоминание было безжалостно, ослепительно и ярко, как то солнечное утро одиннадцатилетней давности. Тогда беспечная пятилетняя девчушка в погоне за непослушным мячом забежала в зону испытаний «катера невесомости». Произошла нелепая случайность — отказала основная энергосеть, заградительный барьер переключался на резервный источник питания, и этой полсекунды оказалось достаточно, чтобы девочка беспрепятственно проникла туда, где находиться было совсем не безопасно. «Катер невесомости» пользовался у детей огромной популярностью. Это вагончик, сделанный в форме космоавиетки, катавшейся по рельсовой дороге с умопомрачительно сложным профилем. Перепады высот, эффектные закругления — все это известно издревле. Новым было то, что отдельные участки дороги, высотой в десятки метров, были выполнены в форме параболических кривых, и, когда вагончик проносился по ним, пассажиры испытывали подлинное космическое чувство невесомости. Если учесть, что особая стереовизуальная аппаратура создавала в эти недолгие секунды эффект подлинного космического небосвода: то вблизи Земли на фоне океанских островов; то в районе Луны, когда на Землю можно взглянуть как на глобус; то в дальнем космосе, когда Солнце видится просто ярчайшей оранжевой звездой, — можно понять, почему этот аттракцион так любили. В катере в качестве эксперта-наблюдателя находился Лорка. Когда катер сорвался с креплений и его начало закручивать, Лорка усмехнулся — надо же, попал в аварию не где-нибудь, а в детском парке. А потом, благоразумно опасаясь ненужных осложнений и травм, сбросил аварийный люк, мягко оттолкнулся ногами и, сгруппировавшись, с грацией и ловкостью огромной кошки приземлился на мягкий склон насыпи. Еще в воздухе он услышал гулкий выстрел лопнувшей штанги, поэтому, приземлившись, он сразу же оглянулся. И увидел, как несколько в стороне от него на склонившуюся к мячу девчушку, тупо вспахивая травяной дерн, съезжает катер в несколько центнеров весом. Лорка так никогда и не мог вспомнить, как он успел оказаться между вышедшей из-под человеческого контроля машиной и маленьким хрупким человечком, Но он успел и принял эту слепую упрямую машину сначала на руки, а потом на плечи. И все-таки Лорка вывернулся бы, если бы девчонка догадалась отбежать. Но нет, она изумленно смотрела на него и спрашивала с беспокойством и страхом: — Тебе тяжело, да? Несмотря на нечеловеческое напряжение, мысль Лорки работала четко. Он знал, что пропал и в его распоряжении доли секунды. Единственный шанс — сохранить голову и пройти все семь кругов адских мучений регенерации искалеченного тела. Лорка отшвырнул ногой девчонку и рухнул на луговые цветы. Он успел услышать дикий, почти нечеловеческий вопль — это кричала мать девочки — и ощутить раскаленную вспышку боли, смявшей его тело. Но еще долгие мгновения, кто знает сколько они длились — секунды, их доли, — Лорка неистовым усилием воли заставлял себя не терять сознания. И на фоне испепеляющей все его существо муки — ликовать: он все еще мыслит; значит, он использовал крохотный шанс, дарованный ему судьбой, — голова цела. Сжигающая боль и ликующая радость продолжающегося бытия оставили вечный след в его душе. И вот сейчас эта девочка, Ника, коснулась невидимой раны. Ника смотрела на него, кумира своих грез, и детский ужас, вдруг прорвавший плотины забвения, медленно отступал. — Тебе лучше? — Лорка легонько встряхнул ее руки, которые держал в своих ладонях. — Все в порядке, девочка, видишь — я здоров. Она благодарно взглянула на него, благодарно потому, что он догадался о ее страхе, осторожно освободила свои руки и сказала укоризненно: — Вы хромаете. — Ты заметила? — удивился Лорка. — Да. Это из-за меня? Лорка кивнул и, увидев, как изменилось ее лицо, поспешно добавил: — Хромота пустяковая. Но я привык, ликвидируешь хромоту — придется менять всю координацию движений. — Ника, не отвечая на его улыбку, серьезно смотрела на него, и Лорка, поколебавшись, признался: — Я берегу свою хромоту как память о том дне. Она понимающе сказала: — У меня тоже осталась память: я немножко заикаюсь, когда сильно волнуюсь. Это тоже легко ликвидировать, но я не хочу. — Я знаю, ты долго болела. — Долго, — согласилась она, — почти год совсем не говорила, только кричала во сне. Мне все снилось, как на вас валится та тележка. Я и сейчас это вижу. Закрою глаза и вижу. Ника и правда закрыла глаза. Ресницы у нее были длинные, они не лежали спокойно, а мелко-мелко подрагивали. — Не надо об этом, — мягко попросил Лорка. Она открыла глаза и, встретив его взгляд, впервые ответила улыбкой на его улыбку. И сразу изменилась — суровое лицо помягчело, стало тоньше, одухотвореннее. — Так вот ты какая, — повторил Лорка. — Какая? — Красавица. — Что стоит внешняя красота, — сказала она равнодушно. Лорка откровенно любовался ею. Она это видела, и ей было приятно. — Духовная важнее, — сказала она со спокойной убежденностью. — Это почему? — Потому что люди сейчас и так слишком увлечены телесной красотой. Глаза Ники стали серьезными. Это были глаза человека, уверенного в себе, хорошо знающего, что он хочет и что он может: Лорка испытал легкий укол робости, а может быть, лучше сказать, почтения; такое случалось с ним в детстве, когда он, слушая рассказы о вселенной, которые вела его мать, нечаянно заглядывал ей в глаза. Ему всегда казалось, что мать знает нечто более мудрое и тайное, чем высказанное словами. Может быть, это чувство сохранилось и сейчас вот всплыло во всей своей первозданной яркости потому, что мать его погибла во время испытаний новой модели нейтринного телескопа, когда ему было всего десять лет, и навечно осталась в его памяти мудрой полуженщиной-полубогиней. Лорка не без труда стряхнул с себя светлые и тяжкие воспоминания прошлого. — Разве это плохо? — мягко спросил он. — Культ человеческого тела жил в Древней Греции, а греки создали одну из величайших человеческих культур. Ника уже успокоилась и с интересом разглядывала Лорку. Она не была разочарована, в нем было меньше скульптурности, чем ей представлялось. Он был человечнее монументального образа, созданного когда-то ее детским воображением. — Греки были великими, — сказала Ника вслух, — но они были детьми. Мы же взрослые. Даже тогда, когда еще дети. Она хотела добавить, что повзрослеть нелегко. Тяжело прощанье с детством, переход в зрелость — страдание, безжалостное крушение одних кумиров и торопливое сотворение других. Но поймет ли это Лорка? — Пожалуй, — согласился Лорка, — в двадцать втором веке… Совсем недавно люди упивались простыми радостями жизни и возродили культ тела. Благодаря им мы покончили с хилостью и уродством, стали такими, как сейчас. Ника улыбнулась. — Люди, разделавшись с голодом, войной и эксплуатацией, просто немного сошли с ума от радости. В двадцать втором веке был праздник человечества, но ведь праздник не может длиться вечно. Откуда такие мысли у этой девочки? Лорку поражало ее уверенное спокойствие, сквозь которое просматривалась легкая грусть. Словно еще не успев толком вступить в жизнь, Ника уже рассталась с какой-то желанной, но несбыточной мечтой. — Чего же ты хочешь, девочка? — Быть человеком, — ответила Ника без всякой аффектации, — только это очень трудно. Она попала в самую точку, трудно быть настоящим человеком. Да, чтобы стать истинным гомо сапиенсом, человеку пришлось пройти через арены римских цирков, костры и пытки инквизиции, фашистские фабрики смерти, горнило революций и национально-освободительной борьбы. Чтобы быть настоящим человеком, не слугой, а господином своей судьбы, надо не только любить свое тело, но и уметь обуздывать его. Был еще один штрих в этой вечной проблеме, догадывалась ли о нем эта не по годам мудрая девушка-подросток? — Быть просто человеком невозможно. Людей как таковых на свете не существует, есть мужчины и женщины. Ты — женщина. — Да, по рождению, — в голосе ее прозвучала досада, — но я не хочу быть женщиной. Не хочу быть ни возлюбленной, ни женой, ни матерью. Меня унижает все это. Лорка молчал, и после паузы Ника продолжала: — Есть девочки, которые жалеют, что не родились мужчинами. Я не жалею. Не хочу быть ни мужчиной, ни женщиной. Хочу быть просто человеком. Лорка подумал, что было бы интересно встретиться с ней лет через пять и снова поговорить обо всем этом. А Ника, помолчав, сказала мягко, точно извиняясь: — Скорее умру, чем стану рабой инстинктов. Лорка понял, что это не просто слова, и сердце его сжалось. Что будет с ней, когда она полюбит? А это случится с неизбежностью восхода солнца. — Зовешь ты меня Лоркой, а почему? — спросил он, меняя тему разговора. — Разве ты не знаешь моего имени? — Знаю, — спокойно согласилась Ника, — но я уж так привыкла. Ведь Лоркой вас зовет и жена, и ваш лучший друг Тим, правда? — Правда, — не сразу ответил Федор, голос его прозвучал сухо, почти бесстрастно. — Только нет уже моего лучшего друга Тима. Он погиб неделю назад. Лорка проговорил это, не поднимая на девушку глаз, но все-таки уловил какое-то импульсивное ее движение и взглянул на нее. Ника была удивлена, даже больше — изумлена. — Что с тобой? — встревожился Лорка. — Со мной ничего, — медленно проговорила Ника, теперь Лорка разглядел в ее глазах не только изумление, но и тревогу. — Да что с тобой? — Лорка, — Ника волновалась, но она умела владеть собой, и голос ее звучал негромко и спокойно, — я не знаю, что и как, но вчера вечером, еще в Приморье, я видела Тима. — Тима? — Да. Тима, живого и здорового. Лорка глубоко вздохнул. — Ты ошиблась, девочка, — мягко сказал он. Ника упрямо покачала головой. — Я не ошиблась. Он ехал в закрытой машине вместе с Отаром Неговским. Отар лечил меня после того самого случая. Он всегда здоровается со мной, разговаривает. И на этот раз он остановил машину. Я хорошо рассмотрела — с ним вместе был Тим. — Отар Неговский? Он работает в клинике Латышева? — Да, у Латышева, — Ника видела, как тяжело задумался Лорка, и осторожно прикоснулась к его руке. — Что все это значит, Лорка? — Не знаю, — медленно проговорил Федор.
12
Боковым зрением уловив некое движение, Отар Неговский поднял голову и изумленно откинулся на спинку кресла: на подоконнике окна, что выходило в парк, стоял человек могучего сложения. Отар прикинул — на каком этаже его кабинет — на первом или на втором? На втором. Оставалось предположить, что странный посетитель забрался на окно по наружной стене. Если учесть, что она увита диким виноградом, это не так уж сложно. Однако интересен способ наносить визиты! И что, в конце концов, нужно этому рыжему геркулесу?
Перехватив взгляд Неговского, визитер бесшумно спрыгнул на пол и, мягко, по-кошачьи ступая, направился к столу. Неговский сел в кресле поудобнее и приветливо проговорил: — Присаживайтесь, гостем будете, — и несколько принужденно усмехнулся, — вы частенько наведываетесь вот так?… — По мере необходимости, — хладнокровно ответил гость, опустился в кресло и представился: — Федор Лорка. — Припоминаю. Отар Неговский. — Знаю, — отрезал незваный гость. — Мне до смерти надоела ваша клиническая бюрократия, поэтому я и решил максимально ускорить процедуру проникновения к вам в кабинет. За этой фразой стояла масса усилий и несколько часов напрасно потерянного времени. После разговора с Никой Лорка ближайшей орбитальной ракетой вылетел с Гаваев в Приморье, где располагалась клиника Латышева. Попытка связаться со старым профессором по обычным каналам успеха не принесла — его видеофон был отключен от общей сети. Лорке разъяснили, что Латышев занят чрезвычайной работой и никого не принимает. Начиная раздражаться, Лорка пустил в ход весь свой немалый авторитет и добился-таки разговора по видеофону с профессором-затворником. Но это ничего не дало. Едва услышав, что с ним хотят говорить по важному, по личному делу, Латышев раздраженно бросил, что для личных дел у него сейчас нет времени, и выключил аппарат. Тогда Лорка рассердился окончательно и решил, несколько поступившись традиционной земной этикой, перейти на методы, которые он привык применять при разведке неосвоенных планет. — Могу сказать со всей откровенностью, — Неговский говорил холодно, как и Лорка, — если вы и встретились с какими-то затруднениями, то не с бюрократией, а врачебной этикой. Точнее — врачебной тайной. — Мне надоели и тайны. — Вы ведете себя довольно оригинально. Если не сказать — бестактно, — у Неговского даже губы дрогнули от обиды. — Мне не до пустопорожней пикировки, — Лорка в упор смотрел на Неговского холодным взглядом. — В вашей клинике тайно содержится мой друг, Тимур Корсаков, который официально считается погибшим. Я хочу знать, что это значит. Лицо Неговского мгновенно смягчилось, отразив сложное чувство, похожее сразу и на сожаление и на сочувствие. — Вот оно что, — пробормотал он вполголоса. — Вы не отрицаете, что Тимур у вас? Неговский взглянул на Лорку, тут же отвел глаза и глубоко вздохнул. — Разумеется, не отрицаю. Тайна вокруг этой истории — чисто вынужденная и временная мера. Через день-другой мы бы сами пригласили вас в клинику. — Когда я смогу его увидеть? Неговский взглянул на Лорку с каким-то странным выражением и опять отвел взгляд. — Простите, но это невозможно. — Я настаиваю, — голос Лорки зазвучал негромко, но непреклонно. — Я не так выразился, — поспешно поправился Неговский и досадливо поморщился. — Как бы это объяснить попроще? — Он на секунду задумался. — Вы знаете о последних экспериментах Латышева по юнизации? — Нет. — Эта информация во избежание ненужного ажиотажа распространена лишь в очень узком кругу специалисте, — Неговский помассировал себе лоб большим и указательным пальцами. — Надежда обрести вторую молодость, знаете ли, способна вскружить голову кому угодно. — Я не понимаю, какое отношение все это имеет к Тимуру Корсакову, — холодно заметил Лорка. — Сейчас поймете, — спокойно сказал Неговский. — Однако вам нужно набраться терпения и выслушать то, что я расскажу. Рассказ Неговского чем-то походил на сказку, не на волшебную сказку седой древности, а новоявленную, принадлежащую двадцать третьему веку. Оказывается, от теоретических и технических изысканий к практическим опытам по юнизации Латышев перешел еще около года назад. Сначала активному омолаживанию были подвергнуты три дряхлые собаки, едва таскавшие от старости ноги. Одна из них погибла в ходе эксперимента, зато две другие превратились в отменно здоровых псов. Опытные специалисты-кинологи, которым, не открывая тайны опыта, их предъявили для установления возраста, единодушно решили, что каждой из собак не более трех лет. Эксперимент по юнизации собак повторили много раз, пока Латышев не добился устойчивого и надежного эффекта омолаживания. Клиника перешла к юнизации обезьян, при этом выяснилось, что переход с одних видов животных на другие не ставит перед этой своеобразной системой лечения, лечения от самой смерти, каких-либо новых проблем и принципиальных трудностей. И тогда старый профессор решился на последний, ответственнейший шаг, завершивший многолетние настойчивые поиски. — Неужели Латышев решился на омолаживание людей? — спросил Лорка, в его голосе звучало недоверие. Неговский, прерванный на полуслове, с некоторым удивлением взглянул на Лорку, точно спрашивая самого себя — зачем в кабинете сидит этот человек? — Да, — торжественно сказал Неговский после паузы, — решился. Хотя лечение было применено, естественно, к добровольцам. Неговский вдруг расплылся в счастливой улыбке. — Успех был сенсационный, похожий на чудо. Оба старика, их было двое — один такой крепышок, а другой совсем уже древний дед — стали похожи на свои фотографии вековой давности. Молодые, красивые парни! Хоть в космос их посылай, хоть к центру Земли! — Трудно поверить в это, — вслух заметил Лорка. — И мне трудно, — проникновенно откликнулся Неговский. — Хотя я один из тех, кто своей мыслью, своими руками свершил это чудо! И вдруг Неговский потух, точно внутри его померк некий волшебный светильник. Лицо его постарело, он усталыми движениями помассировал кончиками пальцев лоб и сказал, будто недоумевая: — Недавно я прочитал «Фауста», сказку в стихах поэта Гёте. Не думайте, я не любитель древней поэзии, я вообще к ней равнодушен, да и времени у меня нет. Мне настойчиво посоветовали прочитать эту странную сказку для взрослых. — Неговский помолчал, сжав в одну линию тонкие бескровные губы, на лице его появилось выражение значительности, почти торжественности. — Знаете, наши предки размышляли над многими вещами, которые волнуют и тревожат нас с вами. Они знали поразительно мало, разум Их опутывали глупые предрассудки, но каким-то наитием они угадывали тайны из тайн природы и человека. Они ставили и мысленно решали проблемы, которые мы решаем или только пытаемся решить сейчас! Неговский на секунду остановил на Лорке задумчивый взгляд и спросил с некоторым сожалением! — Вам, наверное, не довелось читать «Фауста»? Лорка сдержал улыбку и серьезно ответил: — Почему же? Случайно как-то попался под руку. — Вам повезло, — Неговский снова задумался, сжав в одну линию губы. — Фауст получает вторую молодость, но взамен черт забирает его душу. Смысл тут в том, что человеку никогда и ничто не давалось даром. Всегда приходилось платить трудом, мыслью, отказом от удобств, самой жизнью, наконец. Но черт забирает у Фауста душу, понимаете? Фауст-юноша — уже другой человек, вместо счастья он приносит людям только горе и беды. Человек без старой души и еще не обретший новую. Как Гёте мог догадаться, что плата за вторую молодость будет такой дорогой? Лорка уже понял, куда клонится причудливо развивающаяся мысль врача, и сердце его болезненно сжималось. — Да, — продолжал Неговский скорее философски, чем с горечью, — плата за юнизацию оказалась именно такой — обоих добровольцев постигла полная амнезия — абсолютная потеря памяти. Они забыли все и вся, свое прошлое и настоящее, самих себя и своих близких. Они разучились читать, писать и считать. Они вернулись к новой жизни другими людьми — большими младенцами, впервые взирающими на мир. Полная амнезия — та же смерть личности, ничуть не менее определенная, чем при остановке сердца или потере крови. Разум возвысил человека над остальным миром, но тот же разум расширил власть смерти над человеком — он может умереть не только физически, но и психически: сойти с ума или потерять память. По этой причине, — помолчав, продолжил Неговский, — Латышев временно отказался от юнизации и попросил все, что касается его опытов, сохранить в полной тайне. Лорка воспользовался паузой и наконец-то задал вопрос, который давно жег ему язык: — Тимур реанимирован в вашей клинике? — Да, — не сразу ответил Неговский. — И потерял память? — Полная, абсолютная амнезия, — Неговский исподлобья сочувственно поглядывал на Лорку. — Вашего друга случайно подобрал исследовательский батиход на шельфе Гавайских островов. Его подобрали слишком поздно: восстановить дыхание и работу сердца удалось, но кора головного мозга успела умереть. К счастью, на подводном корабле находился представитель нашей клиники. Он знал, что комплекс юнизации позволяет в принципе восстанавливать нервные клетки даже после их фактической смерти, и настоял на срочной транспортировке утонувшего сюда, в Приморск. Тут и приняли решение об экспериментальном юнилечении пострадавшего, а также о том, чтобы сохранить все в тайне до тех пор, пока не выяснятся результаты этого лечения. К сожалению, они не радуют. — Но если лечение было начато, — не совсем уверенно предположил Лорка, — значит, кто-то надеялся и на лучший исход? Неговский удивленно взглянул на него. — Как это кто? Разумеется, Латышев. Если бы не надеялся, он бы никогда не взялся за лечение вашего друга. Он и сейчас надеется, но на что надеется — не говорит. Опершись рукой о край стола, Лорка поднялся на ноги. — Я должен увидеть Латышева, — проговорил он, высказывая скорее решение, чем просьбу. — Разумеется, — поддержал его Неговский, — он охотно поговорит с вами. Лорка в сомнении качнул головой. — Не уверен, — и коротко рассказал врачу о своих затруднениях. Неговский поморщился. — Скорее всего профессор просто не разобрался, в чем дело. Не судите его строго. Он своенравен, даже капризен, но очень честен и справедлив. А проблема юнизации так популярна, что его нет-нет да и тревожат по пустякам. Неговский оказался прав. Латышев принял Лорку в своем просторном кабинете буквально через минуту. Латышев долго молчал, иногда взглядывая на посетителя, сидевшего за столом напротив него. У профессора была еще крепкая фигура, львиное лицо и утомленные глаза. Большие старческие руки тяжело лежали на столе. — Вы друг Тимура Корсакова? — спросил он наконец. — Да. — Близкий друг? — Близкий. Латышев провел ладонью по щекам, точно пытался разгладить свои морщины. — И вы явились сюда, чтобы узнать, можно ли вернуть ему прежнюю жизнь? — Не только узнать, но и сделать все возможное для этого. В утомленных, бесцветных глазах Латышева мелькнула насмешка. — А по-вашему, что нужно сделать? — Не знаю. Впрочем, мне известен рибонуклеид, который довольно эффективно стимулирует подсознательную память. Латышев взглянул на него с некоторым интересом. — Рибонуклеид Ревского? — Он уже известен вам? — не скрыл удивления Лорка. — Вся мировая информация, касающаяся мозга и его функций, в частности и памяти, поступает в нашу клинику по каналу, параллельному с главным компьютерским, — профессор пожевал губами. — Конечно, когда мы предпримем очередную попытку разбудить память Тимура Корсакова, он получит ударную дозу нейростимуляторов. Возможно, в составе препарата будет и рибонуклеид Ревского. Но этого мало. Мало! Латышев внимательно взглянул на Лорку, потом прикрыл глаза густыми седыми бровями и спросил: — Тимур любил свою жену? Я имею в виду настоящую любовь. Как близкий друг, вы должны знать об этом. Лорка не отвечал, удивленно глядя на старого профессора. — Я спрашиваю не из праздного любопытства, — в голосе Латышева послышалось раздражение. — Думаю, что любил. — Думаете? — Уверен. Старый профессор секунду пристально смотрел на Лорку, потом отвел взгляд, пожевал губами и ворчливо спросил: — Вам говорили, что мои методы вызывают полную амнезию? — Говорили. — Чепуха, — сказал старик сердито, — не верьте этому. — И пояснил удивленному Лорке: — Это верно лишь в отношении сознательной памяти, а мозг неизмеримо глубже этой верхней надстройки. Если бы амнезия была тотальной, разрушилась бы не только сознательная, но и подсознательная, родовая, память. Исчезли бы все инстинкты и безусловные рефлексы. Остановилось бы дыхание, замерло сердце, прекратился обмен веществ. Люди умирали бы в ходе самой юнизации. Но они живут! Я уверен, — Латышев костяшками пальцев сердито постучал по своему высоченному лбу, — прошлое крепко хранится в их головах и после юнизации, но оно спит! Спит летаргическим сном, а я, старый, не знаю, как разбудить его. Латышев пошевелил губами и, глядя в сторону, продолжил: — Есть одно чувство, глубокое, как сама жизнь. Любовь. Я не верю, что настоящую любовь может стереть клиническая амнезия. Раньше остановится сердце, а потом уже умрет любовь. Латышев замолчал. Лорка сидел тихонько, боясь потревожить его мысли. А старик потер ладонью лоб и продолжал уже другим тоном, в котором не было ни ворчливости, ни скрытой боли, зато слышались менторские нотки: — Любовь, как я мыслю, и есть та самая ниточка, которая может из бодрствующего подсознания привести в спящий разум. И разбудить его. Он вдруг оборвал себя, в упор взглянул на Лорку и предложил: — Вот если вы уверены, что Тимур Корсаков искренне и глубоко любил свою жену, можно рискнуть и устроить им встречу. — А в чем риск? Латышев объяснил это толково, подробно, обстоятельно. И пока он объяснял, сочувственно и в то же время чуточку ехидно поглядывал на Лорку. Федор внутренне поеживался — для любящего сердца риск был страшным.
13
Валентина пришла запыхавшись, щеки ее зарумянились от быстрой ходьбы, волосы растрепались. — Что случилось, Федор? — напряженно улыбаясь, спросила она. — Почему от Тима нет вестей? Лорка улыбнулся ей в ответ. — Сейчас объясню. Сядем, Валя. Так будет удобнее. Беседка была скрыта в густой зелени. Лорка, придерживая за локоть, бережно усадил Валентину на диван. — Валентина, — сказал он без паузы, — об этом вы должны были узнать раньше. Но все так перепуталось. Он умолк, потому что Валентина стала бледнеть. — Он жив? — шепотом спросила она. Бледность Валентины приобрела меловой оттенок, по глазам ее Федор понял — она вот-вот потеряет сознание. — Успокойтесь, — он сел рядом и взял ее за руку, — жив. Руки ее были влажными и вялыми. С заметным усилием она овладела собой. — Жив? — недоверчиво переспросила она. — Жив, — подтвердил Лорка, — вы сегодня сможете его увидеть. Кровь медленно приливала к ее щекам, мелкие капельки пота высыпали на верхней губе, глаза переполнились слезами. — Зачем же вы так? — с укором сказала она. Тут наконец слезы хлынули из ее глаз. Лорка молчал. С нелегким сердцем он думал о том, что главное объяснение с Валентиной еще впереди. Вот он сказал ей, что Тим жив. И это правда, но не вся правда. Лорка глубоко задумался и перестал контролировать себя. Лицо его отяжелело. — Тим тяжело болен, Валентина, — начал он издалека. Она перебила с вновь вспыхнувшей тревогой: — Он может умереть? — Нет! — Он изувечен… — Нет, уверяю вас. — Да что же с ним такое? — с сердцем спросила она. — У него — амнезия, — Лорка, решившись наконец открыть ей истину, сказал это, будто прыгнул в воду холодную. — Что? — Она не поняла, а поэтому испугалась. — Амнезия, — пояснил Лорка, — полная потеря памяти. — Да-да, знаю, — быстро сказала она. — А это страшно? Наморщив лоб, Валентина настороженно вглядывалась в лицо Лорки. Она не столько вникала в смысл его слов, сколько вслушивалась в интонацию его голоса, старалась догадаться, чем все это грозит ее Тиму. В эти мгновения она была почти ясновидящей, бесполезно пытаться скрыть от нее правду или смягчить ее. — Страшно, Валя. Она отвела глаза, задумалась, потом спросила быстро: — Он и меня забыл? И Ниночку? — Забыл. — Совсем? — Совсем. — Навсегда? Большие серые глаза Валентины смотрели на Лорку опустошенно, только где-то в самой их глубине пряталась отчаянная искра надежды. — Может быть, и нет… Она сразу оживилась. — Может быть? — Да, если вы согласитесь пойти на риск. — Конечно, соглашусь, — Валентина уже улыбалась. — Рисковать-то придется не собой. Она сразу потускнела. — А как же? — Да в принципе-то очень просто. Вам нужно встретиться с Тимом — вот и все. Профессор, который его лечит, надеется, что Тим вас вспомнит. И тогда болезнь его пройдет. Лорке и в голову не пришло рассказать Валентине, какое жесткое условие выдвигал Латышев как основу для преодоления амнезии — Валентину и Тимура должна связывать подлинная, настоящая любовь. Только тогда возможна победа над забвением. — А если не вспомнит? — Тогда придется ждать — годы, десятилетия, а может быть, и всю жизнь. Валентина глубоко задумалась. — Все это мне понятно, — проговорила она почти про себя с оттенком недоумения. — Не пойму одного: в чем здесь риск? — А в том, что Тим может полуузнать вас, — пояснил Лорка невесело. — Знаете, бывает такое мучительное состояние, когда вот-вот вспомнишь, а не вспоминается. Валентина, не спуская с Лорки глаз, закивала головой. — Такое может произойти и с Тимом, только чувство это будет гораздо глубже, шире и охватит все сознание. — Он сойдет с ума? — быстро спросила Валентина. — Возможно. Чтобы его вылечить, придется принудительно стирать в его сознании память о вашей последней встрече. И тогда он забудет вас навсегда. — Это жестоко! Что мог ответить Лорка? Он молчал. Она посидела неподвижно, глядя в землю, потом тыльной стороной руки вытерла глаза и решительно поднялась на ноги. — Я согласна! Перед тем как идти на встречу с Валентиной, Лорка обговорил с Латышевым детали предстоящего свидания супругов, если, разумеется, Валентина согласится. Лорку и Валентину беспрепятственно пропустили в больничный парк. На этой поспешности Лорка тоже настоял заблаговременно, представляя, как мучительна будет Валентине каждая лишняя секунда ожидания. Выйдя на широкую дорожку, обсаженную соснами и усыпанную светлым песком, Лорка остановился, легонько придержав Валентину за локоть. — Это и есть центральная аллея. А там сосна — видите, какая громадина? Возле нее скамья. Море разгулялось, и с него дул ветер. Он ворошил траву, клонил ветки кустарника и трепал кроны вековых сосен. Сосны глухо роптали. Лорка с трудом расслышал ответ Валентины. — Вижу. Она кивнула в знак согласия, но продолжала стоять на месте. Лорка осторожно подтолкнул ее вперед. Валентина оглянулась, точно прося помощи, но Лорка покачал головой — ее встреча с Тимом должна была состояться наедине, таково было жесткое условие Латышева. Тогда Валентина сначала медленно, неловко, будто только училась ходить, а потом уж быстрее, постепенно обретая свою обычную походку, пошла к сосне. Но дойти до нее она не успела, боковой тропинкой на центральную аллею вышел Тим. Валентина сразу узнала, его. Это был ее Тим — высокий, худощавый, с рельефной мускулатурой шеи и оголенных рук. Он шагал уверенно, спокойно, рассеянно поглядывая по сторонам. Ветер трепал его мягкие русые волосы. Так же рассеянно, как по деревьям и кустарнику, его взгляд скользнул по Валентине. Лорка, спрятавшийся при появлении Тима за сосну, крепко, так что стало больно, прижался щекой к ее шершавому, золотистому, пахнущему смолой стволу. Валентину била лихорадка ожидания, слабели, подкашивались ноги, но она упрямо шла вперед. Мир качался, плыл перед ее глазами, превращаясь в разноцветные радужные пятна. Она даже не знала — далеко ли, близко ее Тим. Ей казалось, что она идет в тумане сдерживаемых слез, долго, ужасно долго, целую вечность. Погас шум сосен. Всплыли звонкие, чистые вязи птичьих трелей. Валентина слышала только мерный шорох песка — это были шаги Тима. Она остановилась, провела рукой по лицу. Перед ней стоял Тим, вопросительно, непонимающе глядя на нее. «Тим!» — хотела крикнуть Валентина, но у нее только беззвучно пошевелились губы. — Что с вами? — участливо спросил он. — Тим! — наконец-то удалось выговорить ей. Что-то дрогнуло, затрепетало в глазах Тимура. Как завороженный смотрел он в самую глубину больших серых глаз, полных слез.
— Валя? — испуганно спросил он. Серые глаза закрылись, а на измученное лицо легла покойная усталая улыбка. — Где же ты была, Валька? Так долго? Шумно вздохнули сосны. Это озорной ветер, переведя дух, снова примчался с моря.
14
Лорка вел прогулочный глайдер над самыми вершинами деревьев. Внизу сплошным ковром тянулась дикая нетронутая сельва: здесь, в истоках Амазонки, располагался огромный заповедник тропического леса. Перевалив плоскую столовую гору, где лес был пореже, с проплешинами редкого кустарника и пустошами, Лорка увидел тянувшееся до самого горизонта только что разбитое пространство нового жилого района. Остатки девственного леса были здесь облагорожены и превращены в сады, скверы и парки, русла речушек спрямлены и местами облицованы синтетиком, через них перекинуты ажурные мосты, кое-где синели пятна искусственных озер и прудов, небольшими комплексами грудились вспомогательные сооружения, дома отдыха и развлечений, а на все это была наброшена геометрическая, четкая сеть автострад, дорог и тропинок. Мельком оглядев это поле, отнятое человеком у природы, Лорка сориентировался и круто положил глайдер на крыло, направив его к операторской, стоявшей на краю гигантской строительной площадки. Сегодня здесь должен быть сооружен высотный город-дом на несколько десятков тысяч жителей — центр и средоточие нового жилого района. Здесь глубоко под зеленым покровом леса, в верхних слоях мантии, было нежданно-негаданно обнаружено богатейшее месторождение тяжелых и долгоживущих трансурановых элементов, этого ценнейшего сырья энергетики, ядерной химии и нейтридной техники. Месторождение было настолько перспективным, что Всемирный совет решил отрезать у заповедника несколько десятков тысяч гектаров первозданной сельвы. Операторская представляла собой прозрачный купол — фонарь полусферической формы высотою метров двадцати. Три мощных телескопических ноги поддерживали основание купола на высоте пятиэтажного дома.По краям купола торчали три реактивных сопла — двигателей аварийной посадки, из центра днища спускалась ажурная шахта выдвижного лифта. К лифту и направился Лорка, оставив глайдер четырехколесному многорукому роботу на техосмотр и заправку. Проходя мимо телескопической ноги, Лорка с уважением шлепнул по сверхпрочному композиту — эти ноги должны были вознести операторскую почти на трехкилометровую высоту. Когда Лорка подошел к лифту, дверь кабины распахнулась, Федор вошел в нее и через несколько секунд оказался в просторном вестибюле операторской. Здесь было людно и шумно, отдельными группами стояли и сидели гости, приглашенные на сборку дома-города. К Лорке подошел дежурный в светлом костюме, с оранжевой повязкой на рукаве. Федор представился, дежурный с улыбкой сказал, что его хочет видеть мастер-сборщик. Пройдя через вестибюль, дежурный остановился перед дверью с красной светящейся надписью «Операторская» и жестом пригласил войти. Вопросительно глядя на него, Лорка помедлил — красный цвет надписи говорил о том, что посторонним без крайней нужды вход в комнату воспрещен. Дежурный улыбнулся: — Входите, вас ждут. Лорка нажатием кнопки открыл дверь, беззвучно скользнувшую в стену, и оказался в небольшой, но очень светлой комнате. За круглым столом сидела группа монтажников: мастер-сборщик и ассистенты. Мастер-сборщик, старый товарищ Лорки, Ришар Дирий отличался от других широкой зеленой повязкой на рукаве. Лорку заметили не сразу, а он сам намеренно задержался на пороге, чтобы понаблюдать за колоритной группой монтажников. Шел непринужденный разговор, сыпались шутки, но за этой внешней легкостью Лорка сразу уловил скрытую напряженность, умело спрятанное волнение, которое сопутствует любому ответственному делу, требующему мобилизации всех человеческих ресурсов, будь то спортивное соревнование, научный эксперимент, старт трансгалактического корабля или сборка дома-города. Новые жилищно-промышленные центры с основой в виде дома-города даже в двадцать третьем веке строились редко — не чаще одного раза в несколько лет. Подготовка дома-города к сборке ведется месяцами, а сама сборка выполняется монтажниками за один рабочий день, в течение нескольких часов. Процесс сборки давно стал своеобразным видом искусства и спорта. Мастер-сборщик назначался на свою почетную и ответственнейшую должность после многих туров конкурсных соревнований, которые проводились, разумеется, на макетах. Сборка транслировалась по всем главным каналам мирового стереовидения и собирала сотни миллионов зрителей-болельщиков. Она была для монтажников не только трудом, работой, но и источником радости, творческого наслаждения. Пожалуй, именно в сборке наиболее полно и непосредственно находила выражение изначальная и неискоренимая жажда человека к созиданию. Едва Лорка шагнул вперед, как Ришар Дирий, сидевший на подлокотнике кресла, заметил его и поднялся навстречу. Они обнялись и легонько потискали друг друга — не виделись больше года. Ришар не изменился. Высокий, худой и жилистый — кости и туго свитые мышцы, рельефно обрисовывающиеся даже при легких движениях, ни грамма лишнего жира. На аскетичном удлиненном лице с запавшими щеками — большие глаза: то грустные, то озорные, то лучащиеся юмором, то цепкие. Глаза исследователя и философа. Ришар был феноменально одаренным человеком. Чем он только не занимался! Несколько лет ходил вместе с Лоркой в космос бортинженером и великолепно справлялся со своим делом. Он был отличным художником и скульптором, увлекался субмолекулярной биохимией и за серию теоретических изысканий получил звание доктора наук. Он занимался почти всеми видами спорта, отлично бегал, прекрасно плавал. Но, добившись успеха, Ришар быстро охладевал к содеянному, некоторое время бездельничал, а потом с неслыханной энергией принимался за что-нибудь другое. Дирия ругали, увещевали, умоляли, ему говорили, что он не бережет свой талант, что он неразумно теряет лучшие годы своей жизни, что талант это не только одаренность, но и целеустремленность, и труд, труд и еще раз труд. Ришар выслушивал все это с озабоченным, даже виноватым лицом. Выслушивал и делал по-своему. Однажды после долгого разговора с крупным ученым, который с жаром уверял, что истинное призвание Дирия — общая философия, Ришар с какой-то грустью сказал Лорке: «Ну как можно не понимать таких простых вещей? — И пояснил: — Одаренные люди бывают разными. Такими, как Ньютон, Микеланджело, Эйнштейн, всю свою жизнь отдающими одному-единственному делу. И такими, как Леонардо да Винчи, Ломоносов, Гумбольдт, которых лишь одно-единственное дело способно было засушить и загубить на корню. И знаешь что, Федор? По-моему, время Эйнштейна проходит — вернее, оно уже прошло, только мы еще не отдали в этом себе отчета. Грядет время Ломоносовых и Леонардо». — Как твои дела? — поинтересовался Ришар, отстраняясь от Лорки. Федор смотрел на него с откровенным удивлением. Такая банальная фраза в устах неповторимого Риша! Тут была какая-то загадка. Дирий заметил удивление Лорки и с улыбкой пояснил: — Я имею в виду экспедицию на Кику. — По-моему, все идет по плану. Я ведь брал двухнедельный отпуск. Отдыхали вместе с Тимом и женами. Ришар вздохнул. — Завидую. Вместе с женами! Как здоровье Тима? — Отлично! Уже приступил к тренировкам, — Лорка лукаво улыбнулся. — Как видишь, любовь делает чудеса. — Н-да, — неопределенно заметил Ришар, — с этим, пожалуй, можно согласиться. Надо только учесть, что чудеса бывают разными. То, что Тим полез в штормящее море, тоже чудо, и скорее всего оно не обошлось без этой самой любви. Большие глаза Дирия смотрели на Лорку сочувственно и немного насмешливо. И это было очень понятно: по отношению к любви они занимали весьма различные позиции. Что касается Лорки, то его позиция была традиционна как мир. Подростком, укоряя себя за глупую чувствительность, он едва сдерживал слезы, читая старинные и вечно юные строки «Ромео и Джульетты». А вот Ришар утверждал, что любовь — это тяжкое наследие животного прошлого человечества. Все это не помешало ему пережить несколько любовных историй. Справедливости ради стоит сказать, что всякий раз активную роль в этих историях играли женщины, причем женщины волевые, умные и самолюбивые. Тем не менее Ришар оставался убежденным холостяком. — Значит, ты отдыхал, — задумчиво проговорил Ришар и поднял на Федора серьезные глаза. — А до меня долетели слухи, что дело с экспедицией осложнилось. Взгляд Лорки мгновенно обрел цепкость. — Что-то случилось? — Чего не знаю, того не знаю, — Ришар положил руку на плечо Лорки. — У меня есть к тебе разговор, но это потом. Я рад, что ты прилетел. Мне очень хотелось, чтобы ты посмотрел нашу работу. — Желаю удачи, Риш. Когда Федор вышел в вестибюль, приглашенные уже тянулись по ажурным, невесомым лестницам в зрительный зал. Поднимаясь вслед за другими, Лорка думал о Ришаре. Сборка высотных домов-городов и других крупных сооружений была, пожалуй, самым долгим и непроходящим увлечением Дирия. Лорка думал о Ришаре и чуть заметно по-доброму улыбался. Он хорошо знал, почему Дирий так хочет, чтобы бывший командир увидел его в настоящем, почетном деле. Ришар трижды ходил с ним в дальний космос бортинженером, а перед четвертым рейсом, когда до вылета оставалась всего неделя, нанес Федору дружеский визит. Он собирался не то рассказать о чем-то, не то посоветоваться, это сразу было видно, да никак не решался. Лорка его не торопил. — Ты любишь цирк, Федор? — вдруг спросил Ришар. — Да ничего, вполне добротное искусство. Дирий мечтательно вздохнул. А я обожаю цирк. По-моему, это искусство высокое, вечное. Мужество, бесстрашие и почти полная мобилизация возможностей человеческого тело. Эквилибристика, акробатика престидижитация всегда юны и прекрасны, как сам род человеческий. Лорка сидел, наклонившись вперед, опираясь локтями на колени, и серьезно разглядывал бортинженера. — Что-то ты издалека заходишь, Риш, из-за угла. — Прямая-то кратчайшее расстояние только на бумаге, Федор. Было в лице Дирия что-то странное, а что — не понять. — Я только недавно узнал, — продолжал Ришар после паузы, — именно в цирке родилось выражение «потерять кураж», которое в ходу у нас, космонавтов. В цирке, правда, чудно? Да, это выражение было в ходу у космонавтов-гиперсветовиков. Кураж — «храбрость» в дословном переводе со старофранцузского языка. Но в двадцать третьем веке это понятие стало многограннее, шире. — Что ты скажешь, если я откажусь идти в космос? — спросил Ришар. Лорка секунду непонимающе смотрел на него. — Ты? — Я, Федор, я. Два последних рейда я мучился. У космонавтов-гиперсветовиков потерять кураж не значило потерять храбрость, способность на смелые, рискованные поступки. Это значило потерять внутреннюю уверенность в делах, лежащих у границ человеческих возможностей. Тренированный человек, даже потеряв кураж, может преодолеть себя и волевым усилием заставить четко работать в самых экстремальных условиях. Но тогда работа, прежде доставлявшая ему радость и удовлетворение, превращается в каторгу. Она изматывает силы, истощает нервы, притупляет интерес ко всему на свете. Два рейда, целых два рейда Ришар мучил себя и, хотел он этого или не хотел, ставил под удар других! — Что же ты молчал? — с досадой и сочувствием сказал Лорка. Дирий вздохнул. — Стыдно. Другие же летают, почему я не могу? Да, Ришар Дирий принадлежал к славной категории людей долга! Но ведь и долг имеет свои границы, переходить которые преступно. Не каждому дано все. — Разве можно так ломать себя? — тихо сказал Лорка. — Уходи с легким сердцем. Найди себе другое дело и будь там молодцом. Вот где истина. С тех пор прошло пять лет, и Ришар, кажется, наконец, нашел свое настоящее дело. Зрительный зал операторской располагался под самой крышей купола. Здесь амфитеатром расположились удобные мягкие кресла — как в театре, а вернее, как в цирке. Зал был до отказа заполнен зрителями: представителями Всемирного и специального советов, делегатами от научных, производственных и культурных организаций, а главным образом монтажниками, для которых предстоящая сборка представляла еще и профессиональный интерес. Едва Лорка вошел в зал, как раздался негромкий, но звучный трехтоновый сигнал, возвещавший о начале сборки, и зрители начали рассаживаться по креслам. Сквозь прозрачную переднюю стену зрительного зала была хорошо видна стройплощадка дома-города. Центральное место занимал мощный фундамент почти квадратной формы, уходивший под землю на несколько десятков метров. Справа и слева от фундамента тянулись две ленты конвейера-гиганта, похожие на широкие дороги. Сходство с дорогами усугублялось тем, что на лентах один за другим были установлены исполинские монтажные блоки — целые здания в обычном понимании этого слова. Некоторые блоки достигали десяти этажей в высоту, но были сравнительно узки в основании — это были комплексы жилых квартир. Другие блоки были много шире, а по высоте не превышали двух-трех, редко пяти этажей. В таких блоках располагались общественные комплексы: столовые, павильоны, внутренние парки, театры и спортивные сооружения. За фундаментом между конвейерами прямо напротив операторской высился постамент, площадка для размещения робота-сборщика. А внутри операторской, прямо перед Лоркой, внизу располагался макет строительной площадки, выполненный в строжайшем масштабе. Были тут и миниатюрные конвейеры, на которых стояли макеты монтажных блоков, похожие на детские кубики, а вернее — на детали набора детского конструктора-строителя. Между конвейерами в операторском кресле со шлемофоном на голове, положив руки на колени, восседал Ришар Дирий — мастер-сборщик. Лорка достал из кармашка костюма универсальный пикофон и вставил в ухо. И вовремя: как раз проходили доклады ассистентов-монтажников: — Силовая готова. — Киберкомплекс готов. — Пост безопасности готов. — Есть общая готовность! После легкой паузы эхом откликнулся подчеркнуто спокойно, со стертыми эмоциями голос Ришара: — Подъем роботу. По тому, как с деревьев, стоявших неподалеку от стройплощадки, плеснулись в небо птицы, Лорка понял, что робот пробуждается не беззвучно. Ради любопытства Федор на секунду вышел на внешнюю связь и был разочарован, если только это слово можно применить к данной ситуации. Ни рева, ни воя; над стройплощадкой стоял глухой гул пробудившихся механизмов, похожий на отдаленный рокот моря или на шум леса, волнующегося под сильным ветром; птицы просто реагировали на изменение обстановки. Под аккомпанемент этого могучего глухого гула над пьедесталом по ту сторону фундамента медленно воздвигалась мощная колонна диаметром в несколько метров. По море подъема становилось все заметнее, что колонна состоит из плотно уложенных ферм и что колонна, собственно, не воздвигается, а раскладывается, растягивается вверх, как гармошка. Достигнув высоты двадцатиэтажного дома, колонна замерла, начала разворачиваться и за считанные секунды превратилась в стандартного робота-строителя. Казалось, он сидел, сложив на коленях суставчатые руки-рычаги, но на самом деле никаких колен не было, и робот не сидел, а стоял, опираясь на телескопические ноги, несравненно более мощные, чем опоры операторской. У робота была изящная треугольная голова с большими телескопическими глазами и узкое тело-скелет, собранное из несокрушимого нейтрида и никак не отражавшее подлинной титанической силы этого исполина. Робот был сейчас похож на дремлющего чудовищного богомола, ханжески сложившего свои страшные передние лапы. — Зеркальный режим, — послышалась команда Ришара. — Есть зеркальный! — Беру управление на себя. Краем глаза Лорка видел, как Ришар нажал клавишу на своем боковом пульте. В тот же миг дремлющий исполин ожил: он сдвинулся чуть влево и вперед, шевельнул плечами-фермами, точно сбрасывая с них незримые цепи, и пошире развел руки: это сработала система синхронизации, приводя корпус робота и тело мастера-сборщика в строгое пространственно-зеркальное соответствие. На мгновение ослепительно вспыхнули и тут же погасли телескопические глаза. Пластично повторяя движения Ришара, робот поднял полусогнутые руки-рычаги над головой, развел их в стороны, потом, опустив локти так, что ладони оказались на уровне плеч, несколько раз сжал и разжал свои исполинские кулаки и легонько поиграл пальцами в воздухе, точно сбрасывая накопившееся во время дремы напряжение. Это была последняя, кинематическая проверка готовности робота к сборке. Все движения исполина, скрупулезно копировавшего движения мастера-сборщика, были замедлены, заглажены, словно производились они не в воздухе, а в воде. Резкие движения, в принципе доступные человеку, роботу были строжайше запрещены — инерционные силы его могучих рук, нагруженных тысячами тонн, разломали бы, разорвали суставы. В этой заглаженности, пластичности, но вовсе не замедленности движений и состояло сложное искусство мастера-сборщика.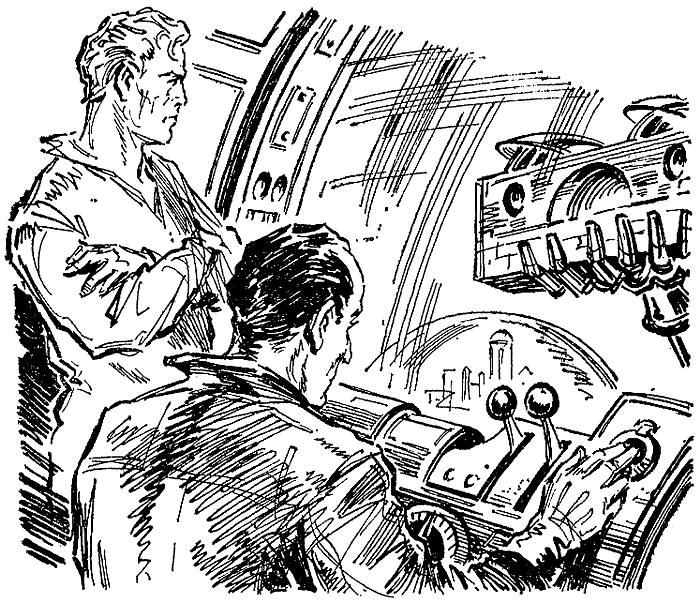
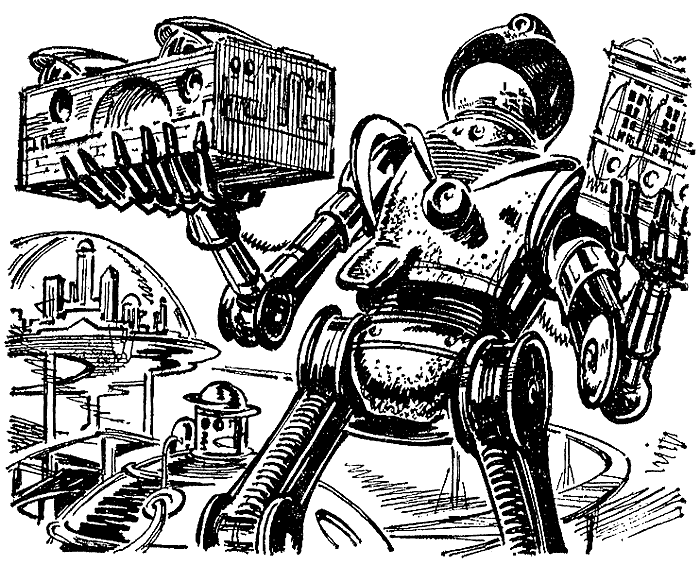
Закончив своеобразную контрольную гимнастику, Ришар объявил: — Всем службам и постам. Полная готовность к сборке. Снова последовала серия докладов ассистентов-монтажников, завершавшаяся рапортом: — Есть полная готовность! На лбу робота-сборщика неярко засияла контрольная зеленая фара. Непринужденно копируя движения Ришара, робот повернулся к правому контейнеру, всеми десятью пальцами захватил за транспорт-арматуру громадный первый монтажный блок, поднял его и плавно понес по назначению. Даже сюда, в изолированное помещение операторской, донесся резкий, хотя и заглушенный посторонний звук — это взвыли ракетные двигатели, помогавшие переместить эту неимоверную тяжесть, — первый блок был самым грузным изо всех. Мягко посадив блок на фундамент, робот отложил в утиль отделившуюся арматуру, а другой рукой легонько придавил блок сверху, на секунду придержав ее. В эту короткую секунду между фундаментом и блоком прошли сотни процессов автоматической стыковки: сварки, склейки, спайки. Дом-город рос прямо на глазах, буквально копируя игрушечный дом-город, который Ришар собирал в монтажном зале операторской. И, по мере того как все выше и выше вздымалось сооружение, телескопические подъемники поднимали вровень с его верхом очередные монтажные блоки, робота-сборщика и всю операторскую. Через сорок минут работы, когда дом-город поднялся почти на полукилометровую высоту, в работе был сделан стандартный двадцатиминутный перерыв. Монтажники отправились на отдых и разминку, а зрители, оживленно переговариваясь, потянулись в вестибюль, где тоже можно было отдохнуть и перекусить. В вестибюле, лавируя между группами людей, к Лорке торопливо подошел дежурный. — Вас вызывает на связь Дом Всемирного совета. Вызывал Федор Ревский. Даже по экрану видеофона можно было понять, что Теодорыч озабочен и очень спешит. — Срочно вылетай в столицу. — Что-нибудь случилось? — осторожно спросил Федор. — Да. Ревский замолчал, поколебался — говорить или нет, но все-таки спросил: — Если тебе предложат не один корабль, а эскадру, согласишься командовать? — На Кику? — Да. — Неужели дело так серьезно? — Серьезно. Но ты не ответил на мой вопрос, — в голосе Ревского послышалось раздражение. — Согласен. — Вылетай немедленно. Несколько секунд Лорка сидел перед погасшим экраном видеофона, обдумывая разговор. Почувствовав руку на своем плече, он поднял голову. Рядом стоял Дирий. — Ты спешишь, Федор, поэтому без всяких предисловий, — Ришар на секунду замолчал. — Я бы с удовольствием пошел с тобой на Кику. — Ты? — не мог скрыть удивления Лорка. — Я хочу снова вернуться в космос, к делам не только сложным, но и опасным. Я возмужал за эти пять лет, Федор. Не бойся, не подведу, — он заглянул в самую глубину зеленых Лоркиных глаз и требовательно спросил: — Ты мне веришь? — Как самому себе, — без всякой аффектации ответил Лорка. Ришар улыбнулся. — Тогда имей меня в виду. Пойду, надо продолжать сборку. — Удачи тебе, Риш. Лорка проводил Дирия взглядом и поднялся из кресла. Надо было лететь в столицу.
15
Администратором Дома Всемирного совета оказалась совсем еще зеленая девчушка, скорее всего студентка, проходившая здесь летнюю практику. Она сидела за дугообразным столом, похожим на пульт управления гиперсветового корабля, и старательно выражала на лице всю важность и ответственность порученного ей дела. Однако глазенки у нее были быстрые и очень любопытные. — Товарищ Ревский, — пояснила она с некоторой важностью, четко и округло выговаривая слова, — делает доклад членам Всемирного совета и приглашенным лицам. Заочно по закрытому каналу стереовидения в заседании принимают участие отраслевые советы науки и инженерии. Глядя мимо девушки, Лорка уважительно присвистнул — такого рода глобальные советы проводились лишь по самым важным и острым общечеловеческим проблемам. Мысленно повторяя слова девушки, Лорка с проснувшейся вдруг глубокой тревогой вспомнил о версии инопланетного кикианского вмешательства в земные дела. Между тем девушка-администратор рассматривала Лорку с почти детским бесцеремонным любопытством. — Вы ведь Федор Лорка? — не столько спрашивая, сколько утверждая, проговорила она. Лорка, отвлекаясь от своих мыслей, перевел на нее взгляд. — Не буду отпираться, угадали. Она расплылась в улыбке и не выдержала, похвасталась: — Знаете, у меня отличная зрительная память, поэтому меня и стажируют на администратора, — и, снова надев маску официальности, девушка уведомила: — Товарищ Ревский просил, если вы опоздаете больше чем на пятнадцать минут, а вы опоздали почти на полчаса, пройти в сектор отдыха, найти там Соколова и получить у него консультацию. — Соколова? — переспросил Федор с интересом. — Соколова Александра Сергеевича, эксперта-социолога. Перед пленарным заседанием он сделал важное информационное сообщение на секции космонавтики. Соколов предупредил, что будет находиться на территории бассейна. Он невысокий, кругленький такой и очень веселый, — девушка явно гордилась своей осведомленностью и четкостью работы. — Спасибо за информацию, Соколова я знаю, — вежливо сказал Лорка. — И еще, — заторопилась девушка, видя, что Федор собирается уходить, — Теодорыч, я имею в виду товарища Ревского, просил вас из сектора отдыха не уходить и обязательно его дождаться. Он или найдет вас, или вызовет. Девушка зарумянилась из-за того, что так запросто, по-домашнему назвала председателя совета космонавтики; поэтому, выходя из холла, Лорка ободряюще улыбнулся ей и подмигнул. Соколов сделал важное информационное сообщение, а теперь делает доклад Ревский — тут было о чем подумать! Лорка, знал, что ждать Теодорыча придется недолго — полчаса, от силы час. Расширенные заседания Всемирного совета всегда были короткими, ведь для участия в них, чаще всего заочно, отвлекались от основной работы люди, руководившие общественной жизнью, наукой, искусством и инженерией всего земного сообщества. Сектор отдыха Дома Всемирного совета имел стандартный набор помещений: крытый сад, спортивный зал, бассейн, фильмотеку и комнаты отдыха. В этом секторе поселялись гости, прибывающие с других материков и из космических поселений, ждали приема, отдыхали после дел и даже решали немаловажные вопросы, если для этого не требовались специальные помещения. Информация девушки-администратора была точной: Соколов сидел за одним из столиков, что рядком тянулись вдоль бассейна на почтительном от него расстоянии. В самом бассейне плескалось несколько человек, голубоватая вода колыхалась мелкими волнами и пахла морем. Соколов был в одних купальных трусах, на шее у него висело белоснежное полотенце. Поза его была расслаблена, на красном лице умиротворенное, благодушное выражение. Чувствовалось, что он вдосталь попарился в баньке, входившей в комплекс бассейна, и теперь отдыхал душой и телом. Перед Соколовым на столике пофыркивал паром золотистый самоварчик с пузатым фарфоровым чайником наверху. В руке эксперт держал стакан крепчайшего, дышащего паром, только что заваренного чая. Предварительно подув на чай сложенными трубочкой губами, он прихлебывал глоточек, отправляя в рот полную ложечку вишневого варенья, прихлебывал еще глоточек, удовлетворенно отдувался и вытирал лицо полотенцем. А немного передохнув, снова повторял это ритуальное действо. Несмотря на свое разнеженное состояние, Соколов еще издали заметил Лорку и приветственно помахал ему рукой. — Долой труд и да здравствует отдых? — Лорка присел за столик напротив эксперта. — Долой и да здравствует, — благодушно согласился тот, вытираясь полотенцем. — Что мне? Я свое дело сделал. Пусть теперь другие делают свое. Налить стаканчик? Сам кипятил, сам заваривал. — Не откажусь. Это по вашей милости Всемирный совет собрался? — По моей, — скромно признался Соколов, пододвигая Федору стакан парящего напитка темно-вишневого цвета. И пожаловался: — Устал как собака. Да я всегда так: закончу дело — сразу в парную баню, в бассейн — и за чай. — И всегда в Доме Всемирного совета? Соколов захохотал, неторопливо свершил очередной цикл своего чайно-ритуального действа и добродушно сказал: — Если честно, то до Всемирного добрался первый раз. Эскадру вам хотят доверить, слышали? — Краем уха. — Но откажетесь? — А почему я должен отказаться? — Лорка рассеянно помешивал чай ложечкой, он любил пить его не горячим, а тепловатым. — Да чем-то недовольны, нервничаете, — голубые глаза Соколова смотрели хитро и весело. — Вы когда нервничаете, прихрамываете чуть заметнее обычного. Лорка с интересом взглянул на эксперта. — Надо же, углядели! Соколов сокрушенно вздохнул. — Профессия такая. — Глазастая профессия, — Лорка попробовал чай, убедившись, что он приостыл, добавил в него несколько ложечек варенья, размешал и залпом выпил сразу полстакана. — Нет, от Кики я не откажусь, дело принципиальное. — Варвар вы, Федор, — печально сказал Соколов, осуждающе глядя на Лорку. — Кто же так пьет этот волшебный напиток? Честное слово, и чаю жалко и своих трудов. А выдержка у вас железная, можно сказать — собачья выдержка. Лорка вскинул на него зеленые глаза и засмеялся. — Великий вы мастер говорить комплименты. — По моим меркам, это комплимент самого высокого сорта. Две больших любви я пронес через всю свою жизнь — любовь к детям и любовь к собакам. Все остальное как-то и в какой-то степени было связано с обязанностями. — Даже чай? — не без коварства спросил Лорка, доливая свой стакан. — После парной бани чай выходит за рамки обычных категорий. — Соколов помолчал. — Вы уже догадались, что я отыскал серьезные доказательства в пользу версии о вмешательстве инопланетян в наши дела? — Догадался. — И несмотря на то, что умираете от любопытства, не задаете вопросов. Нет, не зря я так горячо рекомендовал вас Ревскому на должность командира всей эскадры. Лорка прямо взглянул на эксперта. — А он спрашивал у вас рекомендацию? Соколов хохотнул, пряча голубые глаза между распаренных щек. — Не посягайте на профессиональные тайны. Он спрашивал не о вас, а о качествах, которыми должен обладать командир. А я высказался не в обобщенных категориях, а персонифицированно. — А теперь мучитесь сомнениями? Соколов покачал головой. — С вами невозможно разговаривать, Федор. Ну, немножко мучаюсь, вернее, мучился. Я ведь считаю: самое главное, что нужно, дабы ухватиться за этих инопланетян, — выдержка и терпение. И я еще раз убедился, что эти качества у вас имеются в избытке. Лорка смотрел на Соколова с интересом, к которому примешивался легкий оттенок недоумения и досады. Профессиональный эксперт! Не по случайным обстоятельствам или необходимости, а по призванию и убеждению. Подвергать все и вся сомнению — его жизненное кредо и норма поведения. И тем самым он незаметно, но определенно выводил себя за рамки того мира доверия, в котором жил и о нуждах которого пекся. Соколов между тем аккуратно вытер полотенцем лицо, шею, плечи и грудь. — Как вы думаете, Федор, — спросил он вдруг очень серьезно, хмуря свои редкие белесые брови, — сколько времени утонувший Тимур Корсаков пробыл в море, пока его подобрал батиход? Внимательно присматриваясь к Эксперту, Лорка медленно проговорил: — Вероятно, минут десять, ну, может быть, двадцать. Соколов с несколько таинственным видом отрицательно мотнул головой. — Больше? Тогда час, случались такие чудеса реанимации, когда вода оказывалась очень холодной. Соколов выдержал эффектную паузу и торжественно сообщил: — Больше полутора суток. А точнее — тридцать восемь часов с минутами. Лорка надолго задумался, глядя на прозрачно-голубую легонько колышущуюся воду бассейна. — Если тут не кроется какая-то грубая ошибка, факт очень серьезный. — Ошибки нет. Я человек дотошный, иначе бы никогда не докопался до этого чуда. А когда докопался, перепроверил по разным каналам десяток раз. После меня проверяли другие. Нет, — с флегматичной убежденностью заключил Соколов, — об ошибке не может быть и речи. Лорка пожал плечами. — Почему же на это сразу не обратили внимания? — Слишком много людей и организаций занимались вашим другом. Поиск Тимура вели и отдыхающие, которые видели, как он нырнул в штормовые волны. А нашла его тело совершенно случайно научная экспедиция. Там же его реанимировали, взяли все анализы, но, поскольку сознание пробудить не удалось, на эти анализы никто вначале не обратил внимания. Эвакуировали Тимура спешно, на случайном турболете, который вышел на батиход по сигналу бедствия, а анализы так и остались на батиходе. Сначала мозг Тимура пытались разбудить в гавайской реанимационной клинике, а когда ничего не получилось, Корсакова, опять-таки спешно, направили в клинику Латышева. А старого профессора не интересовали ни предварительные анализы — в его распоряжении были куда более точные методы диагностики, — ни время гибели Тимура. Да и вообще пресловутые несколько минут клинической смерти, о которых и вы говорили, были для всех аксиомой. — Но не для вас. — Не для меня, — не без самодовольства согласился Соколов и тут же оговорился: — Во всем виновата ваша инопланетная версия. Я сказал себе, что если в наши дела действительно вмешивается некто из космоса, то в гибели и последующем воскрешении вашего друга должно быть нечто необъяснимое с земной точки зрения, чудесное. Я пересмотрел документацию и, по правде говоря, довольно легко отыскал это чудо. Лорка в раздумье поигрывал чайной ложечкой, отчего отраженные блики лампы-солнца скользнули по его лицу. — Не верить вам нет оснований. Но и поверить трудно. В голове не укладывается. И мне было трудно, — живо подхватил Соколов. — И знаете, как я поступил? Промолчал. Подумал, что если уж я сам себе не верю, то другие тем более не поверят. Промолчал и начал в поте лица собирать другие доказательства свершившегося чуда. В таких необыкновенных ситуациях факты, знаете ли, должны быть с подстраховкой. Соколов сделал паузу, желая, вероятно, услышать об отношении Лорки к его поступку, но Федор промолчал. Соколов действовал в духе Соколова, по-своему очень логично и последовательно. Чем поразительней факт, чем больше он выпадает из обыденных норм, тем основательнее, дотошнее должна быть аргументация в его пользу. Преждевременное оглашение необыкновенных событий за редкими исключениями лишь способствует их компрометации; перестроить потом общественное мнение на серьезный лад бывает очень трудно. Пожалуй, и сам Лорка в подобной ситуации действовал аналогичным образом. За одним исключением: он непременно поделился бы своим открытием с близкими друзьями. — После батихода и гавайской больницы, — продолжал свой рассказ Соколов, — я сделал, так сказать, набег на клинику Латышева и теперь уже там перетряхнул все материалы о Тимуре до последней цифры, точки и запятой, — на круглом расширенном лице Соколова сквозь благодушие победителя прорисовалось упрямое, даже злое выражение. — Врачи встретили меня не очень-то приветливо, — вздохнул эксперт. — Их можно понять — ведь они с головой погружены в очень важную и интересную работу. А тут является какой-то эксперт, совершенно некомпетентный в области геронтологии и юнизации, начинает копаться в архиве и приставать с расспросами. И это по поводу человека, который уже выписался из клиники и благоденствует! Меня так и подмывало рассказать о своей тайне, но я стискивал зубы и сдерживался. В конце концов мне повезло. И, честно говоря, если бы не повезло, получилось бы ужасно несправедливо! А обнаружил Соколов вот что. Один из самых первых развернутых анализов крови Тимура Корсакова оказался не совсем обычным — нормально-нестандартным, по официальной классификации. Констатация означала, что у Тимура есть некоторые отклонения от стандартного состава крови, но отклонения укладываются в пределы допусков и не угрожают неприятностями. Соколов, разумеется, сразу же ухватился за это обстоятельство и принялся выяснять, в чем состояла нестандартность. Оказалось, что характеристики нестандартных факторов хранятся не в истории болезни, а в архиве, в специальной картотеке. Если бы такого рода характеристики оставались в истории болезни, то она распухла бы до невероятных размеров, объяснили Соколову. Пока он добирался до архива, все должностные лица достаточно доброжелательно старались растолковать ему, что нормально-нестандартные факторы ничем не угрожают здоровью людей, к тому же состояние Тимура Корсакова теперь отменное. Соколов же с упрямством носорога пробивался к архиву, из-за чего приобрел репутацию формалиста и довольно нудного человека. Добравшись до картотеки, Соколов наконец-таки выяснил, что нестандартность состава крови состояла в ее несколько повышенной против нормы гамма-радиоактивности. С копией этой драгоценной карточки Соколов проконсультировался у нескольких известных геронтологов. Они утверждали, что в повышенной гамма-радиоактивности крови нет ничего особенного. Причины этому могут быть самые разнообразные. Чтобы установить конкретную, нужен повторный анализ той же самой пробы крови, если она, разумеется, сохранилась. Выяснив, что проба крови Корсакова законсервирована и пока сохраняется, Соколов потребовал повторить анализ с помощью самой совершенной контрольной аппаратуры. Со стоицизмом религиозного фанатика он выдержал довольно неприятный разговор с Отаром Неговским. Сначала довольно мягко, а потом уже сердито Отар пытался разъяснить Соколову, что аппаратура высокой точности перегружена и нерационально загружать ее экскурсами в историю болезни ныне здорового человека. Соколов упрямо стоял на своем, соглашаясь работать в любые часы, хоть ночью. А что касается лаборантов, то он уже договорился о создании нештатной инициативной группы из молодых врачей-стажеров. Неговский мысленно проклял упрямого Соколова, а вслух выдавил свое согласие. Сговорчивость стажеров, согласившихся работать ночью, когда добрые люди спят, объяснялась просто: Соколов туманно намекнул им на возможность некоего сенсационного открытия. И сенсация состоялась. В плазме крови Тимура Корсакова удалось обнаружить точечный источник импульсной и очень слабой гамма-радиоактивности. Этот источник не удалось идентифицировать, хотя он перемещался в плазме крови так же, как и молекулы, — по законам броуновского движения. Источник излучал отдельные гамма-кванты постоянной энергии с высокой постоянной частотой повторений — один импульс в семнадцать секунд. Как будто бы работали незримые субъядерные часы. Конечно, при еще большем увеличении, естественно, удалось бы обнаружить материального носителя — излучатель этой энергии. Но лаборатория Латышева аппаратурой с таким увеличением не располагала — для целей юнизации она попросту не нужна. А обследовать таинственный излучатель в каком-либо физическом институте не удалось — он исчез, и при довольно эффектных и загадочных обстоятельствах. Когда недоверие, удивление и первые шумные восторги пошли на убыль, а сам факт существования незримого излучателя был запечатлен бесстрастным компьютером, стажеров, а вместе с ними и Соколова охватила исследовательская лихорадка. Используя микроэффектор и разные приставки к нему, они решили, кок выразился руководитель инициативной группы, «пощекотать» загадочный источник гамма-излучения. Это «щекотание» должно было выливаться в воздействие на излучатель разными физическими и химическими агентами. Но долго экспериментировать не пришлось. Как только в точке гамма-излучении понизили температуру до двадцати градусов вместо нормы, соответствующей температуре человеческого тела, на экране наблюдения развернулось удивительнейшее зрелище, а приборы зафиксировали взрыв биологических процессов. Видеокартина напоминала замедленный взрыв или извержение некоего микровулкана, причем плазма крови активно участвовала в этом крошечном биокатаклизме. В результате на месте этого извержения образовалась самая заурядная клетка со всеми своими специфическими компонентами: плазматической мембраной, ядром и органеллами. Сразу же после сформирования клетки начался бурный митоз, скорость которого на два-три порядка превышала скорость обычного клеточного деления. Если полный цикл естественного митоза занимает обычно не менее часа, то здесь деление клетки завершалось за десять-двадцать секунд! В результате начался лавинообразный рост клеточной материи, которая в ходе дальнейших опытов была идентифицирована с нервной тканью человека. Вдруг, словно по команде, этот немыслимый процесс прекратился; одновременно было зафиксировано исчезновение точечного источника импульсной радиоактивности.
Самое ужасное, что эти уникальные данные о вторжении в земную биосферу чуждой жизни могли бесследно исчезнуть. Происходящее настолько потрясло молодых врачей, что они побросали свои рабочие места и столпились возле видеоэкрана, жадно следя за происходящим. Да и можно ли судить их за это, разве людям часто приходится видеть чудеса? Но когда процесс молниеносно-лавинообразного деления клеток вдруг прекратился, руководитель инициативной группы вдруг вскричал свирепо: «А запись?!» Его предчувствие оправдалось, о записи забыли. Ребята были готовы рвать на себе волосы от отчаяния и досады, когда Соколов, вытирая платком лицо, спокойно сказал: «Вообще-то я на всякий случай включил дублирующую аппаратуру стереосъемки». Через несколько секунд лихорадочной проверки выяснилось, что микрофильм контрольной съемки прекрасно удался, и Соколова принялись качать. А поскольку весил он много больше, чем это представлялось с первого взгляда, — уронили. Соколов расшиб локоть, который молодые врачи тут же в лаборатории со смехом и шутками привели в идеальное состояние. Лорка слушал Соколова, переживая сложную противоречивую гамму чувств. Больше всего, конечно, его, космонавта-гиперсветовика, а стало быть ученого и инженера, поразил сам теперь уже твердо установленный факт вторжения чужой жизни и разума. Проблем тут возникала масса! И на самый главный вопрос — результат это злой или доброй воли не было однозначного ответа. Воздействием рибонуклеида Тима бросили в штормящее море и утопили — это безусловное зло. Но с помощью непонятного и пока недоступного людям взрывного клеточного генезиса этому же Тиму обеспечили восстановление разрушающихся тканей и сохранили жизнь. Это уже добро! Таинственный некто настойчиво, упрямо пытался сорвать экспедицию на Кику, но добивался он этого мягкими, можно оказать, гуманными средствами. И кто знает, может быть, это вершилось во имя блага людей?… Лорка, привыкший за время космических странствий к наличию во вселенной множества неразгаданных тайн, испытывал теперь непривычный трепет и беспокойство. Нет, это не было страхом, это была тревога — ведь тайна чужого разума вдруг обрисовалась рядом, в родном земном доме. Скорее всего чужой разум древнее и мощнее человеческого — ему подвластны процессы, еще недоступные людям. И это непривычное осознание человеческой приниженности рождало не только боль, но и упрямство. И гордость! Лорка знал наверняка, что человечество не примирится с подчиненностью в какой бы то ни было форме, даже с подчиненностью доброй тайне. Все будет сделано для ее раскрытия! Поэтому Лорку теперь ничуть не удивляли слова Соколова об эскадре гиперсветовых кораблей, которая должна отправиться на Кику. Только… Только поможет ли в такой ситуации эскадра? И странно, Лорку восхищал и раздражал Соколов — человек, сделавший первый шаг к раскрытию космической тайны. Он восхищал его волей, настойчивостью и целеустремленностью. Через сколько порогов и рогаток пришлось ему перешагнуть! Пожалуй, именно этими качествами человек двадцать третьего века прежде всего отличается от своих близких и далеких предков. Набив себе после удачной охоты брюхо едой, палеоантроп спал и предавался удовольствиям, пока не кончались запасы мяса, только после этого он снова превращался в истинного предчеловека. По-своему мудрый грек испытывал странную, безвольную покорность перед фатумом — предначертанной, как ему чудилось, свыше судьбой. И даже на самом пороге коммунизма люди в мельтешении будней порой теряли перспективы и погрязали в обыденщине. Нет, не таков даже самый заурядный человек новой эпохи! Да и вообще есть ли заурядные люди? — Итак, — вслух сказал Лорка, — разгадку рибонуклеида, генетического взрыва и других тайн решили искать не на Земле, а на Кике? — По крайней мере, таковы рекомендации совета космонавтики, которые приняты после моего сообщения, — Соколов поудобнее вытянул ноги. — И это резонно, все логические нити замыкаются именно на Кике. Убежден, что Всемирный совет примет эти рекомендации. Разве можно допускать безнаказанное вмешательство в наши, земные, дела? Лорка внимательно, без улыбки смотрел на Соколова. — А ведь нелегко придется на Кике, как вы полагаете, Александр Сергеевич? — Полагаю, что нелегко, — благодушно согласился эксперт и оживился: — А почему вы так внимательно разглядываете мою скромную персону? — Да вот все хочу сделать одно предложение и никак не решусь. — Это на вас непохоже. Лорка усмехнулся, насмешливо щуря свои зеленые глаза. — Просто вы меня плохо знаете. Так вот, Александр Сергеевич, предлагаю вам принять участие в экспедиции на Кику. Голубые глаза Соколова округлились. — На Кику? Я? — Вы. — С какой стати? — С той же, что и все остальные. Подумайте. Лорка отодвинул стул и поднялся: он заметил Ревского, вошедшего на территорию бассейна.
16
Лорка любил смотреть, как готовит Альта, а сегодня это было приятно ему вдвойне. Можно было подумать, что Альта готовит не пищу, единственным и вульгарным назначением которой являлось набить опустевший желудок, а некое чудодейственное лекарство, призванное спасти бедное человечество от ужасной болезни. — А чем ты будешь меня угощать? — Шашлыком по-карски, — с некоторой таинственностью сообщила Альта. — Шашлыком? — оживился Лорка. — Значит, нужен настоящий огонь? — Конечно. Ты помнишь, где уголь? В глубине души Лорка скептически относился к убежденности Альты, будто настоящий огонь не в состоянии заменить никакие чудеса современной кухонной техники. Он подозревал — дело не в незаменимости примитивного жара углей, а в кулинарном консерватизме. Но Лорка помалкивал, он очень любил, когда в их доме горел настоящий огонь — величайшее открытие человека, неведомого бесстрашного мудреца древности. — А как это «по-карски»? — полюбопытствовал Лорка, который по ассоциации вспомнил Карское море и Новую Землю. — С приправой из льда и снега? — Увидишь. За окном угасал день. Багровые блики от пылающих углей ложились на темную атласную кожу Альты, в ее светлых глазах мерцали пурпурные искры. Кухня была похожа напещеру, а сама Альта — на ведунью, которой доверили таинство приготовления еды, этого зримого божества древнего мира. Запахи дыма, горящего жира, паленого мяса, тлеющего угля были не менее гибки и многоцветны, чем запах цветов и плодов, только гуще, тяжелее, таинственней. Они рождали смутную тревогу и ликование, спрятанное в подсознании удачной охотой, ночным мраком и огнем костров далеких тысячелетий. Поразил Лорку и вид и вкус этого праздничного шашлыка, приготовленного Альтой. К обыкновенным шашлыкам Альта приучила его давно. — Ну, тебе не нравится? — спросила она точно, мимоходом. Лорка, рот которого был набит сочной мякотью, не совсем внятно ответил: — Наоборот, мне слишком нравится. Так нравится, что даже жалко барашка, из которого сделан шашлык. — Так не ешь, если жалко, — сердито сказала Альта. — Как не есть, очень уж вкусно, — Лорка усмехнулся и философски добавил: — Разве нам, людям, так уж редко приходится душить в себе жалость? Во имя благих целей, разумеется. — Но ведь делаем же мы тесто, кефир, квас — это тоже живые продукты! Прикажешь и их жалеть? Ну, — простодушно сказал Лорка, — это слишком уж дальние родственники. Я смотрел на них в микроскоп — черт знает что! Он помолчал и заговорил уже серьезно: — Ты прости меня, но если мы хотим окончательно разделаться с наследием жестокости в наших душах, то с поеданием младших братьев по роду надо кончать. Может быть, не сразу, может быть, не нам, а нашим детям, но кончать нужно обязательно. Эх ты, Лорка! Кто бы подумал, что это говорит космонавт-гиперсветовик, обследовавший чуть не сотню других миров. Лорка усмехнулся. — В иных мирах бараны не водятся. Космонавты питаются не мясом, а синтетами да композитами. Охотничий шашлык на чужой планете — верное средство отравиться. Альта вдруг погрустнела, внимательно взглянула на Федора и спросила: — Ты мне так и не сказал, по какому поводу у нас сегодня праздник. — Знаешь, не успел, заработался. Уж очень вкусно ты все приготовила, — пошутил Лорка. — А я и без тебя знаю, — с некоторой обидой проговорила Альта, — слышала, как ты говорил с Теодорычем по видеофону. Он сказал, что совет принял твой вариант. И ты окончательно утвержден начальником экспедиции и командиром корабля. — Разве хорошо подслушивать? Альта не приняла шутки. — Лорка, ты обещал взять меня на Кику. Ты не забыл? Федор отвел взгляд и помрачнел. — Обстоятельства изменились, Альта, — виновато сказал он. — Теперь это невозможно. — Я догадывалась. Иначе бы ты не отмалчивался, — почти спокойно проговорила Альта и вдруг загорелась: — Возьми меня, Лорка! У меня все сердце изболится за тебя. Я с ума сойду! — Это невозможно, — тихо, но твердо ответил Федор. Альта угасла, она знала: когда Лорка говорит таким тоном, просить его или спорить с ним бесполезно. Но все-таки спросила: — Невозможно — почему? — Почему… — рассеянно повторил Лорка. Он перебирал в памяти свой последний разговор с Ревским. Теодорыч, перекинувшись несколькими незначительными фразами с Соколовым, увлек Лорку за собой в крытый сад. Здесь было прохладнее, чем на территории бассейна, пахло влагой, зеленью и цветами. Шелестели брызгалки, орошая газоны и клумбы искристыми веерами мельчайших капель; шипел и звенел, рассыпая хрустальную струю воды, небольшой фонтан. На диванах и в креслах, в одиночку и группами отдыхало десятка полтора человек. Из укромного уголка, скрытого цветущим жасмином, доносились отголоски приглушенного, но бурного спора. По дороге Ревский уточнил, о чем Соколов успел проинформировать Федора. Выбрав свободный диван, Ревский предложил Лорке сесть, а сам занял место напротив. Юношески стройный и подтянутый, в мягком снежно-белом костюме Теодорыч выглядел молодо, только загорелое, рубленое, в резких морщинах лицо выдавало истинный возраст. Ревский держался с почти неприметной торжественностью; сейчас напротив Лорки сидел не добродушный садовод и винодел-любитель, а представитель Всемирного совета и председатель совета космонавтики. Он сообщил, что предложение о посылке на Кику эскадры гиперсветовых кораблей утверждено. Количество кораблей и состав экспедиции определит совет космонавтики после детальной проработки программы исследований Кики. Все работы по подготовке и снаряжению экспедиции будут выполнены в предельно сжатые сроки. — Почему такая спешка? — в раздумье спросил Лорка. Он перехватил удивленный, сердитый взгляд старого космонавта и счел нужным пояснить: — Я понимаю, вторжение чужой жизни и чужого разума на Землю не может не тревожить. Но ведь все происходит в очень мягкой, деликатной форме. Никаких эксцессов и взрывов, ничего… Ревский остановил его нетерпеливым движением руки. — Ты не знаешь главного, Федор. Не знает об этом и Соколов. Да и никто пока не знает, кроме членов совета, — Ревский помолчал и жестко закончил: — Вчера с базы на Плутоне угнали патрульный гиперсветовой корабль. — Как это — угнали? — не понял Лорка. — А вот так, был корабль — и нет его, — Ревский видел, что Лорка так и не может осмыслить этот факт, и пояснил: — Угнали, украли. Так же, как в прежнюю эпоху угоняли чужие автомобили или захватывали самолеты. Лицо Федора отяжелело, разгладились мелкие морщины, четче прописались черты. — Кто? — коротко спросил он, глядя прямо в лицо Ревского. С трудом выдерживая этот холодный, «тигриный» взгляд, старый космонавт пожал плечами. — Если бы знать! Во всяком случае, весь состав базы налицо. А поскольку на Плутоне каждый человек на строгом учете, значит, угнали корабль не люди. Лорка невесело усмехнулся. — Вернее — нелюди. — Можно и так, — Ревский досадливо хмыкнул. — Черт знает что! Никто и никогда не охранял гиперсветовые корабли. Зачем? Когда хватились, гиперсветовик уже вышел на разгон, а на разгоне, сам знаешь, догнать его невозможно. На запросы не отвечает, идет курсом в сторону Кики. Лорка молчал. Он сидел, закинув ногу на ногу и крепко сцепив на колене пальцы рук. Взгляд Ревского невольно задержался на этих длинных, ловких и сильных пальцах зрелого человека двадцать третьего века. Пальцах, которые могли невесомо скользить по клавишам пульта управления, безошибочно орудовать микроманипулятором, завязывать узлом толстый железный прут, а сжатые в кулак — нанести молниеносный смертельный удар. Федор, — негромко и веско проговорил Ревский, — по поручению совета космонавтики я теперь уже официально предлагаю тебе принять командование эскадрой. Лорка выслушал его и отвел взгляд на нежные зеленые травинки, трепетавшие под ударами капелек воды. — Ну? — несколько раздраженно поторопил его Ревский. — Думаю, Теодорыч, — спокойно ответил Федор. Ревский усмехнулся, дернул углом жесткого рубленого рта. — Думаешь, не отказаться ли? — Угадал. Ревский медленно распрямился, откинувшись на спинку дивана. Выдержав его острый, испытующий взгляд, Лорка сказал: — Насколько я понял, на Кике предполагается провести разведку боем. — Ну, боем — это слишком громко сказано. — Скажем поосторожнее — разведку силой, с многократной подстраховкой. — Это уже ближе к истине. Один корабль на подстраховке в дальнем космосе, один-два — в ближнем и два-три корабля непосредственно на Кике. — Так вот, — Лорка говорил неторопливо, медленно, но очень уверенно, — я долго размышлял и пришел к выводу, что из разведки силой ничего не выйдет. Не тот у нас противник… Впрочем, почему противник? — Другом его тоже не назовешь. — Верно. Это просто сосед по космосу и собрат по разуму. — Одного разума еще мало для братства. Истинное братство — это братство этики и морали. Не будь слепым пацифистом, — возразил Ревский. — Не буду. Но обратите внимание, как тонко, я бы сказал, нежно действует наш космический друг-враг. Никаких глобальных катаклизмов! Направленное воздействие на психику отдельных лиц да еще с подстраховкой, которая гарантирует их от возможной гибели. — А угон корабля? — Они убедились, что экспедицию на Кику не задержишь, поэтому пошли на отчаянный шаг, чтобы обеспечить нам достойную встречу в своей альма матер. А вот какую, добрую или враждебную, опять загадка. — Если вспомнить серию смертей на Кике, вряд ли эта встреча будет доброй, — упрямо гнул свою линию Ревский. — Когда погиб Лагута, кикияне нас еще плохо знали. К тому же Кика — это их, а не наша епархия, они вольны действовать там более свободно. И разве можно быть уверенным, что на Кике мы, люди, не причинили им гораздо больше зла во время своих бесцеремонных изысканий? Ревский вздохнул, с сожалением и некоторой иронией разглядывая Лорку. — Неужели ты думаешь, Федор, что все эти тонкости взаимоотношений с Кикой не обсуждались на совете? Что они не найдут отражения в программе исследований? — Лицо Ревского приобрело жесткое упрямое выражение. — Но мы не имеем права держать Землю под дамокловым мечом возможных бедствий! А если так, разведка Кики становится необратимой необходимостью. Лорка мягко улыбнулся старшему товарищу. — Я не против экспедиции, Теодорыч. Я против эскадры. Ревский приподнял бровь, отчего его высокий темный лоб собрался морщинками, холод непонимания в глазах сменялся догадкой. — Ты понимаешь, Теодорыч? Я против эскадры, против целой армии исследователей, вооруженных мощными средствами, которыми Кику можно распороть и растерзать на составные части. Нужен обычный разведывательный корабль. И еще нужна бездна терпения, осторожности и дотошной наблюдательности. Во главе такой экспедиции я встану с легким сердцем. И что хорошо: действуя таким образом, мы не нарушим решения Всемирного совета — состав эскадры и экспедиции нам дано определить самим. Ревский молча смотрел на Лорку, глаза его окончательно смягчились, потеплели, а потом стали грустными. — Ты отдаешь себе отчет в том, что приносишь себя в жертву? — спросил он наконец. — Это слишком громко и слишком мрачно, — зеленые глаза Лорки теперь лукаво щурились. — Ведь я могу вернуться с победой и на веки веков прославить свое скромное имя. Я иду на серьезный риск, это верно. — Ты поведешь с собой других людей. Лорка вздохнул. — Верно. Но со мной пойдут добровольцы. Разве Земля оскудела героями? Ревский опять надолго замолчал. Когда на совете решался вопрос об эскадре, ему самому пришла в голову эта шальная, как он тогда подумал, мысль: а что, если пойти на Кику рядовым патрульным экипажем? И еще он подумал о том, что, будь он сейчас молодым командиром корабля, то непременно выдвинул бы это предложение. Подумал, но вслух ничего не сказал, посчитал, что в устах председателя совета такое предложение будет слишком легковесным, даже легкомысленным. — Я поддержу твое предложение, Федор, — суховато сказал он. — Сегодня же вечером ты узнаешь окончательное решение совета. Лорка провел рукой по лицу, прогоняя воспоминания. Разве мог он рассказать Альте обо всем этом? Ей ведь и так придется нелегко… — Причин много, — виновато сказал он вслух. — Поверь мне, тебе нельзя на Кику. Альта помолчала, потом встала и начала нервно убирать со стола остатки праздничного ужина. Лорка поспешно взялся помогать ей. — Оставь, — с досадой сказала Альта. Но Лорка так и не отстал. Когда они молча закончили свою нехитрую работу, Лорка заглянул в глаза жены и старательно изобразил на лице улыбку, но она по-прежнему смотрела на него отчужденно. Тогда Лорка взял ее за руку, подвел к стене и засветил большое зеркало. Там, за стеклом, возникли и взглянули на них могучий светло-рыжий мужчина и тонкая темнокожая женщина с большими голубыми глазами. — Видишь? — тихонько спросил Лорка. Он приложил что-то голубое, сверкающее к волосам Альты и зажал в кулаке. Альта мгновенно гибко обернулась и перехватила его руку. — Покажи! Она принялась нетерпеливо разжимать его кулак, их пальцы — светлые и темные — переплетались. Но с таким же успехом Альта могла пытаться разжать стальную клешню робота. — Лорка! Федор засмеялся и разжал кулак. На его ладони лежал прозрачный голубой камень с лесной орех величиной, в серебристой оправе и с такой же цепочкой. Камень искрился веселым холодным огнем, как сказочная капля росы. — Какая прелесть! Это алмаз? — Не знаю. Подобрал на Стиксе, сам гранил, сам делал оправу и цепочку. И получил персональное разрешение на провоз контрабанды. Альта нерешительно протянула руку и осторожно взяла украшение. Цепочка со звонким шепотом рассыпалась во всю длину тяжелой серебряной струей. — Чудо! Камень лежал на темной ладони Альты, играя тихими молниями внутреннего света. Альта снизу подобрала струю-цепочку в ладонь, приложила камень к плечу, к груди, а потом ко лбу. Теперь у нее было три глаза, три голубых огня на тонком темном лице. — Красиво? Лорка улыбнулся. — Красиво, да страшновато. — Правда? Альта на секунду прильнула к нему, и он услышал торопливый стук ее сердца и ощутил тонкий запах волос; человеческое существо, наделенное страстями и желаниями, которые ему, Лорке, до конца понять не дано. Недавно он видел ее на совещании ученых, которые сыпали мудреными формулами пищевой химии. А сейчас она как ребенок радуется красивой игрушке, позабыв о своих тревогах и печалях. Альта отстранилась, мельком оглядела себя, поцеловала Лорку в щеку и скользнула в свою комнату — ей хотелось примерить украшение наедине с собой. Но Лорке было видно ее отражение в зеркале. Со смешанным чувством иронии и умиления он наблюдал за древними, как сам род человеческий, движениями Альты. За движениями прихорашивающейся женщины, которая, может быть, и сама не догадываясь об этом, хочет сделаться красивей и желанней. Вдруг поймав себя на том, что подсматривает, как мальчишка, он отвернулся, увидел в окне полную луну, улыбнулся и выключил свет. Вместе с темнотой через широкое окно в комнату хлынул водопад лунного света. Комната преобразилась, стала неузнаваемой и сказочной: ковер превратился в лужайку, поросшую травой, стол — в мрачного, длинноногого зверя, а зеркало — в ледяную стену. Лорка подошел к окну. Да, погода переменилась. Облака рассеялись, луна висела над вершинами деревьев в окружении звезд. — Нет, услышал он голос Альты, в нем звучала досада, носить этот камень невозможно. — Почему? — Такой камень! Неловко. Его место в музее, — Альта вздохнула, — может быть, на груди певицы или на лбу танцовщицы — их видят миллионы. А кто я? По голосу Альты было слышно, что она все еще разглядывает себя в зеркале. Лорка улыбнулся. — Ты моя жена. — Ну и что? Лорка, я никак не расстегну цепочку, помоги! Лорка прошел в комнату Альты, чуть щурясь от яркого света, и сообщил: — А на улице луна. — Правда? — И морозец. Может быть, погуляем? — Нет, Лорка, я устала. Расстегнув цепочку, он положил камень на столик и мимоходом спросил: — Ты знакома с Виктором Хельгом? Альта повернулась к нему лицом. Улыбнулась чуть-чуть, почти незаметно. — Знакома. Он чем-то похож на тебя. — Разве? — Не внешне. И не характером, — Альта помолчала и призналась: — А не знаю, как объяснить это. — Он тебе нравится? — Да, — без колебаний призналась Альта. — И что? — Лорка, глупый, — грустно сказала Альта. — Разве мало на свете мужчин и женщин, которые нам нравятся или не нравятся? Даже таких, которые нас восхищают? Но люблю я одного тебя. И никогда не позволю себе полюбить другого. Разве ты этого не знаешь? На какое-то мгновение зеленый и голубой взгляды растаяли друг в друге. Альта красива особенной красотой, но были женщины и красивее ее. Альта умна, но Лорка знал и других, с которыми ей трудно было сравниться. Она хороший друг, но разве у него мало друзей? Лорка любил ее и не только за все это, а еще и за редкостный, бесценный душевный дар — за преданное сердце. Только ей да еще Тиму он верил безраздельно, может быть, больше, чем самому себе. Лорка встал, наклонившись, поцеловал темную бархатную шею Альты. — Знаю, — сказал он ей на ухо, — но разве знание гарантирует от сомнений? Она поцеловала его в сухую крепкую щеку. Оттолкнула и уже совсем другим тоном сказала: — Ну, иди, командир. Поскучай и посмотри на Луну. Он вышел, и за его спиной погас свет. Лорка стоял в темноте, улыбался и слушал легкое дыхание Альты. В зеркале, похожем на глыбу льда, другой Лорка тоже слушал дыхание и улыбался. Лорка рассердился на него и погасил зеркало. А в прорубь окна все лился, ложился на ковер неслышный лунный свет.

Последние комментарии
2 дней 8 часов назад
2 дней 11 часов назад
2 дней 11 часов назад
2 дней 12 часов назад
2 дней 17 часов назад
2 дней 18 часов назад