Александр Галиев Диктат Орла
Глава первая. Мой дом пустой
— А стотысячной русской армии вполне достаточно, чтобы спасти Россию, — сказал генерал Алексеев со слабой улыбкой, и его очки блеснули. А. В. Туркул «Дроздовцы в огне»
Большевизм — это смертельный яд для всякого государственного организма, и по отношению к комиссарии не остается никакой другой политики, кроме войны или отчуждения. М. Г. Дроздовский
Зима 1918 года стояла неприятная и нелепая, откровенно говоря, неправильная; таких зим на Руси не бывало. Самая суть ее казалась невозможной и невероятной: как зима? почему опять зима? совсем недавно была! Но уже год прошел. Новый февраль заметал пороги домов, новое правительство, зычно голося, обивало эти пороги. Ни голодом, ни холодом русский человек не был тогда истязаем; от всех старых ненастий спасение находили и знали, как с ними сладить. Но, как говорили раскольники, взошла алая звезда, взошла впервые — от нее спасения еще не знали. Суть новой зимы мелькала в пролетающих мимо снежинках: можно было выйти на крыльцо поутру, всмотреться в белые хлопья, градом валящие на опустевшую улицу, и понять — дело ныне гиблое. Самые далекие сибирские деревни, о которых не знали даже местные власти, предчувствовали эту зиму. Крестьяне в них не подозревали о падении престола и молились за долгое царствование своего Государя — известна судьба крестьянская. Утром, покидая еле натопленные церковные стены, крестьянин чуял нутром своим, а иной и угадывал своей смекалистой головой, — воздух вокруг черный, страшный, на погибель сгустившийся. Быть может, и мороза особого не было, но ужас все равно стоял и трещал вместо мороза. Тревога трещала с ним. Снег да снег кругом, а путь уже кончается. Что ж ты валишь, белый снег? Остановись, обожди… Юг России — не таежная деревня. О большевиках уже знали. Юг России — не Петербург и даже не Москва — большевика здесь не принимали сразу же, не принимали яростно и вооружено. Но и в этих краях жизнь перестала течь, а стала вытекать: цены возросли, с хлебом перебои, какая власть законная — не разобрать. Ни земства, ни администрация не знали толком, что предпринять; лишь атаман Каледин сразу же стойко сказал: он никаких красных на казачьих землях не допустит; сказал и вышел вон из советской России. Казачьи власти других земель возмутились перевороту не меньше — обещали в Россию вернуться и всех преступников повесить. Хватит ли веток? Но власть наказного атамана, непререкаемый авторитет во времена величия России, ныне подешевела. Казаки не хотели новой войны, рабочие и горожане Каледина своей властью признать не хотели. Вместах же, где Каледина не знали вовсе, хаос набирал обороты — нельзя было ничего предугадать. И страшные декреты, с каждой неделей, с каждым месяцем, наваливались своей похабной силой на чистую жизнь человека и делали ее ненастоящей и бумажной, как и сами декреты. Следует извинить как власти и общественность южных городов, так и их население — во всей России мало кто понимал, что происходит, и что нужно делать. Иные видели спасение там, в алеющем на горизонте Петрограде, другие видели здесь — в казачьей вольнице; офицеры и интеллигенты, из февралистов, скрежетали зубами по учредительному собранию — этих стоит отчасти извинить, кровь они проливали не только за февраль. Но многие люди не знали совсем, что их нужно спасать. Были единицы (точнее, тысячи, но не более), которые предпринимали отчаянные шаги сопротивления хаосу; то тут, то там, то на Урале, то на Дунае, где-нибудь да просыпался русский человек. Словно бы перепивший хозяин за столом, он безмятежно и весело смотрел, как гости его дерутся и разносят его избу; но вот хозяин опомнился, протер глаза и вышел из белой пелены — и стал гостей выпроваживать. Да поздно — уходить не хотят. Стали светлые умы, первыми понявшие страсть и невозможность происходящего, думу обдумывать и вставать из-за стола — смотрят, тяжело вздыхают: все кругом не по-людски. И в отдаленных местах, глядя на белый буран, проносящийся мимо деревенских окон, слышали этот тяжелый вздох русского человека; вздох и призыв: вставать пора. Один такой человек, никогда политикой особенно не интересовавшийся, но тяжело переживавший падение престола и хаос в армии, решил вставать — и поехал домой. Был он штабс-капитан Русской армии; половину Великой войны провел в болотистом окопе, другую половину — в лазарете. После огнестрельных, колотых и рубящих ран, после удушения хлором, после ушибов, растяжений, переломов и контузий штабс-капитан этот всегда вставал и вновь шел в родной окоп. Он не любил ранений, но они его точно любили, — когда офицер вставал в атаку и поднимал на атаку других, пули и снаряды, штыки и сабли метили прямиком по его телу. «Клюкву»1 за храбрость и 4-ю степень Георгиевского креста он получил не зря. Тем не менее, был этот офицер себе на уме: редко видели его в дурном настроении, ни раны, ни отступления, ни революции не могли сбить его хорошего настроя; временами думали, что ему просто нет ни до чего дела, служил он не за честь, не за родину, служил он лишь потому, что оказался на фронте. Был бы он в другом месте, занимался бы другим делом так же, невзирая на окружающий мир. Как сам штабс-капитан считал — было неведомо. Но очень вероятно, что он не считал никак. Звали офицера Михаилом Геневским, и было ему двадцать восемь лет. До войны Геневский служил в 136-м пехотном Таганрогском полку, который в то время стоял не по названию — в Ростове-на-Дону. Тем не менее, Геневскому удавалось раз или два в месяц наведываться домой. Делал он это без особенного удовольствия или неудовольствия, но точно был уверен, что так поступать необходимо — иногда за отъезд из полка доходило и до карцера. Полк был мобилизован летом 1914-го вместе со всей 34-й пехотной дивизией, в которую входил; полковнику Ольховскому, командиру полка, повезло не сильно: он погиб в Галиции 26 августа. Некоторые офицеры, к которым Геневский не относился, восприняли скорую смерть командира за дурной знак. Дурноты здесь штабс-капитан не видел: смерть есть смерть. Война начиналась новая, но привычки Михаила Геневского нисколько не изменялись: он писал брату домой ровно раз в месяц, словно по обязанности; письма зачастую были бытовыми, а иногда и вовсе пошлыми; Геневский редко рассказывал о боевых действиях и своих ранениях. О фамильном доме, оставленном в некотором количестве верст под Таганрогом, Михаил не вспоминал совсем. Служилось ему легко, был он в окопе среди солдат, как влитой; солдат любил Михаила Геневского, но и солдату штабс-капитан казался чудаковатым. Самая странная, а порой и пугающая черта Геневского, заключалась в том, что настроение и самообладание его никогда не менялось: ночь ли, день ли; бой ли, затишье ли; ранен ли, здоров ли — Геневский был совершенно один. Лишь в очень редкие моменты, корчась от сильнейшей боли, штабс-капитан выдавливал на своем лице удивление или раздражение; когда его спрашивали, чем же он раздражен, Геневский отвечал, что раздражен самой сутью боли: она заставляет его вести себя так, как он не привык и не желал себя вести. Распропагандированный Таганрогский полк, как и вся Русская армия, потихоньку умирал: кто-то разбредался по домам, кто-то начинал бунтовать и митинговать; большинство просто не слушались приказов и принимались, как говорит Геневский, «озорничать» — пить, ходить по борделям и бить витрины. Несколько офицеров были убиты «красными» солдатами, многие разъехались, остались либо самые упорные (они сами не понимали, зачем остаются в полку, но хотели исполнить долг до конца), либо переметнувшиеся к советам. Геневский решил ехать. За время службы он, живший довольно скромно, скопил несколько денег — вполне прилично, к слову, скопил — на эти деньги он отправился в Москву. Посмотрел на порушенные Никольские ворота Кремля, воронки на Красной площади; встретился с двумя знакомыми офицерами — они советовали ехать на Дон. Была уже середина января 1918 года, так что в Москве про Дон знал каждый первый офицер. Геневский на Дон ехать не хотел, поскольку не очень верил в силу нескольких сотен добровольцев, а самого генерала Алексеева, их возглавившего, еще с февраля 1917-го считал предателем. К его неудовольствию, Таганрог входил в Область Войска Донского, а значит, военные действия добрели бы и до фамильной усадьбы Геневских. Михаил написал брату за месяц до приезда. Брат его, как обычно, на пространные водянистые письма отвечал кратко и сухо. И даже на новость о возвращении Михаила особенно никак не отреагировал. Геневский-младший (а Михаил был младше на четыре года) не вменял брату его сухости; скорее всего, он даже никогда оной не замечал. 20 февраля блестящие штабс-офицерские сапоги ступили на родную землю. Щедро расплатившись с брезгливо-сердитым ямщиком (Михаил никак не заметил его настроения), надвинувшим свой гречневик чуть не ниже глаз, и не проронившим за всю поездку от города до усадьбы ни единого слова, Геневский скорой и легкой походкой устремился к своему дому. Земля Геневских изменилась слабо. Разве что узорчатый забор, поставленный здесь еще в 1850-х годах прадедом, владевшим несколькими тысячами окрестных душ, исчез. Теперь ни дом, ни сад Геневских не были огорожены. Снегом завалило все страсть как, еле протоптанная тропинка от деревенской дороги до крыльца усадьбы распознавалась с трудом. С некоторых ракурсов их фамильный дом был предметом соседской зависти: построен он был еще при живом Пушкине и Государе Николае Павловиче. Тогда жила мода на классицизм и подражание грекам, особенно в далекой провинции; потому дом красовался фронтальными колоннами, маленькой башенкой с балкончиками по центру и двумя низенькими флигелями. В одном из флигелей во время сильного дождя обрушилась прогнившая крыша, так что туда уже лет тридцать никто не ходил. Другой флигель одно время перестраивали под конюшни, за что получили насмешки всех соседей; конюшни оттуда убирать не спешили, но после смерти последнего коня деваться было некуда. До Великой войны усадьба имела вид довольно убогий, от нее веяло не уважающей себя вековой древностью, но затхлостью и покинутостью. То было верно, вся семья, или как всегда говорил Геневский, «фамилия» их состояла всего из трех людей: двух братьев Геневских и их младшей сестры, — из них, не считая одного-двух человек прислуги, только младшая сестра жила в усадьбе постоянно. Брат наверняка мог видеть подъехавшего Михаила из окна своего кабинета, однако, встречать его не вышел. У младшего же ни единой мысли о неучтивости брата в голове не пропорхнуло. Он лишь взошел на крыльцо и открыл дверь — заперто не было. Аромат в доме стоял такой, словно в нем несколько лет уже никто не жил, а на письма Михаилу Сам Святой Дух отвечал. Так, бывало, пахнет в покинутых избах: в них нет ни запаха трав, ни запаха хлеба, ни особенных крестьянских запахов, Бог пойми, откуда берущихся. В таких избах пахнет то ли сыростью, то ли мокрой известкой, то ли скопившейся пылью, но больше всего — пустотой. Примерно так пах и дом Геневских. Но Михаил уловил и два совершенно новых, чуждых ему запаха: слабо пахло сладковато-горьким дубом, словно мокрой древесиной, и остро пахло табаком. Михаилу следовало бы удивиться, но он, кажется, запахов совершенно не приметил; он поставил свой чемодан у двери, плотно прикрыл ее и сел на скамью. Некогда эту скамью вырезал хороший мастер по дереву, принадлежавший прадеду Геневских, а с 1861 года — самому себе. Михаил особого внимания на эти узорчатые и хитрые вырезы стамеской не обращал раньше, и сейчас скамья — уже подгнившая, истертая и потерявшая всякий изысканный вид — казалась ему куда уютнее. Геневский всмотрелся внутрь дома и навострил слух. Стены были действительно крашены белой известью, как в ином казенном доме; зал, находящийся прямо от парадной двери, стоял пуст и холоден; в комнатах слева и справа были растворены двери, так что белый болезненный свет заливал все пространство и проливался на старенькие доски пола. Лестница наверх была занавешена мокрой одеждой, словно туда больше никто не ходил, хотя Михаил Геневский помнил, что наверху располагались три хорошенькие парадные комнаты. Домовые сени, расписанные было под мрамор до войны, начисто пропали, словно первый этаж был перестроен. Из просторного зала, прямо от входа, пропали колонны, фамильные, генеральские и императорские портреты в золоченых рамах и печь из белого изразца — без последнего в доме страшный холод стоял. В целом, однако, довольный тем, что вернулся домой, Геневский встал со скамьи, снял портупею с саблей и кольтом, шинель, фуражку, поиграл чуть плечами и повесил одежду. А после сказал, стараясь в покинутом на вид пространстве звучать громко: — Брат, я дома! На выкрик приятного, почти певческого, голоса, к сожалению, никто не отозвался. Ни единого шороха не послышалось ни из зала, ни из комнат справа и слева, ни из глубины дома. Быть может, какой-то скрип раздался на втором этаже, но Михаил более подумал о старости досок пола, нежели о том, что наверху кто-то находился. Подойдя к распахнутой двери по правую сторону, подержавшись для чего-то за латунную ее ручку, Геневский заглянул в комнату, которая, по его памяти, служила брату кабинетом. В кабинете настолько не за что было зацепиться глазом, что Михаил первым делом обратил внимание не на мебель, убранство и интерьер, не на старую память дома, но на дверь напротив — она тоже была распахнута и вела в следующую комнату. — Неужели здесь была анфилада? — тихо, шепотом, почесав сложенными пальцами несколько отросшую бороду, сказал себе Геневский. Сказав это, он все же решился войти в кабинет — нахмурился, усомнился, как-то опал видом и осанкой и даже разбил свой безразличный образ: укорил брата за запущенность. Брат, именем Матвей, любил ранее называть свой кабинет зеленой комнатой, в цвет зеленых бумажных обоев. Ныне же стены кабинета тоже были крашены известью, — но тут впервые Михаил обеспокоился: от стен кабинета несло свежей гарью. От стеклянных шкафов, заказанных еще в прошлом веке из Петербурга, не осталось и осколка; лежавшие в них книги, бумаги, бюсты и статуэтки находились неизвестно где. Кинжал дамасской стали, купленный Матвеем у некого разорившегося петербуржского офицера, тоже пропал — брат всегда зачем-то гордился им, а потому повесил над головой, над самым столом; младший Геневский недоумевал от такой гордости. Кинжал ведь был куплен, а не захвачен в бою; да и будь он даже куплен, но где? — в мирном Петербурге, не на Кавказе. В общем, ни роскошных столов, ни роскошных стульев, ни так любимых братом за компактность бюро: в кабинете стоял простой, широченный крестьянский стол из грубо обструганных досок, два стула, купленных, очевидно, в Таганроге за малые деньги, и ширма в углу. Прямо посередине кабинета был брошен набок единственный представитель довоенной мебели — нелепый круглый столик, обитый зеленым сукном. Он считался кофейным, но Матвей никогда кофе не пивал. Большой же крестьянский стол был забит разной дрянью и чепухой: газетами за 1915-й год, обрывками тряпиц, сломанными пополам перьями, четырьмя палочками старой рамы, голым циферблатом, ржавой бритвой с обгоревшей ручкой, лиловым домашним халатом, на спине которого красовалась обуглившаяся дыра. Много еще чего лежало на этом столе, но Геневский уже отошел от него и заглянул за ширму — там стояли грязные кавалерийские сапоги довоенного образца и три средних стопки книг, на одной из которых стоял совсем маленький, белый, как стены, бюст Николая Александровича. — Что же это такое? — вновь задал себе вопрос Геневский. — Не может быть, чтобы брат не жил здесь. Неделю назад пришло его письмо, с этого адреса. А где же сестра? Михаил вышел из кабинета, прошел пустой белый зал и обнаружил себя в небольшой, но некогда уютной столовой-гостиной. Поморщившись от такого же состояния этой комнаты, в которой теперь не было ни одного стола — ни обеденного, ни игрального — решил выйти на кухню, но оной не нашел. Задних комнат, где жила прислуга, тоже нигде не обнаружилось. Младший Геневский вернулся в кабинет и выглянул в окно, выходящее на деревенскую дорогу. На улице стал часто сыпать снег, он прямо видел большие мягкие кусочки ваты, однако, сквозь них видел плохо. Тем не менее, показалось ему, что у дороги вновь стоит извозчик, да еще и тот же самый — настолько похоже он надвинул гречневик на глаза и настолько же нахохлившимся злым голубем он сидел на козлах. От дороги некто шел довольно решительным длинным шагом — раз, раз, раз и с десять аршин прошагал. Был он одет в длинную, до пят, серую шинель без знаков отличия, без погон, лицо его перемотано башлыком, хотя на улице и не было сильного мороза. Геневский поскорее выбежал в сени, но человек уже заходил в дом — как есть брат! — Брат! — вскричал Михаил. — Ты ли это? Зашедший глухо, деликатно посмеялся и стал скорее разматывать башлык: — Я. Здравствуй, Михаил. Хотел тебя в городе встретить, а вот как вышло. Ты же меня дома и встречаешь. Братья пожали руки, словно еще не доверились друг другу, но потом Матвей, как старший возрастом и чином, похлопал Михаила по плечу, и братья, повинуясь порыву, обнялись. Михаил почувствовал мокрое сукно одежды брата, и его, отчего-то, неестественно сутулые плечи, словно он долго сидел за столом и работал. Нечто хорошее и спокойное промелькнуло в голове и сердце младшего Геневского, он это нечто уловил, но держаться его не стал — отпустил так же легко, как и принял. Тем не менее, радость осталась. Он — дома. Брат — рядом. Остальное — чушь. — Что же это с домом, брат? — спросил Михаил, как только они оторвались друг от друга. — Зачем ты его покрасил? — Большевики, — скомкано бросил Матвей и, наконец, развязал свой башлык. На голове его показалась дурацкая черная гимназистская фуражка без козырька и кокарды. Лицо его, красное с холода, выражало усталую радость. Но не только. Михаил ожидал увидеть уныние, скуку, в крайнем случае — и отчаяние; вместо этого брат излучал уверенность, твердость и некий деятельный дух. Пусть дом он запустил, но занимался, судя по одному лишь его лицу, важным делом. Лицо это возвышалось над Михаилом — старший брат был более девяти вершков росту, когда младший дорос лишь до семи. — Что ж большевики? Уже хозяйничают? — спросил Михаил, когда они с братом зашли в кабинет. — Хозяйничают! Гвардейский полковник Кутепов бился с ними под Таганрогом весь январь. — Что ж в итоге? — братья расселись по стульям, а Матвей поднял нелепый круглый столик с пола и положил на него руки, скрестил пальцы. Он так и сидел в шинели и гимназистской фуражке, увеличивая желание младшего Геневского спросить, что же это он так вырядился, и почему не снимает фуражки в доме. — Таганрог — красный. Казаки не поддержали Кутепова. А теперь возмущаются власти Совдепа — глупцы. Все в России теперь покраснело. — Ты извини меня, я собью тему, — сказал Михаил. — Нехорошо сидеть вдвоем, давай позовем сестру. Я не везде ходил, она дома? — и сразу, на одном порыве, выпорхнул в сени и крикнул: — Варвара! Где ты? — Успокойся, брат. Я не знаю, дома ли она, — встал за братом Матвей, губы его растянулись от забавно-бездумных действий младшего, но глаза его налились стыдом и укатились в сторону. — Я не слежу за ней. — Отчего же? Это же наша сестра, и такое время… — Я сам себя корю. Но — не знаю. Последние месяцы я очень занят в Таганроге. — Где? — Об этом позже. Позже. Будет время, — Матвей посмотрел странно. — Ты же не заделался красным агитатором, брат? — усмехнулся Михаил. — А то я тебя сейчас на дуэль. — Боже упасти. Я антибольшевистский агитатор — но после, после. Во всем брат его Матвей был таким. Странным, вечно недосказывающим и кратким. Девятнадцатилетним … (Михаил не знал тогдашнего чина своего брата) он побывал на Японской войне, а потом служил еще несколько лет в столице. Быть может, Матвей служил даже в гвардии, в Измайловском полку, — вышел темными волосами и древностью рода, да и слухи были. Точно Михаил не знал, хотя интересовался. Но брат ничего не рассказывал, а лишь смотрел тяжелыми упавшими глазами и молчал. Примерно в 1910-м или 1911-м году старший Геневский покинул столицу, уволился из армии (или гвардии) и поселился в фамильном поместье, где к тому времени жила их тетка, умершая через месяц, и младшая сестра Варвара. Поначалу Матвей был бодр и свеж, пытался воспитывать сестру, которой на ту пору было двенадцать лет, посещал светские заведения Таганрога и даже имел какие-то дела с Василием Ивановичем Покотило — наказным атаманом донских казаков. За первый год Матвей как-то стал известен на всю Область Войска Донского, а потом мигом пропал — засел у себя в подгнившем поместье и раз в месяц, в лучшем случае, выезжал в Таганрог. Все сидел в кабинете и над чем-то работал — да и офицеры к нему часто захаживали… 28 июля, в тот самый день, Матвей приехал домой неважный и несвежий; младший брат и любопытная маленькая сестрица сразу решили, что это из-за объявления войны — они не поняли томления Матвея, ведь повсеместно Россия была в бурном восторге. Восторгались люди своею славой и будущей «победой России и славянства» на обрывистом краю скалы; но пускай, — прошлой радости не воротишь. А тут — томный брат. Что случилось? Что произошло? Ты не рад войне? О войне брат, как оказалось, даже и не помышлял — что там война, есть и иные дела в свете. Под конец Матвей сдался, но выдал явную околесицу: ему, мол, отказала прелестная барышня, за которой он все лето волочился. Во-первых, Михаил точно знал, что ни с какой «прелестной барышней» Матвей знакомства не водил. Во-вторых, знал, что приехал брат в тот день не из Таганрога, а из Ростова — от наказного атамана. Сестра нежного возраста мигом поверила в легенду о неразделенной любви, но Михаил ничему не поверил. Но и дальше спрашивать не стал. В нынешнем времени брат стал рассказывать о жизни своей в последний год с февраля до февраля. Сидел Матвей неуютно, словно бы голой спиной прикасаясь к колючему покрывалу, он то и дело дергался на стуле, сутулился и наклонял торс к зеленому сукну стола. Руки свои он скрестил на колене, а взгляд медленно двигал вдоль белой стены, сначала в одну сторону, затем в другую. На брата Матвей не смотрел, словно бы читал речь по бумажке, репетировал театральную роль, или же, что было более актуально, репетировал политическую речь для митинга. Зритель во время репетиции — важен ли? Младший брат, приехавший вдруг не с далекого фронта, не с русско-германской границы, не из Москвы, или откуда бы еще ни было, но из мест куда более дальних — из прошлого; брат, приехавший из четырехлетней давности, кто теперь он? Да и сам Михаил почувствовал вдруг чуждую атмосферу фамильной усадьбы. Не только он приехал из четырехлетней давности, но и сам дом остался где-то там, в довоенном солнечном Приазовье, в вечном метании Таганрог — Ростов, в устало-беспокойных глазах отставного брата и в обидчиво-упрямых глазках младшей сестры Варвары. Что теперь глаза Матвея? Они и не смотрят на него. Что теперь глаза Варвары? Их и вовсе нет дома. Да есть ли дом? Михаил вдруг понял, что он приехал не туда. Он не понимал этого, как бывает, понимают взрослые сложившиеся люди: он не разбирался в вопросе, не расспрашивал еще брата (признаться, Михаил и слушал-то невнимательно), не взвешивал «за» и «против» и не помышлял о хорошем ремонте дома и возобновлении фамильной идиллии. Как-то само собой пришло понимание, что никакой идиллии уже положительно невозможно устроить; более того, младшему Геневскому ясно представилось, что ее не было и раньше. Что такое, в конце концов, идиллия? Сестра росла без родителей, хорошей опеки и достойного воспитания; после 1917-го, наверняка, без качественного образования, без благородных друзей, даже без систематического достатка — не любил Матвей заботиться о деньгах; денег, присылаемых Михаилом на сестру, конечно же, не хватало. Кем же она выросла? Михаилу отчего-то помнились ее глаза, но она сама запомнилась плохо. Вот и сидели два брата, не знающие, зачем Бог связал их родством. Сидели почти валетом — левое плечо к левому плечу; один глядит на север, в стену, другой на юг, в окно. Младший чувствовал себя неуютно и виновато — ясно понял, что и двух месяцев в деревне не проживет и куда-нибудь уедет. Куда — пока неизвестно. Но точно, точно надо будет ехать. Что же старший? Старший рассказывал. Февраль-март 1917-го. В те злополучные дни, рассказывал брат, его постоянно не бывало дома. Он не уточнил, чем занимался; было лишь вскользь упомянуто: часто ездил в Ростов и Новочеркасск. После одной из таких поездок Матвей вернулся домой, прошел по еще старому (иначе говоря, отличному или «фамильному») паркету, позвякивая шпорами, в свой старый кабинет, обклеенный еще зелеными обоями. Сестра, будучи уже прелестной семнадцатилетней барышней, сидела перед старым (стало быть, отличным) камином (ныне же камина, понятное дело, не было) в кабинете брата и тихо плакала. Было уже пятое или шестое марта, Матвей мучился тихо, а сестра просто плакала. Они не разговаривали о случившемся, не осуждали Государя за отречение, не обвиняли Родзянку, Алексеева или Шульгина за предательство и провокацию, не радовались новой свободной России, как таганрогская интеллигенция… Брат молча делал свои дела, сжимая порой кулаки до боли, сестра молча плакала. — В те дни, — упомянул Матвей, — я понял, что служба моя и работа не нужны. Но я оставался на посту, как и ты оставался на нем. — Где же ты служил? — Позже, позже… У камина, видя безмолвно плачущую сестру, Матвей обреченно похвалил Зубатова — тот сразу застрелился, узнав об отречении: ведь это не Государь от России отрекся, а Россия отреклась от него, захотела свободы монаршей милостью, захотела самоопределения, захотела отрезать себе слишком умную голову — «он в гору сам-десят тянет, а под гору миллионы тянут»… Они ничего не обсуждали, ничего не говорили, они молчали. Матвей, как оказывается, выписавший из Британии в еще 1915 году архангельским портом несколько ящиков скотча, налил этот странный напиток далеких шотландцев и сестре — та выпила глоточками, на мгновение сорвалась на рев, но почти сразу страдание ее, тайное и сокровенное, выхлестнулось наружу. Стало страдание громким. Из нее вырвалось все — и крик, и ненависть, и глубокая мука — Матвей удивился, почему же у этой провинциальной девочки, не очень разговорчивой, не очень, быть может, образованной (укор братьям), не очень… Брат сбился в этом моменте своего рассказа и захотел отвернуться еще дальше, но сидеть совсем затылком к Михаилу было бы уже фантасмагорично невежливо. Матвей удивился тогда, откуда у этой девочки такое понимание России. Что здесь, в плохонькой старенькой усадьбе, среди полу-украинской деревни заставляло ее верить в монархию. Брат глянул тогда, в марте, в окно, увидел свою худую землю, увидел крестьянина в коричневом тулупе, везущего на повозке дрова и все время чесавшего верхнюю губу. Крестьянин был стар, вокруг не было ни души; потому он, оглядевшись, снял шапку долой и поклонился на старый господский дом. А вскоре скрылся за деревьями. Неужели в этом поклоне была Россия? Была, была, когда-то и в нем была… Недаром и Вандея началась не абы где, а среди крестьян и сельской аристократии. Быть может, сама земля вопиет о монархе? Жандармы исчезли, полиция становилась милицией. Куда ни посмотри — комиссары, комиссары, комиссары. Военные комиссары, комиссары продовольственные, комиссары земские, губернские и уездные, комиссары Временного правительства стали вдруг всем — но на деле не были ничем. Все лето сидел старший брат Геневский в усадьбе и молча, расправляя усы, смотрел, как крестьяне забирают оставшуюся его землю. Земли он не жалел, он бы и картины и вазы отдал, если бы их не разодрали и не побили прямо на крыльце. Матвей с высокой головой, с руками даже не за спиной, а где-то за лопатками, в своей отставной форме смотрел на крестьян. Те к нему не подходили, но пытались грозиться, проходя мимо; грозы их не то чтобы ломались о стан Геневского, но улетучивались в воздухе, не долетая. Некоторые крестьяне видели его грозную, смотрящую прямо в небо фигуру и слова их оставались у них же в глотках; другие вовсе не видели в старшем Геневском угрозы и модной «классовой» вражды (честно скажем, помещиком в прямом смысле Геневский никогда не был). Кто-то иногда и шапку снимал. Жил так Матвей все лето, покупая все дорожающий хлеб на свое оставшееся жалование, жил, пока не настала пора Украинской Народной Республики. Тут вам, пожалуйста, так сказать, пожалуйте: погромы, восстания, поместья горят, господа офицеры качаются по веткам. Тут бы старшему Геневскому и растеряться, но сосед его — Василий Дмитриевич, старый бывалый офицер и дворянин приличного вида и состояния — на свои деньги организовал крестьянские дружины, на свои деньги их вооружил и поставил защищать окружные деревни. Предложил защиту (к слову, совершенно безвозмездную) и Матвею Геневскому. Ему эта идея — простая и изящная, даже остроумная — показалась отличной. Он милостиво принял помощь и в благодарность отправил почти весь оставшийся скотч — восемь ящиков, все равно английский самогон ему не очень полюбился. Эти крестьянские дружины отлично действовали все оставшееся лето и первые месяцы осени. Но потом в деревне началась страсть. Крестьяне поделились на три, а то и четыре группы: украинцы-самостийники, русские победнее, русские побогаче, русские-большевики, русские-дружинники и еще Бог его знает кто. Весть об октябрьском перевороте уже не заставила никого страдать. Матвей считал большевиков естественным продолжением временщиков и выть попусту не стал. Однако меры предохранения от дальнейших бедствий принял немедленно. Он не уточнял о своих мерах; лишь вскользь нечто было о решетках на окна, но сам же брат и сказал, что то была глупая идея. Своей глупостью и, видимо, великой своей ошибкой Матвей считал и оставление сестры. Летом и осенью старший брат замкнулся, ни с кем не говорил и никуда не выезжал, но, более того, не следил и за сестрой. Он знал, что она часто ездила в Таганрог, догадывался (а наверно и уверен был), что Варвара стала курить, стал замечать ухудшение в ее манерах и внешнем виде, но не мог справиться со своей отчужденностью и отстраненностью. Он заметил состояние сестры слишком поздно: в дни московских боев она заявилась домой с красным бантом на платье и распущенными волосами. Тут Матвей не стерпел — выбранил так, что та стала краснее своего банта. Наобещал, что в следующий раз выпорет ее, как провинившегося крепостного. Красных тряпок на грудь она больше не надевала, из дома выходила достойно, но красная язва в ней сохранилась. Матвей стал за ней следить, но митинги явно доставляли ей удовольствие — до января-месяца она сбегала еще несколько раз. Старший Геневский понимал суть проблемы. Сестра осталась одна, без таганрогских подруг, которые разъехались в Крым, Киев и казачьи области, без обоих братьев — один на фронте, другой — дурак. Потеря России, которую она так тонко почувствовала в марте, ничем не могла восполниться; родительского честного воспитания и стержня у нее не было, ни гимназия, ни братья, ни окружение такого стержня ей не дали: Варвара, дабы не мучиться, пошла туда, куда идут все, дабы радоваться хоть чему-то со всеми, дабы верить во что-то «правильное». Матвей знал, что сестра понимала фальшь большевизма, но шла туда, чтобы идти хоть куда-то, чтобы не быть одной. На этом моменте старший брат скорбно и даже тоскливо вздохнул и, уронив голову на грудь, закрыл глаза. Михаил понимал его состояние, хоть и желал отбранить, за то что бросил сестрицу. Говорить он ничего не стал, но сестру страстно захотел увидеть. Матвей продолжал, резко подняв голову; тему он переменил вовсе. Сказал, что его сильно расстроили казаки: атаман Каледин объявил фактическую независимость Дона и желал решительно противостоять большевикам — казаки, уставшие от войны, не хотели. Не хотели они и потому, что не знали большевиков. Чем они опасны? Чем они хуже временщиков? Чем они предатели? — Предатели ныне все, — тихо сказал Михаил. Матвей еще тише промолчал. Но не только казаки и горожане, принявшие социалистов, были на Дону и юге в ту пору. В ноябре — приехал Алексеев. В декабре — Корнилов. — Предатели… Я не могу на них равняться. Нельзя кичиться, бравировать одной революцией, а потом идти против другой, — сказал Михаил. Старший и на это решил промолчать. — Нет, не молчи, Матвей. Скажи, что ты думаешь об этих генералах? Матвей тяжело вздохнул, явно решил высказаться, но медлил. Взгляд его перестал бродить по стене, руки с колена он убрал и тяжело, грузно, исподлобья, скорее высушено, чем осуждающе, посмотрел брату в глаза: — Да, предатели. Да, да, да — сто раз предатели. И пусть их осудят. Только пусть они сначала вернут того, кто их осудит, — сказавши так, Матвей вновь отвернулся к стене и положил руки на колено. На этот раз молчал Михаил. Каледин, по глупости ли, по неверной стратегии ли, идейно ли, но решил сначала метаться, даже — не поддержать добровольцев. Казаки к ним относились странно, лучше и не уточнять. Метания Каледина и холодность казаков, опуская все, что можно опустить, кончились плохо — Каледин застрелился, власть на Дону — большевистская, а добровольцы ушли на Кубань. Полковник Кутепов, пытавшийся защитить Таганрог с офицерскими ротами и юнкерами, не смог противостоять троекратно превосходящим силам противника: большевиков — тьма, казаки — не помогают, в тылу — восставший Таганрог. Восставший против своих защитников на радость большевикам. Но Кутепова не разгромили. Он ушел к добровольцам и на Кубань. «Дружину» Василия Дмитриевича разгромили большевистские войска в январе-месяце. Еще раньше, в конце декабря, дотла выгорела усадьба Василия Дмитриевича; горела изнутри и фамильная усадьба Геневских: русские крестьяне-социалисты и крестьяне-самостийники, объединившись вдруг, вынесли из усадьбы все картины и вазы, действительно побили и порвали их у ближайшей дороги, а дом изнутри подпалили. Старший Геневский успел все быстро потушить — а потом, в две недели, чудом, посреди фактических военных действий и окружающей враждебности, смог дом привести в порядок и даже покрасить. Более всего в жизни своей старший Геневский не мог терпеть беспорядка и разрухи. Бывало, он оказывался ленив и бездеятелен, бывало — жесток, груб или безразличен, бывало, редко, что и празден. Но не мог Матвей жить в грязи и разрухе, нутро его болело, мышцы сводило в одервенение и перед сестрой становилось стыдно. Нельзя, нельзя было и помыслить о лени, грубости или о праздности, когда твой дом разрушен и сожжен — скорее, скорее покрасить, скорее отремонтировать, скорее вернуть ему хоть какой-то вид, купить мебель, купить новых книг, купить кровати для сна и столы для работы, купить кастрюли для готовки, купить новые двери с замками, купить, купить, купить… Купить всего нельзя, когда денег нет. Попросить нельзя тем паче — одна часть крестьянства озлоблена, другая — запугана; тот милый старик, снимавший шапку у фамильного дома, давно не появлялся — убит или уехал. Впрочем, куда ему ехать? Должно быть, был в дружине, должно быть, убит. — Неужели могут взять и убить? В конце концов, я такой власти не встречал. За что убивать? За поклон у усадьбы? Быть может, здесь сто лет назад часовня стояла, быть может, крестьянин балкончику и колоннам кланяется, а не помещичьей власти, быть может… — затараторил беспорядочно Михаил. — Убить могут, — прервал его Матвей. — Власть по-настоящему очень странная, всесильная — все могут себе позволить. Только жить человеку позволить не могут: чем больше у нас жизни, тем меньше у них власти. — На кого же надеяться? Так и жить будет невозможно. Я уже не говорю о хорошей, верной жизни. Я говорю… я говорю просто про жизнь. Как жить? — истинно и верно, что Михаил Геневский, даже видевший весь хаос фронта, даже видевший раненые башни Кремля, даже ощутивший на себе в дороге по России ненавистный взгляд с каждой вагонной полки — «ты вообще чудом проехал поездом, наивный мой брат» — в общем и целом, несмотря на все, что видел, младший Геневский не познал еще большевиков. Он мечтал о теплом, милом, казачьем юге, где его семья и родные ему места, куда не добиралась Великая война, где о большевиках еще не знают, где, верно, не было и слуху о них — придет этот слух ближе к лету, а сами большевики, захватившие теперь власть, уже не будут кричать и издеваться над страной, как обещали на митингах, но станут совершать нечто даже положительное. Резко удивившись своим райским мечтам, удивившись ровно так же, как во время ранений сильной боли, младший Геневский само собой, органически, решил, что уйдет он через два месяца не абы куда, но воевать. Как, вместе с кем, где — он не знал. Но почувствовал, что не воевать нельзя. Смутившись этой мысли, ощутив себя по-детски глупо-благородным, Михаил опустил голову и закрыл глаза. Более всего теперь хотелось снова на фронт. Снова, на самый настоящий фронт — без митингов, без солдатских комитетов, без приказа номер один… Мощный, цельный фронт с дисциплиной и верной тактикой, с достатком уже снарядов и высоким боевым духом чудо-богатырей. Пусть не Суворов, пусть даже не Щербачев или Брусилов, главное — фронт! Настоящий, боевой, где нет никаких большевиков, где нет жалкого дома, крашенного дешевой известью, вместо дорогих петербургских обоев; фронт, где нет крестьян — есть брат-солдат; фронт, где нет политики — есть приказ, приказ главнокомандующего — Николая Николаевича или Николая Александровича — тонкости даже можно опустить. Главное — фронт! Где все легко. В бой, так в бой. Ранен, так ранен. Умирать, так умирать — не зря жил. Но не эта… чушь, дрянь, балаган. Все тебе враги, а настоящие враги уже не люди, уже что-то внечеловеческое, страшное и богопротивное. Младший Геневский никогда никого не ненавидел. Ни евреев на частом на погромы юге страны, ни немцев во время войны, ни предателей-февралистов (от последних он лишь кривился). Он не ненавидел и большевиков, ведь и они — люди. Михаил ничего особенного от них не ждал, скорее даже ждал зла — но ненависти, ненависти не испытывал. Сейчас же, после рассказа брата, ненависть вдруг показалась ему настолько естественной реакцией на само существование большевиков, что ему тут же захотелось пристрелить каждого крестьянина, который, пройдя мимо фамильной усадьбы, не снимет шапки. Рука Михаила даже легла на кобуру, а взгляд вновь взвился вверх, сощурился и напрягся, как перед атакой. Смотрел Геневский в окно. Там пролетали колючие белые снежинки; дороги и желающих пройти, не снимая шапки, не было видно. Из сеней послышались шаги. Михаил бросил резкий взгляд на брата, глаза их встретились, но Матвей лишь помотал головой и кивнул в сторону шагов. Михаил прислушался. Шаги показались ему очень легкими, они то и дело останавливались и слышались с лестницы на второй этаж. Через мгновение в дверях кабинета показалась воздушная девичья фигурка в домашнем платье бежевого шелка. Русые и прямые ее волосы, ни во что не заплетенные, спадали на плечи; лицо ее, бело-гладкое, узкое, отчего-то еще не умытое, было заспано (второй час дня!), кулачки протирали ярко-голубые глаза; глаза эти смотрели с интересом, чуть не с любопытством. Ни один, ни другой Геневский не дали бы художественного описания ее носа, губ и прочих черт лица, но, вероятно, стреляться бы за них пошли, не будь Варвара им сестра. Свое восемнадцатилетие она встретила в позорном для России декабре, брат жалел, что у него не было ни денег, ни связей, чтобы отправить сестру далеко — во Францию или еще дальше — в САСШ. Лишь бы подальше от этой охватившей всю Россию профурсетки. — Как, брат здесь? — еще не веря увиденному, заспанная Варвара бросилась ему на шею. Младший Геневский был рад сестре. Точно так, как был рад брату — томительная волна радости прорвалась из некоего сундучка в сердце, устремилась по всему его телу, наполняя его чуть не парализующим теплом, расслабляя конечности. Но мигом вся эта волна вылилась из тела, пролилась на плохие доски пола и кончилась. Михаил стал аккуратно похлопывать сестру по плечу, чтобы она его отпустила: — Дай я на тебя посмотрю, Варвара. Четыре года прошло! А ты выросла… — Михаил не нашел слов, чтобы закончить. Потому он всеми силами старался выразить, будто запнулся от умиления или радости. Отчего же он запнулся на самом деле, Михаил бы не сказал ни за что не свете. Он не знал. От неудобного молчания и минут замешательства нашлось спасение. Младший Геневский учуял резкий запах табака, которым пропахла одежда и волосы Варвары. — А это что? Ты куришь, милая сестрица? — Михаил недоверчиво-укоризненно посмотрел на сестру, сморщил нос и недовольно потер пальцами друг об друга. — Да, я курю, — почти без стеснения произнесла Варвара и села на предложенный Михаилом стул. — Здравствуй, Матвей, — обратилась она к брату каким-то слишком манерным и высокомерным тоном, будто тот был лакей или дальний ненужный родственник, которого приходится часто видеть. — Здравствуй, Варвара, — ответил Матвей снисходительным привычным тоном и даже повернулся к брату и сестре всем телом, сложив руки на зеленое сукно стола. — Где она понабралась такому? — спросил Михаил, имея в виду как бы всю сестру. — Митинги… — Матвей бросил слово в воздух, словно оно ничего не значило. При этом он потер лоб, пряча глаза в ладонь. — Да, митинги. — Якобы без тени сомнения, но с детской пустой прямолинейностью произнесла Варвара и задрала чуть-чуть голову. — Там много полезного говорят и даже учат. Гораздо полезнее бывать там, чем в этой противной гимназии. — В какую она ходила, брат? — В Мариинскую гимназию. Там теперь железнодорожное училище. Конечно, только на бумаге. — Профурсетка, а не власть… — бросил младший Геневский себе под нос. — Был бы жив отец, отодрал бы тебя за митинги, дорогая сестрица. Варвара только фыркнула, но голову опустила. Вероятно, мнение брата, коего она не видела четыре года, было для нее хоть каким-то авторитетом сильнее митинга. — Пойди, умойся. Неприлично барышне со сна вставать сразу к столу, — сказал Михаил, правильно угадав настроение сестры. Сестра снова фыркнула, на этот раз скорее задорно, встала и пошла из кабинета, однако, остановилась в дверях и сказала: — Не надо мне так напрямую указывать, что делать. Женщины равнымужчинам! — Тогда сделай свое личико равно мытым, как и наши, — парировал Михаил, улыбнувшись от забавного вида сестры. В то же время он глубоко и сильно был разбит ее настоящим поведением и образом мысли. — Зачем же ты ее на митинги отпускал? — спросил младший Геневский тихо, скорбно, не надеясь ничего услышать. — Летом я еще был здесь, в усадьбе. Но осенью, особенно с ноября, меня не было здесь неделями. — Где же ты был, наконец? — Михаил вдруг завелся. Упрямая скрытность брата начала раздражать его. — Отвечай, я прошу тебя, отвечай скорее! Старший Геневский закрыл глаза, но сразу же встал, как на плацу, резким движением оправил свою шинель, неуклюжим движением поправил мятую студенческую фуражку и произнес полуофициально: — До 1911 года я Петербургского Охранного отделения ротмистр, некогда начальник отдела внутреннего наблюдения. С 1911 года переведен на Дон в качестве агента контрразведки, с 1914 года занимался противодействием немецким агентам в Донском Войсковом Круге и, частично, в Молочанском округе. С декабря пытаюсь организовать вербовочный центр Добровольческой армии в Таганроге. Результаты есть, хотя и не слишком большие. — Матвей сел. — Достаточно? — Достаточно, — медленно проговорил Михаил, с любопытством глядя на брата. — Извини. — Извинения принимаются, господин штабс-капитан, — сказал Матвей тоже полуофициально, но мигом улыбнулся. — Что ж. Сестра, где ты? Возвращайся скорее, будем праздновать приезд брата! В нашей жизни теперь мало праздника, — последнее он сказал как бы в пустоту, тихо, но брат его услышал. *** Вечером Михаил Геневский вышел на крыльцо и закурил папиросу, долго размахивая потухшей спичкой. Курил он очень редко, но любил затянуться в такие моменты, — а момент показался Геневскому достаточно приятным. В голове еще стучал странный британский напиток, папиросный табак расслаблял тело, в мыслях витали приятные и по-настоящему семейные нежности, которые все трое, вероятно, могли проявлять только наедине друг с другом, так, чтобы ни единый чужой глаз их не увидел, и ни единое чужое ухо не услышало того, что было сказано и рассказано в тот день и в тот вечер. Сидели долго, сидели хорошо. Сестру, выпившую прилично, в объеме не менее винной бутылки, положили спать. Старший, от алкоголя совсем размолчавшийся и не желающий ни слова произносить, сидел у себя в кабинете и пытался думать или читать. Младший Геневский оставил его, и так был доволен. Михаил вновь почувствовал, что он дома; вспомнил дружбу их маленькой семьи, вспомнил, зачем на самом деле приезжал каждые две недели из полка и зачем писал каждый месяц регулярное письмо. Вот зачем — семья, семья, она здесь. Они его любят, пусть старший слишком хмур, а младшая слишком… ветреная. Михаил не верил в ее большевизм и считал все это юношеским минутным увлечением. Однако боялся за нее, ведь на митингах не только слова говорят, но могут и… могут и навредить физически. Особенно, если знать, чем занимается брат. Мысли и образы беспорядочно бродили в голове Геневского: далекий вожделенный Берлин, во взятие которого верили год назад, сменялся далекой вожделенной Москвой, которую взять, освободить нужно было непременно. Михаил дошел до этой мысли ровно так, как доходил до всего в своей жизни: не думая, не размышляя, не разбирая аргументы; не рационально — он дошел до взятия Москвы своим духом. Как можно не брать, не освобождать Москвы, когда в ее святых стенах сидят черные черти и гадят, гадят ей — Москве — и всей России? Всему русскому народу, народу великому и кипучему. Пусть и не всегда умно кипит, но все равно… Добровольцы… Геневский не верил в них раньше, не очень верил он в них и теперь. Горстка офицеров, ведомая предателями Государя и февралистами — Корнилов, Алексеев, кадеты, эсеры, Родзянко, Савинков, Струве, Романовский… Нельзя, просто нельзя было бы жить на свете, если единственной надеждой на спасение был бы Родзянко или Савинков. Но пусть. Что, в конце концов, лучше? Савинков или Ленин? Геневский надеялся, что Савинков, будь он трижды проклят и четырежды пойман и повешен, никогда бы не стал убивать крестьянина, снявшего шапку у старинного поместья. А Ленин убил. Ведь Ленин, наверно, и не задумывался, что это за крестьянин и зачем он снял шапку. Да может у того голова зачесалась! Ну что это за мир, где нельзя снять шапки, картуза, фуражки, шляпы, где тебе захочется! Все зло большевиков оттого и зло, что они запрещают снимать шляпы и шапки, где захочет человек. Где бы ему его упрямая, напыщенная, гордая, свободная, человечья натура не приказала. Но если шапки снять нельзя — то все, это конец. Это маленький запрет, с которого начинается запрет бескрайний. Сначала — нельзя снять шапки. Затем — нечего и снимать, негде шапку купить, или даже нельзя ее носить. В конце концов — нет и головы, не с чего снимать. И если России больше уже нельзя иметь Государя Императора, если Бог на Россию так прогневался, что напрямую указывает: берите Савинкова, лучше не дам, — то пусть. Пусть! Пусть Савинков! Лишь бы не убивали проклятых крестьян, и лишь бы сами крестьяне никого не убивали. Лишь бы все сидели спокойно, спокойно служили и обрабатывали землю, спокойно шли по улице, не глядели на теории и прокламации, не слушали митингов и не стреляли ни в кого, лишь бы все сидели рядом и ели общий хлеб в одной дружной, счастливой, христианской России. В конце концов, даже Савинков наверное христианин. Этого достаточно, чтобы быть честным человеком. Папироса кончилась; пьяная голова Михаила, выдавшая абсурдное рассуждение о шляпах и свободе, клонилась к деревянным ступенькам крыльца и хотела на этом крыльце сейчас заснуть. Геневский резко поднял голову и разбудил ее. Подняв голову, он все заметил. Снег. Снег падал с неба круглыми медленными и рваными кусками и засыпал дорогу к дому. В окружающей темноте и тишине виделись тонкие струйки дыма крестьянских домов; от каждой струйки раздавался собачий лай, тихий и ленивый, скорее по привычке, чем по необходимости. Остальная деревня молчала. Небо, небо — абсолютно и безальтернативно черное, и в этом черном небе колючий снег… Этот довольный «фамильный» табачно-пьяный вечер, этот крупный и безмолвный снег в черном небе, эта собачья тишина… Что-то происходило в России такое, отчего и тишина и чернота только росли. Безразличный Геневский словно опомнился и все понял. Потушив еще тлеющую папиросу о снег, Михаил шепотом, сбивчиво, своими словами, помолился за ушедших на Кубань добровольцев. Он всегда укорял себя, когда молился подшофе, а тем более просто пьяным, но сейчас было необходимо — с укором себе и просьбой о прощении Геневский закончил. Поняв, что черное колючее небо ему больше не страшно, Михаил глубоко втянул в себя холодный ночной воздух, вновь оглядел широкую деревню и вернулся в дом. *** Через несколько минут после того, как дверь захлопнулась, огонь в окнах погас, а Михаил улегся на старенькой кровати под своей шинелью — сгорело все постельное белье, а денег на новое не доставало — колючий рваный снег закончился. В безгранично огромном черном небе, несравнимом ни с чем, в бездонном космосе, нависающим над нашими головами, загорелась яркая белая звезда. Она одна, маленькая, простодушно, по-детски, упорная, горела ярким белым пламенем среди вязкого смолянисто-нефтяного страшного моря. Горела звезда упорно и смотрела на окружающий мрак принимающе — мрак есть мрак, звезда здесь для того, чтобы мрак развеять. Звезда горела на юге от Таганрога, над кубанскими степями, над холодными снегами и трудной дорогой, горела костерком, вокруг которого спали озябшие и уставшие офицеры и юнкера. Наверное, одному из них не спалось, и он встал, чтобы испить холодной воды из металлической фляги в холодную ночь. У него потом заболит горло, поднимется температура, и будет озноб. Но он продолжит идти туда, куда должно — он отвечает за миллионы русских людей, живших, живущих и еще не рожденных. Если бы не его больное упорное горло в страшный мороз, если бы не его колотящий озноб в двенадцатичасовом походе — куда бы мы прятали глаза от стыда? А так еще можно жить, зная об этом офицере… Он был! Ныне горло его еще здоро́во, тело его не горело и не трясло. Глаза его, нет, совсем не полны болезненной славы, надежды, отчаяния или желания умереть за Россию и ее свободу, вовсе нет, — глаза его полны смертельной усталости и раздражения от бессонницы. Думал бы он о России и геройстве каждую минуту, выдохся бы и никуда не пошел. А так — звезда горит и все понимает. Эта звезда знает себя и себе не врет. Она не горда и не тщеславна, она даже не слишком довольна собой, да и в целом не может быть довольна ничем. Но без этой звезды ни один житель России не мог бы гордиться собой и своим народом. Не мог бы без стыда знать себя и свою историю. Ибо имя этой звезде — честь русского человека.
Глава вторая. Из Румынии походом
Пока царствуют комиссары, — нет и не может быть России. М. Г. Дроздовский
Холодно смотрел Матвей Геневский на белую стену холодной комнаты, которая когда-то служила ему кабинетом. На той белой стене еще под Рождество был отличный камин, небольшой, уложенный белой плиткой; на полке камина стояли два Александра: Александр Васильевич2 и Александр Христофорович3, а на дымоходе висело зеркало. Более для красоты, потому как старший Геневский никогда не любил на себя смотреть. Не сказать бы, что был он урод: глаза его, карие и выразительные, с напряженными нижними веками, глядели прямо, стойко и оценивающе; губы — пухлые, но всегда плотно стиснутые — улыбались только по праздникам и при службе; лицо, в целом, правильное, чуть широкое, с выделяющимися скулами, отдающее аристократической бледностью, могло бы казаться даже очень симпатичным, если бы не холодная усмешка, как бы впитавшаяся в него. Нельзя было разобрать, откуда именно истекает эта усмешка: ни губы, ни глаза ничего подобного не выражали, однако, общий портрет ротмистра Геневского искрился холодом, как лед на солнце, недоверчивостью и иронией; сложно было долго смотреть в это лицо. Сложно было смотреть на себя и самому Геневскому, он себе даже откровенно не нравился, но считал, что внешность дело пустяковое — нужно дело делать, а не следить за чертами лица — чай, не барышня. Усов Геневский не носил, а бороды вовсе терпеть не мог, однако тусклая линия волос всегда была под его носом — вырастала она отчего-то моментально; побрейся с утра — к вечеру нарастет. Волосы свои, прямые, светло-коричневого оттенка, Матвей стриг коротко, но те сильно выросли за зимние месяцы сидения в деревне (сам себе волосы Матвей никогда не стриг). О зеркале, однако, офицер жалел. Жалел по простой формулировке: с зеркалом лучше, чем без него. Также и про остальное: с камином лучше, чем без него; с зелеными обоями лучше, чем без них; с большим дубовым столом лучше, чем без него… Была у Матвея такая черта: он хорошо разбирался в настоящей ситуации, хорошо помнил и понимал прошлое, но будущего совершенно не видел. Само собой казалось ему, что зеленые обои имеют право существовать только в прошлом, а в будущем их появление на этих стенах даже странно. Особенно дорог был камин. Геневский страстно любил сидеть в двадцатиградусный мороз у трескучих бревнышек и перебирать документы. Зимой 1917-го он это делал. Зимой 1918-го не было ни камина, ни документов. Когда народ громил усадьбу, некоторые удальцы топорами разломали весь дымоход чуть не до потолка, так что всю стену пришлось наглухо заложить кирпичом и закрасить так, словно стена была вечно плоской. Сейчас Геневский сидел за маленьким нелепым столиком и смотрел на семиаршинное белое полотнище. Сидел с прямой спиной, закинув ногу на ногу, но смотрел в стену несколько, признаться, даже тупо, если не знать его мыслей о камине. Тем не менее, могло показаться, что ни стены перед собой, ни камина в мыслях он не видит; могло показаться, что он вовсе никуда не смотрит, а лишь застыл в бесчувствии. Старшего брата одолевало неприятное чувство. Чувство это не было связано ни с разрухой дома, ни с бедностью, в которой он оказался, и точно не в страхе за свою жизнь — более он боялся за жизни добровольцев или сестры. Чувство это, так не свойственное Матвею Геневскому, вызывалось тем, что ему просто нечего было делать — в Таганроге хозяйничали большевики, и даже подпольные офицеры жили тяжело, не говоря об ином организованном вербовочного центре. Землю национализировали, торговлю запрещали, церкви закрывали. О расстрелах гражданского населения он не хотел и думать. Также, было очевидно, что до их усадьбы скоро могли добраться во второй раз — и уже не просто озлобленные крестьяне (с них спрос небольшой, они действуют инстинктивно; сегодня грабят, завтра застенчиво на рынке глаза отводят), но серьезно настроенные большевики. Большевиков Геневский видел, большевиков Геневский даже убивал; убивать их дальше Матвею хотелось очень, а вот видеть — нисколько. Ротмистр, право, помышлял фиктивно устроиться к красным в контору и там тайно принимать офицеров, но быстро разочаровался в таком плане: сам чуял, что его раскроют, да и служить большевикам, даже фиктивно, почитал за грязь. Итак, Геневский не хотел признаться себе, но должно смело встречать любые препятствия: чувство, так не любившееся Матвею, называлось ностальгией, или даже ярче — тоской по прошлому. Геневский давно, с первых дней февральской революции внутренне опал и съежился. Завелась в его голове несносная мысль, обреченная мысль, что, якобы, не будет уже России, — а все советы, партии, республики, парламенты… Мысль скверная и, как казалось, глупая и неверная; тем не менее, мысль эта покоя не давала. От нее думалось Матвею, что и жизнь вся — позади, что в свои тридцать два года он сделал все возможное, все полезное, а теперь только и остается, что сидеть в дрянной комнатке и глядеть на проклятую известковую стену. Якобы ротмистр стал бесполезен в новом мире, а все настоящее и осязаемое — закончилось. Он, как уже было сказано, не мог видеть будущего, а тут будущее вовсе пропало. Ранее было легко: он знал свое дело, знал, ради чего он служит и живет, сейчас же — нет. Он не знал, чего ждать, на что ориентироваться и, признаться, не мог точно сказать, как защитить сестру и брата. Конечно, Матвей сделал все необходимое, чтобы большевики как можно дольше не замечали их поместья, но даже так, красных надо было ждать к лету. Матвей уже жалел, что не ушел на Кубань с добровольцами, от них совсем не было вестей уже который месяц. Ротмистр надеялся организовать мощную вербовочную ячейку, но из-за буйства красных в Таганроге этого никак нельзя было сделать; если же устраивать вербовочный центр прямо в поместье, большевики раскроют его — и сестру! — гораздо раньше лета. Против похода с Добровольческой армией имелась и такая причина: сестру оставить было не с кем… но ее можно было взять с собой! Все лучше с Корниловым, чем с советами. — Глупость, — сказал себе твердо Матвей и отвернулся прочь от стены с камином. Погода была совсем не каминная. Снега за окном уже не было, а температура вовсе подскочила под пятнадцать градусов по Реомюру; палило солнце — ни единого облака. Сада под окном, разумеется, давно не было. Оставалось любоваться на распускающиеся кустики, довольно кривенькие и неказистые; лес поблизости тоже стал зелен, но туда братья зачастую поостерегались ходить — убить в лесу офицера теперь мог любой, и не поймешь, кто враг. Михаил, впрочем, ходил. Он спорол с шинели свои погоны, снял с фуражки кокарду, спрятал неизвестно куда портупею с саблей и подсумками, а револьвер таскал без кобуры, за поясом. Выглядел он при этом наивно — любой поймет, что это офицер, но Михаил был делом доволен и бродил по лесу и деревне с очень довольной, но все же очень нелепой улыбкой, словно считал себя похожим на большевика. Матвей было корил брата, но куда там. Сестра же несколько поуспокоилась и перестала сбегать на митинги. Михаил мягкими увещеваниями и братскими наставлениями дал ей понять, что в Таганроге, как минимум, положение опасное; потом же, барышне в ее возрасте следует учиться, а не верить тому, что говорят на площадях — впрочем, о женской эмансипации говорили и красные, так почему бы не послушать их совета? Варвара послушала и взялась за уцелевшие книги. В конце концов, регулярной иронией и шуточными замечаниями Михаил стал разрушать у Варвары светлый и торжественный образ большевизма — к началу апреля она сама начала шутить над революцией, но так, что и не поймешь, шутит она или серьезна. Матвей признавал это прогрессом, пусть и считал методы брата необычными. Михаил же никак не считал. Он просто делал дело. Матвей тем временем уже стоял у окна и, опираясь ладонями о низкий и узкий подоконник, смотрел на деревню. Сотни и тысячи раз он смотрел на нее, сотни и тысячи раз она казалась ему одной и той же. Множество небольших изб стояли там, за окном; от многих уже давно курился дым (был девятый час утра). Там жили крестьяне, великороссийский и малороссийский народ, красные, желтые, синие рубашки… Синие рубашки, подпалившие усадьбу Геневских. Странное чувство наплыло на Матвея, он даже от него поморщился: пусть усадьба вовсе сгорит в сильнейшем пожаре, лишь бы этот дымок из крестьянских труб исторгался вечно. Не был Матвей сентиментален и даже любовь почитал за чувство вредное и пошлое, если говорить о нем открыто и громко: любовь требует тишины, покоя и уединения. Крестьян он любил. Но более ничего думать не желал — даже своя родная голова стала для него за месяцы затворничества слишком громкой. Офицер распахнул окно. Ветер стал теребить его волосы, лучи слепили глаза, петушиные и собачьи возгласы раздражали ухо. Но сам он, признавшись себе, что крестьяне ему милы, был доволен. «Пусть жгут, мерзавцы, — думал Матвей, — пусть жгут. Но, право, зачем бить бюст Александра Николаевича, не он ли дал им свободу?..» В дверь постучали. Значит, не брат и не сестра. Геневский хмыкнул, не отрываясь до поры от окна, и медленно развернулся. Осмотрел свою мятую лиловую рубаху, купленную в Таганроге еще осенью, с мятежным чувством вспомнил о своем темно-синем жандармском мундире и озлобился. Решительно, в два шага, подошел к двери и отворил. — Поручик Михальченков прибыл с донесением, — он стоял за дверью, вытянувшись во фронт и прислонив правую ладонь к крестьянскому картузу; говорил полушепотом. Лицо Михальченкова было простое и чистое, лишенное усов и бороды начисто, голубые глаза глядели ответственно, на них круто накатывались две черные поблескивающие брови, отчего выражение лица поручика казалось суровым. Роста он был высокого, в плечах широк, телом крепок; тело это облачалось в чисто крестьянский костюм; зипун его, грязно-коричневого оттенка, был порван в двух местах. — Здравствуйте, поручик, — Геневский поспешил надеть фуражку, приложился к ней и оглядел Михальченкова. Тот жил в Таганроге, и ему полагалось так ходить для конспирации. — Новости? — Новости, господин ротмистр. В Таганрог идут немцы, — сказал поручик, не изменившись в лице. — Как вы сказали? Немцы? — Геневский задумчиво уронил взгляд в пол, склонился и несколько отвернулся, взялся рукой за подбородок. — Интересно. Сейчас шестнадцатое. Когда они будут? — Дня два и займут город. Большевички заволновались. Уйдут. — Точно уйдут? — Точно так, господин ротмистр. Уйдут, — повторил Михальченков. Разумеется, Геневские знали о позоре Брест-Литовска, нельзя было лишь достать точных сведений о том, сколько земель большевики отдали. Явный и понятный факт — немцы займут Таганрог — давал понять: вся Украина, а там, быть может, и Дон с Кубанью отошли немцам. Факт этот пугал, но и давал надежду: если немцы одолеют Антанту — России точно конец; но если немец будет повержен, то временная оккупация пойдет лишь на пользу — жизнь на оккупированных территориях будет вестись обыденная, если не обращать внимания на вильгельмовских паразитов. — Немцы сейчас, чтоб их, шельм, черт располосовал, нам нужны. Если я через два дня войду в город в полной форме, а мне усатый коричневый таракан честь отдаст — значит, можно формировать новый вербовочный центр. Идите, господин поручик, благодарю. — Еще кое-что, господин ротмистр, — поручик с места не сошел, — пришли сведения о русской армии, приближающейся к Таганрогу. Идут вслед немцам. — Какая еще русская армия, поручик? — Матвей Геневский от таких слов сразу смутился, ему представилось, что к Таганрогу подходят какие-то действительно русские войска под командованием Императора, он этого захотел страшно, но, конечно, понял, что того быть не может. — Все русские части, отпущенные с фронта, либо теперь никто, либо под большевиками. — Не могу согласиться, господин ротмистр. Эти войска, как сообщают, идут под Андреевским флагом и освобождают деревни. — От кого освобождают, поручик? — откровенно глупо спросил Геневский, ничего не понимая. — От большевиков, господин ротмистр. Я полагаю, это добровольцы с Румынского фронта, — отвечал поручик. — Что ж вы сразу не сказали… — Геневский сразу догадался, о ком речь. — Полагаю, они идут на соединение с Корниловым. Следует встретить их и по возможности снабдить, чем можно. Мигом в Таганрог, господин поручик! Подготовьтесь, насколько возможно в настоящих условиях. Как только большевики уйдут, необходимо успеть взять арсеналы и склады до немцев и спрятать оружие и медикаменты. Идите! — Слушаю, господин ротмистр! — Михальченков вновь приложился к козырьку, круто развернулся на каблуке и быстро вышел из дому. Матвей был в крайнем возбуждении и радости. Он снова знал, что ему делать, и казалось ему невероятным и даже подтасованным то, что он ныне услышал: и немцы, и новые добровольцы! Невероятным показалась перспектива вновь расхаживать по Таганрогу в серебряных жандармских погонах с красным кантом, невозможным показалась радость снабдить русский (русский!) отряд винтовками. Пора было готовиться. Отперев дверь напротив, ведущую в его спальню, не глядя на чистую бедность маленькой комнаты, Матвей кинулся к сундуку и, отперев и его, стал вынимать из него свою форму. *** Михаил Геневский в то утром был отнюдь не дома. Еще в шесть часов он вышел из фамильной усадьбы и, насвистывая «Взвейтесь, соколы, орлами», направился гулять по округе. Гулять Михаил пристрастился один. Брат его выходить без дела из дому не любил; сестре Варваре лучше было преодостерчься от далеких прогулок, покуда в Таганроге Совдеп; два скрывающихся офицера, с которыми Михаил случайно познакомился во время прогулок, быстро ему надоели. Говорили эти офицеры сплошь о политике и страстно старались завлечь в разговор младшего Геневского. Но Михаил, вежливый, любопытный и человеколюбивый, был, к сожалению, совершенно неразговорчив. Не по причине застенчивости или косноязычия, но по причине характера; Михаил был положителен и приятен, но любил молчать, а Матвей был холоден и сумрачен, но говорить любил. Два офицера, с которыми Михаил изредка погуливал по берегам лимана, говорили о политике праздно и злобно, большевиков ненавидели, но сделать ничего в одиночку не решались. О Добровольческой армии знали мало, один так вообще узнал об оной только от Геневского. Политика надоела Михаилу еще дома, поскольку Матвей ни о чем, кроме политики и истории говорить не мог. Природу он если и признавал, то только чувствовал, рассуждать о ней не мог и сразу терялся; о бытовых делах разговора не выносил — хотя и мог их делать весьма прилично, но разговора о «ложках-вилках», как он выражался, не терпел; о книгах и искусстве мог сказать лишь «понравилось» и «не понравилось», а более — ничего. Сестре, особенно любившей театр и стихи, видимо, приходилось туго жить вдвоем с братом несколько месяцев, не выезжая в гимназию. Но как-то Варвара призналась, что ей очень нравится с братом молчать, даже в первые дни ноября, когда они были в ссоре (так сказала сестра), она могла спокойно прийти в его кабинет и просто сесть напротив. Ни Матвей, ни Варвара никакого неудобства не испытывали, напротив, им была очень приятна такая безмолвная компания: вечерами после этого они особенно ласково желали друг другу спокойной ночи. Пока старший брат сидел в своем поместье и гипнотизировал белую стену, младший стоял в тени яблони и смотрел через Миусский лиман на Таганрогский полуостров. Вероятно, полуостров назывался как-то иначе, однако, Михаил правильное название забыл, быть может, забыл он вообще, что правильное название есть. Он сел рядом с маленьким, уже распустившимся кустиком и устремил взгляд куда-то вперед, не на лиман, не на землю за ним, не на всходящее к выси солнце, — а просто вперед. Берег здесь был крутым, засмотришься — шею свернешь. Кругом и всюду земля шла пузырями, холмиками и бугорками, Михаил с содроганием понял, что вздувшаяся земля похожа на волдыри ожога. Все эти волдыри уже поросли скорой для юга зеленой травой — в местах севернее о траве еще три недели помыслить нельзя было. А на фронте трава редко была зеленой. Михаил любил траву, густую и дикую. Даже лес казался ему менее чудным, чем эти заросшие холмики; именно в дикости и густоте была огромная сила, сила, не подчиняющаяся ничему, а просто расползающаяся повсюду. Михаил даже ужаснулся бы, если б на месте этого холмистого склона оказался аккуратный пляж или, того хуже, порт или дорога. Но один объект цивилизации колол глаз Михаила. Он встал, не боясь разбиться, скатился с крутого склона, испачкав штаны в желтой земле, и подошел к этому объекту. Старая лодка, крашенная синим, валялась на берегу. Дно ее было пробито, так что неизвестно, добрались ли люди до земли, или же лодка оказалась вынесенной на берег. Глубина у лимана совсем маленькая — в три геневских роста, а ширина самая большая — три версты. Но мало ли, вдруг человек плавать не умел… У самого берега приятно пахло сырой водой. Пахло и стоячей, но вода была чистая, без грязи и водорослей. Солнце, скрываемое наполовину за тучами, нещадно било по этой воде, а вода, будто бы злясь за то на Геневского, била по его глазам слепящими бликами. Михаил сел на землю и достал портсигар. Долго раздумывал, стоит ли закурить, а потом убрал его обратно в карман. Курить не хотелось. Сидел он так около часа, казался задумчивым и как бы грустным: штаны его грязные и не очень чистая голова — дров на баню не хватало — не делали ему чести, но даже так вид он имел картинный. Глаза Михаила, яркие и голубые, всегда смотрели прямо или чуть вверх, с живым интересом. Посажены они были чересчур близко, но это быстро терялось из виду — младший Геневский обладал способностью быстро если не влюблять в себя, то, как минимум, располагать, так что на недостатки внешности не обращали никакого внимания. Лицо овальной формы совсем без скул, еще белее, чем у брата. Нос греческий, но прямой, без горбинки, и меньше обычных греческих. Узкие губы постоянно улыбались, но улыбка была отстраненной, да и вообще постоянной на лице Геневского. Штабс-капитан ничему конкретно не улыбался, а просто носил скошенные уголки губ, как орден. Телом и ростом Михаил был не богатырь и брату уступал, но был крепок и жилист, четыре года войны и не менее десяти различных ранений тела его не обломали. Главным, конечно, выразителем внешности были глаза — положительно нельзя было не проникнуться наивно-скромным взглядом. Засматривающиеся юные девицы, однако, не знали, что точно с таким взглядом, именно наивным и именно скромным, Михаил Геневский резал и стрелял немцев всю войну. Солдаты считали Геневского скучающим, а скучать в жару битвы — это удаль. Некоторые же офицеры сходили от этого взгляда с ума, или почитали за сумасшедшего самого Михаила. — Как атака прошла? — иной раз спрашивают у него. А Геневский начинает отвечать и перечислять, сколько людей в окопе саблей зарублено, сколько подбородков револьвером разбито и сколько черепов из нагана в белую крошку расстреляно — глаза наивны, улыбка кроткая. Отсидевшись на берегу и обдумав неизвестно что, Геневский проголодался и даже почуял, что замерз. Все же вышел он в одной гимнастерке, да еще рукава закатал. Становилось тошно, он переставал чувствовать себя защищенным самой погодою. Михаил направился домой и добрался довольно скоро. Крестьян в пути было мало, а кто попадался — старался скрыться во дворах, или обойти офицера другой дорогой. Геневский, как водится, отношения к себе не замечал, а если и видел быстро прячущихся в воротах людей, думал, что у тех хлеб в печи подгорает. На расстоянии в полторы версты от усадьбы Геневский, ничего такого не ожидая, вдруг увидел человека, который, озираясь, выскользнул из дверей и устремился за дом, а потом и в лес. Михаил сначала нерешительно ускорил шаг, но потом сразу побежал и уже очень скоро был дома. Неприятного предчувствия у него не было, но бежал он, не раздумывая. Влетев в кабинет брата, он застал такую картину. У белой стены стояло большое зеркало, очевидно, только распакованное, вокруг него крутился, словно столичная кокетка, довольный Матвей и поправлял мундир: где бы какой пылинки, волоса или грязи не было; где бы какой некрасивой складки не нашлось. Был он в полном штаб-офицерском служебном мундире, в синем двубортном кителе с красным кантом и торжественным серебряным аксельбантом у правого плеча; у левого бока висел прямой палаш с георгиевским темляком и сумка-лядунка, у правого — кобура с любимым матвеевским «Смитом и Вессоном». От кобуры, пересекая серебряный пояс, тянулся к шее серебряный же шнур, долженствующий поддерживать револьвер. Темно-синие, с красным кантом, бриджи были заправлены в те самые кавалерийские сапоги, что стояли за ширмой, только вот сапоги эти уже были чисты и блестели. — Здравствуй, Михаил, — первый сказал Матвей, пока младший брат еще рассматривал великолепие полной старой формы. — Был мой офицер. Немцы придут послезавтра. Готовлюсь. — Встречать немца готовишься? — случайно будто выпалил ошеломленный Михаил. — Нет. До немца мне дела нет. Но с ними придет русская добровольческая бригада из Румынии. Должно приготовить для них снаряжение и отдать так, чтобы немец не стал возмущаться. Михаил молчал, не зная поначалу, что и ответить. — Ты расстроен? — спросил Матвей и, пройдя мимо брата, взял со стола орден Святой Анны. Стал надевать на ворот. — Нет, стой, я рад! Но я должен узнать все напрямую! — Михаил выбежал из кабинета, а потом промчался мимо окна вслед за поручиком Михальченковым. — Надо же, каков… Впрочем, ладно. Брат моих осведомителей не испортит, — говаривал себе под нос старший Геневский, пока надевал орден Святой Анны, а кроме того: медаль «За усердие» с императорским профилем, орден Святого Станислава и орден Святого Владимира. Прицепляя значок Донского кадетского корпуса, Матвей с умилением вспомнил свои смешные лазуревые погоны, а вот значок Николаевского военного училища ничего в душе Матвея не пробудил. Сверкающий, как митрополит под Рождество, Матвей себе нравился. На лицо свое он ни разу не посмотрел, но на том лице и не было ничего, кроме разумеющегося в такой миг торжества. Вернулся Михаил. — Догнал? — Догнал. Чудо, что творится, брат, — Михаил сел за зеленый столик. Поручика он догнал в лесу, но Михальченков знал, кто такой Михаил Геневский и решил, что ему знать два простых факта не возбраняется. — Только — никому, — сказал Матвей. — Конечно! — Михаил от волнения достал портсигар и уже зажег спичку, совершенно забывшись — брат папиросного дыма не выносил, к тому же белые стены от дыма чернели. Сестру Матвей не ругал открыто, поскольку ни разу не видел ее курящей. — Кури, не медли, — Матвей сел рядом и торжественно замолчал, словно подбирая слова. Михаил закурил. — Я наконец-то нужен, брат! Михаил слушал не менее торжественно. — Ну что брат, а, — Матвей будто воспринял молчание брата, как несогласие. Он нервно почесал нижнее веко правого глаза, отчего глаз стал дергаться. — Вернулось наше время. Мы снова нужны. *** Михаил Геневский, пришивший погоны на гимнастерку, и Варвара приехали в Таганрог много позже их брата. Матвей сорвался еще вечером семнадцатого, покуда выстрелы уходящих красных звучали в темнеющем воздухе. За Матвеем приехал не один поручик, за ним приехал сразу с десяток довольных офицеров в золотых, серебряных, зеленых и красных погонах. Ни одного из них младший Геневский никогда не видел, а вот Варвара явно узнала некоторых — она даже хотела радоваться за старшего брата, но самолюбие не давало ей взорваться счастьем. Впрочем, Матвей видел состояние сестры. Михаилу показалось, что эти двое особенно кивнули друг другу, согласившись на такую понятную только им игру. Днем восемнадцатого город уже был полон ликования. Таганрог, расстрелявший Ренненкампфа, Таганрог, выгонявший институток так же яростно, как полковника Кутепова, Таганрог, запретивший свободу торговли и печати, отобравший собственность у крупных промышленников и спешивший закрыть храмы, этот Таганрог вышел из красной горячки и остыл. Побелел лицом. Старенькие врачи с моноклями и молодые учителя в стильных костюмах, инженеры с кожаными портфелями и артисты театров с вдохновенно забывшимися лицами; чуть не толпы юнкеров бегали по бушующим улицам, офицеры постарше не бегали, но подозрительно и недоверчиво смотрели по сторонам — неужели город свободен? Некоторые офицеры еще не надели своей формы и погон, но по ним было заметно их сословие. В два часа дня сразу как бы стало много казаков, будто они наехали целой дивизией и рассредоточились по всем улицам города. Никаких красных флагов и бантов, никаких протестных митингов и собраний; нигде не видно недовольных или скептических лиц. Юные пары бегали по аллеям и бульварам и смеялись; газетчики, сами отчего-то несказанно счастливые, продавали остатки утренних выпусков, где уже успели понаписать крамольных фраз, восхваляющих освободителей-немцев; младший Геневский от такой свободы поморщился. Широкий переулок Гоголя был буквально завален торговыми рядами, словно купцы решили продать все в один день, окупая месяцы ущемлений. Но народа было столько, что, истинно, они могли продать все в один день! С Гоголевского повернули на Александровскую улицу у колониальной лавки Чеховых. Тут людей стало поменьше, но многие шли этой улицей к воде — к морю. В Варваре бушевал свет. Она горела особенною силою, но сила это ощущалась не как избавление — прогнали большевиков, — но как возвращение домой. О большевиках девушка вряд ли думала, просто смотрела на все известные ей переулки и пыталась утянуть туда Михаила, но тот посмеивался, отводил глаза и говорил, что нужно пройтись сначала по центральным улицам и узнать обстановку в городе. Даже от этого разочарования Варварин свет не потухал, он загорался для других мест. Так бы и тянула сестра Михаила в разные стороны, если бы у памятника Государю Александру Павловичу они не встретили «освободителей». То были два унтер-офицера германской армии, судя по "V-образному" галуну в петлицах воротника — сержанты. Менее всего на свете Михаил желал бы разбираться в немецкой форме, но четыре годы войны заставляли его. Два сержанта остановились, заметив русского офицера, и резко вытянулись во фронт, отдав честь. Геневский также приложил ладонь к козырьку и разглядел унтер-офицеров лучше: рыжие усы цвета точно такого же, что и сапоги; лица совершенно друг на друга не похожие, один более широк и красен лицом, быть может, баварец, другой вовсе на немца не похож — щуплый, короткого росту, с очень узким носом и выпадающими скулами, словно его плохо кормили. Тем не менее, немецкая сероватая форма делала их почти идеально похожими; ни у того, ни у другого не были начищены никелевые пуговицы, так что никакого блеска (как у обоих Геневских) мундир не проявлял. — Здравствуйте, — сказал Михаил. Он очень не хотел говорить им «здравия желаю». — Guten Tag, herr Kapitän4, — ответили они. — Я слышал, что война окон… — унтер-офицеры сразу деловито замахали руками, объясняя, что по-русски не понимают. Геневский сразу же перешел на немецкий, и ему поначалу никак это не показалось. Однако очень быстро он посмотрел на себя со стороны, что было ему, в общем, не свойственно: русский офицер, намного старше чином, говорит с двумя германскими офицерами на немецком языке далеко в глубине России; это прилично раздосадовало Михаила: — Ich habe gehört, dass Krieg vorbei ist. Ist das Okkupation?5 — Truppen des Deutsches Kaiserreich besetzten die Stadt für euer Wohlbefinden und Schutz, nicht für anderе Zwecke. Wir beschützen Taganrog vor roten Rotten6, — немец, тот самый баварец, высказавший это, был очень доволен своими словами; можно было решить, что он прямо потешался над русским штабс-капитаном, однако, сержант бы никогда в этом не признался и был бы упрям до смерти. Геневский кивнул и пошел прочь, ухватив любопытную сестру покрепче за руку. Александр Павлович, закутавшись в плащ, протянул Михаилу свиток. Свиток показался ему актом капитуляции России перед немцем, и Геневский почувствовал себя тошно; даже сестра его смутилась неприятными немецкими сержантами. Ближе к порту и побережью немцев становилось больше и больше. Иной раз и русской речи не было слышно, словно от памятника они вышли прямиком в Пруссию. Сержантов уже не было, здесь все шли либо солдатские отряды, либо офицеры чином покрупнее. Они уже специально с Михаилом не здоровались, многие просто не замечали, озабоченные своим делом. Находиться среди германских племен в своем городе стало просто невыносимо. Михаил уже никуда не хотел идти, ему показалось, что он со своим узнаваемым наивным глазом хотел всех этих немцем перестрелять. Но как ни злись, немец лучше большевика… С Матвеем условились встретиться в три часа пополудни у памятника. Вернулись. Сели на скамейку и, стараясь не замечать ни немцев, ни городского ликования, стали ждать. Только вот спокойного ожидания никак не получилось: некто, гимназист с виду, явно уже минимум опохмелившийся, стал горланить на всю округу: — Не на бой спешим мы драться, Не крамольников смирять, Но с друзьями повидаться, Пруссаков спешим обнять! — то был любимый Геневским мотив взвевающихся соколов. Но слова были совсем не те. Михаил уж сам хотел было намекнуть студенту, что рот ему надо прикрыть, но это сделали за него другие офицеры, проходящие мимо. Гимназист, к которому мигом присоединились еще другие, стал возмущаться и противиться, утверждая, что это гимн русско-немецкому братству, что он несказанно подходит сегодняшнему дню. Офицеры уволокли всех гимназистов за угол дома, дальнейшее Геневского не интересовало. Песен о немцах больше не пели. Без трех минут три прискакал Матвей в сопровождении поручика Михальченкова и неизвестного подпоручика. — Михаил! — крикнул он брату озабоченно, не здороваясь. — У нас серьезное препятствие со стороны немецкого командования. Ни под какими предлогами не выдают добровольцам оружия… Что ж это я…. Здравствуй! Здравствуй, сестра! Матвей слез с коня и сел на скамейку рядом. Поручики тоже ступили на землю, отдали честь, и, не решаясь, застыли в аршине от Варвары. Старший Геневский кивнул, и оба офицера поцеловали у сестры руку, а потом встали у коней. Сестра на это чуть покраснела. — Как тебе показались добровольцы, Матвей? — с жарким интересом спросил Михаил. — Удивительное дело! Выглядят они куда организованнее и приличнее алексеевцев и корниловцев. Я не знаю, сколько у них людей и еще точно не понял, кто ими руководит. Лично я видел их менее десятка, а общался с полковником Лесли. Он сумел нудными переговорами выбить у немцев бензин и седла. Кажется, сейчас борется за выдачу техники в немецком штабе. — А кто же главный? — Другой полковник — Дроздовский. На частной квартире он сейчас беседует с офицерами. Можешь сходить, потому что к вечеру они уходят. Вся бригада в город не вступила, стоят в станице Синявской, в двадцати, кажется, верстах ближе к Ростову. — Хотят брать Ростов! — воскликнул Михаил и вскочил. Увидев прямо перед собой Михальченкова и того подпоручика, он для чего-то спросил у них: — Хотят брать Ростов? — Точно так, ваше благородие, — был ответ. — Успокойся, брат, — Матвей засмеялся. Выглядел он совсем не так, как еще позавчера утром. Ни капли безразличного отчаяния его лицо не являло, возможно, даже холод был подтоплен известием о румынских добровольцах и немцах, прогнавших большевиков. Внешний вид жандармского ротмистра, заведующего военным хозяйством из-под немцев, казался аляповатым и тщеславным, но Михаил только был рад за брата. Он знал, что тщеславия в брате не очень много, но сам вид тщеславия ему шел. Даже сестра сейчас смотрела куда милее и теплее на Матвея, чем могла смотреть на него дома. Но Варвара вновь обрела такт и молчала, пока говорили офицеры. — Оставь лучше сестру мне, а сам поезжай к Дроздовскому, я скажу тебе адрес. Или давайте поедем втроем, мне туда тоже нужно. Далекие известия о скором прибытии русских добровольцев в Таганрог разбегались по городу еще за неделю до прибытия немцев и Дроздовского. Когда Матвей еще смотрел в свою белую стену и не знал, зачем он теперь живет, отдельные темные личности уже представляли, что будет при немцах, и из города уезжали. Личности посветлее гадали, как пережить еще неделю. Но ни уехать, ни пережить скрытно нельзя, с каждым часом больше и больше людей узнавало о скором прибытии войск. Так что, когда Дроздовский слез с коня в Таганроге, все общественные организации, все оставшиеся и вновь возникающие партии, все подпольные офицерские собрания и союзы фронтовых солдат, все интеллигенты и скрывающиеся политики, — все знали о нем. Но знать о добровольцах и принять их — вещи диаметрально противоположные. Даже многие офицеры считали прибытие немцев куда более важным событием, чем появление очередных добровольцев, которых перемелет Кубань. Среди офицеров царило угнетенное настроение. Не все были так открыто деятельны, как старший Геневский, многие прямо боялись мобилизации русских офицеров. Вера в успех предприятия, затеянного полковниками Дроздовским и Лесли, прибывшими из молдавских полков, пристала немногим. Братья Геневские, их сестра, Михальченков и подпоручик прибыли к зданию гостиницы «Европейская» на центральной Петровской улице; наверное, Матвей был не совсем прав, и встреча проходила не на частной квартире, а в арендованных кем-то апартаментах. У входа в гостиницу их нагнал немецкий капитан со своим адъютантом.Матвей, незаметно поморщившись, повернулся к капитану и заговорил с ним по-немецки, делая знак рукой, чтобы брат заходил без него. — Мне с вами? — спросила Варвара, думая, что адъютанты Матвея тоже идут, но они, поклонившись, остались рядом с ротмистром. В холле гостиницы им повстречался штабс-капитан с широкой грудью и с малиновыми погонами. Он провожал какое-то гражданское лицо на улицу, его небольшая голова смеялась. Рот его осклаблен, черные усы подрагивают. Увидев Геневского, он заговорил первым: — Добрый день, штабс-капитан. Вы с виду нам очень нужны и очень подходите! Хорошо, что вы здесь, а вот милую девицу придется оставить. Капитан неиссякаемо бодр, глаза его светились особенною мощью и крайним позитивом. — Добрый день. Ее не с кем оставить, — Геневский засмотрелся на рот штабс-капитана-добровольца, и показалось ему, что склабится в нем чистая злоба от оскорбленной чести и уязвленной совести. Двигался штабс-капитан уже не привычно, не ровно и резко, как офицеры в тылу, но вольнее, одновременно, более развязно-плавно и жестче. Слабо верилось, чтобы этот офицер вставал во фронт, но представлялась в нем бушующая внутренняя сила, которая сносит головы; и наверняка уже сносила. — Куда мне идти? — спросил Михаил. — В этот зал, штабс-капитан. Садитесь, куда желаете, но советую сразу взять листок с призывом, он несколько устарел, но в походе негде было печатать новый. Геневский поблагодарил, и они с сестрой зашли в зал. Зал был очень похож на обычный гостиничный зал для переговоров, которые иногда используют офицерские или акционерные собрания. Стульев стояло великое множество, но офицеров было до семидесяти — не более. Кто-то уходил, кто-то приходил вновь. Вероятно, за то время, что полковник Дроздовский был здесь, офицеров сменилось несколько сотен. Геневский взял воззвания — несколько десятков листков лежало у входа — и бегло прочитал:
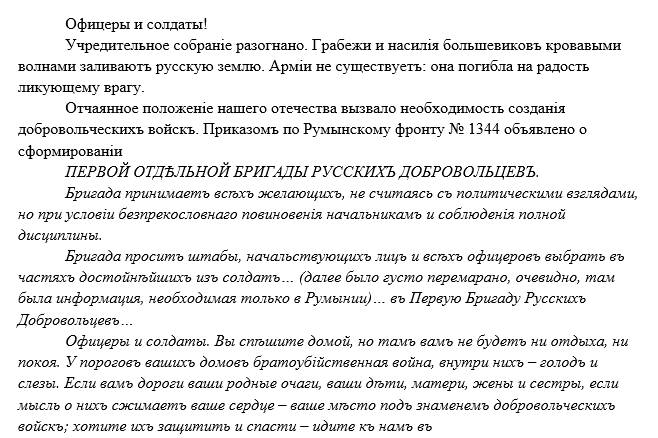

Первой мыслью Геневского было: у них есть деньги. И по внешнему виду, и по рассказам брата, и по мощи — пришли из Румынии на Дон в полном порядке — у них есть деньги. И силы есть, значит. Матвей всегда говорил, что у Алексеева и Корнилова денег было мало, и сражались там все по подписке четыре месяца, на том деньги именитых генералов заканчивались. Это было первой именно мыслью. Сперва же Геневский понял, интуитивно, бессознательно, но беспрекословно, что в бригаду он вступит. Прочитав воззвание, Геневский задумался, куда бы сесть. Ему хотелось поближе к полковнику Дроздовскому, но с сестрой в первых рядах он бы выглядел нелепо. — Варвара, ты не могла бы сесть за колонной, чтобы тебя не было видно? Прости, но мне неловко, что я тут с тобой… — сказал Михаил. Сестра улыбнулась будто укоризненно, но согласилась и села, куда нужно. Геневский сел вперед. Полковник Дроздовский разговаривал совсем не так, как говорили на митингах. Начиная с того, что он сидел. Сидел за столом и честным открытым взглядом глядел на офицеров, сидящих перед ним. Точно таким взглядом он одарил и Геневского. Полковник был сух телом и лицом, но лицо его облагораживалось общим пониманием надежды и веры в благополучный исход борьбы. Дроздовский, видимо бывший человеком скромным, чувствовал себя очень неуютно в золоченом зале дорогой гостиницы, но старался лоска не замечать. Говорил полковник внятно и твердо, упорно и искренне доказывал необходимость борьбы; человек тридцать офицеров слушали его внимательно и задавали вопросы. Руки Дроздовского, часто поправлявшие два круглых стекла очков, двигались резко и нервно, да и сам он изредка ломал голос, чуть не переходя на желчный крик: много офицеров сидело тихо и вяло. Геневского взяла тоска. Стольким офицерам, многое, должно быть, понявшим под таганрогскими большевиками, ни до черта не было дела — они сидели уставшие, словно их долг был отсидеть речь полковника, а потом с легким сердцем уйти домой и ничего не делать. Дроздовский говорил о дисциплине. Говорил о необходимости встать твердым фронтом, забыть себя и помнить только о благе Родины. Пересказывал, более обширно, то, что было указано в письменном воззвании. Укорял безволие офицеров и прямо называл их бездействие предательством России. Слова об обреченности тех офицеров, кто желает мира, но не войны, взволновали зал: кто-то противился, а кто-то начинал понимать. Но тут полковник обратил внимание на кого-то за спиной Геневского. — Вот, господа, посмотрите: стоит барышня. Я не знаю, по какой причине она приютилась здесь, но смею доложить Вам: вчера в станице Новониколаевской в бригаду записалось сорок четыре женщины! Помилуйте, господа, женщины будут воевать за вас? Офицеры засуетились, по рядом их послышался вздох. Михаил четко услышал «позор нам». Михаил, заметив Варвару, стоявшую в пяти аршинах от Дроздовского у золоченной колонны, быстро встал и произнес негромким, не нарушающим общей обстановки, голосом: — Прошу простить, господин полковник. Это моя сестра, ее не с кем оставить за городом. — Ничего, штабс-капитан, не волнуйтесь, — ответил Дроздовский и продолжил речь. Офицеры уходили и приходили, кто-то сидел долго и сам уже говорил о чем-то Дроздовскому, кто-то, как Геневский, внимательно и молча все слушал, кто-то уходил сразу же, как пришел. Через минут сорок вошел Матвей. К нему со стороны полковника Дроздовского подошел полковник, тоже в малиновых погонах и фуражке с малиновой тульей. Геневский встал и приблизился к ним, однако, полковник добровольцев, услышав два слова от Матвея, тут же выбежал на улицу. Матвей стоял довольный и улыбался особенно для него приятно — сам бы себе в зеркале стал нравиться. Холод с его лица совсем стаял. — Я сумел отдать винтовки и несколько пулеметов. Немцы не знают. Как тебе Дроздовский? — полушепотом спросил Матвей. — Внушает уважение. Полковник не уговаривает, но дает понять, что воевать необходимо. — Ты уходишь с ними? — спросил брат напрямую, скоро и круто, так что сам Михаил не успел подумать, но сразу ответил: — Ухожу. Сестра, подошедшая тоже, молчала. Вернулся широкогрудый штабс-капитан и, увидев решительность Михаила, обрадовался: — Вступаете в бригаду? — Вступаю. — Чудесно! В моей роте недобор, надеюсь, вас определят ко мне. В крайнем случае, пойдете к генерал-майору Васильеву в сводно-стрелковый полк. — Как говорите? У вас и генерал-майоры в подчинении полковника? — Так точно, и генерал-майоры в подчинении полковника Дроздовского, — повторил штабс-капитан и добавил, немного сникнув: — Времена такие, штабс-капитан. Надежда вся уже не на чин, но на личную отвагу и решительность. Господин полковник оказался самым отважным и решительным. Вы еще узнаете его. — Могу я знать ваше имя, штабс-капитан? — спросил Михаил. — Конечно. Штабс-капитан Туркул, Антон Васильевич. *** Вечер того дня прошел незаметно. Михаил успел на всех порах съездить в усадьбу и под непрекращающиеся возгласы сестры, что он ее бросает, собрался. «Что ж ты так спокойно сидела при Дроздовском?» — все думал Михаил, но вопроса не задал. Полковник Дроздовский просил всех, выслушавших его, передать воззвание к офицерам, которые не смогли прийти. Тем не менее, в бригаду со всего города записалось лишь пятьдесят человек; в том числе и Геневский, давший письменное согласие:
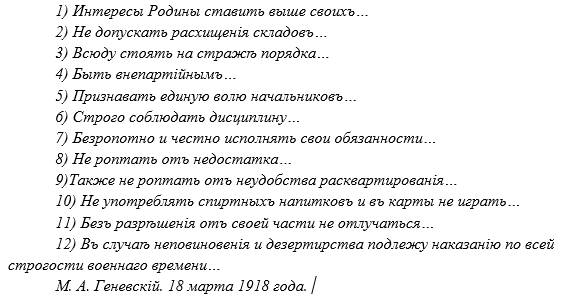
Матвей же, как старший офицер Таганрога, желал остаться — организовать новый вербовочный пункт. Он быстро получил заверение немцев — препятствий не будет. Уже в дороге из Таганрога Туркул подъехал верхом к группе новых добровольцев и сказал им: — Господа, письменное согласие призывает вас быть внепартийными; однако, я прошу вас ответить на такой вопрос: являетесь ли вы монархистами? Вопрос этот очень важен, поскольку наша бригада является практически полностью монархической силой… Большинство ответили определенным согласием, кто-то высказался неопределенно. Несогласных, однако, не было. Далее новым офицерам было рассказано, что внутри бригады Дроздовского существует самостоятельная политическая организация, ставящая целью стройно соединить всех монархически настроенных добровольцев. Всем высказавшимся определенно в пользу монархии вручили белую картонную карточку, одна из сторон которой была расчерчена тремя продольными линиями. Карточку эту — знак монархической организации — требовалось хранить и предъявлять по требованию старых офицеров бригады. Матвей перед отъездом никак не мог скрыть внутренней смеси радости и огорчения: Таганрог свободен, и борьба продолжается, но вновь уезжает брат… Матвей метался и прятал глаза. Речь его сбилась, говорил он преимущественно о делах: — Я постараюсь найти еще винтовок и способы вывезти их, без оглядки на немцев. На все это потребуются деньги и время, но деньги я найду. На русское дело нельзя не найти денег, — Матвей потаенно боялся, что Михаил не приедет. Если война с немцами была той самой войною, которую так часто вела Россия все свое тысячелетнее существование, то война с большевиками казалось Матвею куда более жестокой и непредсказуемой. Но как Михаилу можно не уехать? Как можно не зажечь еще звезд на черном небе? И свет во тьме светит, и тьма не объяла его… — Да он не любит меня! — крикнула Варвара; Михаил уехал. Она прижалась к старшему брату и вновь плакала. Так плакала, как, наверно, не получалось у нее больше года — с того самого февраля. Матвей молча смотрел вслед уносящемуся извозчику. Начинался новый период. Кончался период забытья, душащей пустоты и отчаяния. Начиналась она — борьба. В воздухе пахло кровью, лошадиной гривой, бездымным порохом; в воздухе вновь слышались крики и приказы штатских чинов, с которыми неминуемо придется служить рядом; в воздухе чувствовался накал свободы, когда, в конце концов, можно служить, помогать и творить. Смолянистая чаша с нефтью наклонилась и даже зашаталась. Нефть — черная дрянь, черное море — из чаши стала изливаться, обнажая белый гранит, из которого чаша была сделана. Больше звезд, больше света — меньше тьмы и ужаса. — Мы переедем в Таганрог, и ты снова пойдешь в гимназию, — сказал Матвей, когда на улице уже светилась звездная ночь. Они так и стояли на крыльце, думая каждый о своем. — Откуда ж у тебя деньги? — удивилась успокоившаяся сестра. — Теперь денег можно заработать — нет большевиков, значит, есть у человека возможности.
Глава третья. Орел
Когда над Русью необъятной Взвился крамолы красный бес И в пляске дикой и развратной Орел наш царственный исчез…
В. А. Петрушевский.
Военный летчик Пишванин7 лежал и смотрел в потолок. Потолок был грязен и неровен, в нежную паутину по углам то и дело заползали разные домовые насекомые. Комната небольшая — почти в ширину одной кровати, провалившейся и колющей ржавыми пружинами. На тумбе, с которой спадала потрескавшаяся краска, стоял стакан пустого чаю. Ни обоев, ни краски на стенах. Пишванин лежал в одежде и готовился выйти, но никак не мог отделаться от болезненного омерзения и продолжал лежать. Ему казалось, что эта комната сейчас чище, чем весь мир. Под окном день и ночь курили рабочие, решившие, что революция разрешила им брать табак из лавок задаром. Курили они и в подъезде, туша огарки папирос о старинную лепнину, мигом ставшую черной. За границами подъезда таял черный снег, обнажая грязь и похоть прошедшего лета; валялись сломанные фонари, осколки окон и доски. Слякоть текла рекой поперек Оки по Мариинскому мосту — город Орел апреля 1918-го. Пишванин, двадцати черных лет, сын конюха, прапорщик, знаменитый летчик, не был простым демобилизованным офицером, распущенным вместе со всей армией после Брест-Литовска. Он был откровенно контрреволюционным офицером, говорившим всюду, что за революцию надо вешать, а солдат за пьянство и митинги — пороть до крови. На него покушались, но он ходил с гранатами и покушался в ответ. Пишванин давал отпор быстрый и крутой, не раз лишал обнаглевших солдат духа, если те слишком бурно демонстрировали свою лояльность советам. Красного солдата (иначе говоря — распропагандированного, слабого духом, сдавшего Россию ради сиюминутной драмы) Пишванин совершенно не выносил. Бил их и поноси́л, как мог; ему так «нравилось» солдата проучивать, что он не поехал домой самостоятельно, когда все уже поняли, что фронт пал. Его отправили домой насильно. Пытались угрожать судом и расстрелом — Пишванин под судом и расстрелом забрал с собой трехлинейку и гордо прошел мимо красных оскаленных лиц. Винтовку у него украли в поезде вместе с двумя орденами — солдатским Георгием 3-й степени и Анной 4-й. Георгий 4-й степени у него украли еще на фронте. Остались припрятанными Станислав 3-й и Владимир 4-й: за войну он сбил 2 австрийских и 7 германских самолетов; трижды был ранен — в плечо, сквозным — в грудь (от чего пролежал с чахоткой несколько месяцев) и в левую руку — оторвало указательный палец. Гипнотический, никакого перед собой не видящий взгляд алмазных глаз запомнил все раны и хотел, кажется, отомстить. Но мстить было некому, — не мстить же массе глупых солдат? А потому Пишванин ходил заторможенным и никак не мог спокойно выдохнуть. Гладил черную линию усов на смуглом высоком лице и искал, как бы оживить свое сердце. Большевики обманули его. На Дон — домой — не повезли, поезд остановился на полпути, в Орле, и ему под дулом приказали выйти. Пропуска дальше не дали. Зато дали чудом отысканную грязнейшую комнату Орла — живи-поживай. Прожив в этой комнате три дня, исходив весь город в поисках разных возможностей (его кожаная двубортная куртка летчика принималась всеми за комиссарскую или чекистскую), Пишванин понял, что прожить так нельзя и решил уходить. На электростанции оборваны провода, у трамвайных путей выкорчеваны шпалы; ни единого телефона, кроме нужных местным большевикам, не работает; дети бегают по улицам, как беспризорные, хотя Пишванин насчитал чуть ли не четыре десятка школ. 20 учебных и 20 лечебных заведений — 20 повешенных профессоров и 200 заколотых больных. По белому камню городских строений кралась ржавчина — безумная, бездумная, притягательная и трагическая. Приятно, должно быть, раз убить вредного профессора, ставившего тебе двойки — но потом ни профессора на второй раз, ни самой гимназии. А совсем потом — ни белого камня, ни притягательной ржавчины — кати шар, не задержишься. Орел, однако же, чудовищно близок к Москве. Кажется, выйди в путь и в четыре дня доберешься. В Москве наверняка есть подпольные группы офицеров, которым нужны георгиевские кавалеры, умеющие стрелять из Мосина на полверсты, умеющие скакать и рубить, а тем более — умеющие летать. Москва — рубин; Москва — центр; рубани в самом центре, и все развалится. Орел — ключ к центру. Возьми Орел — возьмешь и Москву. Возьмешь Москву, вся большевистская ересь посыплется и вымрет. Кому брать Орел? Кому брать Москву? Энтузиазма одного Пишванина явно было недостаточно. Но должны же быть еще такие? Еще люди, желающие освободить Орел от ржавчины и взять Москву, разбив сердце большевизма? Есть люди, оскорбленные и как бы замаранные самим фактом этой ужасной антироссийской грязи? До черта же Орел близок к Москве. Три сотни верст! Лесенка на карте: Ростов — Харьков — Воронеж — Орел — Тула — Москва… Пишванин собрал вещи в один единственный парусиновый мешок, точно такой, в каком солдаты всю войну таскали сухари и мыло. Убрал в нагрудный карман гимнастерки награды. Смазал и зарядил револьвер Webley, подаренный восхищенным английским летчиком после того, как Пишванина представили к Святому Станиславу. Все с трудом собранные за три дня патроны высыпал в карман галифе, чтобы удобно было быстро перезаряжать. За кроватью одна из досок, которыми были обиты стены, была специально и незаметно надломлена: Пишванин убрал деревяшку и положил в маленькое углубление икону Казанской Богоматери, свои старые коричневые перчатки и портсигар с черным орлом. Прапорщик не курил, но подаренный портсигар так никому и не отдал. — Ну, благослови, так сказать, вернуться, — сказал он иконе, плотно закрывая деревяшку. Вышел из комнаты, тихо и плотно прикрыв дверь. Вышел на улицу, стараясь не обращать внимания на заплевавших все канавы рабочих-красногвардейцев. Чистые сапоги по грязному снегу, чистая тоска по Родине по опороченному русскому городу. Увидел здание городской думы, круглый желтый бочонок с выбитыми окнами и потрепанным красным флагом, увидел сохранивший престиж и стиль шикарный дворец Скоропадского, бывший еще и гостиницей; пошел вперед, к вокзалу, через Мариинский мост. Поравнявшись перед мостом с Богоявленской церковью, перекрестился и долго задумчиво смотрел на почерневший крест. Крест молчал, молчал и Пишванин. Место по соседству с храмом было замусорено еще сильнее, на скамейке, близко к храму, сидели два старика и смотрели неопределенно, стоял поодаль обвалившийся внутрь себя домишко. Дальше, ближе к воде, сгустилось несколько человек — почти закрытый базар. Месту этому, вскользь почувствовал Пишванин, суждено стать крестом, крестом всей России. А то и судилищем ее. Мост еще оставался величественным и клепано-железным, но, конечно, государственных орлов уже не было, а по перилам текла упорная грязно-рыжая дрянь. Такая же дрянь, казалось, была разлита и на талом снегу моста; снег казался рыжим, металлическим и неживым. Пишванин перешел мост и вступил на Ильинскую площадь. Здесь было какое-то собрание людей, митинговали и кричали о земле, войне и уличной грязи, кто-то возмущался ценами, плохим ремонтом и условиями мира. От грозного человека в матовой коже народ нехотя расступался, но иных приходилось расталкивать. По небу тянулись оборванные линии электричества, под ними — обломанные трамвайные шпалы. Пахло мокрой падалью и остро ударяло в нос разлитым спиртом и перегаром. Женская гимназия закрыта, с нее сколоты вывески и плиты. Часовня посередине площади забита досками. Пишванин вышел на Московскую улицу и пошел прямо и быстро. Народ встречался разный, но в большинстве своем самый неприятный — такой народ обычно на центральные улицы не выходит, а сидит себе в замусоренных дворах, темных чердаках и дешевых комнатах, сидит и кричит пьяный, не жалея ни себя, ни других людей. И мыслей нет, что могут помешать — чхать, но вот выйти во фронт на доброго человека боятся — куда там. Но сейчас не то время. Сейчас добрые люди в дешевых темных чердаках, а «городскую бедноту», обласканную советами, милости просим в самый центр города, на самые ясные улицы. Пишванину не понравился Орел. Он прекрасно сознавал, что город даже год назад был совсем другим. Вполне прилично Орел бы выглядел, смотри на него с неба, из кабины французского Ньюпора. Но бомбить Орел пока не приходилось, а время с жаркого конца зимы семнадцатого уже далеко убежало. Шел Пишванин к вокзалу. Он решил опробовать возможность скрытно забраться в следующий на юг поезд и спрятаться в багажном отделении. Денег на еду и проезд у него не было, да и проехать законно до казачьих земель не представлялось возможным. Выход — ехать через Украину. Независимости этой страны, не просто связанной с Россией, но и являющейся Россией, самой древней ее частью, военный летчик признать не мог. Однако должен был воспользоваться стратегической обстановкой и ехать сперва в Киев и Харьков, а потом, вдоль Азовского моря, сначала в Таганрог, а потом в Ростов. Куда ехать после Ростова Пишванин не знал. Но, как полагал, добровольцы направляются в армию Всевеликого Донского войска, следовательно, он поступит туда кем-то наподобие вольноопределяющегося и будет выполнять приказы. Остальное от Пишванина не зависело, но он бы хотел, конечно, сесть в кабину самолета. О Корнилове и Алексееве Пишванин не слышал ничего, поскольку политические новости для него теперь казались ничем не лучше сатанинской проповеди. Летчик подошел к Московским воротам. В 1786 году здесь проезжала Императрица Екатерина Алексеевна — даже год не сколотили, а вот двуглавого орла свергли — а ныне проезжали красногвардейцы на конях и повозки с бедным крестьянским скарбом. Продавать нельзя, но русский человек надеется все же, что трудился он не зря. Надеется и едет в город. Сам Пишванин не очень любил богатства, роскоши и рынков, а загроможденные откровенно ненужными вещами полки всегда вызывали у него чувство омерзения. Хотелось полки эти повалить и сжечь. Людей же, нагло кичащихся богатством, летчик почитал не испорченными, но недалекими умом. Однако насильственного обеднения и равнения на вылезшую на Московскую улицу голытьбу принять не мог. Отымание имущества и разбой по уровню дохода — суть каторга и тюрьма. Посади в тюрьму всех честных собственников России — посадишь половину страны. Посади в тюрьму всех, кто желает быть честным (впрочем, и бесчестным тоже) собственником — посадишь всю Россию, вплоть до всех большевиков и эсеров. Многие люди живут как живут — и трогать их нельзя: он, как солдат, привык думать, что именно «многих» людей и обороняет от войны. Беднякам, разумеется, до́лжно помогать; не глупо «у одного взял, другому отдал», а наставлениями и обучениями. Если один крестьянин нажил себе богатство на доброй земле, то что же будет, если отдать эту землю бедному крестьянину? Бедняк, обленившийся и озлобленный, тут же на радостях эту землю продаст или, что хуже, пропьет; а если нет, то заработать богатства не сможет, лишь попортит землю. Научите бедняка вести хозяйство — он из болотистой десятины земли миллион сделает. Но когда бедняк хочет все даром, хочет, чтобы ему отдали просто так — много хочет — и насильственно этого добивается, тогда бедняка нужно пороть и вешать. Богач-сибарит — зло. Но насильственное обеднение злее сибаритства. — Стой! Куда идешь… — прозвучало не вопросительно, а неуверенно, без интонации, но с напускной суровостью. — Пропуск! Документы… Пишванина, засмотревшегося на белокаменные Московские ворота, остановил красногвардеец. Был он в папахе набекрень, в драной шинели и обмотках. Лицо здоровое, солдатское, но уже с капелькой лжи и, как говорили на Руси, воровства во взгляде. Летчик молча подал листок, которым его снабдили по прибытии в Орел. Он этот листок никогда подробно не читал, но начало, на большевистской орфографии, было такое: «Военному летчику, Пишванину Александру Михайловичу, разрешено находится в городе Орле в…» (даже фамилия была по-новому, перед инициалами). Пишванин был рад, что оказался тезкой Великого Князя Александра Михайловича — покровителя российского воздушного флота. В армии обучали грамоте, но солдат читал плохо. В том, как он старательно водил пальцем по бумажке и беззвучно шевелил губами, проговаривая слова, чувствовалась ответственность. Но, может быть, он просто тренировал чтение. — А что у тебя, разве ценности есть? Или?.. — сказал солдат, не спеша возвращать пропуск. Пишванин покачал головой. — Сказано, что с войны прибыл. Нет орденов? Или?.. Приказано ордена и медали сдавать в штаб. Летчик нахмурился. Солдат стоял с той самой напускной суровостью и явно ждал, когда летчик полезет за пазуху за георгиевской медалью или чем подороже. — Черный рынок хорош? — спросил Пишванин неопределенно, щурясь в сторону. — Знать не могу. Да и не твое дело, не твое… Пишванин действительно полез за пазуху. У солдата была винтовка, но он не снял ее с плеча, а лишь поддерживал за лямку. Сильно подул ветер и расшевелил жирные русые волосы солдата с непокрытой части головы. Ветер был морозный и неприятный, и взгляд солдата становился все морознее и неприятнее, покуда Пишванин задумчиво «искал» что-то во внутренних карманах. — Поскорей давай, поскорей!.. Людей немного, их обходят. До вокзала еще с полверсты по Московской улице, потом свернуть на Лепешкинский переулок и — вот он, вокзал, красавец, все еще волнительный и триумфальный, единственный в городе, сохранивший свой престиж. Люди тысячами каждый день ехали к нему и от него, ждали на перронах и в редких открытых слякотных ресторанах с матерящимися официантами. Вокзал стал сердцем Орла. — А ну!.. Солдату откровенно надоело ждать и смотреть на скучающее лицо Пишванина, роющегося в карманах куртки. Он угрожающе медленно стал снимать Мосина с плеча — наверняка хотел только напугать, стрелять и не думал. Но Пишванин, не привыкший прятаться, заслуживший в начале войны два солдатских креста атаками в лоб, решил стрелять. Секунды — Webley — искра — порох — солдат лежит, грудь пробита. Выстрел был услышан, и тут же красногвардейцы словно бы воплотились из ниоткуда, некоторые кричали, иные бежали к прапорщику, иные вставали на колена и вскидывали винтовки. Пишванин ринулся сначала вперед по Московской улице, потом решил, что это глупо, и свернул налево — через заборы к Оке. В доски впивались пули, Пишванин чуял всем существом своим, что одной суждено впиться в лопатку и тогда все — тогда он упадет и будет долго вставать от боли. Тогда его возьмут — и в ЧК. Там уже точно припомнят его контрреволюцию и битье пьяных солдат за красную петлицу. Летчик твердо решил не падать, даже если в него попадут. Забор, забор, забор — вот и река. Куда дальше? Вдоль реки бежать — сущая глупость, местность открытая, в него попадут. Следует остановиться и принять бой. Пишванин старался не думать и закусил губу. Если подумаешь, испугаешься, что ранят. Если подумаешь, представишь, что будет. Если подумаешь, — ты погиб. Не думай. Делай. Пишванин сел за забор и выстрелил трижды. Два раза попал в серые шинельные груди — трещали грудные кости — один раз не попал. Красногвардейцы засели за домами и заборами. Летчик встал и, ловко обогнув дом, пошел с другой стороны. Его не видели. Покуда красные ждут выстрелов, есть секунд пять-десять. Если же эти солдаты на фронте не были, то и вовсе не найдут и не поймут, куда делся. Пишванин почти вышел обратно на Московскую, но заметил, как там наивно суетится новая советская милиция. Пошел в глубине дворов ближе к вокзалу. К концу улицы он добрался быстро, постоянно петляя в густых орловских дворах, но из дворов нужно было выходить. Перебежав Привокзальную улицу к другим дворам, Пишванин заметил еще милицию, общавшуюся с каким-то евреем. Евреев в Орле было до жути много, в основном они были мелкими торговцами и занимались сбытом водки вернувшимся в Россию солдатам и редким офицерам Орла. Водки Пишванин не пил и с евреями не общался. Вот он, вокзал. Бежевый, изящный, с витражными окнами и вычурной лепниной. Облезлые кустики растут перед ним, облезлые мужички шаркают старыми ботинками у входа. К этому же входу бегут милиционеры и красногвардейцы, находят какого-то проводника с толстой широкой шеей и что-то ему говорят. На вокзал не попасть, если только не хочешь пострелять. Но за вокзалом конец — степь да степь кругом, выйди и потеряешься. Вышел бы Пишванин ночью, точно бы сбежал так, но он вышел днем. Ну что делать? Хотелось выбросить кожаную куртку, сделать вид самый преглупый и пройти мимо. Мысль была отброшена, и Пишванин вернулся на Привокзальную. Куртку он все же, скрепя сердце, бросил, и пошел так. Прошел Привокзальную, как вдруг опять его нашли. Но, видно, не признали в нем того самого офицера — обратились грубо, но словами, а не оружием. Понимая, что останавливаться и отвечать им уже нельзя, Пишванин скоро дошел до конца Привокзальной и свернул к 1-му Привокзальному переулку. Тут ему уже стали кричать и побежали. Он побежал тоже; быстро переулок кончился, и началась Старая улица поперек переулка. Свернув на нее, уже увидев частные хозяйства и поля впереди, Пишванин мигом перекрестился на красивую, в русском стиле, бело-зеленую Иверскую церковь и сказал: «Дай уйти». Отстрелял в воздух три патрона и побежал во всю прыть. Бежать некоторое время нужно было по прямой, выстрелы уже раздавались позади, но летчик о них не думал. Он летел по дороге, а вскоре город кончился, и Пишванин нырнул в голые ветки кустов. *** Вечером он шел вдоль путей; покуда мог, держался ближе к голым кустам и деревьям, чтобы его не заметили из проезжающих составов. Погони уже давно не было. Пишванин шел в сторону Ельца, надеясь запрыгнуть на остановившийся у какой-нибудь станции поезд. Воздух вдруг стал знобить, как июльский, снега почти все растаяли. Пахло овсом и навозом, сыростью, жидкой грязью и свежестью. Солнце почти село, воздух был серый и густой. Тучи заволокли небо, кругом стало черно, непонятно, где идешь. Вдруг хлынул дождь. Пишванин поджал плечи и поднял было свой мешок над головою, но все равно в минуту промок. Так он шел еще минут сорок, стараясь побороть омерзение от мокрой рубахи, прилипшей к телу, унять схвативший болезненный холод и злобу. Замаячили избы и огни, показалась небольшая станция. Серый густой воздух насквозь пробивался миллионами и миллионами ледяных струй. Небо готовилось атаковать землю и, как германец в 1915-м, подготавливало себе путь исключительно превосходящей артиллерийской силой. Дождь лил страшнейший, пути бы мигом подтопило, не находись они на высокой насыпи. Пишванин чуть не терял сапог в вязкой и глубокой грязи, в которую превратилась земля ниже насыпи, а потому залез к путям и пошел по ним. Увидеть его сквозь ливень не могли, однако поезд, совершенно не слышимый в грохоте воды, мог его сбить. Шел летчик недолго, остановился у станции, которую заметил издалека, и сел на скамью. Никакой крыши над головой не было, но о том Пишванин и не думал. Он только сидел, склонив промокшую голову от усталости. На станции никого не было. К ближайшей деревне вела дорога, заплывшая, словно болото, воды явно по колено или по пояс. Летчик сидел и смотрел на эту дорогу без какого-либо яркого чувства, которое может вспыхнуть в душе человека в такой момент. Казалось, что он просто ждет свой поезд или же ждет окончания дождя, ждет, пока серые облака развеются и небо станет ясным, хоть и черным, ночным. Станет видно звезды… В густой окружающей черноте не было видно ни железной дороги, ни столба или ствола дерева, — бурые тучи сковали небо. Дождь. Сильный, равномерный, без грозы, упавший как-то вдруг, как-то без прелюдий, все лил и лил уже скоро час. Но, наконец, он стал стихать. Револьвер, как ни прячь его под гимнастерку или в сапог, промок намертво; Пишванин боялся, что с английской игрушки смыло всю смазку. Как только дождь стал совсем тихим, летчик взял свой парусиновый мешок, достал оттуда мокрый хлеб, небрежно разломил и стал есть. С хлебом покончил быстро, запил водой из баклажки. Послышался гудок подходящего поезда. Пишванин слабо на это отреагировал, спокойно смахнул прилипшие к мокрым штанинам галифе крошки, убрал баклажку и повесил мешок обратно за спину. Достал револьвер и полуспрятал его в рукаве. Поезд стал. Оттуда вышло несколько крестьян, они принялись причитать от залитых дорог и пошли к деревне по луже, высоко поднимали руки, стараясь не замочить вещи, привезенные из города. Пишванин поднялся в вагон, когда все вышли. Поезд вновь тронулся. Уже из тамбура слышалось развязное грубое пение, которым был налит весь ближайший вагон справа. Из вагона слева вышел проводник в форме, тот самый с толстой шеей. На фуражке его красовалась красная звезда. Летчик легко ударил по этой звезде рукоятью револьвера и вытолкал проводника в открытые двери. Поезд еще разгонялся, не сильно ушибется. Пишванину не хотелось идти в кишащий вагон, поэтому он пошел в тот, откуда вышел проводник. Там были мешки и ящики; неизвестно, что в них лежало, но летчик вытерся грубой мешковиной, зарылся глубоко в эти мешки, крепко стиснул рукоять револьвера в руке и сразу же заснул намертво.
Глава четвертая. Ссудно-сберегательная касса
К июню 1918 года вербовочные центры Добровольческой армии обросли прочной скрытой сетью по всему югу: Харьков, Ростов, Таганрог, Тирасполь, Киев, Одесса, Севастополь и даже Вологда. Члены вербовочной агентуры самого полковника Дроздовского важно сидели по всей Украине от Бессарабии до Новочеркасска. Шульгинская «Азбука» поставляла из Киева важные сведения о германцах и советах, а также присылала отличный боевой элемент в Добровольческую армию. Весь юг, даже Юг, наполнился деятельным добровольческим духом; хотя и был Юг под разной властью — под властью донского атамана, украинского гетмана, германской военной администрации или большевистского совета, — но всюду уже ощущали новую силу. Новую русскую армию, сбирающуюся где-то еще южнее, ходящую где-то по Кубанским степям, куда уехал Михаил Геневский и куда хотел бы попасть и Пишванин, хоть и не знал о Добровольческой армии. Немцы совершенно не мешали офицерам, отправляющимся на Дон, но даже помогали — денежно, организационно, снабжением, торговлей. Бывали случаи, когда растроганные русским патриотизмом немецкие офицеры покупали нуждающимся офицерам-добровольцам билет на поезд. Большевики, отдавшие на оккупацию громадные территории, не могли противостоять добровольческому движению в оккупированных городах, но по-звериному неистовствовали там, где им это удавалось. Украинцы, даже если и смотрели косо на русских добровольцев, из-под немцев ничего сделать не решались; донское командование, открыто заявлявшее о почти союзнических отношениях с германской армией, старалось добровольцев оставить у себя для новой Донской армии. То же произошло и с бригадой Дроздовского. Ростов, Новочеркасск и весь Дон был освобожден восставшими казаками — не без помощи румынских добровольцев; донским атаманом избран Петр Николаевич Краснов, генерал-майор старой армии. Он то и упрашивал Дроздовского всеми возможными методами оставить румынскую бригаду в составе Дона. Дроздовский не соглашался, он, как и Туркул, как и Лесли, как и тысячи других добровольцев-«дроздовцев», считал Новочеркасск «обетованной землей», но не мог на этой земле остаться. Алексеев, Деникин, Корнилов — где-то там, в кубанских степях. Нужно туда. Ведь к ним и шли; не до́лжно менять своей твердой цели и намерения. Геневский был с ними согласен. В Таганроге, где только что немецкие ландверы и уланы разбили неумелый большевистский десант, жизнь текла совсем по провинциальному, тыловому. Рядовые горожане не слишком замечали германского присутствия; последние вывозили хлеб и станки, лениво маршировали по десять человек и зачитывали никому не интересные приказы с неизменным мягким эль и картавым эр. Большевиков вешали, — но этот факт многих радовал. Главное, не навлечь на себя клевету с обвинением в красноте. В мае к Матвею Геневскому от добровольческого командования прибыл полковник Штемпель. Под его руководством был прилично организован вербовочный центр, действующий все же не совсем явно — в ссудно-сберегательной кассе. Каждый, впрочем, знал, что это за касса. Старший Геневский, еще до прибытия полковника Штемпеля, своими силами успел переправить в армию 10 офицеров и 18 солдат. После уже работалось легче и плодотворнее: в полноценный вербовочный штаб вошло шесть способных и самоотверженных офицеров. Штаб контролировал все северо-западное Приазовье — Бердянск, Мариуполь, Новоазовск, Таганрог; всего 54 «сберегательных кассы». Июньская жара, гимназистки в легких платьях, свежий морской ветер, уставший стук коричневых сапог по русской мостовой, запах свободы и мирной жизни. И все же мир был неполный. У многих мужья и дети ушли на Кубань, у многих рвались уйти со дня на день. Добровольческая армия стояла в Егорлыгской станице. Образовался бурный треугольник: Ростов — Новочеркасск — Егорлыгская. Одни офицеры ехали в отпуск, другие только записывались в армию и ехали в лагерь. Капитан Туркул, легкой рукой наведший в своей офицерской роте образцовую дисциплину, не поехал в города и свою роту не отпускал — уезжали в основном корниловцы или Офицерский полк, первопоходники, у которых закончилась четырехмесячная подписка. И тут Михаил Геневский впервые изменил себе — не поехал тоже. Ему вообще было стыдно встречать эту искреннюю, застоявшуюся глубоко в глазах, ждущую момента радость, с которой население освобождаемых городов и станиц встречало дроздовцев и первопоходников. Они шли тысячу двести верст, они — первые добровольцы, ушедшие в никуда, они рисковали и жертвовали жизнью своей, они верили в Дон, в генерала Алексеева и Корнилова как в зарю, а в полковника Дроздовского — как в святыню, они стали друг другу братьями. Он, Геневский… прибился к ним в самом конце. Ни единый дроздовец его этим не пенял. С ним делили стол, его считали за равного, ему доверяли. В Новочеркасске все вместе танцевали с институтками. Геневский любил танцевать, но он понимал: они — заслуживают этого танца с завтрашней свадьбой, а он — нет. Михаил, разумеется, не отчаивался и не грустил. Лишь нутром чуял неудобство, но страшно желал забить этому неудобству кол в грудь — заслужить все боями и кровью. Считаться лично, самому для себя, таким же самоотверженным, крепким бойцом, как и господа офицеры Первой Русской бригады, ставшей символом самоотверженной любви к поруганному Отечеству. Встреча дроздовцев с добровольцами-первопоходниками, вынесшими лед на своих залатанных шинелях, была удивительною: стали друг перед другом и, еще боясь высказать явную радость встречи, бормотали только о ладной и красиво пошитой форме. Словно два кота — дворовый, бездомный, привыкший к тяготам и домашний, важный, откормленный — смотрел друг на друга дроздовцы и первопоходники. Недоверчиво. Туманно. Но люди, конечно, не коты, драться не стали. Люди, а в особенности русские люди, только сперва не верят, а уж потом, если прочуяли своего человека, останутся с ним навсегда. Вот и корниловцы с марковцами прочуяли дроздовцев — решили, что они братья. Братья-коты, ведущие по всему двору охоту на расплодившихся мышей. Охота трудна — Первый Кубанский «Ледяной» поход не удался. Екатеринодар не взяли. Но Геневский, лишь услышав эту новость, лишь заметив первый подтекший взгляд корниловского офицера, пылающий негодованием и рвущийся в бой так, без патронов даже, понял: Екатеринодар будет взят. Нужно идти вновь. *** Ротмистр Геневский, старший брат, в старой жандармской форме, с которой он снял все медали и ордена, сидел в небольшой комнате с настежь открытым окном. Комната находилась в приземистом здании на одной из небольших улиц Таганрога; таких улиц, где днем и ночью сумрачно из-за густой линии высоких деревьев, стоящих вдоль центральной аллеи. Прямо в окно, бывало, Матвею подавали письма и документы. А офицеры-добровольцы, не знающие нужного окна, заходили с Конторской, иначе Елизаветинской улицы. Ссудно-сберегательная касса действительно функционировала в одном подъезде с вербовочным пунктом. Удивленные такому адресу офицеры, шумно проталкивались среди очереди горожан, желающих получить свои сберегательные книжки, и громко испрашивали направления к вербовочному центру. Клерки, сидящие в окошках с финансовыми документами и сдаваемыми купюрами (и царскими, и керенскими, и даже советскими), молча указывали подошедшим офицерам на нужную дверь. Сидели клерки, не поднимая головы, указывали они карандашами. Горожане же, много раз увидев шумно недоумевающих офицеров, спрашивающих о вербовке, мигом складывали дважды два. Да и Геневский не стеснялся заходить при всех в соседнею дверь в полной своей форме. Попадали офицеры сперва к секретарю, который их записывал и проверял, по возможности, биографию. Затем уже старший начальник — Геневский или Штемпель — направлял добровольца в тот или иной полк, выдавал денежное пособие, а иногда и оружие со снаряжением, что удавалось достать. Кстати сказать, нередко и сами офицеры, а то и обычные граждане, жертвовали что-либо на армию — сдавали все в эту же «кассу»; там накопились значительные средства. Матвей на деньги не смотрел, скрупулезно и точно отправлял раз в две недели собранную сумку в действующие войска, надеясь, что донское командование ничего не перехватит. Он привык жить в небольших арендуемых комнатах и бо́льшую часть жалования тратил на сестру, о себе совершенно не заботясь. День был жаркий, стекло чуть не плавилось от солнца, пробившегося через густую листву. Матвей снял китель и, помахивая на лицо фуражкою, нервно давил ложечкой лимон в кружке чая. В синем своем мундире он казался невероятно крупным, даже квадратным; но и в одной белой гимнастерке вид ротмистра оставался внушительным. Кабинет его был опрятен — чистый стол с аккуратными стопками нужных документов; картотечный шкаф для чистой бумаги, денег, личных дел, выдаваемых погон, полевых и административных карт — деревянный, низенький, несколько треснувший; вот и все, что было в этом пространстве. Напротив Матвея, упираясь спиной в дверь, сидел мальчишка-гимназист. Его наивные шестнадцатилетние глаза жадно просились в армию, только вот Матвею Геневскому никак не хотелось его в армию отправлять. Мальчишка этот был даже не юнкером, не кадетом, а лишь учащимся гимназии, но какой гимназии! — Минской мужской, которая в войну была переведена в Москву. Дело оказалось таким, что мальчишка неведомым образом убежал от зверств красной Москвы аж до Таганрога, а о родителях своих говорил следующее: отец был добровольцем, а мать жила в Тирасполе. Геневский не мог понять, как мать, зная, что ее сын-дурак ошивается в местах для него не приспособленных, может проживать в другом городе, столько близком к Таганрогу. Геневский думал, что мальчишка врет, так оно, наверное, и было. Но сделать уже ничего не представлялось возможным: гимназист был столь поэтично-патриотичным, что угрожал застрелиться на сем же месте, если его не запишут в армию. Револьвера у него, конечно, не было. Матвей Геневский записал данные на этого «патриота», тот соврал, что ему семнадцать. Согласно законам Российской Империи, он был годным для поступления на службу. Геневский, скрепя сердце, подписал документы с направлением мальчика не в действующую армию, но сначала на ускоренные курсы. Мальчик, получив документ, был чудовищно рад. Только вот курсов пока никаких не было. Были лишь арендованные на средства «сберкассы» комнаты в гостиницах, где гимназист мог жить какое-то время. А там, вероятно, действительно откроют курсы или вернут школу прапорщиков. Не успев договорить прощальной напутственной фразы (Геневский, конечно, знал, что мальчика увидит вновь — тот придет возмущаться отсутствию обещанных курсов), Матвей был прерванзвуком мощного удара двери той самой сберегательной кассы. Через мгновение открылась и дверь вербовочного отделения, но человек проигнорировал настойчивого секретаря и прошел прямо в кабинет Геневского. Это был Пишванин. Но каков он был! Черные, косо обрубленные пучки бороды, казалось, росли даже на носу. Та самая гимнастерка, в которой он в апреле бежал из Орла, была порвана местах в десяти, неумело залатана и разорвана вновь. Кожа на одном сапоге лопнула, словно от стоградусной жары, а на другом стала до того тонкой, словно ее срезали скребком. Мешок, залатанный куда старательнее, свалился на пол у двери, оскаленное лицо смягчилось; Пишванин, заперев свои алмазнокаменные глаза воспаленными веками, вновь открыл их, встал во фронт и прижал руку к порезанной фуражке без козырька. — Господин ротмистр, прапорщик Пишванин прибыл для записи в добровольцы! Повисло молчание. Геневский смотрел на офицера недоуменно, но с интересом, а вот гимназист пришел в сущий восторг — он сразу понял, что Пишванин прошел немалый путь до этого места. — Что ж вы, сударь, и секретаря пробежали… — озадаченный Геневский встал и, прищурившись от пробившихся солнечных лучей, оглядел вошедшего внимательнее. — С боями к нам пробивались? — Никак нет, господин ротмистр. Пешком по красным тылам, но без боев. Патронов не было. — Сколько же вы шли? — Не могу знать, не было ни календаря, ни сил считать дни. Полагаю, что полтора месяца. Я не помню числа, когда покинул Орел. — Из Орла!.. — воскликнул мальчик, но тут же понял, что делать ему здесь уже нечего, а потому с поклоном удалился. Пишванин дал ему дорогу. — Уберите, наконец, руку от козырька, не утруждайтесь… — Геневский заметил, что козырька нет, но исправляться не стал. — Вы молодец, вы добрались, куда нужно. Прошу, садитесь, — Матвей указал рукой на стул и засуетился, в спешке достал нужные документы. — Как я могу вас записать, господин прапорщик? — погоны у Пишванина на удивление были образцовые. Или он за ними невероятно следил, или, что вернее, убрал от греха подальше далеко, спрятал и надел только в Таганроге. — Русской Императорской армии прапорщик, Александр Михайлович Пишванин, — бодро ответил офицер. Он уже разомлел на жаре и почуял себя в безопасности. Лишь на заре того дня летчик заметил вдалеке постройки, напоминающие город. Схватив за рукав прохожего крестьянина, шарахнувшего было в сторону от такого «красочного» офицера, Пишванин потребовал только одного: назвать город. Город был назван. Офицер был более чем счастлив. Белый. Белый город. Он действительно два месяца мотался по селам и степям сначала Орловщины, потом Новороссии, терял железные пути, блуждал в степях и лесах, не знал названия рек, по которым шел. Тот поезд привез его в Елец, но там и встал. Красные по беспечности не нашли его вовремя, когда разбирали мешки, так что Пишванин вновь успел удрать и вновь подстрелил кого-то с горящей во лбу звездой. Вырвавшись из красного Ельца, он страшно заплутал. Но по природной своей немногословности, застенчивости, а сейчас и крайней осторожности не спешил спрашивать дороги и заходить в деревни за провизией или одеждой. Спал он под деревьями, ел, что найдет в пути или, в крайнем случае, просил еды у встретившихся в дороге путников, показавшихся ему людьми честными. Так он и перебирался по долгим слякотно-грязным дорогам, терпел голод, холод и неудобство; не имел ни запасной одежды, ни патронов. Он бережно хранил свои награды, полученные от Государя, и страстно верил — он доберется. И он добрался. — Я вас слишком не задержу, — Матвей вдруг проникся честным и глубоким уважением к этому прапорщику. Искренних чувств он проявлять не умел, но решил ему помочь всеми силами. — По какому роду войск имели честь служить на большой войне? — Кавалерия. 3-й драгунский Новороссийский Ея Императорского Высочества Великой Княгини Елены Владимировны полк, — гордо и с апломбом, с нарастающей интонацией выдал Пишванин и поднял лицо вверх. — Брали с Павлом Карловичем Восточную Пруссию. — Ренненкампфом? — Точно так. — В таком случае, могу донести, что его высокопревосходительство был замучен большевиками прямо в этом городе, где вы сейчас сидите. — Как… на могилу, стало быть, приехал. — Насчет могилы не знаю. Не нашли. Прошу простить, нужно продолжить. Думаю, вас следует записать в корниловский кавалерийский дивизион. Но не все от меня зависит, сейчас на бумаге одни цифры, а на деле в дивизион уже прибыло пополнение добровольцами из других городов, или же половина дивизиона перерублено в последней атаке. Оперативных данных знать не могу. — Прошу обождать, господин ротмистр. Я не закончил. — Слушаю вас. — После драгунского полка я служил военным летчиком в 27-м корпусном авиационном отряде. Ловко владею боевой машиной, сбил девять вражеских самолетов. Если можно устроить, я бы хотел в авиацию. — Куда там, господин прапорщик, — тоскливо и будто с укором себе Геневский развел руками, — ни у Донской, ни у Добровольческой армии нет ни единого самолета. — Ни единого самолета… — глухо и бессмысленно повторил Пишванин. Ему вдруг показалось, что он смертельно устал и ничего не хочет. — Но не волнуйтесь. Самолеты обязательно отобьют и раздобудут, и вы снова сможете летать. Если на авиацию будет стратегический запрос, разумеется. — Будет, — твердо сказал Пишванин. — Что ж, Вам, вероятно, лучше знать. Какого сословия? — Крестьянство. Из иногородних на Дону. — Сколько лет от роду? — Двадцать пять. — Где обучались? — Атаманское техническое училище. Затем — Одесская авиашкола. До войны получил диплом летчика. Но поступил в действующую армию рядовым кавалерии. Обучался в Севастопольской авиашколе, а после уже окончательно сел в кабину. — Чудесная биография, чудесная, — приговаривал Матвей Геневский, записывая. Писал он еще несколько минут. Пишванин сидел спокойно и смирно. — Как были произведены в офицеры? — За сбитие вражеских транспортных машин в количестве трех единиц. — Чудесно… — вновь повторил Геневский. — Никакого оружия не имеете? — Английский револьвер Webley. Без единого патрона. — Что ж, патроны к нему Вам найдем. Но вот коня и шашку выдать не могу, придется Вам приехать сперва в станицу Мечетенскую, выдадут на месте. А вот с формой лучше: новую гимнастерку, бриджи и сапоги выдам. — Откуда такое богатство? — Пишванин не хотел ни язвить, ни удивляться, он просто хотел что-нибудь ответить. И ответил так. — В Таганроге отлично, блестяще налажена работа вербовочного и интендантского центров. Скажите спасибо его высокопревосходительству генералу Штемпелю. Один бы я не управился. И скажите спасибо… — Геневский запнулся, потому что хотел выдать «скажите спасибо немцам, которые продают нам наши же патроны с захваченных складов», но сказал иначе: — скажите спасибо атаману Краснову. — Спасибо им, премного благодарен, — Пишванин аккуратно улыбнулся, хотя он сразу понял, что ротмистр Геневский явно ему симпатизирует. — И вот еще, господин прапорщик, — Матвей отвернулся и открыл небольшим ключом картотечный ящик. Вынул оттуда большой кошелек коричневой кожи и отсчитал ровно двадцать синеньких пятирублевых билетов. Царских, яркий год печати — 1909. Протянул Пишванину, из рук в руки. — Более выдать не могу. Приказ более ста рублей не выдавать, разве что семейным. — Геневский довольно, с искрой в глазах, ухмыльнулся. — Вас много, а добровольческий кошелек — один. Нельзя ведь не дать денег, но и сверху ничего добавить не можно. Пишванин поблагодарил и успокоил Геневского: сотня царских рублей — более чем необходимо, и покроет все возможные расходы. Затем спросил, что делать дальше. — Возьмите экипаж, поезжайте в бывшую гостиницу… кажется, «Донская». В 1916-м там стояла Киевская школа прапорщиков, сейчас ничего конкретного нет, но там снова сдают комнаты. На первом этаже вербовочным пунктом арендованы помещения — там живут некоторое время офицеры, отбывающие потом в полк. Поезд через два дня, вас оповестят. Одежду и кой-какое снаряжение привезу к вечеру. Пока что повторю: на бумаге вы зачислены в корниловский кавалерийский дивизион. — Благодарю за доверие, господин ротмистр! — Пишванин выстрелил всем своим телом вверх, прямо из сидячего положение. Встал во фронт. — Эх, измотала вас эта прогулка по красной России… — сказал Матвей, тайно расстроенный этой жуткой резкостью прапорщика. Геневский подал Пишванину бумаги, среди которых был лист добровольца с указанием части и добровольческих корниловских принципов. Лист нужно было подписать. — Метрические данные слово в слово ваши. «Поучение воину-корниловцу перед боем» часто перечитывайте, станет залогом победы. А в подписке, следовательно, ваша подпись. Лист был подписан. — На этом все, господин прапорщик, — Геневский встал, вытянулся и отдал честь. Прапорщик последовал его примеру. — Служите честно и верно, вместе спасем и освободим Россию. — Слушаю, господин ротмистр, — был ответ. — И как же вы… Из Орла… — вдруг случайно выдал Геневский, вспомнив о городе, и посмотрел в окно. Солнечные люди шли по аллее и ели ресторанное мороженое из стеклянной посуды. В ресторане не боялись, что посуду не вернут — в Таганрог вернулась Россия. — Да, из Орла, господин ротмистр, — Пишванин перешел чуть не на шепот, причем заговорщический, и продолжил: — Более того, разрешите доложить, я искренне считаю, что в Орел непременно нужно вернуться. Орел невероятно близок к Москве, этот город, будучи в руках у новой русской армии, непременно станет страшным гвоздем, забитым в спину Ленина. Вот так его, так его, — Пишванин побагровел лицом и стал нелепо показывать кулаком, как бы он заколачивал гвоздь, — да в позвоночник гниду, чтобы кости во все стороны брызнули, чтобы спинной мозг мерзавцу защемило, чтоб его трижды с пожарной каланчи вниз навернуло… — Ха! Ну Вы даете, господин прапорщик. Но я Вас понимаю, прекрасно понимаю. Прошу, отдохните два дня в тепле и достатке, придите в себя, успокойте нервы. Нам нужны солдаты, ведомые долгом и смелостью, а не слепой ненавистью… — Ах, прошу простить, господин ротмистр! — алмазные глаза Пишванина вмиг стали виноватыми, как у щенка, стащившего со стола ножку индейки. — Я заговорился сгоряча. — Ничего. Зато про Орел вы правду сказали. Город в стратегической близости от Москвы, я хоть в большой войне на фронте и не участвовал, но с Японской войны топографию помню, — Геневский ободряюще и снисходительно усмехнулся. — Вы правы. Непременно нужно брать Орел. Но — нескоро. Было бы побольше таких, как Вы. — Рад стараться! Вышли на крыльцо. Геневский был обеспокоен нервозностью и неким полупомешательством Пишванина (так, по крайней мере, Матвею показалось), но прекрасно понимал, что такой офицер быстро оправится. Если же не оправится, то его убьют в ближайшем же сражении — нарвется на свою буйную голову. Попрощались. Отдали друг другу честь, пожали руки. Благодарный Пишванин радостно направился к ближайшему экипажу. — Господин прапорщик! — позвал забывшийся Геневский Пишванина в последний раз. Тот круто развернулся на каблуках: — Да, господин ротмистр? — Чуть не забыл ведь, а… — ротмистр полез в карман надетого уже кителя. — Вы хорошо сохранили свои золотые погоны. Храните их и дальше, а пока примерьте вот эти, — Геневский протянул Пишванину красно-черные пополам погоны, с черепом и перекрестьем костей. — Это корниловские. Пришьете в пути. Верной службы!Глава пятая. Егорлыгская — Ставрополь
«Мы уходим в степи. Мы можем вернуться, если только будет милость Божия. Но нужно зажечь светоч, чтобы хоть одна светлая точка была среди охватившей Россию тьмы…». Запись в дневнике генерала Алексеева перед началом Первого Кубанского похода, 22 февраля 1918 года.
Соединившаяся Добровольческая армия во второй раз наступала на Екатеринодар. Помимо бригады Дроздовского в сильно ослабевшую Добровольческую армию вступила трехтысячная Кубанская армия генерала Покровского и приличное число, до четырех тысяч, рядовых казаков. Они ждали от добровольцев освобождения Кубани. Ледяной поход обрубил Добровольческой армии голову — генерала Корнилова под Кубанью разорвало гранатою. Того вынесли из штабной избы на улицу, он простонал, увидев святой разлив русской реки, и сразу умер. Добровольцы с потерями от Екатеринодара откатились. Вернулись на Дон. Встретились фронт к фронту две русские силы: истерзанные льдом и кровью добровольцы, две трети которых составляли раненые, и мощные, блестящие дроздовцы, прекрасно снабжаемые и только что отдохнувшие в Новочеркасске. Генерал Деникин, сменивший Корнилова в роли главнокомандующего, горячо приветствовал новые войска, искренне желающие бороться за Россию. Но масса рядовых корниловцев и марковцев некоторое время смотрела на дроздовцев подозрительно: слишком румынские добровольцы были хороши. Ни в какую неприязнь этот скептицизм не перешел, напротив, он быстро перешел во взаимное уважение: корниловцы узнали о походе Яссы-Дон, а дроздовцы о Ледяном походе. О, этот Ледяной поход! Красочная и романтическая легенда белого сердца… Природа, сам дух земли проверял чистоту белой души и засыпал добровольческие войска беспросветной белой пургой. Той самой неестественной и неприятной белой тьмой, которую уже долгие месяцы с самого октября чуяло русское сердце. Но белая мгла никого не поборола. Доброволец, до боли в костях, до ободранной на морозе кожи, вцепившийся в свою винтовку, согбенный под напором студеного ветра, шел и шел вперед, ведомый не просто белыми генералами, но Самим Христом. Неважно, что не взяли Екатеринодара, неважно даже, что генерал Корнилов погиб. Важно другое — белое сердце застучало, из чаши русского духа, наконец, излилась вся чернеющая истязающая гадость, на черном русском небе вспыхнул уже не далекий светоч, но могучее и жаркое — белое русское солнце. От этого русского солнца еще побегут обожженные большевики, обожженные страстной, до невольных слез и посмертных ударов, добровольческой волной. Белый снег, желавший запугать и покарать русское сердце, стремящееся биться в унисон с истиной, не выдержал и сдал разом все позиции — зима кончилось, лед на усах и штыках стаял, метели отступили, добровольцы выпрямились и улыбнулись весне. Некоторые румынские добровольцы, заслушавшись рассказами рядовых унтер-офицеров, с досады думали, подвиг их — 1200 верст в два месяца — не чушь лишь по сравнению с подвигом первопоходников? Их переубеждали, шутя, сами корниловцы — нет, не чушь; это вы — герои, мы лишь по живописным степям прогулялись. Дроздовцы не отвечали, они все рвались в бой, все рвались на Кубань — показать, что они тоже могут биться отлично и самоотверженно. Лишним ли будет сказать, что и Михаил Геневский чувствовал то же самое? Вся масса добровольческих войск сосредотачивалась у станиц Мечетинской и Егорлыгской. Следовало наступать на Великокняжескую и Торговую, дабы перерезать сообщение кавказских большевиков с великороссийскими. Михаил Геневский, не спешащий как-то выделяться из дружной массы ротных офицеров-рядовых, смотрел на происходящее с потаенным восторгом: новая русская армия, блестящая, дисциплинированная, в погонах и с честью. И пусть армия еще небольшая (по чести сказать, и на дивизию нет личного состава), но истинно — это лишь начало. Младший Геневский не чувствовал себя как-то иначе, отлично от Императорской армии. Добровольческая сохранила все прежние порядки, а потому и в мирном лагере выглядела боеспособной. Почти не было медикаментов, было мало снарядов, обмундирования, сапог, сукна, снаряжения, патронов, снарядов и винтовок; дух, однако, и все прежние традиции старой армии блистали. Корниловский ударный полк, к которому Геневский еще месяц назад относился с нескрываемым предубеждением, утратил всю политическую февралистскую основу и передал все политические толки командованию. Геневский видел уставший, почти грустный взгляд совсем молодых корниловских офицеров, не желающих из скромности признаться в своем геройстве, но видел и других — мужественных и хладнокровных, нашивающих на плечо до десяти отметин о ранениях, но так же хранящих молчание. Геневский все понимал. Все понимал и гордился совместной службой с ними. Июнь 1918-го. Окрепшая, отдохнувшая и возросшая до девяти тысяч добровольцев, офицеров и казаков Добровольческая армия вновь выдвинулась. Из станицы Егорлыгской вновь туда же — брать Екатеринодар. Этот город после гибели Корнилова виделся всем дроздовцам новой обетованной землей. Новой неотложной землей, до которой непременно нужно добраться. Дальше — больше. Обетованные земли не кончатся даже со взятием Москвы. А что до этого: Ставрополь, Харьков, Воронеж, Киев, Орел… Штабс-капитан Геневский выступил из Егорлыгской на станицу Великокняжескую в составе офицерской роты под начальством Туркула. За время отдыха дроздовцев и добровольцев даже немногословный Михаил познакомился и сдружился со многими офицерами. Некоторые из них шли с полковником Дроздовским прямо из Румынии, другие прибились в пути, третьи прибыли в переформированную 3-ю пехотную дивизию дроздовцев, когда та уже стояла на Дону. Геневский шел эшелоном в компании пяти офицеров — недавно лишь сложившейся шестерке друзей. Из всех шести только Геневский был потомственным дворянином. Мартев получил личное дворянство за службу, а остальные принадлежали иным сословиям. Первым из них был блестящий офицер и командир — Юрий Петрович Мартев, капитан, гвардеец, командир одной из рот Литовского полка. В 1917 году, в середине октября, осознав русское предательское буйство, он собрал всех обер-офицеров полка у себя. Хотели совещаться о своем положении, — но к ним вдруг ворвались красные солдаты и почти всех там и убили. Мартев был ранен, но сумел отбиться и уйти. Ушел еще один, край два офицера. Капитан до поры жил в Москве, прямо надеясь на большевиков — хоть и черти, но должны же они восстановить добрую власть — не восстановили. Восстановили злую. Мартев поехал на Дон. Там его назначили к дроздовцам. Был он офицером бодрым, но шутить не умел и шуток не понимал; носил светло-зеленый френч и терпеть не мог папиросного дыма, от чего в походном строю, где многие закуривали, ему приходилось горько. Возрастом Мартев был не старее сорока пяти. Глаза — яркие лампы — полные морщин, смотрели по-молодому с удалью и бесстрашием, но яркость этих ламп была словно заглушена и с каждым месяцем тускнела сильнее. Из шести друзей Мартев всегда первый запевал старинные полковые песни и даже марши любил именно петь. Особенную страсть, как вскоре выяснилось, он питал к Петровскому маршу и в пути от Егорлыгской до подступов Великокняжеской спел его целиком не менее двадцати раз:
Знают турки нас и шведы,
И про нас известен свет:
На сраженья, на победы
Нас всегда сам Царь ведет!
Славны были наши деды —
Помнит их и швед, и лях,
И парил орел победы
На Полтавских на полях!
Твёрд наш штык четырехгранный,
Голос чести не замолк.
Так пойдем вперед мы славно,
Грудью первый русский полк.
Дроздовцы, имеющие бескрайнее уважение к славным преображенцам, иногда тайно принимали эти строчки к себе — «первый русский полк». Мартев был славным солдатом. Уверенно до святости верил в победу русского добровольческого дела и всегда приговаривал: «Нужно немножко больше усердия, немножко больше ран. Тем и победим». Вторым из шести офицеров был, как ни странно, знакомый Геневского из Таганрога — тот самый офицер, с которым Михаил иногда гулял по лесам и берегам лимана. Звали его Александром Ильичом, носил он интересную фамилию Бык и находился в чине прапорщика. Другой офицер, гулявший по лиману, пропал намертво, что называется, без вести. Еще за неделю до прибытия дроздовцев в Таганрог все его потеряли. Прапорщика Быка Михаил не встретил на собрании Дроздовского по единственной причине: прапорщик прибежал на собрание одним из первых, с раннего утра, и сразу же уехал в полк с нужными документами. Быком прапорщик, конечно, не был. В свои двадцать лет, прошедши ускоренные офицерские курсы, Александр Ильич был воином никудышным: щуплым, худым и на вид вялым. Про него прямо говорили, что он не пройдет эшелоном и восьми часов — устанет и отстанет от дивизии. Но часы шли, версты оставались позади, а Бык шел и шел, не имея на лице под палящим июньским солнцем ни капли пота. Лицо Быка, узкое, страшно обветренное и в оспинах, мило улыбалось всему на свете красивому: легкой барышне, идущей по Новочеркасску, главнокомандующему Деникину, гарцующему при параде перед фронтом солдат, восходящему над просыпающейся станицей солнцу. Бык страстен был в политике и философских измышлениях. И хотя на такое смотрело косо большинство офицеров, Бык был еще и страстным патриотом и, исключая свои антипатии к высшему обществу павшей Империи, беспредельно уважал офицерство и Государя. До войны, наивным гимназистом, он хотел поступить на философский факультет Императорского Петроградского университета, но поступил, вместо того, в школу прапорщиков. Безудержной была его борьба, поскольку наивности и простоты своей он не растерял — он хотел освободить Петроград, дабы спокойно там выучиться по окончанию войны. Можно было судить, что в политике Бык совсем не разбирался. В его беспокойных речах смешивались ницшеанские мысли о сверхчеловеке (к которому он тут же приравнял офицера-добровольца), марксистской экономике (которую он понимал, как нахождение фабрики в собственности офицерства) и безудержный лоялизм (он был готов присягнуть любой русской власти, если бы посчитал ее русской). При этом он, кажется, был крайним монархистом, но поддерживал «свободоизъявление» и независимость украинцев и казаков. Разумеется, как русской автономии. Слова Быка не воспринимали всерьез, над ним потешались, но его любили — странно было не слышать его беспокойной речи обо всех на свете течениях, когда Александр Ильич отчего-то не бывал в роте. Лишь капитан Мартев иногда ворчал. Третий был офицер угрюмый, израненный и ослепший на один глаз. Повязки он не носил и пугал левым бельмом сестер милосердия при обозе, пусть он и был человек добрый и несчастный. Имя ему — Борис Иванович Михайлов. Чин ему — поручик. Михайловых во всей Добровольческой армии, наверное, было десятки — но «слепой Михайлов», как его прозвали за глаза, был один. — Пойдите, господин подпоручик, прошу вас, — говорят иной раз, — передайте дроздовцу поручику Михайлову два рубля. Я был должен ему. — Это какому Михайлову, господин капитан? Слепому Михайлову? — Точно, точно так, слепому, — переходит на шепот капитан. — Только вы, милый друг, потише, услышат же… Неизвестно, отчего Михайлова стали вдруг побаиваться мало знакомые с ним люди. Но выглядел он действительно ужасающе — темно-бордовое, выгоревшее на солнце и от фронтового огня лицо; широкий, порубленный в середине, но заживший нос; язык то и дело облизывает потрескавшиеся губы, быстро, словно змея. Пальцы — тоже темно-бордовые — беспрестанно нервно стучат, отбивают такт. Михайлов говорил очень мало, больше любил молчать и даже «ура» в атаках он кричал беззвучно — только открывал рот; рот наливался общим задорным криком, и Михайлову казалось, что он тоже кричит. Но вот что было странно, так это то, что Борис Иванович любил петь. Пел он характерным басом, во время пения откровенно забывался и не слышал ни посторонних разговоров о нем, ни чужого пения. Иногда он забывался сильнее необходимого — мог пропеть еще минут даже десять, когда все уже перестали, а в иной раз мог забыться до того, что не услышит приказ к атаке: его будило шумное «ура». Он смущался, поглядывал во все стороны, пуля била в его фуражку. Михайлов тоскливо вздыхал и бежал вперед, штык от груди, правый глаз смотрит сосредоточенно и бесстрастно. — Наступает минута прощанья… — начинает вдруг петь капитан Мартев, лишь только сник случайный походный разговор. — Ты глядишь мне тревожно в глаза! — вторит ему неожиданнейшим и мощнейшим басом поручик Михайлов. Голос его гремит, но правый его глаз виновато озирается — не потревожил ли кого? — И ловлю я родное дыхание, а в дали уже дышит гроза! — сразу, в один голос поет вся офицерская рота, шаг ее приободряется и ускоряется, спины выпрямляются, и идут красивее, в ногу, в единый шаг четыре сотни русских воинов. Штабс-капитан Туркул, идущий всегда прямо и вытянуто (в чем при первой встрече ошибся Михаил Геневский) впереди роты, отвлекается от шуточного разговора со своим ординарцем и полуповорачивается к своим «рядовым» офицерам. — Славный шаг, господа офицеры! — кричит он громогласно, радостно улыбается и сам подхватывает песнь:
— Дрогнул воздух, туманный и синий,
И тревога коснулась висков,
И зовёт нас на подвиг Россия,
Веет ветром от шага полков…
Глава шестая. Синяя ночь
Август 1918-го. Стояли в тридцати верстах от Екатеринодара. Резервы Корниловского ударного полка квартировали в станице Старомышастовская. Здесь же находились и некоторые раненые. Численное превосходство у красных страшное, десятикратное; в строю остаются легко раненные, поскольку их некем заменить, нечем и негде лечить. Прапорщик Пишванин, вступив в конный корниловский дивизион, знатно изрубил большевиков в многочисленных боях Второго Кубанского похода, но и сам был изрядно ранен — шесть раз. Легкие зарубки прошлись трижды по правой ноге, дважды по правому плечу и раз по левому. Медикаментов не было. Йод и спирт разводили водой, чтобы хватило на всех, и этой жиденькой смесью слегка промакивали тонкую полоску серенького бинта. И так, по-смешному перевязанный, лежал Пишванин в казачьей хате на застланной летней шинелью скамье и не мог уснуть. В этой же комнате лежало еще пятеро раненых корниловцев; уложив на пол свои потрепанные и залатанные черные френчи, трое кавалеристов ворочались в беспокойном сне; двое — сильнее раненные, в живот и в лицо, — лежали на двух мягких кроватях и глухо, едва слышно, стонали. Невозможно было узнать, спят они или упорно мучаются в огненной борьбе за жизнь. Самая борьба казалась погибелью — иногда не находилось иголок зашить рану. Пишванин не сильно мучился ранами, однако, сильно устал, был вполовину голоден и заранее раздражен тем, что опять не выспится, но уснуть никак не мог. Раны пульсировали, на ноге, чуял прапорщик, развязался бинт, на голове колющей болью, как угол штыка, саднила шишка. Взбив под головой свой старый дорожный мешок, подложив под голову и руку, Пишванин смотрел в дощатый потолок. За открытыми окнами — ночная духота мучала раненых — еле слышались далекие, верст за десять, выстрелы. Первобытная, неизменная в веках, степь гудела и звенела своей многоверстовой пустотой; это пустота пугала блуждающие души и разносила повсюду малейшие звуки. Выстрелы были со стороны Екатеринодара. Вероятно, большевики нарвались на добровольческое охранение. Разные образы, без смысла, без связи, без логики блуждали в Пишваниновой голове. То он видел резкую атаку корниловского дивизиона со стороны, то видел, как шашка хлещет его по плечу, то сам срубал голову какому-то красному казаку, то видел вдалеке, на правом фланге, молча идущую цепь дроздовцев, от которой в беспорядке отступали цепи красных. Там — снаряд, огненная вспышка, фонтан земли; тут — скосило строй пулеметом, лавина крови во все стороны, предсмертные возгласы изумления. И тут и там все лежат, кони на трех ногах пытаются ползти, кишки разбросаны по пыльной выгоревшей на солнце траве. Но ты скачешь дальше, словно не видя этого, за последние месяцы боев и смертей стало столь много, что ничего нельзя уже примечать. Но помнить — должно. Каждый убитый, съеденный красной революцией за правду и веру, должен остаться в сердцах и русской истории. Вот, безымянный и почти еще безусый офицер, только что произведенный в штабс-капитаны, ведет цепь на врага, насвистывает Егерский марш или напевает:За Россию и свободу Если в бой зовут, То корниловцы и в воду И в огонь пойдут.
Этот штабс-капитан снесен прямыми попаданиями в лоб и в грудь, он упал, револьвер его без шнурка далеко упорхнул, в воронку от снаряда, разорвавшегося здесь десять минут назад, сквозь черное отверстие в черепе видны мозги, глаза навыкате, свежую гимнастерку начерно заливает кровь. Штабс-капитан — мертв. Но он был! Он шел и пел и вел солдат, он хотел умереть за Россию и свободу, он клялся — и он умер, сдержав слово. Солдаты от такого непременно взревут, молча, стиснув зубы, нальются кипучей обидою и злобою, и сомнут врага, перестреляв всех комиссаров и коммунистов. Русский солдат чует несправедливость. Дверь в комнату с ранеными отворилась. Медленно, скрипуче. Пишванин лежал прямо за дверью, справа, в уголке. В комнату вошел старый старик в волосяной «шапке» на все лицо, внутри этой шапки поблескивали два зрачка. В руках у старика большая сальная свеча. Он стал осматривать офицеров и заметил глядящие на него в ответ глаза Пишванина. Наклонившись к нему пониже, старик чопорно, с приподнятым носом и манерно приоткрытым ртом, разглядел погоны и негромко сказал: — Не спится-с, ваше благородие? — Не спится, не спится, — проговорил Пишванин как можно тише, прочистив горло. — А с тобой и подавно не усну. Поди себе, старичок, тоже спи. — Не извольте-с беспокоиться, ваше благородие. А коль не спится, не желаете ли самогончику-с? — Не пью я, старик, не привязывайся. — Стало быть, не изволите пить. — Не изволю. Вовсе не пью. Что тебе до меня? — Прошу простить-с, ваше благородие, старческое любопытство взыграло. Не изволите ли… — Да что ты со своим изволишь — не изволишь? Угомонись. Я тебе кто? Граф какой-то? Я прапорщик. — Издавна в славном Российском государстве принято воздавать честь военному сословию, ваше благородие. Не вижу разницы, ваше благородие вы или ваше высокопревосходительство. Все одно: кровью русскую честь бережете. — Ты где так витиевато выучился говорить, старик? — Пишванин был даже несколько изумлен. — Всю жизнь при офицерах состоял-с. Наслушался, ваше благородие. Пишванин внимательнее вгляделся в лицо старика, а тот, будто бы специально, поднес свечку к своему лицу. Лицо действительно все обросло густой бородой и длинными волнистыми волосами, ставшими серее дождевых туч. Глаза смотрели стойко, внимательно, с уважением и интересом; иначе говоря, взгляд старика полностью совпадал с его поведением и намерениями. Был он ужасно стар, никак не меньше восьмидесяти лет, двигался медленно, можно сказать степенно, но скорее уж неуклюже и непривычно. Водил руками едва-едва, словно то был случайный жест, а не намерение закрыть дверь или поднести свечу к лицу. Тем не менее, спина его была прямой, как кирасирский палаш, а вид его был крепок. — Чего, старик, хочешь? И откуда ты здесь? — Пишванин, ведомый неизвестным чувством, тоже почти что любопытством, встал с кровати и решил выйти на крыльцо хаты. — Я, ваше благородие, из Екатеринодара. Но под большевиками ни дня не прожил-с — уехал по станицам. Ныне вот прибился к славной Русской армии и помогаю ей подводами. Повозки у меня еще со старых времен сохранились. — Подводами? — Пишванин стоял перед стариком, так как тот перегородил дверь. — Точно так-с, ваше благородие, подводами-с. Изволите на улицу? — Изволю. Вышли. Ночь была яркая, синяя. На казачьем дворе ходили заспанные кони, щипали сено. У ворот сидел на железном стуле солдат, обнимая винтовку. Он сидел ровно, прямо и носом не клевал, хотя нельзя было сказать в темноте, спит ли он. Где-то в поле, за воротами, ходили громкие голоса и приказания, ржали кони. Вероятно, там готовился ночной разъезд. Поближе к крыльцу в самом деле стояли три широкие повозки, на одной из них вечером привезли тех двух тяжело раненных. — Чего ты хотел? — Пишванин шумно выдохнул в синий воздух. — Я, собственно-с, только одного бы желал понять, ваше благородие. Понятно-с, что вы изволите против большевиков воевать. То дело благородное и понятное, однако, непонятно вот-с что, за какую вы власть сражаетесь и за что стоите-с? Я человек старый, ефрейтором вышел в отставку еще при Александре Александровиче. Новых веяний не понимаю. Прошу высказаться попонятнее. — За свободу России от большевиков, — Пишванин выдал фразу не думая, просто повторил расхожее выражение, а потому даже испытал стыд. — Это понятно-с. Но за какую власть? Я вижу, что вы, ваше благородие, офицер честный, мой глаз не обманешь. Поэтому я могу думать, что вы сражаетесь за попранную честь Государя прежде всех мыслей о разных свободах и новомодных веяньях? Пишванин тоскливо посмотрел в волосяную голову старика. Ему был очень неприятен этот вопрос, так как ответа на него он не знал. Точнее, знал, но и сам ответ был неприятен: нет, не за честь плененного Государя воюют добровольцы. Они ведь действительно сражаются только против большевиков, только за неведомую свободу, которая, казалось, была вот-вот, совсем близко, еще до Февраля… — Ваше благородие-с, право, не могу понять вашего молчания… Мне лишь хочется на деле убедиться, что… — Да не знаю я! — вдруг вскричал Пишванин. Кони, ходившие по двору, шарахнулись в сторону, а солдат у ворот мигом встал — он и не думал спать. — Не знаю! Что я тебе, главнокомандующий? За Россию и свободу — сказано тебе. Вот и знай! Вот и убеждайся на деле! А я не знаю! Я завтра за все что хочешь голову сложу, лишь бы в России был мир, порядок и величие, лишь бы трамвайные пути были целы, а провода не порваны, лишь бы храмы и гимназии работали, лишь бы пошлая пьянь и рвань, эти проклятые шельмы, сидели по своим грязным чердакам и не мучали доброго человека, лишь бы в городских думах заседали умные головы, а по южным русским губерниям не ходили проклятые немцы. Да, я хочу, чтобы было, как до Февраля! Хотел победы в этой несносной, четырежды распроклятой Великой, мать-перемать, Второй Отечественной войне, которую Россия проиграла из-за предательства генералов и депутатов… Да, я хочу отстоять поруганную честь Государя. Но я не могу, не могу об это говорить, старик. Нет моих сил на это. Я не могу и не хочу говорить, я солдат и мелкий офицер, мне не должно рассуждать, мне должно бить врага… — Пишванин, наверное, выговорил бы еще много разного, но на этом пыл его иссяк, и блеск в глазах стал гаснуть. Постояв еще мгновение на крыльце, он быстро шагнул обратно в хату и закрыл дверь, надеясь, что старик больше не придет. Старик же был полностью удовлетворен. — Знать, хороший офицер, — думал он вслух, — если так мучительно все переживает. Но зазря я его растормошил, сейчас неприятно ему станет… Эх, прости, Господь, — старик медленно, с достоинством, перекрестился, глядя в синюю высь. Сошел с крыльца и мимо своих повозок медленно двинулся на улицу. У ворот он сказал несколько добрых слов тому солдату, а потом пропал в синей ночи.
Глава седьмая. Бег по России
Только агнца убоится — волк, Только ангелу сдается крепость. Торжество — в подвалах и в вертепах! И взойдет в Столицу — Белый полк! Марина Цветаева
Наивно-безмятежный Михаил лежал на старенькой кушетке в новой комнате. Комната была светла и свежа; окно открыто, и с улицы к подоконнику склонялась сирень — аромат стоял стойкий. Младший Геневский был почти что счастлив, он бы наверняка согласился с Игорем Северяниным — «сирени запах жуток. Он грудь пьянит несбыточной весной», — но его не читал. Геневский стихов не читал никаких, но чувствовал тот же дух в — «Поет Июнь, и песни этой зной палит мне грудь, и грезы, и рассудок». Михаил забросил руки за голову и улыбался в белый потолок. Несколько месяцев он жил в этой комнате; на дворе стоял конец июня 1919 года, а в самом начале марта Геневский был ранен в ногу и отправлен в тыл на лечение. Он попросился в Таганрог, был туда и отправлен, но: в больницах не хватало мест, поэтому доктора, увидев, что рана не опасна, попросили его найти место вне больницы, где бы он мог спокойно отлежаться. Доктора, конечно, узнали, что больной родом из Таганрога и надеялись, что тот просто уйдет домой. Но домой Геневский пойти не мог. Поместье с апреля 1918 года стояло пустым и окончательно заброшенным. Матвей, наверное, ни разу там не бывал после переезда. А жить у самого Матвея с Варварой не представлялось возможным — старший брат арендовал две небольшие комнаты на четвертом этаже, для себя и для сестры; Михаил не хотел нарушать их спокойствия своим лишним телом. Тут на помощь пришла Ставка — Деникин, или кто-то из его Особого совещания (тут Геневскому было все равно) распорядился найти для офицера комнату. Комнату «изъяли» у богатой семьи ростовского адвоката; в кавычках, потому как семья освободила комнату добровольно и была очень рада поселить у себя офицера. К слову, Михаил к июню 1919 подрос уже до капитана, но за братом не поспевал — тот был уже полковником. Младший Геневский был бодрым, отдохнувшим и стойко принимал все атаки нового знойного лета. Как пылало это лето! Как дышала свободной искристой и светлой грудью жизнь! Немцев в Таганроге уже не было. Таганрог сделался столицей всего Юга России — здесь жил Деникин и находился его Штаб. В комнате оставалась старая плетеная кушетка со множеством дыр и сильно качающимися ножками; хозяева хотели ее выбросить, но младшему Геневскому она так понравилась — только на ней и лежал все время своего больничного отдыха. Он стелил на кушетку белую простынь, о чистоте и белизне которой заботился до крайности, клал сверху себя и ничем обычно не укрывался. Лишь в редкие дождливые вечера он накрывался шинелью по старой привычке. Окно было открыто всегда, и Михаилу казалось проще закрыться шинелью, чем лишить себя дыхания улицы. Шум приличного людского потока сделался ему необходимым; правильного, спокойного и честного человека нужно было видеть постоянно, чтобы знать — такой человек еще не перевелся. Да и ветки сирени опускались уж слишком близко к окну — не закроешь, не помяв. Семья адвоката, у которой жил Михаил, встретила его радушно до глупости, кормила на убой и каждый вечер упрашивала рассказать что-нибудь о фронте и боях. Адвоката самого дома не было. Он жил в Ростове и работал в структурах Донского Войска. Семьи же его оставалось пять человек: жена и четверо детей: старшая дочь, лет девятнадцати, молчаливый парень лет четырнадцати и два мальчика-близнеца семи лет. Михаил, как уже было сказано, нелюбил особо разговаривать, но тут, когда на него с жадным ожиданием и восторгом смотрело пять пар глаз, он не мог отказать. Несколько месяцев он упражнялся в красноречии, повествуя то о Галицийских битвах и осаде Перемышля, то о Втором Кубанском походе и усталых пыльных офицерах, взявших Екатеринодар. Он рассказал как о своих фронтовых друзьях на Германской войне, так и об уже известных нам Туркуле, ставшем полковником, Покровском, ставшем подпоручиком, о Маркове и Быке и обо всех других, кто уже отдал Богу душу и кто еще не успел. Через месяц он пересказал ну уж вообще все, что мог выдать его слабый на повествование язык, да еще по два раза, и ему приходилось вспоминать слабо знакомых людей или тех, кого он видел раз или два. И даже такие рассказы о случайных встречных, рассказы в три предложения, вызывали восторг на лицах слушающих. Семилетние мальчики-близнецы, нередко вскакивали, брались за игрушечные деревянные сабельки и принимались с по-детски нахмуренными лицами наступать на большевиков и немцев. Скромно, не умеючи повествовавший Геневский единственно в это время громко смеялся, отчего все решили, что он любит детей. Детей Геневский, кажется, не сильно любил, но после открытия этого «факта», к нему стала приходить старшая дочь адвоката. Она приносила ему утром завтрак, фрукты днем и приглашала на общую прогулку по вечерам. Почти всегда, принеся тарелку с виноградом, она задерживалась и о чем-то рассказывала сама. Первое время она пыталась расспрашивать Геневского о его подвигах наедине и даже переходить на более личные темы, но Михаил в такой обстановке был более чем апатичен, лежал на той кушетке и отвечал вяло. Девушка эта казалась ему милой, белый сарафан делал ее грациозной, а улыбка, восторг и чуть не открытая увлеченность как нельзя лучше красили ее и без того чудесное личико. Но Геневский слабо смотрел на это лицо; он благодарил за завтраки и через раз ходил гулять по бульварам и набережной, но на девушку смотрел лишь как на представителя тех правильных и настоящих людей, которых он так желал видеть вокруг себя. Она успокаивала его потребность в людях, но более ничего. На часах одиннадцать тридцать. Михаил встает с кушетки, оглядывает себя в шикарном старинном зеркале — он похорошел и помолодел за месяцы ленивого отдыха. Но сегодняшний день — особенный. Последний. Весь Таганрог, если внимательно вглядываться в лица людей, был живым и настоящим почти по одной причине — все они предвкушали окончательную победу Вооруженных Сил Юга России над большевиками. В каждом спешащем на службу чиновнике, в каждом подметающем обочины дворнике, в каждой вдове-лавочнице и в каждом крестьянине, испытавшем на себе военный коммунизм, горело это ожидание: скорей бы, скорей бы вернули Москву! Потому последний, особенный день был для Геневского таким важным — завтра он возвращался на фронт. Михаил странно смотрел на возвращение, казалось, что он едет в теплый и сытный дом, к своим родным, — ни в коем случае не забывал своего брата и сестру, своего города, но ему было необходимо ехать туда, где он был нужен. Последний день Михаил ходил не по-военному, в обычном костюме, последний день он жил в этой комнате, последний день наслаждался этой веткой сирени и жарким летом Таганрога. Но город пылал и благоухал еще по одной причине — Варвара выходит замуж. Жених ее, поручик Лотарев, был молодым человеком двадцати четырех лет, офицером Сводно-гвардейского полка 5-й пехотной дивизии. Честно говоря, Геневский не видел ничего удивительного или трепетного в том, что сестра его выходит замуж. Женитьбу сестры он считал таким же естественным и чуть не бытовым событием, как рождение, крещение и смерть. Вдобавок к этому, Михаила очень заботила война и стремление к Москве — так что на жениха-поручика мозг его слабо отвлекался. Михаил неосознанно доверился брату. А брат, кажется, был уверен в Лотареве, как в себе самом. Свадьба должна была случиться только через неделю, так что Михаил на нее не успевал, впрочем, он и не думал, что может позволить себе задержаться; сегодня же намечался ужин в условно семейно-дружеской компании: Михаил, Матвей, Варвара, ее жених, две подруги Варвары из гимназии, прапорщик Бык, отправляющийся на другой день с Михаилом, и сослуживец Матвея — старый полковник. Сам Матвей направлялся Ставкой в Харьков в штаб Харьковской области; на свадьбу сестры он сам едва успевал. А после самой свадьбы, дня через четыре, поручик Лотарев отбывал к гвардейцам — Таганрог шел в последний бой. Сестра была олицетворением всей таганрогской весны, уже в который раз бегло озарившей лица Геневских. Но даже так было тоскливо слышать ее возбужденные рассказы о переезде в Петербург вместе с женихом; у Лотаревых уже не было ни одного поместья, но в столице оставались доходные дома — в наступающей поре незыблемости частной собственности они надеялись их вернуть. Лицо у Лотарева было честное — прямо как золотой рубль: он выглядел на ту же стоимость — главное, чтобы не случилась инфляция. Сестра общалась с ним почти ровно, как с братьями — словно он был ей третьим братом, с которым она росла все девятнадцать лет. Но то были лишь, разумеется, вернувшиеся манеры — она знала жениха лишь пару месяцев, и наедине пыл рушил образ привыкшей сестры, не нарушая порядочности. Михаил в тот вечер был в полнейшей прострации и забытьи и себя не помнил. Кажется, он был даже особенно словоохотлив и весел. Все казалось ему радостью, каждый встречный был другом, которого он тут же забывал. Перед тем, как прибыть на вечер к брату (Геневский, по рассеянности или по особенному возбуждению, думал, что просто идет в гости к брату, а не прощаться с сестрой и благословлять ее на свадьбу), Михаил вдоволь нагулялся с дочерью адвоката. Он все шутил и даже вдруг купил ей цветы у уличного торговца — адвокатская дочь расцвела краше букета, но Михаил и этого не заметил. Он все шел и восхищался миром — то целых двадцать минут говорил о своей распускающейся сирени, словно в самом деле сделался поэтом, то вещал о ночной красе кубанских степей. То он вдруг бросался разглядывать мир в упор и говорил обо всех скамейках, голубях, вывесках и офицерских саблях, качающихся у пояса. Он лишь боялся упоминать фронт, боялся, что если сейчас он наговорит о нем чересчур много, то назавтра уже остынет. Понятное дело, что почти четыре месяца отпуска сильно наскучили Михаилу, который чувствовал, что дело делается без него, — а он там нужен. Но даже так могло показаться, что Михаил пребывает в слишком возбужденном и помешанном состоянии. Матвей, встретив брата на пороге своих комнат (Михаил сбежал от спутницы в подъезд дома брата, чуть не забыв попрощаться), так прямо и сказал: «Брат, в своем ли ты уме? Ты разве водки выпил?», — Михаил постарался его успокоить, но весь вечер вел себя точно так же. Сперва он просто сидел с сестрой и ее подругами, продолжая рассказывать им фронтовые истории и какие-то чуть не пошлые анекдоты. Девушки смеялись, но сразу заметили странность Михаила. Водки он, в самом деле, не пил и с ума, кажется, не сошел; он просто отпустил свой характер на волю, руководствуясь одной-единственной мыслью: раз скоро конец, то все нормы — долой. Вероятно, он верил, что «конец» это конец гражданской войны и взятие Москвы. Вероятно, что конец был другой… Впрочем, позже об этом. Матвей, его сослуживец и поручик Лотарев изрядно устали от ненужного потока слов прапорщика Быка; тот вел себя парадоксально — кажется, был скромным и замолкал от каждого раздраженного взгляда, которыми его щедро одаривал Матвей, но этих взглядов было куда меньше, чем слов у Быка. Кратко его речь по темам можно разбить так: гордость от того, что он стал подпоручиком — рассуждение о самих чинах и табели о рангах — упоминание личности Петра, создавшего табель — переход с Петра на уже знакомого Лейбница, а с Лейбница вдруг на Рене Декарта. О последнем была высказана парадоксальная мысль: философ, стремящийся доказать существование Бога, помог Бога уничтожить, — поскольку его рациональная философия помогла уничтожить религиозное сознание. Примерно так понял получасовые попытки нормального разговора Матвей. На деле же были высказаны более сложные формулировки; полковник Геневский, вдруг разозлившись, форменно подошел к своему брату, схватил его за плечо, извинился перед дамами и утащил брата к себе; Быка же он попросил сходить за белым вином, что тот с удовольствием и исполнил, наивно убежав в магазин. Белое вино, разумеется, дома было. Начался более умеренный, более семейный и более праздный разговор. Михаил все был весел и не похож на самого себя; Матвей же, то ли от глупостей Быка, то ли по какой другой причине, был куда более хмурым, молчаливым и холодным, чем в тот день 1918 года, когда приехал его брат. Причины своего настроения он не называл, да и не замечали особенно: все были озабоченно-веселы, не меньше Михаила. Поручик, понятное дело, был рад своей свадьбе и влюблен, пусть и тоже возбужден войной, сослуживец Матвея радовался своему переводу (он тоже назначался в Харьков и радовался по-старому: как мирному повышению в чинах), Бык же… черт его знает, но тоже был наверно рад. Михаил совершенно не помнил, что говорил в тот день, чем восхищался, чему был рад. Он смутно помнил, что хотел добиться от Лотарева какого-то раскрытия, может быть, глубин его характера; но, вспоминая об этом, Геневский считал, что добивался дурости. В целом Михаил вынес одно мнение о поручике (вероятно, навеянное предыдущей метафорой о рубле): его золотой волос был равен его золотому нраву. Иной раз поручик походил по намерениям на Дон Кихота, — хотя даже не так, — на рыцаря, не карикатурного Ламанчского рыцаря, но на не менее карикатурного благородного дворянина, взявшего меч не ради славы, а по необходимости. Успокоившись на этом образе, Михаил более о своем будущем зяте не задумывался. Но задумался о других вещах. Услышав, что общий разговор идет о назначении будущих министров, а конкретно о военном министре, место которого должен занять генерал Май-Маевский, Михаил вскочил со стула, поднял бокал с вином (Бык уже вернулся) и заговорил: — Господа, почему же наш маленький Таганрог вдруг сделался столицей? Нет, нет! Столицей должен быть Харьков! Посудите: мы с вами находимся в Харьковской области ВСЮР, генерал Май — главноначальствующий этой области, сам город был взят славным полковником Туркулом; так какая разница, где находится Особое совещание, если столько доблести… — Успокойся, Михаил, — старший брат как-то особенно болезненно посмотрел на младшего. — Давай просто выпьем за Харьков. Генерал Май, человек плотный и коренастый, даже очень плотный и очень коренастый, был большим любимцем армии. Он надел малиновые погоны рядового уже на Дону, а потом даже руководил дроздовцами какое-то время. В мае Деникин назначил его командующим всей Добровольческой армией (которая уже, конечно, являлась не единственной и не самой многочисленной армией Юга России — зато самой боеспособной), и Май освободил от большевиков большие пространства Донбасса и Харьковщины. Все любили его за мягкий характер и, одновременно, за блестящий стратегический интеллект. Все верили, что именно генерал Май возьмет Москву. Разговор перешел от министров к наступлению. Господа сидели впятером, тесным кругом, забыв совсем, зачем собрались, — обсуждали войну. Девушки сидели поодаль и, казалось, тоже забыли о будущей свадьбе. — Самое главное, что сейчас необходимо сделать, это не вмешиваться в украинский вопрос, — твердо сказал Матвей. — Взятие Киева будет для нас катастрофой. Мы оттянем войска на запад в сложный регион и немилосердно растянем фронт. Этого допустить нельзя. — Но как же, милостивый государь, — старичок-полковник возражал Матвею, — мне кажется, должно освобождать все города, которые жаждут освобождения, ведь, помилуйте, как же нам не освободить людей, если мы армия освобождения? — Верно сказано, господин полковник, — продолжал Матвей, — но мы — армия. Вдумайтесь только! Мы — не государство, пускай у нас есть своя валюта, правительство, территориальное деление, черт его побрал бы, пускай. Но мы — не государство, мы — армия, которая играет роль государства. Помните, что говорил корсиканец о Пруссии? У многих государств есть армия, только у прусской армии есть государство. — Извините, но это сказал Вольтер, — робко заметил Бык. — Вольтер? Кто?.. Не важно: суть в том, что у нас третья ситуация: у нас есть армия, но нет государства. Мы живем во ВСЮР — на территории Вооруженных Сил. — Наполеон сказал, что Пруссия вылупилась из пушечного ядра, — вновь заметил сердобольный Бык. — Да не о немцах речь! О другом. У армии благородные цели, но армия не может решить политического или национального вопроса без государства — вот поэтому нам нельзя лезть в Киев. Туда полезут государственные послы и государственная же армия после освобождения и возрождения России. Пан гетман пред своим концом хотел положить Украину к престолу русского Государя, так на Украине он не один такой. — Ты сам лезешь в украинский вопрос, брат, — усмехнулся Михаил. — Не существует украинского вопроса! Существует ясная, как день, необходимость не лезть в Киев до взятия Москвы. Нужно идти по прямой линии через Курск и Орел — возьмем Орел, и уже ничего не случится, большевики разбегутся. — Но вы погодите, господин полковник, — вмешался тут Лотарев. — Вы, верно, думаете, что главнокомандующий с его учредительным собранием изберет свежие национальные силы? Туда набегут вчерашние террористы Савинковы, предатели Керенские и умеренные социалисты типа Мартова. Кто еще? Вологодский, Чернов, Авксеньтьев, Минор… — Лотарев силился вспомнить фамилии, — кто, Азев? Весь этот смрад, из-за которых и случились революции! В правом углу будут сидеть два-три человека — и каких? Крикливый Пуришкевич и февралист Шульгин. Вы верно думаете, что Алексеев или Корнилов искупили свои грехи и измену созданием Добровольческой армии!? Я склонен думать, что они этим не искупили и четверти наделанного с февраля. — Как вы завелись, господин поручик! (Матвей впервые усмехнулся, поскольку заметил, как Варвара завороженно посматривала на вспыльчивый монолог Лотарева). Вы будто бы думаете, что мы с вами не согласны, — но я согласен точно; разве что о степени искупления генералами своих грехов можно поспорить, но это пустое. Я лишь хотел сказать, что мы всего лишь армия, а нам нужно государство; мы не политики, мы солдаты. — Помнится мне, что государства всегда возникают по воле солдат, то есть, я хочу сказать, что государства возникают из войн и завоеваний, — отвечал Лотарев. — Это хорошая версия, хотя, наверно, не все государства так образуются. — Господа, но как же, мы входим в состав Российского Государства, а ВСЮР входит в состав новой Русской армии. Неужели не так? — удивился Бык. — Так; но так только на бумаге. Мы не соединены ни с одним другим фронтом, — рассуждал Матвей, — ни с Юденичем, ни с Миллером, ни с Колчаком нет единого фронта, нет регулярного сообщения, нет хоть маленького общего ручейка по суше. — В сибирском правительстве — одни эсеры и кадеты! — заявил Лотарев. — Мне смешно слышать от красных о якобы бурной реакционности Колчака. Александр Васильевич — адмирал, фигура, я слышал, романтическая и благородная, но он не военный стратег и не политический лидер. — Что ж, вам не нравится Верховный? — спросил Матвей. — Нельзя, чтобы он нравился, или не нравился; я могу его признавать, или не признавать — и я признаю, потому как почитаю единение за благо. Но при этом же я считаю, что Колчак совершенно не на месте, а повсеместное удержание власти в руках конституционалистов и левых — путь к нашему поражению. — Но что же плохого в конституции? — спросил Бык. — Вы, наверное, понимаете ее как брошюрку социалистов, от которой душится вся державная власть. Я смею с вами не согласиться, господин поручик, конституция, если кратко, это всего лишь единый свод законов государства. Вот и все. — Я сейчас расскажу вам, что такое единый свод законов государства, — продолжал Лотарев (надо отдать ему должное — во время своих громких заявлений он не повышал голоса выше позволенного и не делал злобных выражений; он только выплескивал накопившиеся мысли, которые, видно застоялись). — Конституция это не простой свод законов, это такой свод, который закрепляет свободу слова, собраний и религий. Конституция это такой свод, который закрепляет обязательную власть парламента: Государь обязан делить свою державную, как вы успели выразиться, власть с… с адвокатами и писателями! Тут Лотарев резко дернул головой и отвернулся, а Михаил смутился и сделал несколько грустное выражение — его задело упоминание адвокатов. — Дайте догадаться, господин Лотарев, вы одобряете черту оседлости? — Матвей усмехнулся второй раз за вечер. Никто не сказал бы точно, согласен старший Геневский с Лотаревым или нет. — Разумеется. Вы читали, господин полковник, Статистические ежегодники? Ясно видно: еврейские погромы в сотни раз возросли во время революционных восстаний. Не старые реакционеры бьют евреев, а новые демократы; старые евреев прятали от демократов ради своей и их собственной — еврейской — безопасности. — Интересно вещаете. Варваре вещали? — спросил Матвей. Лотарев выпрямился, захотел было застегнуть пуговицу френча, но все были застегнуты. — Никак нет, господин полковник, — ответил он, — такие разговоры не для женщин. — Так вы, должно быть, — продолжал Матвей, — не любите и Деникина? Зачем же воюете под его командованием? Есть ведь и другие генералы. Михаил поостыл и стал лишь привычно, с любопытством, наблюдать за разговором. Старичок-полковник тоже затих, но наблюдал несколько боязливо. Бык смотрел на Матвея и Лотарева, словно они был далеко — упер подбородок в руку, нахмурился и глядел в упор с жадным интересом, хотя расстояния до них не было и аршина. — Не люблю. Но я был здесь, в Одессе, когда воссоздавали Преображенский полк. Я не мог не прийти, я — военный, не мне обсуждать и осуждать приказы. А люблю я, знаете кого: Май-Маевского, сибирского Дитерихса, любил Келлера за его жаркую преданность… Да будто сами не знаете. Люблю дроздовцев. — Господа, — тихо сказал Михаил и снова встал, — давайте не станем ругаться: все мы бьемся за то, за что жаром дышат генералы Дитерихс и Май, за что сражались и умерли генералы Келлер и Дроздовский. Давайте выпьем за упокой души… Нет, нет…. — Что ты, как язычник, — сказал Матвей. — Нет, прошу меня простить. Не за упокой. Но за победу их дела — за победу русской монархии в этой черной войне! Встали все. Подошла и Варвара с подругами, подняли бокалы, стали чокаться… *** — Скорей, братцы, за Дроздовского! — Туркул, обезумевший, тяжело дышащий бежал через буран пуль вперед — атаковали бесконечно, без передышек и отдыха. Казалось, что на Москву не наступали, не шли, казалось, что на Москву бежали. Вступили на курскую землю. Дмитриев, Севск, Комаричево — чем ближе к Орлу и центру мира подходили дроздовцы, тем больше глаза Туркула светились одному ему известной призрачной тревогой. Он становился дерганнее, резче, гнал войска вперед. Не стоило указывать ему на это, — полковник бы мигом спрятал тревогу глубоко в глаза и мирно отшутился. Мол, чего вы, господин капитан, каркаете: вокруг уже Московией пахнет. Туркул, конечно, знал, что Орел освободят. Но он не знал, что будет дальше. Полковник все гнал и гнал вперед, залившись по́том по горло, он яростно и упорно маневрировал, водил свой полуторатысячный полк среди адских бесконечных сонм, брал села и города. Курская губерния… Орел был близок, но медлить было нельзя, нельзя было останавливаться. Ведь после Орла каких-то три сотни верст до Москвы и — победа. Три сотни верст можно пройти за неделю, если будет приказано. Вперед, на Орел! Вперед, на Тулу! Вперед, на Москву!.. Веяло черной метелью. Веяло первобытной, девственной, предрассветной землей. И не ясно, откуда — армия, словно сам Туркул, бежит вперед, никого не нужно подгонять. Неужели в освобождаемых городах было столько большевистского смрада, что он заполнял ноздри и души? Неужели солдаты и офицеры глядели на великое множество притеснений, грабежей, убийств и сами от того видели впереди лишь притеснения и убийства? Неужели черный дух настолько впитался в русскую землю за два с половиной года безумства? Или, в самом деле, сам рок и сама судьба оставляли этот след: дуют страшные ветра по выжженной земле, на которой уже не будет человека. Сам Геневский испугался. Не поражений даже испугался, не своих ранений или смерти, нет. Он испугался того черного будущего, которое вдруг увидел в курских лесах и равнинах; он испугался того страшнейшего смешения родной русской природы и неродной убийственной жестокости. Он испугался, что жестокость по природе своей станет сильнее благородства и свободолюбия, испугался, что величественная страсть этого черного ветра сдерет с души все чистое и покойное. Да, сказать проще, он действительно испугался поражения и смерти, — но не военного поражения: Геневский испугался поражения человека; смерти человека, как такового. *** Но не будем спешить и гнать к концу октября, вместо этого следует немного вернуться. Сентябрь был теплым. Сопротивление противника по всему фронту было сломлено; большевик, было перешедший в контратаку на Харьков, везде разбит и изгнан. Дроздовские полки успешно форсируют реку Сейм. 1-й дроздовский полк Туркула в 1600 штыков и 2-й дроздовский полк Манштейна в 900 штыков раскалывают большевистские силы. Дроздовцы — один из авангардов новой более чем стотысячной русской армии — верно и быстро двигаются на север. Но движение вперед затруднялось: на этом берегу Сейма болотистая местность разделяла фронт: дроздовцы оказались отрезанными от корниловцев — другого добровольческого авангарда. Последние занимали железную дорогу от освобожденного Курска к Орлу. Никакого соперничества за инициативу не было; сам Туркул бы, что называется, усом не повел, если бы находился от Москвы в сотне верст во время ее освобождения: от ликования он бы забыл обидеться. Со стороны Дмитриева подходят, вновь и вновь войска противника — дроздовские полки отправляются туда. К 21-му сентября Дмитриев взят. Дивизия долго укреплялась в этом районе: большевики били по линии Севск-Дмитриев беспрестанно. 22-го сентября Туркула снова ранят — шрапнелью в руку, — но тот продолжает командовать войсками. В район подтянулась вся Дроздовская дивизия. Авангард, растянут более чем на сто верст: дроздовцы — до четырех тысяч бойцов, корниловцы — чуть более четырех тысяч и 1-я кавалерийская дивизия — полторы тысячи (еще марковцы и алексеевцы на правом фланге — далеко) противостояли тридцати тысячам красных. В ближнем тылу формировались новые марковские и дроздовские полки, а также дивизион гусар, — но их нельзя было ждать скоро. Севск брали уже привычно: психологической атакой. Пять длинных рядов из широкогрудых малиновых дроздов медленно шли в атаку. Винтовки держали, как на параде, на плечо. Ни остановиться, ни поднять раненых нельзя, приходится не глядя, молча, скрепя сердце, переступать, — враг должен видеть черную тучу взглядов, медленно надвигающуюся на него. Взгляд вперед — так, что Геневский не видел ни идущего слева Мартева, ни идущего справа Покровского. Не видел, но догадывался, что они чувствовали, а чувствовали все одно и то же. Главным сигналом тревоги для Михаила была усталость. Он четко осознавал, что идут они не только по привычке, но и от усталости — бежать уже было невозможно. Михаил воевал с самого начала июля без какой-либо передышки, без здорового сна, без выходных и праздников; каждый день лишь смерть, кровь и жестокость. Половину лета отбивали большевиков от Харькова и уже второй месяц гнали их по России. Все устали, озлобились и почти выдохлись: этот удар на Севск был одним из последних возможных злобных выдохов. Красные не выдержали. Бросили пулеметы и побежали — Туркул вновь взял город. Перестрелок на улицах города было мало, скоро всех одолели, перебили и пленили для будущей перевербовки. Пройдя город насквозь, полковник остановил 1-й дроздовский полк для перегруппировки и распределения по постам. Стали у колокольни Успенского собора, некогда ярко-белой, ныне же цвета шелухи, с отвалившимися кирпичами и заваленными досками окнами. Не заколоченными — в проемах просто торчали груды досок. У колокольни стал сбираться народ. Иные шептались между собой и спрашивали о чем-то офицеров, иные не верили приходу белых, иные ликовали. Несколько крепких стариков (на улицах вообще не было заметно молодых мужчин — все были мобилизованы, или ушли в село, или партизанить под красными) стали вынимать доски из окон колокольни — они громко жалели о расстреле священника и о том, что из города увезли почти все иконы. Тут в общем гомоне народа послышались метко обращенные возгласы: — Господин полковник! Господин полковник! — к офицерам бежал на одной здоровой ноге и одном костыле человек явно военного вида. Одной рукой он тащил за рукав какого-то тощего подростка, но тот и не думал сопротивляться, пусть и вид имел весьма мрачный. Туркул, с командирами рот и взводов разглядывающий карту, стоял к бегущему инвалиду спиной, спиной и откликнулся: — Я господин полковник, докладывайте! — после чего развернулся очень нескоро. — Здравия желаю, господин полковник! — человек подбежал, встал во фронт и отдал честь, уронив при этом костыль. Туркул развернулся и мигом, не изменившись в лице, узнал человека. — Вот, снова с нами! Как же тебя, ефрейтор… Лужин? Лугин? — Лунин, господин полковник, — отвечал сияющий ефрейтор. — Чудо! Какими судьбами здесь? — В плен попал, да раненым. Вот бежать к вам думали-с из больницы, а то как же иначе, а вы сами прибежали. — На одной ноге бы прибежал? — И без ног бы прибежал! Поверили краснопузые, что раз я, понимаешь ли, человек из народа, то к ним, как кошка, значит, на молоко должен. А вот им! — Лунин показал кукиш в сторону северной окраины города. — А этот господин что, с тобой лежал? — кивнул Туркул на угрюмого подростка. — На солдата не похож. — С нами. Да он из курсантов, господин полковник, сначала, кажись, хотел было наших сдавать. — С вами, солдатами, студентик лежал? — Туркул прикурил и мимолетом отпустил по постам ожидающих приказа офицеров. — А то! Свалили, как дрова в поленницу, господин полковник. — Ишь какие, шельмы. Ну, так что ж ты его привел ко мне? Не знаешь, куда следует таких? — глаза Туркула блеснули. — Никак нет, господин полковник, пострел этот не прост: сначала ходил по больнице партбилетом кичился, а потом стих. Да и не сдал никого. — Партбилет, говоришь! Ты, малый, коммунист? — обратился Туркул к подростку. Тот насупился и помотал головой. — Зачем ко мне привел, ефрейтор? — вновь повторил Туркул. — Так он же к нам сам хочет! Не выдал никого, хотя с него требовали, мол, ты наша будущая плоть, или как там, говори, кто беляк, — партии нужно вычислять паразитов. Аль как иначе говорили, — а он ничего, говорит, нет белых и все тут, клянусь, эдак сказал, верностью Ленину, или как еще сказал. — Так что ж вы, глупые солдатушки, при нем о побеге говорили? Эх, год вместе служили, а так дурака валяете. Сколько тебе, коммунист? — усмехнулся Туркул. — Восемнадцать, — тихо и хрипло ответил он, опустив глаза. — Не верю. Больно тощий. — Ел мало. — Поди ж ты: партийных курсантов тоже не кормят? — Куда там… — К нам хочешь? Он кивнул. Туркул высказал несколько одобрительных слов ефрейтору и попросил его вернуться в больницу долечиваться. А потом обратился прямо к Геневскому. — У вас, господин капитан, брат в сберегательной кассе служил? — Так точно, господин полковник. — Рассказал, как дело вести? — Ну, кое-о-чем разумею. — Возьмите себе пару офицеров и наскоро организуйте тут вербовочный пункт. Этого пострела запишите: я по глазам вижу — человек честный, пусть и заблудился. Определите его в тыл. Город небольшой, пару дней поработаете, и хорошо. И, конечно, если придет отпетая комиссарщина, то их по шее и на допрос. — Как же определить, господин полковник? — удивился Геневский. — Как же! — Туркул затушил папиросу. — Смотрите, господин капитан, в лицо внимательно — если видите, что ублюдок и мразь, а не человек, то, как я сказал, по шее и ко мне в штаб. Здания сейчас найдем, и вам, и мне. Тут Туркул крикнул ординарца. Помещения были найдены в полчаса. Геневский нисколько не растерялся новой для него должности — он уверенно записал этого уже бывшего коммуниста, который теперь с робкой гордостью показывал разорванный партийный билет, в тыловую школу и пообещал отправить его туда с первым эшелоном снабжения. Весь день и даже половину следующего офицеры ходили по городу и расклеивали листовки с призывами. Адрес на них помещался. Ликование горожан вырвалось колокольным звоном и вечерними песнями, пусть и в некоторых местах весьма пьяными. Дроздовцев встретили, как долгожданных гостей, а дети все норовили подержать в руках их красивые цветные фуражки. До утра в городе не смолкал народный гул — ходили девушки с цветами и старички с гитарами. Михаилу, никогда до этого не работавшему в штабе или в канцелярии, пришлось вспоминать юнкерские годы: он писал два дня часов по десять-двенадцать. Первые два часа кроме бывшего курсанта не заявился никто — капитан прямо стал бояться, что добровольческий пыл закончился. Оказалось, что люди просто еще не знали, куда идти, — а потом градом повалили. Два дня, больше двадцати часов бумажной работы и три сотни новых добровольцев. Но все равно — войск было мало. Мощи добровольцев не хватало и, пусть ВСЮР насчитывало до полутора сотен тысяч бойцов, добровольцев в армии было лишь около трети. А занятые пространства не позволяли вовремя высвобождать силы. 30 сентября Туркул и Манштейн встретились на полевом совещании — весь месяц бег шел вперед, но теперь дроздовцы уже сколько времени не могли пробиться дальше Севска. Геневский не был непосредственным участником совещания, но мог все видеть, поскольку стоял в охранении точно на том же месте — карты разложили на двух ящиках у окраины деревни. Полковник Владимир Манштейн, молодой и талантливый командир, отличался отсутствием левой руки и тонким печальным лицом. Даже при энергичном и позитивном Туркуле Манштейн улыбался мало; фамилия его, чисто немецкая, никак его не клеймила: Владимир не знал немецкого языка и страшно немца ненавидел за прошедшую войну. Михаил видел его не первый раз, но ни разу ему не удавалось видеть Манштейна в бою. Поговаривали, что в атаке он становился форменным зверем, раскидывал красных направо и налево, а на лице его вырезался жуткий оскал. Но как это грустное лицо с опущенными глазами могло выразиться в оскал? Как этот отрешенный человек мог становиться зверем? Погода стояла по-летнему теплая. Офицеры в охранении стояли в настроении: кто-то глядел вдаль, кто-то грыз яблоко, кто-то, напевая себя под нос, чистил оружие. Рядом с двумя полковниками стояли лишь их ординарцы; но день был ленивый и душный, артиллерия еще не получила достатка снарядов для новой атаки — с одной картечью не попрешь; потому никаких срочных решений принято не было. Туркул встал от карты, посмотрел на окружные дома, закурил и глубоко затянулся. — Не желаете, господин полковник? — спросил он Манштейна. Тот не отказался. — Чай, опять отец табачком не делится? — Куда там, — вздохнув, отвечал Манштейн. Его престарелый отец, на чин младше сына, тоже служил в дроздовском полку, но без какой-либо должности. — Известно: кроме войны он только табак уважает — мне не даст. — Врете, господин полковник, — улыбался Туркул, — как мы, бывало, начнем завираться, что во всем 1-й полк лучше 2-го, так он за вас, господин полковник, готов даже меня передушить. — И это известно; да что с того? Полагаю, если б Вы сказали, что Ваша сигаретка лучше его закромов, то он бы Вас точно придушил, — отвечал Манштейн и ежился одним плечом, будто бы было холодно. — Мерзнете? — Мерзну, господин полковник, мерзну. Хотелось бы уже отсидеться у камина в крупном городе. С Харькова по большим уездным деревням ходим, кроме как под вражеским огнем негде греться. Туркул было расхохотался, а Манштейн было хотел продолжить свое тоскливое разглядывание земли, однако, со стороны штаба прибежал офицер — на лице его не скрывалось ликование. — Разрешите доложить! — крикнул прибежавший, даже запыхавшись — от радости, а не от бега. — Докладывайте, — разрешил Туркул, погасив папиросу. — Корниловская дивизия взяла Орел! — Ну вот, а вы говорите негде греться: в Орле и со… — Так их, мать вашу! — Манштейн, вдруг побагровевший лицом и ставший сразу на голову выше, рубанул кулаком по ящику с картой и проломил его. — Что, комиссарщина б******я, думали, что все так просто? Хари свои красные отожрали на русских костях, ведьмы? А нечего, нечего им, господин полковник: теперь и Орел наш. Стервы чрезвычайные! — тут он, облагородился видом, действительно изобразил довольно красивый оскал и выдал множество слов, с которыми окружающие офицеры были согласны. — Не могу теперь медлить, господин полковник, должно ехать в полк! — Манштейн выхватил из рук адъютанта поводья, вскочил на коня и с одной рукой умчался так, как не управился бы и черкесский джигит. Туркул вновь рассмеялся, посмотрел по сторонам и заметил Михаила: — Ну, господин капитан, разве с такими офицерами нам не взять Москвы? Чудо! Только вот разрыв мне не нравится. — Туркул расправил надорванную ударом карту и вдруг сник и задумался: между дроздовцами и корниловцами теперь шестьдесят верст пустого фронта… *** И шестьдесят верст разрыва не остались незамеченными. Красные ринулись туда толпой, захватывали деревни и пытались прорваться в тыл корниловцам, чтобы перерезать железную дорогу на юг до Курска. Резервов не было никаких. Из Курска спешно выслали несформированный батальон марковцев, из самого Орла отправили один корниловский полк и, главное для нас, в дроздовских частях сформировали особый отряд Туркула, чуть более чем в тысячу человек. И без того малочисленным на этом фронте силам ВСЮР приходилось выделять отряды для контратаки в разрыв. Все одно: Орел был взят. Отряд Туркула действовал энергично и в первый же день разбил упорно сопротивляющихся большевиков у деревни Рублино. Проблема была большая: деревень в прорыве было изрядное количество, и не было никаких точных сведений, где именно находятся большевики. Геневский вновь почуял в этом след черного ветра и испугался чуть сильнее. Испуг его был мнимым, поскольку он твердо верил в силу и упорство дроздовцев — больше полутора лет уже святые солдаты мертвого Дроздовского уничтожали во много раз превосходящие силы. Но черный ветер не кололся штыком и не разрывался пулей, черный ветер был самой историей, или, как выражался Покровский, прекрасно понимавший Михаила, — Божиим попущением за русское предательство в 1917-м году. На лице Туркула все заметнее виднелась тревога. Поговаривали, что корниловский полк разбит и отступил, но сам полковник пока гнал противника. Разрыв фронта не был стратегический ошибкой, виной ему не служила даже малочисленность или недостаток снарядов: талантливые генералы всегда с таким справлялись. Виной прорыву служил порок куда более губительный: противника уже почитали разбитым и не способным ни на что. «Если знаешь противника и знаешь себя, сражайся хоть сто раз, опасности не будет; если знаешь себя, а его не знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь поражение; если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение», — писал Сунь Цзы. Генерал Май и сам генерал Деникин, утверждавший после взятия Орла, что видит Москву в подзорную трубу, теперь не знали врага. 6 октября положение стало еще более неизведанным. Самым страшным знамением было одно: Туркул перестал шутить. Отряд его шел из деревни Жихарево. Он разбил большой отряд кавалерии, загнав его в тесную долину: блестящие атаки пехоты и сосредоточенный огонь артиллерии, стоявшей прямо на открытой местности, разорвали ряды красных. Пленные красные были в панике: они утверждали, что шли по своему глубокому тылу. Подпоручик Покровский, наш знакомый, наблюдал скорое совещание офицеров, а после быстро нашел Геневского, который возвращался из разъезда. — Мы в глубоком красном тылу, изолированы от своих, — сказал Покровский глухо. — Мы не знаем, где наши отряды, а где вражеские. — Но ведь Орел взят!.. — отвечал Михаил почти с религиозным трепетом. — Не может теперь быть поражений. — Орел — это город, друг мой. Города берут и отдают, — тут он уронил голову и прошептал: — «И сказал им Моисей: если вы это сделаете, если вооруженные пойдете на войну пред Господом, и пойдет каждый из вас вооруженный за Иордан пред Господом, доколе не истребит Он врагов Своих пред Собою, и покорена будет земля пред Господом, то после возвратитесь и будете неповинны пред Господом и пред Израилем, и будет земля сия у вас во владении пред Господом». — Как ты все помнишь? — прошептал Геневский в ответ. — Истину нельзя забыть. Истина ведет нас. Христос незримо присутствует в храме при службах: так война наша служба и поле — наш храм. Молись Богу, от Него победа. — Бог дал нам Орел и тень Москвы. Неужели ты веришь, что Он может отнять это? — Мы жертвуем, быть может, не для победы — но для символа победы. Помни, Христос не создавал государств и бежал от царствия земного. Но не прошло и нескольких столетий, как все цивилизованное человечество приняло Его. Я не знаю, проиграем ли мы. Но верно одно: знамя нашей борьбы не упадет, даже если мы все умрем. Сам Христос будет держать его — незримый и вездесущий. «Се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». — Там, где двое собрались во Имя Мое, там и Я среди них. А если двое умрут… Как бы выразиться, во Имя Христа? — спросил Михаил. — Нет больше той любви, как если кто положит душу за други своя. Но помни: первая заповедь есть любовь к Богу, и лишь вторая любовь к себе и другим. Впрочем, я что-то заговариваюсь, странная логика. Знаешь… — Господа! — подбежал Мартев. Он уже очень хорошо говорил: — На правый фланг атака, скорее! Послышались раскаты орудий, но лишь три офицера ринулись к своим, как всех троих разметал разрыв снаряда.
Глава восьмая. Триумф Орла
Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Книга Екклесиаста. Библия.
«Кругом непонятная, непроглядная тьма, переименовали учебные заведения в трудовые школы, а дети с января бьют баклуши… Все учреждения набиты семитами от 13 лет до глубокой старости. Буржуев всех поголовно выселяют из дома и из города… неразбериха по всей коммуне, устали ждать правильной хорошей жизни, возят чужое сено, рубят догола лес, имения стоят разоренные, и это называется хороший порядок и хозяйство» (Орловская губерния, Елец, 21 июля 1919 г.).8 «Когда объявили коммунистам идти на войну, то они стали правее кадетов и записались в зеленую армию» (Тамбовская губерния, Кулики, 9 июля, 1919 г.).9 «В Мценске было почти открытое возмущение. Власти надругались над мощами св. Кукши в монастыре <…> Потом порешили взять Николая Угодника и бросить его в реку <…> Собралась тысячная толпа, власти дали 3 выстрела <…> и уехали, руководил ими еврей» (Орловская губерния, Мценск, 3 июля 1919 г.).10 «Бабы взошли на завод, запретили всем работать и у начальства стали просить хлеба; два дня завод не работал, выдали по 2 фунта хлеба; вскоре опять вспыхнет забастовка. Когда здесь был Калинин, то четырех мастеровых вынесли мертвыми с завода от голода; не пройдет дня, чтобы кто-нибудь не умер от голода, а большевики имеют по 20 пудов белой муки. Наверно, скоро будет свержение власти» (Орловская губерния, Бежица, без даты).11 «Недавно были первые похороны большевика без отпевания, и это возмутило еще больше народ» (Тверская губерния, Павлюхи, 19 июня 1919 г.).12 «Театр превращается в казармы да в кабак, ей-Богу, стыдно становится смотреть на эти вечера. Там, где военные [красные], там разврат, ты не можешь себе представить, что на этих вечерах творится. Собираются солдаты, а вместе с ними танцуют молоденькие девочки, лет 11–16, и танцуют, и гуляют и т. д. Вообще это нельзя передать словами, как отвратительны эти картины» (Витебская губерния, Пышкет, 11 ноября 1919 г.).13 «Говорят: «Я у тебя реквизирую». Лучше бы сказали: «Я у тебя граблю» (Калужская губерния, Плохино, 4 июня 1919 г.).14 «Такую жизнь нельзя назвать жизнью: кочевание с одного места на другое, с одной казармы в другую. Удивительно, что теперешная власть считает человека за животное. Ни пастели, ни матрасов, ни одеяла, ни подушек, ни простыни, ничего нет в цейхгаузе, и поэтому не выдают солдатам. Командный состав нашей роты — это люди, которые стремятся к карьере, иначе говоря, карьеристы» (Рота необученных Ударного коммунистического батальона, 25 июня 1919 г.).15 «Настроение у красноармейцев очень скверное. Только и слышно, что нужно бросить фронт и идти домой. А почему у них такое настроение, оттого, что сейчас выдают 1 фунт хлеба да и тот наполовину с соломой. Обедаем один раз в день. Живется очень плохо, я жду не дождусь, когда кончится эта бойня» (24-й стрелковый полк 2-й латышкой бригады, 26 июня 1919 г.).16 «Крестьяне ждут Деникина, верить не хотят, что советская власть тверда» (Орел, 12 августа 1919 г.).17 *** О, карта ВСЮР… Посмотрите на нее. Грациозный укол, выпад в сторону Москвы. Выпад всей силы человеческой, всего русского духа. Высокий и буйный Кавказ, все верные и вольные казачьи земли, плодородные и трудолюбивые южные губернии, тяжелый и черный от угля Донбасс, Малороссия, все же взятый Киев, Воронежская, Курская, Белгородская и, наконец, Орловская губернии. Орел был взят. Мечта Пишванина, передавшаяся Матвею Геневскому и даже Деникину, сказавшему, что он теперь видит колокола Первопрестольной столицы, была исполнена. Запыленные корниловские солдаты, взявшие Орел, теперь ликовали — никто больше не виделбесконечной и трудной борьбы за Россию. Какая же тут борьба, когда Орел уже взят? Ха, не шутите тут! Вот она, святая столица — триста верст. Еще чуть-чуть, ну, месяц, ну, два — Рождество уже дома встретим. Разве не сделалась чудотворная Москва домом для всех тех тысяч и тысяч самоотверженных, простых и много трудолюбивых людей, которые так желали попасть туда? Пока лишь маленькая передышка. Пока лишь неделя на отдых, на перегруппировку, на собрание сил в единую атаку. Как был счастлив Пишванин! Он, получив новый самолет Sopwith Camel, атаковал позиции большевиков и получил личное одобрение генерала Кутепова. Но не это его так радовало, посмотрите: тот же Мариинский мост и та же Богоявленская церковь! Еще стоит. Но где же церковь теперь стоит, скажите, где же она стоит? Разве в том Орле? Разве в том Орле, грязном, разрушенном, беснующемся, предательском Орле, который полтора года назад лежал перед Пишваниным? Конечно, нет. Богоявленская церковь, Ильинская площадь и сама Московская улица, указывающая естественное направление всех сил и желаний человеческих, все это находилось теперь в русском городе. Пишванин, сколь бы сдержан ни был, слезы в кабине не удержал. Но пусть: кто осудит русского человека, увидевшего вдруг вернувшуюся Россию? Он и не подозревал, что сам и стал вернувшейся Россией. Лишь посадив за городом самолет, Пишванин прибежал к командиру. Командир, весьма возбужденный победой, растерянно поблагодарил летчика за отличную службу и хотел было бежать хвалить других. Но штабс-капитан задержал: — Ваше превосходительство, я еще нужен на службе? Очень уж хочется посетить город. — Нет, Вы сегодня не нужны, господин штабс-капитан. А посетить — извольте: вот-с, собираются офицеры на подводу, с ними и поезжайте. Офицеры на подводе, уже порядком забитой, яростно подгоняли кучера, другие — бегущие к подводе — не менее яростно кричали ему обождать. Подвода, до смерти груженая людьми, с довольным, богатым кучером тронула к городу. Множество штабных офицеров и военных чиновников, подводчиков, резервистов и прочих, оказавшихся сейчас за городом, бежали в Орел так — пешком. Верст здесь, и вправду, было не так много. Некоторые Бог знает где находили лошадей — Пишванин очень наделся, что лошади не отобраны у жителей окраин. А окраины и без того выглядели прилично: залитые кровью, густо усыпанные брошенными винтовками, слетевшими шапками и сапогами, вывалившимися патронами; обочины в трупах и раненых — и белых, и красных. Своих забирали на подводы. Красных заберут позднее — и этих чертей вылечат. У оврага лежал большевик в кожаном плаще, у него не было ноги. Он поднял свою фуражку над землей и лихорадочно прокричал: — Слава товарищам победителям, мать вашу так! Его пристрелили. Стрельба и война еще слышались где-то севернее, где-то западнее, с других окраин; в самом же Орле слышались дикие крики восторга и колокольный звон. Московские «сорок сороков», обещанные Деникиным, встречали корниловцев за триста верст до Первопрестольной. И пусть, по Цветаевой, Москва: «Семь холмов — как семь колоколов! На семи колоколах — колокольни. Всех счетом — сорок сороков. Колокольное семихолмие!», — но Орел был здесь и сейчас. Церковный даже не звон, а стук по хрусталю или тонкому льду. Пишванин взирал в звенящий, облачающийся в плоть и кровь воздух и не верил. Из орловских домов валом валились толстые груды трудов Маркса-Ленина, портреты советских вождей и красные флаги на палках; в воздухе летали советские документы, листовки и прокламации. У подъездов возились офицеры, выносили из зданий трупы и какую-то мебель. Всюду слышались крики — от радостных и восторженных до возмущенных и озлобленных; всюду раздавался треск дерева и битого стекла. Орел все еще был грязен и обломан, но на залежавшуюся и заледенелую корку грязи наплыла торжественность: люди в праздничных костюмах, должно быть, не надевавшихся уже два года, заполоняли улицы. На южной городской площади, рядом с которой Пишванин жил в 1918 году, собралась гигантская толпа. Где-то в самом сердце толпы гарцевал командующий корниловцами полковник Скоблин со своим конвоем. Он что-то говорил, но не мог перекричать звон толпы, сливающийся с колокольным звоном. Орловские мужики всей грудью навалились на стоящий здесь же памятник Марксу, по нему глухо били чем-то тяжелым — постамент долго терпел, долго трещал, но, наконец, покосился и рухнул набок. Грубо вытесанный из камня Маркс развалился на несколько кусков и утоп в пыльном тумане, — новый всплеск толпы, новые краски радости. Подводам с офицерами никак не давали проехать дальше: горожане просто не замечали повозок, просто не понимали, что их нужно пропускать — столпились, кричали «ура», поднимали руки с кулаками и фуражками, кидали Скоблину цветы и на повозки не смотрели. С руганью, замахиваясь на людей хлыстом, кучер все же вывез офицеров с площади. Пишванин заметил в бочкообразном здании городской думы новые стекла (уже тоже подвыбитые) и большое полотнище русского трехцветного флага. Флагов в городе вдруг оказалось очень много — на каждом крыльце вырастали все возможные: трехцветные, династические, черно-желто-белые, андреевские, флаги с гербом 1914 года. Штабс-капитан спрыгнул с подводы; продравшись через толпу, вышел с площади. Народ был и здесь, флаги были и здесь. Три орловских дня жил Пишванин на Гостиной улице и сейчас шел к себе. У перекрестка Гостиной и Воскресенской суетился народ, стучали топоры. Летчик остановился и присмотрелся: табличку «Улица Безбожников» народ нещадно рубил топорами, рядом приколачивали старую, с тусклыми буквами, но, вероятно, родную табличку «Улица Воскресенская». Пишванин пошел дальше — у своего подъезда, где раньше грязнили красногвардейские рабочие, он увидел русский флаг на флагштоке, побитую выстрелами лепнину и — чистоту. У подъезда никого не было, если не считать дворника в бежевом фартуке. — Здрасте Вам, господин офицер, — довольный дворник, опираясь обеими руками на метлу, приветствовал Пишванина. На дворнике сидела бесформенная шапка и видавший виды зипун. Летчик молча улыбнулся и поздоровался кивком. — А Вы к комусь? — К себе, — ответил офицер и вошел в дом. Было тихо, темно, но опять чисто. Готовились они, что ли? Пишванин быстро забежал на свой старый этаж — вновь никого не было — и нашел свою комнату. Толкнул дверь. Не заперто. В комнате ровным счетом ничего не изменилось: грязь по углам, пауки на потолке, клопы на стенах. Но не было кровати, а в углу стояло ведро с мутной водой. Недолго думая, Пишванин вынес ведро в коридор, захлопнул дверь и ринулся к дощечке: дощечка оказалась нетронутой. Отодрав принявшееся к стене за два года дерево, Пишванин увидел свои родные вещи. Перчатки, портсигар и икону. Все засыпано двухгодичной пылью, известкой и застенным сором. Но все — на месте. — Вернулся… Почти что домой, — как-то прозаично, но чуть томительно произнес он. Положил портсигар и икону во внутренний карман и даже надел перчатки. Что теперь ему делать? Полтора года службы в корниловских частях, полтора года борьбы за Россию Пишванин думал об этом моменте: вот, вернусь… Вернулся. Разумеется, офицер ничего не почувствовал. Он даже и не думал о моменте восторга, не предвкушал переломного момента своей жизни — круга и возвращения в Орел. Орел почему-то сделался для Пишванина незримой целью, какой целью был Будапешт на Юго-Западном фронте. Разве кто-то всерьез, за четыреста пятьдесят верст до Будапешта помышлял о взятии Венгрии? Конечно, некоторые и помышляют: сядут в окопе и представят, как русские кавалерийские лавы заливают Среднедунайскую равнину. Залить ее нетрудно — правильная стратегия, планируемое весеннее наступление 1917 года и — Венгрия оккупирована, Польша возвращена, Кенигсберг взят. Вена с потерей Венгрии потеряет и всю армию — тут и думать нечего — и запросит мир. А Германия, будь она хоть тысячу раз железная и всесильная, на три фронта воевать не сможет. Вот вам и третье вступление Русской армии в Берлин. Вот вам и слова Кайзера Вильгельма Нарвскому полку: «Серебряные трубы за взятие Берлина в 1760 году? Надеюсь, что больше уж никогда этого не будет!» Впрочем — действительно, пока нет. А сейчас что? Ни Германии, ни Австрии, ни — России. Радуемся взятию Орла, посмотрите-ка! Орел в девятистах верстах от старой русской границы!.. Радуемся победам во внутренней войне. Разве этого хотел летчик в 1917 году? Пишванин хотел честно отлетать на всех предложенных ему самолетах, Штабс-капитан хотел честно сбрасывать снаряды и проводить честную разведку местности. Он никогда особенно не мечтал летать над Венгерской равниной, никогда не думал бомбить Вену или Берлин, никогда и не мечтал о личной славе. Да, он сражался ради русской победы, но он никогда не знал и не представлял, какой будет эта победа, — для такого есть штабы и командующие. Единственной его нахальной, как он сам считал, мечтой был таран немецкого самолета: нахальство было в том, что тогда он и себя потеряет, и самолет, — да еще и ишь какое геройство захотел. Но сильно геройствовать Пишванин не думал. Он, наверно, не был никаким выразительным человеком, не был он романтическим и твердым борцом за Русь, каким был Колчак; не был он и трагическим и обрекающим идеалистом вроде Дроздовского; Пишванин был русский солдат из, фактически, русских крестьян — он многого не понимал в гражданской войне, но хотел победить. Победить во многом потому, что любой солдат, раз уж он солдат честный, хочет победы. Смерть свою летчик за потерю не расценил бы, потому что видел, что ничего особенного в нем нет. Да, он страшно дрался и рубил большевиков на Кубани, да он отлично управлял воздушной машиной над Донбассом и прочее, — но разве таких кавалеристов и таких летчиков в белой России не десятки тысяч? Пишванин вспомнил, что устал. Последние два дня он безвылазно сидел в кабине самолета и налетал тридцать часов. Спал мало, о еде тем более не думал. Решив, что предаваться историософии — занятия пустейшее и глупейшее, а о взятии Москвы подумают вместо него Деникин и Май-Маевский, штабс-капитан же надумал спать. Но, поддавшись странному обаянию момента, символизму и почти мистицизму, спать он решил здесь же — в своей старой комнате. Вышел в коридор, толкнул соседнюю дверь — опять было открыто — и крикнул: — Хозяева! Идите сюда! Никто не откликнулся. Тогда Пишванин, совершенно не желая ждать, сам зашел в квартиру, огляделся, шагнул в комнату и увидел аккуратно застеленную кровать. С этой кровати офицер взял подушку, на огрызке блокнотной бумаги написал, где будет находиться хозяйское имущество, и ушел в свою комнатку. Кинул подушку прямо на пол, кинул себя сверху и уснул почти сразу. Последним чувством было болезненное раздражение. ***
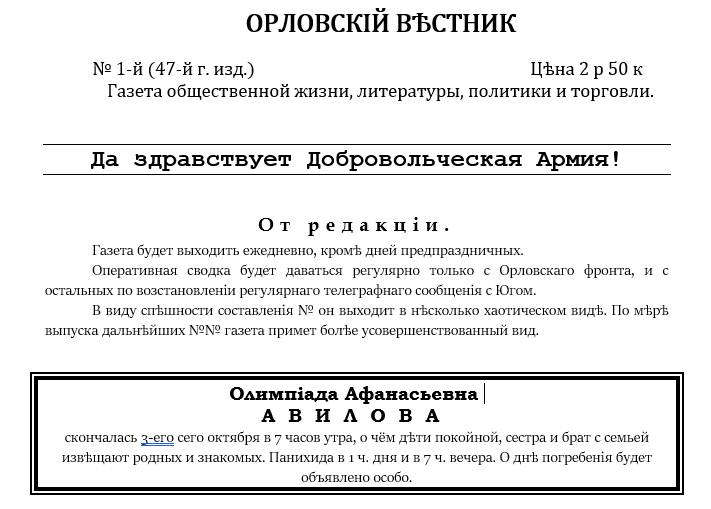



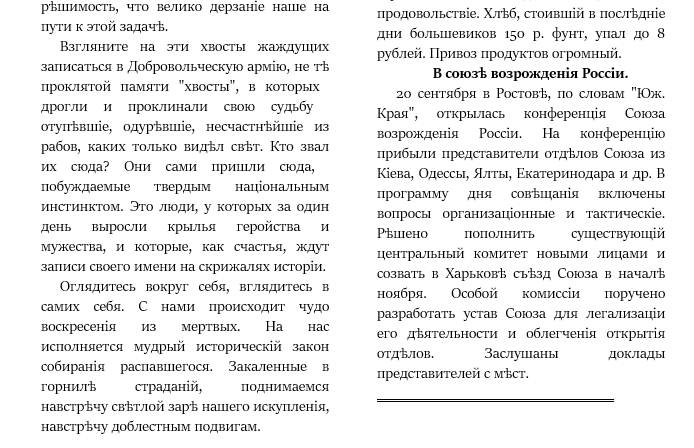

Проснулся Пишванин не скоро. По карнизу за окном упорно бил дождь, а где-то в двух сотнях саженей бил одиночный колокол. Офицер очень хорошо отдохнул и улыбался потолку, заложив руки за голову. Да, давно он так не спал! Но посмотрев на часы, Пишванин забеспокоился — прошло 15 часов, и командование точно его потеряло. Впрочем, ему обещали три дня отпусков — утвердить не утвердили, но обещанием можно было прикрыться. Штабс-капитан встал и посмотрел в окно. Окно выходило на Мариинский мост. У моста было немноголюдно, лишь священник бегом бежал к южной площади. Пишванин вышел из комнаты и постучался в соседнюю квартиру, где недавно реквизировал подушку. Дверь открыла молодая женщина с ребенком. — Здравствуйте. Я у вас вчера подушку забрал… Получите назад. И вот, — летчик не глядя отсыпал какой-то мелочи за «постой», положил подушку у порога и быстро сбежал с лестницы. От порога открывалась ясная картина. Точнее, совсем не ясная: все небо было в суровых бурых тучах, дождь умеренно лил, настроение от этого жутко портилось, но все же ясным оставался строй корниловцев на площади. Очевидно: будет парад. Пишванин вскользь пожалел, что уснул в каком-то гадюшнике — ведь он сам мог участвовать в этом параде, вернись он в штаб вчера. — И снова здрасте Вам, господин офицер, — непонятно откуда появился вчерашний дворник. — Здравствуйте, — пассивно ответил Пишванин. — А Вы чего там, всю ночь пробыли? В комнатке-то? — Всю ночь. А что? — летчик прямо посмотрел на дворника. — Да так… Странность-с, — дворник сделал слишком большое ударение на словоерсе. — Я жил в той комнате при большевиках. Полтора года назад. Считайте глупой ностальгией — я так считаю, по крайней мере. — А ну оно понятно, свой дом всегда радость большая, — понятливо закивал дворник, но осекся, поняв, что речь идет о грязной комнатке. — А сколько жили-то? — Да три дня. А у нас парад? — спросил Пишванин, лишь бы отделаться от комнаты. — Молебен, молебен, — снова закивал дворник, — а потом обещались и парадом нас побаловать. А Вы чего не с войсками, господин офицер? — А Вы чего на молебен не пошли? — Да я все утро задний двор отмываю. Ишь какие — чего в изобилии от большевиков жди, так это грязи. Все улицы окурками завалили! Есть же, знаете ли, мусорные ямы, а то и выгребные во дворах — бросай туда! Так нет, тут вам и плюну, тут вам и окурочками землю удобрю, тут вас и Бог знает что! Не хотят в чистоте жить. А я — убирай. Вот мусору от них много да в тюрьму всех пересажали. А так чтоб хлеба дать — так хр… То есть, это, так ничего, не дают. Хлеба не дают, знаете ли, — дворник осекся и потерялся. — А не знаете, где наши штаб обустроили? — Знаю, как не знаю! Вот, напротив, в Скоропадском дворце, — он указал на известное помпезное здание на углу в стиле модерн. — Его раньше гостиницей «Берлин» кликали. Хороша была гостиница — богатая. — А комендантом кого назначили? — Уж этого не слышал, прошу извинить, господин офицер. Пишванину надоел дождь, но и идти на площадь почему-то жутко не хотелось. Звуки молебна от мощного баса священника растекались по всем близлежащим улицам. Офицер прислонился к стене дома и стал рассеянно слушать. Дворник, видимо решивший, что они с «господином офицером» теперь свои, остался тут же. Он снял шапку и крестился каждый раз, когда до него доносилось «…во Имя Отца и Сына и Святаго Духа». — А почему Вы раньше не убирали? — опять же пассивно спросил Пишванин. — А как тут уберешь, господин офицер! — дворник начал тихо, но тут же сорвался чуть не на крик. — Нашего брата дворника еще в начале того года похапали по городу и в чеку посадили — во. Говорят, мол, вы в старорежимные времена низшим полицейским чином служили, — последние слова дворник проговорил с особенной гордостью. — Стало быть, вы контрреволюционеры махровые и вредный элемент. А какой я, скажите, вредный элемент? Я что, их бомбистов по тайным квартирам ловил? Да у нас в Орле и не бомбили никого — куда там, уезд и есть уезд. — Губерния, — флегматично поправил летчик. — Как скажете. А все одно — Москва пусть и близко, а все… А с Москвой то, мил… господин офицер, как? — исподтишка заглянул дворник в глаза собеседника. Тот смотрел в землю, но взгляд дворника учуял. — Возьмем Москву. Возьмем. — Сказал он твердо. — Вот это славно, это хорошо! Так что там, я доскажу: выпустили кой-как из чеки этой проклятой: я такой тощий стал, что, Господь Бог Всемогущий, жена заплакала, как увидела. Я ей так и говорю: дай, жена, полпуда хлеба, завтра же хорош стану. А она, мол, хлеба в доме три фунта, а четвертого во всем Орле не сыщешь — всех крестьян пограбили, а что не награблено, то в город не понесут — не дураки ведь земледельцы наши, не дураки. Так и наши, городские-то, тоже не без головы: сами по деревням отправились. Я уж не знаю, кто-то хлеба нашел, кто-то работником стал, кто еще. Опустел совсем город — видали площадь-то? Так тут, наверно, все кто в городе налицо, те и пришли. А другие там еще на базарах — ой, ну базары пошли! Как ваши-то, ваши-то краснопузых прогнали, так слух пошел: может, того, в город пойти продать? Пришли действительно с утра крестьяне, еды привезли — с пяти утра торг идет, и славный такой торг: тут и яиц привезли, и сахар, и масло, и мука появились, и ветчину с салом кто-то привез. Как все это прятали? Ей-Богу не скажу вам, не знаю, господин офицер. — Хорошо, говорите, стало? — Пишванин пристально посмотрел на дворника. — Ей-Богу хорошо! — дворник как-то решил, что офицер одобряет его и стал радоваться. — Нашему брату, русскому-то, то есть, что нужно: чтоб ни в поле, ни в церкви не мешал никто. Так и хлеб будет, и благодать Божья — по чинам все расписано, а. Вот жизнь будет, господин офицер, вот заживем! А то войны мировые, потом революции, большевики, голод, смута, опять же… Кому это надо, смуты эти? Вот заживем: хлеб мужички станут пахать на своей земле да Богу молиться — разве что лучше есть?.. — тут дворник опять осекся. — А вы это… Какой у вас… политический вопрос-то? Как обставлен? Земля чья будет? А то уж слух прошел, что господин помещик носом водит, как бы землю обратно, ну… забрать. Оно-то верно: земля господская, Богом помещику дана, а мужику все одно: подай землю, есть хотим. Кто прав, господин офицер? — Вы на всяких там помещиков не смотрите. Пусть землю обрабатывает, кто на ней есть. А помещики… Ну, наверное, продажу задним числом оформят, в кредит или совсем с прощением. В общем, помещикам обратно не отдадут. — Вот это славно, вот это хорошо! А кого вы в Москве-то поставите? Вы уж без всяких советов пожалуйте, господин офицер, а то опять стон по земле пойдет. — Вы не бойтесь, советов не будет. Будет Учредительное собрание. Дворник скривился. Непонятливо. Еще походило на выражение учителя, когда ученик сказал ему полную чушь. — А что оно нам — учредильное? Зачем? — А затем, чтобы вы сами себе власть выбрали. Республика или монархия, или еще что-нибудь — как захотите, — Пишванин не очень верил в то, что он говорит. Но за год разговоров с офицерами разных полков и за год пропаганды деникинского Осведомительного Агентства летчик выучился кое-чему. Выучился, как отвечать на такие вопросы: и о помещиках, и о власти. — Да ну его, — махнул рукой дворник, — чушь. — А Вы как хотите? — спросил Пишванин. — Известно как… — дворник не договорил. — Я вот за монархию, — просто ответил летчик и посмотрел на небо. — Будет царь, будет нам хлеб и церковь. — Это Вы верно, верно, господин офицер, — одобрительно закивал дворник. — Да, как слышал я, Государя-то, ну… это… как я слышал… — Понятно, понятно. Знаю. Вот Вы смуту упоминали. Знаете про Минина и Пожарского? — Как не знать — знаю. Мы хоть народ темненький, а все нам родители пересказали. — После того, как Минин и Пожарский освободили Москву от поляков, созвали Земский собор. Народ сам решал, кто станет монархом. — Что, и такие, как я, решали? — удивился дворник. — Такие, как Вы, положим, не решали. А вот свободных крестьян звали. А сейчас — все свободны. Вот все и пойдут. — Ого-го будет! А то разные помещики своего изберут, опять земли пообдерут все. С мужицким братом не пропадем, его, брата-мужика, много: он себе мужицкого царя выторгует. А кто сейчас за Минина да за Пожарского? — За Пожарского, положим, Деникин. Ну, или Колчак — тут уже сами решайте. А за Минина… Ну, не знаю. Положим, вы. — Я? Да какой я Минин, вы чего… Я народ на Москву не звал никогда, куда мне… Бога побойтися! — Конечно, не звали. А за хлеб, за церковь и за царя разве не Вы стоите? — Ну я, стало быть. — И против большевиков Вы стоите? — Ну я! — Вот Вы и есть Минин. Много Мининых в России. Посмотрите: вся площадь в Мининых. На площади стояла большая народная толпа. Здесь были не только сами горожане, но и крестьяне из близлежащих деревень. Все стояли, молились вместе со священником и не очень сильно ругались на дождь. Многотысячная толпа, — и горожане, и крестьяне, и корниловцы — разом кланялась на хоругви. И Минины, и Пожарские, все вместе. — Спасибо Вам за разговор, — Пишванин протянул дворнику руку. Оба — и офицер, и дворник — поняли вдруг, что без революции дворника бы на вы не называли, и руки бы ему не жали. Обоих этот факт больше почему-то расстроил, чем обрадовал. Не могли разве цивилизованно? Дворник изогнувшись, слегка пожал офицерскую руку. Летчик кивнул и пошел в противоположную от площади сторону. Им все еще владело слабое чувство ностальгии. Он хотел дойти до вокзала той же дорогой, что и полтора года назад, и в целом посмотреть на город. А потом стоило и в штаб зайти, а то ведь за дезертира примут. Пишванин вновь поравнялся с Богоявленской церковью. Видно было, что она стояла закрытой полтора года, и прямо сейчас ее фасад отмывали бабы в пестрых платках. За церковью, ближе к воде, находился старый базар. Но народу там было не два-три человека, как в тот раз, народу там было чуть не больше, чем на площади с войсками. Место между церковью и базаром, край улицы, переходящий в берег, привлекло внимание летчика. Он вспомнил, что и тогда почему-то странно почувствовал себя на этом замусоренном пустыре. Думал о судилище… Сейчас на краю улицы мусора не было, он лишь был залит осенней жидкой грязью. Не жалея сапог, Пишванин шагнул на этот пустырь и задумался. Что-то не так с этим местом. Грозным веет. Страшным. Но не страшным по-красному, а страшным по Иоанну Богослову. Офицер поборол оцепенение и пошел через мост. Мост оставался ржавым, — но сейчас это не имело никакого значения. Сейчас-то отремонтируют. На противоположном берегу Оки, на Ильинской площади, был народ. Маленькая часовня негромко звенела. У часовни стоял другой священник в зеленом стихаре и благословлял людей. Пишванин тоже решил подойти. Часовня оказалась покрашенной, но без стекол. Он наивно спросил у бабы в толпе: — Неужели часовню при большевиках покрасили? — Вы чего, батюшка, часовенку ночью сегодня мужички украсили. Дали бы большевики, вы чего, батюшка. Пишванин добрался до священника минут через десять, позади народу оказалось — тьма — приходили еще. Сложив ладони, как полагается, офицер проговорил свое «благословите, батюшка», поцеловал руку священника и крест, услышал: «Благословляю освободителя земли русской». После этого летчику шлось весело — то ли, в самом деле, Бог рукой священника дал ему блага, то ли от совершенного ритуала, то ли от официального, так сказать, подтверждения, что он освободитель. Шлось легко. Пишванин передумал совершать бессмысленное путешествие на середине пути и повернул назад от Московских ворот. Дела в гостинице «Берлин» — с 1914 года гостинице «Белград» (оно и понятно) — дворце Скоропадского — штабе корниловской группы завершились приятно и быстро: трехдневный отпуск оказался подтвержденным, так что Пишванина никто особенно не терял. Разве что его друзья — но те были либо на параде, либо разбрелись по городу — летчик бы их не нашел. Из штаба продолжали, — второй день! — вывозить порванные красные знамена, в обладании которыми никто чести не видел, колотые штыками большевистские картины и мешки с половой грязью, окурками и битыми стеклами. Все это предполагалось сжечь. На площади уже шел знаменитый офицерский батальон 2-го Корниловского полка, за ним — далеко еще — ехали танки. Колокол перестал, стучали барабаны, ухали трубы, народ кричал «ура» и «слава». Но Пишванин вновь пошел прочь — когда он уходил, оркестр грянул «Коль славен». Невпопад запела вся площадь и идущие маршем войска: Везде, Господь, везде Ты славен, В нощи, во дни сияньем равен. — Пишванин все-таки ушел. Шел он неизвестно куда и неизвестно зачем. Да, радость, триумф, счастье — все это проснулось в нем естественно, само по себе и тоже — неизвестно когда и как. Теперь он просто хотел идти по этому городу, вновь ставшему Россией, идти и мало о чем задумываться. Пошел он по берегу реки Орлик, а потом — на Александровский мост. Потом по Болховской улице. Куда — он не знал. Вышел на очередную площадь. Сколько площадей! Эта — траурная. Огромное обгоревшее здание торчало черным бельмом в белом воздухе. — Что здесь было? — тихо спросил Пишванин прохожего в сером пиджаке и соломенном котелке. Прохожий сперва откашлялся и ответил слишком формальной интонацией: — Дворянское собрание, господин штабс-капитан. Выгорело ночью к черту. — Большевики? — Вероятно, господин штабс-капитан. Пишванин пошел дальше, но ноги сами повернули его к ресторану: оттуда звучала «Как ныне сбирается вещий Олег», но звучала, очевидно, с ресторанной сцены. Офицер терпеть не мог песен в ресторанах, особенно со сцены в углу — появление такой сцены, по его, пишванинскому, пониманию превращало ресторан в кабак. Да и марш из стихов Пушкина никогда Летчику не нравился. Он не понимал, зачем между куплетов вставляли совершенно нелогичные «за Царя, за Русь, за нашу Веру» и далее — Вещий Олег, кудесники, легенда языческих времен и вот… Но почему-то Пишванин пошел к ресторану. Старая ресторанная табличка «Советский» валяется где-то в грязи. Приколочена еще более старая — «Прага». Народу — битком. Но народу какого: сюда набежала вся сохранившаяся буржуазная прослойка города. Многие наверняка служили при советах, дабы сохранить имущество и жизнь, а сейчас переквалифицировались под русских патриотов. От того кабак казался кабаком еще сильнее, но офицер все равно подошел. Много столиков было вынесено из ресторана под дождь в качестве летней веранды. Сам дождь, к слову, поуспокоился, но изредка накрапывал. Когда Пишванин подошел к крайним столикам, стали петь «Где вы, соколы белые». Эту песню летчик любил. Он взялся за спинку мягкого стула и стал слушать:
— …жизни не щадили, проливая кровь за Русь, Много турок уложили, много англов и француз. В Севастопольской осаде было много храбрецов, Каждый воин шел к награде по следам своих отцов. Много там героев пало за Отчизну и Царя…
Судя по дружному хору, в ресторане находилось множество офицеров. Множество, вероятно, изрядно выпивших. Их можно извинить — военные нервы иначе лечить сложно. За столиками на улице сидело мало людей. Две женщины в черном — наверняка, вдовы, — несколько студентов, статные люди в коричневых пиджаках — какие-нибудь бывшие почетные горожане и домовладельцы. Еще сидел один офицер. Он сидел с краю, но в двух саженях от Пишванина; когда летчик довел до него глаза, оказалось, что офицер давно смотрит на него. Глаза их встретились и узнали друг друга. — Здравия желаю, господин полковник, — рассеянно проговорил летчик, посмотрев на погоны, и подошел ближе. — Здравия желаю, господин штабс-капитан, — устало ответил полковник. Был это Матвей Геневский. — Узнали? — робко спросил Пишванин. — Узнал. Да и вы — тоже меня узнали. Богатыми не будем, — к усталости прибавилась горечь. В ресторане заиграла мазурка Венявского. Уставший хор голосов поуспокоился. — Да вы садитесь, господин штабс-капитан, — Геневский одной рукой поднес ему стул. Пишванин сел и не знал, что сказать. Геневский тем временем отвернулся от него и сонным, а точнее сказать — наполовину обреченным, а наполовину безразличным взглядом водил по окнам ресторана. Сначала в одну сторону, потом в другую — прямая линия. Был он в отличной, щегольской даже шинели и новых лайковых перчатках. Летчик был рад увидеть его — ведь именно Геневский дал ему билет в Добровольческую армию. Но если тогда Геневский был равен летнему цветущему Таганрогу, то сейчас — пасмурному холодному Орлу. Пишванин не знал, как заговорить, а Геневский и не думал начинать разговор. — Я же говорил, что Орел мы возьмем, — все же сказал летчик. Этой фразы он не мог не сказать. — Чудесно, господин штабс-капитан, чудесно, — безрадостно отвечал Геневский. А затем достал кожаный портсигар и предложил собеседнику: — Желаете угоститься? — Прошу простить — не курю. — Что ж… — Геневский снова отвернулся. Закурил. — Я тоже не курил. Да какие же тут нервы возьмешь? — А вот, господин полковник, — Пишванин достал свой серебряный портсигар и протянул Матвею, — извольте принять подарок. Это портсигар из чистого серебра, прошу. Мне его англичане в Великую войну подарили. Глаза Геневского ярко блеснули, но лишь на миг — и блеск вновь утоп в вязкой черноте зрачков. На серебре портсигара был искусно нарисован черный императорский орел. — Премного благодарен, господин штабс-капитан, — Геневский принял портсигар, снял перчатку и протянул Пишванину руку. Тот тоже снял перчатку, руки были пожаты, а две перчатки — старые, военных времен, и новые, блестящие — оказались на столе. Геневский стал улыбаться — кажется, искренне. Ожил. — Старенькие у Вас перчатки. Я Вам обязательно подарю в ответ новые, не отпирайтесь. — Где же Вы меня найдете? — Известно где: пойду в штаб и спрошу. Как Вам ваш триумф? Ваше возвращение? — с интересом спросил Матвей. — Да знаете, господин полковник… Никак. Город освобожден, я вернулся назад, совершен круг, — а я ничего. Даже раздражен был. — Вот и я… — туманно ответил Геневский. — Давайте Вам закажем чего-нибудь. Выпьем. На столе у Геневского стоял нетронутый бокал красного вина и недоеденный бефстроганов. — Я не пью, господин полковник. — Что ж — вот и я не могу. Впрочем, разве бокал вина не осилите? — Ну, разве один. — Одного хватит. Будут тут стоять, как две свечи в церкви — на отпевание. — На отпевание кого? — тихо и даже боязливо спросил Пишванин. Геневский откашлялся, отвернулся, сел поудобнее и убрал портсигар во внутренний карман. Затянулся. — А почему вы здесь, господин полковник? Будете набирать добровольцев? — Добровольцев, господин капитан! — почти раздраженно выговорил Геневский. — Конечно, добровольцев. Нет — чтобы выехать из Харькова в Орел есть и другие дела, вас не касающиеся… — он вновь отвернулся, но быстро спохватился. — Впрочем, прошу извинить мой тон и мое настроение. Но Вам я действительно не могу сказать причины. Геневский увидел официанта и щелкнул пальцами. Тот принес меню. — Заказывайте, господин капитан. Я оплачу. И не отказывайтесь — Деникин на славу снабдил меня средствами. — Сам Деникин? — Да. Есть у меня в городе и окрестностях некоторые дела. Я Вам почему-то доверяю, иначе бы и этого не сказал. Дела прискорбные, полученные результаты угнетающие. Более сказать, опять же, не могу. А вот Вас порадовать обедом — пожалуйста. Пишванин на таких условиях заказал гурьевскую кашу с грецкими орехами, две куриные котлеты а-ля Палкин и то же красное вино. Вино принесли быстро. Пищу просили ожидать десять минут. — Знаете вот, сестра подарила в дорогу, — Геневский неуклюже, неуютно, с оглядкой по сторонам, достал маленькую книжечку. Пишванин прочитал — сборник стихов Маяковского. Закладка была едва на десятой странице. — Тут есть такая строчка: «опять…» — где же? Вот: «Опять Голгофнику, — значит, — предпочитают Варраву». И выше, непристойное, впрочем, но обращение к Богоматери. Знаете… Тут летчик, для антуража и интерьера больше, а еще больше к слову, достал свою икону и поставил на стол. — Да, да, чудесно, именно так. Мне читать стихи, а особенно Маяковского, неприятно. Стихов я никогда не любил, считал их женской забавой, а тут еще и красный стихоплет, простите. Но вот строчка: «опять Голгофнику предпочитают Варраву», — это вся суть нашей революции и нашей войны. И суть даже не в том, что народ предпочитает Варраву — народ напротив за Голгофника. Суть в том, что Варраву предпочитают сами Варравы, — а их как-то много в России завелось. Ныне — в Москве. — Москву мы возьмем, господин полковник, — уверенно сказал Пишванин. Он заметил, что Геневский был странно суетлив и небрежен. Почти стыдился своих размышлений и почти брезговал сборником стихов. — Конечно. Возьмем. Но я к чему: ведь Варрава выжил в оригинале? — У вас панические опасения, господин полковник. В прошлый раз вы были позитивнее. — Да, черт возьми! — вдруг вскричал Геневский. Тут же успокоился. — Ладно, прошу меня простить и более не донимать разговорами о войне. — Он громко захлопнул сборник и убрал его в карман. — Выпьем же за ваш орловский триумф, господин штабс-капитан — и за ваш высокий ныне чин тоже: вы хорошо подросли. — Вы тоже, господин полковник, — улыбнулся Пишванин. — Итак: за освобождение Орла и за… за офицерство! Геневский кивнул. Звон ресторанного хрусталя. Опустошение бокалов. Черный орел на серебре. Черный потухший зрачок. Черное небо над Россией.
Глава девятая. Царский лес
Еще! Все ближе! Да воскреснет Бог! Я Царь еще! Мой срок еще не минул! А. К. Толстой «Смерть Иоанна Грозного» В огне спадают все слова, мишура, декорации. В огне остается истинный человек, в мужественной силе его веры и правды. В огне остается последняя и вечная истина, какая только есть на свете, божественная истина о человеческом духе, попирающем саму смерть. <…> Та Россия, просиявшая в огне, еще будет. А. В. Туркул «Дроздовцы в огне»
— Эй, ты каких будешь? Голос был не слишком заинтересован, ленив, но все же настойчив. Так бывает настойчив кладбищенский сторож, который в три часа ночи, с руганью и всеми проклятиями, идет проверять грохот среди могил. Только вот этот сторож был доволен, сыт, а на дворе был день. Настойчивый и сытый сторож немилосердно расталкивал растянувшегося на опушке леса Михаила Геневского. Расталкивал руками, не ногами, — значит, не красные. Речь этого «сторожа» по одной лишь интонации угадывалась начисто — то был какой-то крестьянин. Или красный дезертир. Геневский не видел еще толкателя, не хотел просыпаться — уж больно красивый и спокойный сон ему виделся в забытьи контузии. Но вот уже первые симптомы: Михаил осознал, что спит в грязной траве не по своей воле и не по воле походных условий — это именно контузия. Контузия здо́ровская: голова разрывалась на куски точно так, как разорвался снаряд, вынесший Геневского в сладкие сны. Михаил улыбался, барахтался во сне и не отвечал. Ему очень нравилось это обморочное состояние. Но сторожевой черт начал охаживать офицера по лицу — и глаза Геневского все же открылись. Толкать перестали. Никакого аустерлицкого неба Михаил над собой не увидел, — Господь с ним, с небом, — над ним нависало широкое лицо в малиновой соболиной шапке. Цвет головного убора офицера обрадовал — малиновый — значит, свой. Лицо в малиновой шапке лениво, но все же с интересом разглядывало Михаила; больше, отчего-то, смотрело на форму и винтовку, чем, например, в глаза. Когда Геневский совсем очнулся и стал приподниматься с земли — голова, будто бы вовсе прошла — человек в шапке никаких признаков радости не высказал. Только спросил, совсем безразлично, начав зевать: — Так чьих же? Русский? Голова прошла, но в ушах звоном звенел разрыв снаряда. «Точно контузия? А почему меня здесь оставили?» — мигом пролетели мысли, сразу же вновь уступив грохоту разрыва. Геневский сел на земле, а потом встал и болезненно потер голову — незнакомец тактично отошел на аршин. Ничему почти в жизни не дивившийся Михаил изумился не на шутку, когда разглядел человека, его будившего: на том были зеленые сапоги и оранжевый кафтан. Капитан Геневский протер глаза, решив, что цвета в его голове сбились от сотрясения черепной коробки; но по открытию глаз оказалось: трава — зеленая, осенний лес — рыжий, небо — серо-голубое. Только вот и этот солдат, — а будивший явно был военным — был такой же буйной расцветки. Зеленые сапоги!.. На военную принадлежность указывало и вооружение: за левым плечом грузно висела винтовка — большая, тяжелая, Михаил таких не встречал; за правым плечом висел эдакий приличного веса топорик на длинном древке — по-европейски он звался алебардой, русское название топорика Геневский запамятовал; у пояса человека висела сабля. Вот так сабля это была! Изогнута, чуть не втрое сильнее сабли обычного образца, а золотом и камнями усыпана так, что даже покойный Государь Император таких сабель на парадах не носил. Вживую Михаил такого оружия не видел, но брат привозил открытки из Артиллерийского музея на Петербургской стороне — такими саблями рубались в Польскую войну 1654 года. Лицом солдат был странно хорош. Каждый лицевой орган был по-своему нелеп и почти некрасив, но общая картина складывалась милой и приличной. Меховой околыш шапки спускался к самым глазам, которые по своей крайней шарообразности и выражению напоминали беличьи. Лицо было скуластым, мясистым, но беловато-желтого оттенка, словно бы он болел. Нос тонкий и в рытвинах, губы словно вываливались изо рта. Если борода еще сдавала экзамен опрятности и какой-то моды — простое аккуратное окаймление по подбородку — то усы были закрученными в две стороны стрелами, что выглядело просто смешно. Прошло с полминуты взаимного изучения и разглядывания, и Геневский наконец увидел, что солдат протягивает ему фуражку. Взяв ее и поблагодарив кивком, капитан надел фуражку, приставил правую руку к козырьку и как бы отрапортовал: — 1-го Дроздовского полка капитан. — Ишь… — все также скучающе протянул солдат. — А что рвань такая — капитан же. Геневский оглядел себя: действительно — форменная рвань. Сапоги в бесконечных походах и атаках текли трещинами вниз по голенищу, френч весь перезаплатанный, угрожал еле держащимися пуговицами и отваливающимися карманами. Все густо полито по́том, кровью, пылью и грязью. — Так война же, — только и ответил Геневский, почти засмущавшись. — А пищаль у тебя хорошая, легкая. Я уж трогать не стал, мало ли, чего там. — Это винтовка… винтовка Мосина. — Мосин? Кто таков? — Конструктор оружия и русский генерал. — Ааа… — протянул незнакомец. Было ясно, что он недопонимает. — А у Вас почему зеленые сапоги? — вдруг что-то заподозрил Геневский и как-то настороженно сузил глаза. — И кто Вы такой? Солдат выдал булькающий насмехающийся звук, мол, как можно не знать такой глупости, и ответил: — А выдали сапоги! Стременным нашего полка всем выдали. Я разве разберу, отчего по высочайшей воле сапоги нам зеленые, а не желтые? Я-то, — вот те крест, не вру, — желтые хотел. А куда там хотеть — я пришел, а меня в полк… ну этого, как его батюшку… Забыл, вот ты подумай! Забыл! — солдат разволновался и еще сильнее округлил глаза. — Ну да Господь Бог Всемогущий с нашим полком. И с сапогами тоже — хозяйское добро, не свое. — Постой-ка, — сказал солдат, пока Геневский просто наблюдал за монологом. — А чтой-то мы стоим? Пойдем, подымай пищаль. — Куда пойдем? — К Царю и Великому Князю Московскому пойдем. Я ж тебя тут на границе губы нашел — так пойдем, доложим. Какой ты там капитан, какого там полка. Пойдем, — просто и ответственно говорил солдат, направляясь к лесу и маня за собой Геневского. А в уме Михаила понятно какое пожарище заиграло. К Царю! И к Великому Князю! Что, разве Великий Князь Николай Николаевич здесь? А кто же Царь? Новый Царь, или… Да еще и московский, говорит! У Геневского перехватило дыхание. Он бросился к солдату и схватил его за рукав. — Что, Николай Александрович жив? — крикнул он. — Жив? — Ты руку-то того. Убери, — насторожился солдат. — Извините, извините. Так что Государь? — Да сейчас, сейчас Государь, — улыбнулся солдат, — но ты бы так не радовался — Царь ведь грозен. Еще прикажет что — не обрадуешься, будешь Господа попрекать, что я тебя нашел. Ну да не бойся, капитан, не бойся, пойдем. Суд царский — он как Божий, все по справедливости и чести. — А что же Николай Александрович? — тише и уже с тревогой спросил Геневский. — А я почем знаю, какой Николай? Угодник, разве? — Нет… — лицо капитана стало страдальческим. — Император. — Ух! А я ваших императоров знай! Немец ты, что ли? Как кличут? — Михаил Геневский. — Геневский? Литовец? Из поганых поди? — усмехнулся солдат. — Да русский я! За Христа же воюем. — Ну, это доброе дело. Так идешь, нет? — Иду. Вошли в лес. Лес с порога оказался темным, дремучим и давящим, — но Михаил никак этого не заметил. Геневский хотел было заговорить вновь и начать что-то спрашивать — даже ему было странно находиться в такой ситуации, — но его спутник запротестовал: — Ко мне без вопросов изволь — мне отпуск завтра, лишние дела не сдались. И так лавка, жена говорит, в убытке ходит. Шли недолго. И пяти минут не минуло, как встретились еще два солдата — тоже в зеленых сапогах. На Геневского они вообще никакого внимания не обратили, но перекинулись двумя тихими словами с первым солдатом, — а потом пошли дальше. Очевидно, патруль. Мысль известного нам капитана была сугубо практичной и быстро улетучивала все возможные трагические размышления: каким образом солдат может таскать за раз три тяжелых оружия и главное — зачем? Сабли бы хватило, но у зеленосапожного есть еще и алебарда. А винтовка? Чуть не полпуда на вид. Как было сказано, добирались недолго и пришли быстро. Оказались на поляне. Это была не совсем поляна, а так, недлинная просека. Геневский увидел столы, стулья и сундуки. За столами сидели известные солдаты — зеленые сапоги; они же стояли по округе у деревьев. Саженях в пятидесяти находилась другая группа людей — насупившихся, в черных подрясниках, но с серебряными саблями у пояса. Не монахи — смотрели грозно и выглядели совсем, мягко говоря, не благочинно… У края просеки, на большом позолоченном (а то и вовсе золотом) кресле сидел человек. Был он не совсем в духе, а честно сказать — в духе устрашающем: опущенная голова его и грудь тяжело вздымались, с каждым вздохом вырывался низкий полухрип. На колене лежала раскрытая и, наверно, забытая книга — норовила упасть; в правой руке был до вздувшихся вен руки сжат край богатой шубы. Широкий лоб с залысиной, и двойной клин носа и бороды смотрели под острым углом в землю, волевые глаза чисто и жестоко хотели прожечь землю. На губах застыла презрительно-задумчивая гримаса. Человек был в монашеском черном одеянии, как и те люди вдалеке, на нем был подрясник, на голове — скуфья. На ногах — червонно-красные сапоги с желтыми узорами и поднятыми носками. По позе сидящего, его напряженному и развалившемуся на троне телу, можно было судить о великой силе человека, но сам он казался почти стариком. Рядом с троном в землю был воткнут тяжелый посох. Солдат, ведший Геневского, остановился далеко от трона,вздохнул, протер лоб и шепнул: «Ты только, капитан, не мудрствуй лукаво, честь окажи и все полагающееся». — А кто ж это? — шепнул Геневский в ответ. — Царя не знаешь, дурак! А еще капитан! — прошептал сквозь зубы солдат и шагнул вперед. — Бьет челом тебе, Государь, Царь и Великий Князь всея Руси Иоанн Васильевич, стремянной стрелец Василий Сипягин! Разреши, Царь, слово сказать, — солдат, оказавшийся вдруг стрельцом, — и как Геневский сразу не понял? — низко поклонился и остановился в сажени от трона. Геневский, растерянный и даже напугавшийся, тоже поклонился и стал бегать глазами от стрельца к Царю и обратно. Он не знал, что происходит, и что ему делать. Царь раздраженно поднял глаза и, совершенно не замечая Геневского, кинулся на стрельца. Позы он не изменил, но одних поднятых глаз хватило, чтобы стрелец побледнел еще сильнее. — Ты чего, душа служивая, мне человека привел? Я тебе указа не давал всякую рвань приводить! — Не вели казнить, великий Государь! — вновь поклонился стрелец. — С утра твой приказ был: вести тебе малинового человека, у леса лежащего. Вот я и исполнил. — Так это он, — Царь спокойно перевел взгляд на Михаила и стал его рассматривать. Интереса в этом простом взгляде, норовящим вдруг взорваться чем-то, было куда больше, чем во взгляде стрельца. Заговорил Царь просто, словно ничего особенного в Геневском не видел, и ждал здесь вовсе не его: — Слушай, дрозд: Бог наш христианский, прежде всех времен сущий, повелел мне удалиться в лес, дабы от треволнений буйного мира отдохнуть и к вечности отвести свои думы, молитвою и святой тишиною душу успокоить. За эту ниспосланную нам милость мы, православные самодержавные государи, Богу вечный поклон держим, не разгибая спины. Но тяжел долг царский и нет ему покоя и в молитвах — было и другое повеление. Нашептал мне дымчатый ангел, что должно в местах сих дивных, достойных красотою райского эдема, найтись неведомому посланнику, который головой своей и плечами будет красен, а зваться он должен — дрозд. А ты, стрелец, иди — тебя хвалю, хоть ты покоя мне не дал. (Стрелец мигом исчез в лесу). Ну, что красен ты главою и плечами, то я вижу. Скажи мне — кто ты? Точно дрозд? — в спокойных изучающих глазах вместе с огоньками вспыхивала подозрительность, но ее было маловато для пожара. — 1-го Дроздовского полка капитан Геневский, Ваше Величество! — вновь отрапортовал Михаил. На душе его было самое метущееся чувство, а в уме самые откровенные мысли о своем сумасшествии, — но не отрапортовать Царю и Государю было никак нельзя, даже и сумасшедшим. — Я вижу, что ты русский, на ливонской и немецкой, на всякой заморской собачьей морде такого честного выражения не отыскать. Вот ты подтвердил, — ты дрозд. Объясни же мне, дрозд, шутку ангела — кто такие дрозды? Что из себя такое дроздовский полк? — Государь… — начал Геневский, но почти не смог ничего сказать. Молчал некоторое время. — В тебе исполнилась воля Провидения — ты предстал перед нами, ибо, как сказал Господь устами человеческими — никогда пророчество не произносится по воле человеческой, но изрекают его святые Божии люди, движимые Святым Духом. Честный слуга Господень, искра глаз Его святых — ты явился. И пусть я не устоять, не стерпеть могу, могу и по своей самодержавной воле, завещанной мне великими Князьями Московскими и Киевскими, по закону Божественному мне данной властью покарать тебя за молчание и издевательство над терпением царским, — но я буду ждать, как велел мне призрачный ангел, присланный Христом-Богом. Но говори же быстрее: чем больше ты молчишь, тем больше разум мой размышляет — то ли орел передо мной златоглавый, верный царский воин, то ли передо мной ворон ливонский, безбожный, желающий златоглавые кремлевские храмы разорить? Говори же, вижу, что уже слово с твоего языка бежит. — Дроздовский, Ваше Величество, — скороговоркой заговорил Михаил, действительно почти уставший от царского монолога, — это верный царский генерал, поведший в героический поход тысячу людей, которые остались верны присяге; этот поход, уже без славной памяти генерала, продолжается до сей поры и завершиться должен в Москве — освобождением златоглавых ее куполов. Наверное, мы не слишком слукавим, если скажем, что то было самое длинное предложение, сказанное Геневским в своей жизни. — И ты был в том походе? — подозрительность потухла, но Царь отвел голову назад, непонятно с какими намерениями. — Я был в нем, но не с начала, Ваше Величество. — Что же, ты и сейчас в нем? — Точно так, Ваше Величество. — Но вот скажи мне, дрозд-герой, посланный ко мне Святым Духом, скажи мне, поведай — отчего вас была всего тысяча, коль ангел призрачный молвил мне блаженным своим голосом, что на великой Русской земле ныне живет никак не менее двух сотен миллионов — страшная тьма людей для любого богоотступника мира грешного — отчего же вас была лишь тысяча, где же христианская рать, встававшая неоднократно под знамена царские и под хоругви Бога Святаго, и шла неумолимою толпою, ведомая святыми своими, в веках просиявшими, где была эта рать? Я видел ее — она шла на поганого ляха и на высокогордого шведа, на далекого приокеанского немца, пожегшего златоглавые купола столетие назад. Я видел сам ту христианскую рать в свой жизни многострадальной и многогрешной. И при отце моем, знаю я, при славном, мудром и великом Князе Московском и всея Руси Василии Иоанновиче, я встречал эту рать, освобождавшую от неверных Смоленскую землю. Та христианская рать побила агарянскую орду при донском течении и при их поганой неверной Казани. Где же сейчас хоругви ваши, где царские знамена, скажи мне, дрозд-герой? — Иоанн Васильевич приподнялся на троне и облокотился на локте, завалившись в сторону Геневского. — Где — скажи? — В Орле, Ваше Величество. Ныне, вероятно, парад, — Геневского убаюкивала пока спокойная и мерная речь Царя, и он вовсе перестал удивляться и бояться — отвечал будто перед полковым начальством, даже стал слегка улыбаться. — Парад! То не легионы и когорты ангелов небесных и бессмертных на конях гарцуют, — то люди смертные и грешные хоругви на своих хрупких плечах вознесли. А знаешь ли, дрозд, за что Господь Вседержитель, великий в Трех Лицах, как в одном, преподнес вашему воинству тот славный парад, олицетворяющий силу вашу в веках — и то уж не шутка и не издевка, пусть я бы и хотел, но лукавить над вашей силой мне совесть, Богом православным государям даруемая, не дает — знаешь, отчего воинство ваше такую честь заслужила? — Не могу знать, Ваше Величество… Быть может, за жертву, которую совершили несколько тысяч добровольцев? — Ты мне вопросом на вопрос, славный дрозд, отвечать не смей, — огонь в царских глазах вновь вспыхнул, и огонь этот был яростнее всех дроздовских атак, — ты мне отвечай на вопрос, государевым умом выращенный. И глупость мне твоя — выканье твое, ухо раздражает — как может православный русский воин, на голове и плечах, по ангельскому предсказанию, святую печать несущий, говорить православному и самодержавному Князю Московскому — «вы»? Я тебе, дрозд, не отступник от земли Русской, я тебе, дрозд, не изменник и не колдун! Ты, собака, лжешь! Огонь разгорелся уже слишком сильно, и Иоанн Васильевич приподнялся на троне обеими руками, вытянулся в сторону Геневского. Еще миг и он бы встал, — а что было бы тогда, даже и ангелу не следовало бы видеть. — Прости, Великий Князь Московский, я забыл древние обычаи! — засуетился Геневский, но даже забыл вновь поклониться. Более он ничего не сказал, поскольку вновь его охватил страх. Иоанн Васильевич сжал зубы, но, видимо, вспомнил, что перед ним не его опальный боярин, а предсказанный ангелом «дрозд». Успокоиться, однако, он уже не мог, потому нашел по-царски простой и правильный выход — продолжать гневаться и одновременно продолжать начатую тему. — А вот не потому, дрозд, ваши когорты по моему славному Орлу-граду шагают, — а ведь знаешь, дрозд, что я тот город построил по повелению Господню в лето 7075 от сотворения мира? И в моем славном городе, половину тысячелетия славящего Господа Бога в трех Его Лицах, сейчас шагает ваше корниловское воинство. Ты не лукавь мне, дрозд, и не язви: сердце мое правое видит любое лукавство человеческое, а разум мой по изволению ангела Господня знает: дурашка ваш Корнилов на Семью Царскую с богомерзким бантом ходил и кичился, как последняя пьяная баба, забывшая, что такое честь, хвалился своею смутою и своими изменами. Великого своего Государя разрешил в темницу заточить и отогнать от него народные толпы с хоругвями и с молитвенными песнями — и чем вы, колдовские плешивые псы сейчас хвалитесь? Тем, что вернули Орлу Церковь святую? Да Церковь наша русская никаким грешным народом не удержится, никакими штыками ваших корниловских черных полков, будь они трижды Богом прокляты за свои измены и трижды Богом прощены за свои жертвы, никакими силами не удержится! С Государем ничего же не случилось, он в темнице святые поклоны клал и молитвы шептал, как в древности первоверховный апостол Петр… Ты, дрозд, думаешь — зачем это я тебя позвал? А известно что — все тебе расскажу. Не отдам вам Орла-града! Последняя фраза громом прозвучала — во всех смыслах. Главное — громом гремел голос Государя Московского, и громом ударил по голове Геневского ее смысл. Он совсем растерялся и чувствовал, будто его разбило какое-нибудь войско короля Батория. — Но… как же, Государь? — Известно, как, дроздовский сын, известно! Великое безумие на Руси произошло — известно! В год 7424 от сотворения грешного мира нашего обрушился на Руси великий столп, держатель мира от антихристовых гадюк; молвил апостол Павел божественными своими устами: тайна беззакония уже известна, только не совершится до той поры, покуда не взят от среды удерживающий. И взять удерживающий! Рухнул столп! Ринулись адские полчища на земли, окропленные святою кровию сынов русских! Как и при моих веках, все одно, дрозд — боярская властолюбивая знать да чернейшая чернь городских подвалов перерезала всю властью праведную, Богом, по канонам Евангелия, поставленную: от человеколюбия своего Государь ваш не резал на широком московском дворе колдовские головы, на царскую самодержавную власть дерзнувшие окаянные глаз уронить. Не резал их Государь — и его самого зарезали! Но то Божие дело, не мое, а все одно — слава святым мученикам за веру и землю Русскую! Только и боярская собака недолго мясом в царских палатах обжиралась — вот и ее режут, нечего собаку на стол пускать, нечего нечистым по столам ходить. Помяни слово мое, дрозд, и чернь тоже перережут и всех изменников перережут и всех клятвопреступников перережут и многих честных людей прихватят. Великий стон по распятой Руси пойдет. Не стал единым могучим богатырем славный русский народ, не поднял столпа упавшего, не попрал дьявольские орды, хлынувшие на улицы святых и старинных городов из черноты подвалов. Ваше дело белое да святое — то сказано верно, да ваше дело не вечное — куда вам, честным людям, против дьявола! Да и сами вы не хороши — у вас за спиной Царя с векового царства обрушивают, а вы глазами хлопаете — дрозды еще! — да новой власти в верности поклон даете. Сами же и изменники, изменникам земли Русской не спасти Руси! Не отдам вам Орла-града! Что в наше время, что сейчас — одно. Бояре душили меня, рвали, литовцам поганым сдавали, вместе с детьми и женами травили меня ядами аглицкими, митрополию на меня натравливали, а что же теперь, разве не все одно? Разве святые отцы и ныне Государя законного, Господом Богом поставленного, не забыли на другой же день, аки поп Сильвестр мне внушавший, будто я из ума сошел вон и Бог душу мою оставил за преступления мои? Какие же преступления, каких же честных и добрых людей я побил — разве боярских сыновей и отступников, которые желчной страстью вновь возжелали Русь себе на уделы растащить, а меня в поганые земли в клетке увезти? Меня — законного, наследного и Богом поставленного Государя и Царя! Так таких изменников везде бьют и бить должны, некуда им на честной земле одним воздухом с верным и могучим русским народом дышать — смрада их нам, на Руси, не надобно. А что отцы-то святые на другой день — храни, Господь Бог Наш, святой во Сионе прибывающий, храни, мол, храни, дескать… — лицо Иоанна Васильевича побелело, вероятно, от невыносимой ярости. — «Храни временных изменщиков» — говорят! Куда Церкви русской без Государя — сразу в Литву убегут! А книги все царские из древних храмов и монастырей честных повыбрасывали и все молитвы перестали шептать о здравии нашем государевом — то-то их и пожгли и поубивали адские сомнища, что нечем уже святой братии держаться! Каины! Царь успокоился и обмяк на троне, положив голову на грудь. — А господа-то дворяне что!.. — уже тише, с опущенной головой, продолжал Царь. — Им и землю, и крестьян, и богатств разных, и свободу от боярщины, а они… туда же смотрят. Надо было и дворян всех перевешать, как я в свое время устроил, — отдали бы власть иному сословию, известно какому! Хотя и те — лишь бы кошельки набить… Куда смотреть… На кого надеяться… На народ разве? А где народ? Ему бы земли дать — а без земли и на Бога изругается, и душу свою погубит; Божия же земля, не людская, совсем народ во тьме своей изгнил, о святых проповедях Христовых забыл, ради земли и кушаний себя зарезал… Так ни земли же, ни еды… А вы-то, вы-то? Перед Царем полсвета стоите и… об учредиловке думаете!.. Ваш Антошка Деникин глуп как две копейки — да оттого, что поляк наполовину: на диктатуру позарился, на народовластия, на народоизъявления!.. А Царя законного народу не пообещал — не отдам ему Орла-града! Царь вдруг чуть не истерически рассмеялся, но сразу же вскинул голову и продолжил: — Что с вас, дроздов, взять; солдаты есть солдаты. А врешь ты вот о чем: ты за меня, негодник, воюешь. За меня вороненой наивной рукояткою осатаневшие черепа бьешь. Что — я-то не совру? Царь не соврет! И пусть, знаю, не за грозного перед народом Иоанна Васильевича, да поди и не за святого перед народом Николая Александровича — нас с небес не достать, нас нет. А Россия есть! — вновь прогремел Царь. — И изменники, вши лживые, ее на поругание отдают! Я не про осатаневших красных девиц, что Кремль уже испохабили, да Господь Бог с Кремлем — отстроим и церкви святые и стены. Вы ведь хотите в Кремль лицемеров, лжецов и хулителей веры протащить, изменников, — а нынешние бы сказали: «революционеров, демократов и социалистов» — голытьбу духа. Львова да Савинкова протащите, гляде шире — Керенского. То что думаешь, я сам себе наговорил да навнушал — ничего подобного, дрозд: то мне призрачный ангел Господень поведал, да я и понял вас так — как бы скорее Савинкова в Кремль пустить. А Савинков родного царского слугу и чуть не деда царского Сергея Александровича, губернатора московского загубил, задушил, разорвал бомбою! Куда Господь смотрел тогда, как не на ваши грехи, черными змеями по народу и дворянству стольному ползущие? Позволил царского деда бомбою разорвать, да куда — двух дедов, и старого Государя той же бомбою!.. Не отдам Орла. Осатаневших людей в Кремль напустите. Не отдам Орла… Не отдам… Профессорам да лживым генералам Кремля не отдам… Народ не поверит… Царя хотите, дрозды, а! Молодцы, красавцы — так ставьте, выбирайте — я для вас Земские соборы устроил — на которую вам собачью плешь народовластие устраивать?.. Царь устал. Было видно, что он выпустил весь гнев, на который был способен, а теперь уже не знал, что говорить, да ничего говорить и не хотел. Но все же он выговорил главное слово: — Доигрались с политикой: вот России и не будет больше. — Как не будет, Государь? — тут сам Геневский вдруг разозлился. — Извини меня — но тут ты теперь врешь. Будет Россия! — Ха! Не страшишься Царю полсвета дерзить, да еще такими словами, дрозд? — Царь легко встал с трона, роняя книгу с колена на землю, и в один миг оказался перед Геневским; на лице его не было гнева, скорее желчь и любопытство. — Ради Святой Руси — не боюсь. Да, мы, дрозды, воевали за царскую власть куда больше, чем за республику. Нас мало — но мы республики не допустим. У нас даже монархическая организация в дивизии есть! — Была! — легко крикнул Царь. — Да вы про нее забыли, как Дроздовский сгинул — променяли монархическую веру на организацию непредрешенческую! — Пусть — была. Но и снова будет. Корниловцы взяли Орел, а мы, дроздовцы, возьмем Москву. Дай нам, Царь! — Поздно! — вновь загремел Царь и пошел вокруг капитана. — Вот Россия, тело бездыханное, пойди, добудись ее, тени бесовские ее мучают, мрак ее забирает, вся жизнь из нее вылилась. Рассвет ваш — Ледовые походы — зашел назад, тьма над бездною, и Духа над водою нет! Песни ваши допеты! Ничего не вернуть! — Вернуть, Государь. Народ твой вернет! И Земский собор соберем! — Траур по земле Русской! — продолжал Царь, ничего уже не слушая. — Нет больше русского голоса, не откроет век больше матушка-земля, в веках затеряется, как некогда могучая Византия! А Небеса святые насмехаются над вами: не вернете России, не поставите вновь, в который раз, своей власти — хватит нам предательств, измен и восстаний. Не хотите России — не дадим! Не вернем!! — Дай, Государь! Не сможешь так! — закричал Геневский. Царь Иоанн встал, сжал кулаки и горящими ненавистью глазами подошел к Геневскому. Но тут плечи его упали, кулаки разжались, а глаза брызнули. Он сник, голова его упала, и Царь прижал капитана к себе. Пропала, было вспыхнув на миг, жестокая злоба на мокрые глаза, и Царь прошептал, чисто, открыто и даже молодо: — Бог с нами, дрозд, Бог и вернет — сказано же: вознес избранного от людей Моих, — и не должно это прерываться; да видно прервалось и уж надолго, за грехи наши… Смута страшная… Но и в смуте — герои есть… Так и стояли там двое — русский Царь и русский капитан. Два, наверное, честных и любящих Россию и Бога человека, чувствовавших каждый больное сердце друг друга за умирающую страну. Каждый вдох Царя Иоанна давался ему тяжелее, он грузно наваливался на капитана и слабел на глазах. — Не отделить Царя от России даже Богу Всемогущему, Государь. И в смерти — возлюблены, — тихонько сказал Геневский в ответ. — Россия была… — И в смерти нас не разделить… — повторил тут Иоанн Васильевич и пропал. Геневский упал на траву. Вокруг него была та же просека, только теперь — ни стрельцов, ни Государя с троном. Только вот стоял на месте трона столик, а на столике стоял богатый телефон: коробка с золотым двуглавым орлом и тяжелой ручкой. Телефон надрывался звонком. Геневский подошел и поднял трубку — там хрипло и далеко звучала стрельба и офицерские покрики. Среди них едва слышался голос: — Прием! Прием! Это Штаб 1-го Армейского корпуса? Говорит полковник Скоблин, Орел временно оставлен — окружение; не было связи, чтобы сообщить точное время. Я отвел Корниловскую бригаду к станции Стишь, десять верст южнее Орла… Трубка выпала из рук Михаила, а сам он вновь рухнул на траву. *** Нечего говорить, что Геневский очнулся и на этот раз. Но очнулся, к своему удивлению, снова на окраине леса. Голова, в прошлый раз разрывавшаяся от гула, теперь была чиста и хороша. Все, как в тот раз: винтовка и фуражка на земле, порванный френч… только вот в тот раз не слышна была кавалерия. С невероятной для послеобморочного состояния скоростью и легкостью Геневский прыгнул в кусты и убежал в лес саженей на десять. Сквозь ветки кустов, в которых он спрятался, было видно поле перед лесом, а вот самого офицера разглядеть было сложно. Красный разъезд, таким образом, предстал довольно открыто. Всадники боязливо озирались около леса, но скакали вдоль него — наверное, искали широкий путь. Тут уж ничего не оставалось делать — безумная встреча с первым русским Царем давала представления о какой-то избранности, — и Геневский выстрелил. Быстро и как можно незаметно прыгнув в другой куст (на ходу дергая затвор), он выстрелил снова. Потом прыгнул к третьему кусту и выстрелил опять. Прыгнул дальше. Михаил особенно не целился, он хотел лишь создать видимость скопления стрелков в темном лесу, откуда людей выкурить сложно. Красные так и поняли — ага, нам не справиться, всего хорошего. Разъезд под матерные крики ринулся в обратную сторону. Подождав минут десять, Геневский вышел из леса и приметил, в какую сторону умчался разъезд. Пошел в противоположную. Часа через два пути по полям показалась деревня. От деревни опять скакали всадники, но Михаил твердо был уверен в правильности своего пути и твердо пошел навстречу. Твердо же уверенный в том, что скачут свои, он снял фуражку и, надев ее на приклад винтовки, стал ею размахивать высоко в воздухе. Двое всадников поскакали быстрее, но стрелять не начали. — Какого полка? — две запыхавшиеся малиновые фуражки добрались до Геневского. — Первого дроздовского. — Запрыгивайте, господин капитан! Мы второго полка: собираем отставших. Наших войск уже нигде нет, дивизия отступает к Севску. Даже заявление об отступлении всей Дроздовский дивизии обратно к Севску Геневского не смутило — отступаем и отступаем: России Иоанн Васильевич уже не обещал. Ничего не смущало Геневского, а вот он смущал многих. Туркул удивился его объявлению почти через месяц, Покровский, Марченко и Бык (оказавшиеся невредимыми) прямо подхватили Михаила на руки, узнав, что их друг вернулся. Оказалось, что после разрыва снаряда Геневского искали чуть не половину дня, но нигде ничего не обнаружили… Весь полк преобразился и радовался Геневскому, как крупной победе, а преображаться было от чего: Севск уже который раз переходил из рук в руки, насмерть перекрученные нервы Туркула лишали его речь даже намека на шутку. У него всего полторы тысячи солдат… Но тот поздний октябрьский бой показался Геневскому все-таки заслуживающим внимания. Сильнейшие пулеметные контратаки красных стучали крепче смертельного мороза. Вся городская округа была залита кровью и забросана телами чуть не в несколько слоев… Дроздовцы контратаковали. Но вот — умирал один товарищ, вот — терялся в трупах другой. Марченко пропал на одной стороне города, Бык пропал на другой. В пролетающем бурном ветре, словно не желающем белой победы, листьев было куда меньше, чем пуль и снарядов, — и хоть было понятно, что скорее в городе пыльной тучей падут все строения, чем падут все дрозды, но поражением пахло в воздухе необычайно страшно. Общего поражения не случилось. Да и куда там — Туркул под конец дня вовсе обезумев от бесконечных атак грудью на картечь, от безразличия к нежелающим шевелиться усталым конечностям («я вам дам не шевелиться — расстреляю!» — угрожал он рукам), много еще от чего… да, он вновь начал шутить. Он встал с земли, увидев очередную контратаку по всему фронту, просто сказал, указав на поднятые вверх от преждевременного ликования винтовки: «Эх, ученички — лес рук!» и повел полк в атаку. Красные были отбиты, но готовились вновь — через час опять пойдут. В этот момент к Геневскому прибежал взявшийся за волосы Покровский с пропавшим черным лицом, прибежал и сказал — «там четырнадцать красных полков, а мы тут одни уже несколько дней!» Покровский умчался, не процитировав ничего из Библии. Михаил пожал плечами — он-то уж знал, что пора умирать — и пошел умирать. Ужас того, что добровольцы поскончались, того, что советы собрали четырнадцатикратное преимущество запугиванием, заложниками, террором, ложью и пустыми обещаниями (а русский народ, обманутый и порабощенный, пошел против Спасителя) не страшил Геневского — умирать, все равно умирать. Красные бежали в атаку, слышался дружный восторженный рев. Какая-то игривая пулька задела Геневского, и тот лег в траву, но на врага смотреть не перестал. Рев красных казался ему диким, горячим, но при этом каким-то ложным; Геневский представлял мирных мужиков, которые идут с сохой по полю, а по праздникам едят пироги и танцуют за деревней — теперь эти мужички для чего-то бросили пироги, танцы и поля и устремились вот… Геневский, смотря на эту серо-зеленую человеческую массу, не мог понять, куда и для чего она стремится. Быть может, ее так заставляют? Или, быть может, она — масса — верила, что там, куда она бежит, пироги слаще, земли больше, а танцы веселее? Геневский не знал. Но он подозревал, что и масса не знала. Михаилу представился жуткий мир, где люди живут, ничего не зная, а над ними довлеют другие, которые тоже ничего не знают, но гордятся — у них «сверху» есть инструкция (манифест, трактат, декрет), тоже, впрочем, сильно ложная. Инструкция, как жить всей стране, бумажка, бланк, план, вера в канцелярию. Почти что вера в теорию и в слепой прогноз, на деле доходящая до веры в ветхозаветных пророков. Вот будет ужас, когда искренне и нежно в бумажку поверят и массы! Не звериной сущностью страшен большевизм, не попранием Бога и общечеловеческих устоев — он страшен ложной бумажкой, заменяющий истинную жизнь. То были последние мысли Михаила Геневского, капитана Дроздовской дивизии Добровольческой армии Вооруженных Сил Юга России. Вероятно, самые глубокие и ясные мысли за всю его жизнь. Та лихая пулька, скользнувшая в живот, словно не была замечена. Другой пульки, скользнувшей в голову, замечать уже было некому. Позади, в который раз, сумасшедшим строем наступали остатки 1-го Дроздовского полка, кричали «Ура!», бежали, чтобы забрать раненых, бежали, чтобы в десятый, сотый раз отбить несколькими ротами десятки полков красных, разбивая напрочь всю человеческую логику своим самоотречением и волей Того Бога, о Котором так долго говорил первый русский Царь. Шли, совсем потерявшись между жизнью и смертью… А Геневский не потерялся. Он умер. *** Вечер, глухой черный вечер. Скоро полночь. Ни единого фонаря, лишь горят костры. Все старшие офицеры, привыкшие ночевать в курских полях, на ногах. Никто не сидит. Отблески пламени, ярко-красного, в непроницаемом сером тумане наступившей ночи, страшно чеканят лица. Покровский, бормотавший шепотом само собой выученное житие Сергия Радонежского, стоя грелся у костра, когда вернулся Марченко — Геневского нигде нет. Сообразили, что найдут утром, если он где-то остался лежать раненым. Пришел и Бык. Полковник Туркул — лицом исхудавший и побелевшей труп — подходит к костру. — Здравия желаю, господа, — бодро, звонко, четко. — Здравия желаем, господин полковник. — Вы знаете, — как ни в чем не бывало, — приказано отступать к Курску. Сдерживать красных более не можем. Утром двинемся к Дмитровску, вы бы поспали… Офицеры будто оглохли и не слушали. Округлились и возмутились глаза, округлился неверящей черной бездной рот. — Прошу простить, господин полковник, — Покровский, — как можно отступать? Ведь Орел… ведь Москва! Никак не можно удаляться от Москвы. Вот мы найдем капитана Геневского… — Тише, тише, господин капитан, Геневского вы найдете, он вчера откуда ни возьмись заявился и побежал перед фронтом, вот орел! Но держаться не можем. — Глаза Туркула впали, будто он сам испугался своих слов. Словно успокоительное, он принял следующие слова. — Приказ Главнокомандующего.
Глава десятая. Исход
Было безумием надеяться одолеть несколькими полками красноармейские массы, безумием было начинать Кубанский поход, безумием было идти на Москву, безумием было защищать Крым, безумием было упрямо сохранять армию в лагерях Галлиполи и Лемноса — но только благодаря этому безумию мы можем не краснеть за то, что мы русские. В. Х. Даватц.
Нельзя было сказать, что подобное положение не предугадывалось с самого начала. Ноябрь 1920 года был горячим не по осени — тысячи и тысячи красно-белых трупов на родной русской земле окрасили кровью, гнилью и смрадом перекопские деревни. Нет смысла обсуждать и повествовать о том, что уже известно. Пишванин, облаченный в новые лайковые перчатки, пропал где-то на Северном Кавказе. Говорят, он сумел перелететь горы и попасть в Грузию — но то было еще в январе или феврале, а до ноября он в Крыму так и не объявился. Матвей Геневский, узнавший о смерти своего брата, словно перенял его привычки — почти не думая уволился из деникинской разведки и пошел новым добровольцем в цветные полки. Прямо от самого Дмитриевска и Севска вместе с полками Туркула и Манштейна он прошел до Новороссийска. Эвакуация из Новороссийска в Крым была зрелищем страшным и омерзительным, но надежду давала традиционная тактика добровольцев — умение бить число: генерал Слащев с четырьмя тысячами уставших солдат разбил сорок тысяч красных на подступах к Крыму. Эта многомесячная оборона полуострова малыми силами давала надежды на будущий успех. Надежды давал и десант Туркула в Хорлы, надежду давала и летняя операция на Кубани, надежду давало и крупное успешное наступление в Северной Таврии, где снова малыми силами были разбиты самые крепкие большевики… Что ж, одной надеждой победишь? Одной верой в победу? Одной любовью к России? И, кажется: вот, все христианские добродетели при нас, но — сейчас ноябрь, красные подходят к Севастополю, и опять приходится отступать. Теперь — за границу. Сердце грело, что нас нигде не разбили, это — стратегическое отступление, сорок тысяч отборных войск готовы будут и дальше драться. Но что с того? Война, все-таки, проиграна. Полковник Геневский, прямо отказавшийся от дальнейших повышений, покуда война не будет выиграна, шел в самом негативном расположении духа по какому-то пляжу. Он так шел уже час, и не мог, не хотел понимать, где он находится — зачем? Разорванное лицо нещадно ныло и кровоточило, перевязанная рука опухла под бинтами и, как подозревал Матвей, местами могла гнить. Не опасно — ну, ампутируют три-четыре пальца… это теперь не важно, ведь ампутирована вся Россия. На лице того самого, сдержанного, спокойного, гордого и начисто хладнокровно-циничного Геневского мелькали слезы. Сдерживать не выходило, да никто и не видел. Некоторые корабли уже отплывали к далекому турецкому берегу, к южному горизонту. От другого горизонта приближались красные войска. Два горизонта сдавливали душу, хуже слез. Оба горизонта были родными — тот, удаляющийся, разрывал душу разлукой с родными: сестрой, шурином, друзьями, общей офицерской и, главное, патриотической русской средой. Этот, приближающийся, нес с собой странную Русь: разгульную, дикую, сошедшую с ума и поправшую Христа. Но и эта Русь была родной, пусть и предавшей себя. Два горизонта разрывали и метали, искривляли все понятия и отвергали все определения. Что происходило? Что происходило с миром? Геневский шел по берегу Крыма, разрывая сапогами песок. Кулаки сжаты в карманах галифе, глаза сжаты веками, голова трясется от невыносимого чувства. За что это России? За еретиков-хлыстов? За карикатуры на Царя? За что Матвею — ненавидевшему променады у моря — теперь приходится прощаться с Россией так: прогулкой по проклятому берегу? Но ведь верных всегда было больше! Верных, честных и достойных людей всегда больше! Революции был один процент, а девяносто девять — честных людей… Вру: пусть пять процентов революции, пусть процентов семьдесят средних людей, желавших спокойной домашней жизни без жертв, но остается еще двадцать пять! Как это двадцать пять процентов населения России — сорок миллионов — ничего не сделали? Как сорок миллионов людей допустили этот проклятый берег Крыма и эти проклятые корабли, отступающие в Турцию? Но что же сейчас видел полковник Геневский? Горстка верных людей, меньше одного процента, устремлялась на чужбину, а безмерная толпа дряни и сволочи валила и валила, словно девяносто девять… Нет, Геневский не мог больше об этом думать. Не мог и не хотел. Да и не были красные сволочью, Бог с ними, — тоже русские люди. Тоже борются за Родину, мать их так! Россия — вот она, берег Крыма. А полковнику не место в дальних государствах. Ему не место и в большевистской России. Вот он — берег Крыма. Кто-то видит его издалека, кто-то будет вспоминать его со слезой в далекой Франции, кто-то застрелится от этих воспоминаний. Геневский ничего этого не хотел. Он шел по своей родной земле, не желая лишь воспоминаний, но желая видеть эту землю только во снах. Он желал видеть ее каждый день из окна, мудрую, плодородную и могучую. Родная земля была польщена и отвечала тихим и благодарным плесканием волн. «Кто же еще будет на тебя смотреть, Россия?» — спрашивал Геневский. Волны соглашались с его безмолвным вопросом. Впереди послышались крики. Полковник поднял голову. Человек десять шли к нему вдоль берега. Их сапоги топтали тот же песок, их глаза смотрели на те же волны. Это Геневскому не понравилось. Он решительно надвинул фуражку почти на глаза, зажег папиросу из пишванинского портсигара и сладко затянулся. Папиросы оказались дрянь, как с такими жизнь и Россию заканчивать? Вынул револьвер из кобуры. — А ведь вы, вероятно, и сами не знаете, чего вы добьетесь, — тихо сказал Геневский, брезгливо оскалившись. Геневский посчитал, что красноармейцы тоже в чем-то правы, и побрезговал этих мыслей. Шаг его ускорился. Они, увидев решительный шаг офицера, задорно загудели, рассыпались и вскинули винтовки. Пули стали врезаться в песок вокруг, но Геневский лишь вспомнил молчаливые атаки цветных полков. Шел и шел. Он не думал, могут ли попасть красные, хорошо ли они стреляют. Он шел и шел, пока не поднял револьвер и не стал стрелять сам. Из семи патронов «Нагана» Геневский планировал оставить один и, скрепя сердце, застрелиться, надеясь на милость Господа. Милость Господа решила иначе — первые же два выстрела нагнали красных солдат и положили их на мягкий песок. Сзади послышались лошадиные возгласы и другие выстрелы — донские всадники приближались к полковнику от Севастополя. Красные быстро исчезли с берега. Один из красных был жив, но не в лучшем состоянии — пуля лишь пробила ему ногу, но головой он упал на камни. Он хрипел и стонал, однако, был в сознании. Геневский взял его винтовку, томно посмотрел в глаза красного и подал ему свою флягу с водой. Красные его подберут — а Матвей ускакал с казаками назад — в Севастополь. На эвакуацию. На исход. *** 1928 год. Болгария, город Варна. В пыльной маленькой комнатке, еле освященной единственной керосиновой лампой, сидело семь человек офицеров. Были здесь и известные нам — Бык, Покровский, Марченко, Лотарев и старший Геневский — так и двое ранее не встречавшихся: человек с говорящей фамилией Задунайский (а офицеры теперь были, действительно, от России за Дунаем) и человек с простой фамилией Петров. Стояла знойная осень. Лотарев — максимально искореженный инвалид войны — жил с женой в Париже (денег старинного рода на Париж хватало, пусть он и не достиг петроградской недвижимости), но ныне приехал в Болгарию по делам РОВСа18. В РОВСе, конечно, состояли все; об этом не раздумывали — РОВС и был русской армией. Вопреки уже перевалившему за половину 1928 году, все собравшиеся офицеры были надежно уверены, что пройдет еще год-два, а там русский народ восстанет и эмигрировавшая русская армия придет к нему на помощь. (На заявление большевиков о буржуазной контрреволюции, черной реакции или вообще о смешном желании вернуть свои поместья — какие у Быка или Марченко поместья? — офицеры усмехались. Да, мол, мы реакция — но вам от этого только страшнее). Потому многие и селились не в Париже, а поближе — в Югославии и Болгарии, чтобы — если вдруг большевиков начнут скидывать — вовремя прийти на помощь. У старшего Геневского были деньги на эмиграцию даже в САСШ, но он никуда не ехал; однако, об отъезде сестры Варвары в Париж радовался — будет подальше от новых военных действий. Всего, по приблизительным расчетам Матвея, на Балканах до 20 тысяч эмигрантов были готовы вернуться в Россию с боем. Это было 20 тысяч, регулярно проходящих военную подготовку, оставшихся верными военной и организационной дисциплине; это были люди, привыкшие к окопам и разрывам; это было 20 тысяч дроздовцев, корниловцев и алексеевцев. Тут уже одно имя много стоило. Марченко полностью излечил свой недуг, нашел денег на хорошего пластического хирурга и выглядел сейчас почти прежним красавцем. Вся его многочисленная семья была переправлена в Софию еще в начале 1920 года, так что теперь он жил почти довольным. Почти — на хорошей теплой земле со своей семьей и ортодоксальными храмами, даже, пусть, с царем (болгарским), — но без России. А вот с Покровским сделалось все наоборот: он словно развалился изнутри и теперь не походил на святого ратника Куликовского поля. Ни библейских цитат, ни рассуждений о святых и богословах от него не слышали; от него вообще почти ничего не слышали, он стал глух и молчалив. Знали, что он встретился со своей семьей, которая совершила чуть не кругосветное путешествие и из северной России Северным же морем, через Средиземное, добралась до Балкан. Но что из себя представляет эта семья, никто не знал — Покровский молчал. Бык же, напротив, никак не изменился. Он отучился в Софийском университете и сейчас занимал какую-то чиновную должность — не слишком крупную, но дающую опору в этой стране. Характером Бык был все тем же зеленым прапорщиком — беспрестанно улучал момент для философских умозаключений. Лотарев и Геневский стали очень похожи друг на друга, полностью были схожи и их политические настроения: только один еще яростнее отстаивал, что называется, «незыблемость самодержавия», а второй только раздраженно вздыхал. Нетрудно догадаться, кто есть кто. Варвара Лотарева, закончившая уже французские учебные заведения, действительно стала эмансипированной женщиной. Она получила титул княгини, — а Лотарев-то о своих титулах словом не обмолвился — и теперь заведовала какой-то частью недвижимости мужа. Даже занималась неким родом предпринимательства и постепенно входила в парижский свет. Детей пока не заводили, но скоро обещались. Геневский работал в железнодорожном управлении Болгарии и занимал в III отделе РОВСа некоторые места. Был у него доступ и к «Фонду спасения России» — запасы денег прямо на вооруженное восстание в СССР и на подготовку офицеров, — но по старой своей привычке деньги оттуда ни разу не украл. Все восемь лет Матвей Геневский был словно в тот орловский день — ни разу, наверное, не улыбнулся, терялся при больших монологах и злился от каждого пустяка. Петров был из обычных недоюнкеров, «баклажек»; если в 1928 году ему стукнуло только 26 лет, то можно представить, сколько ему было во время Московского наступления, участием в котором он очень гордился. Петров был очень похож на Быка — только не знал философии. Задунайский же был из семьи почетных горожан Перми, воевал в колчаковской армии и постоянно хвалился своими лихими выходками во время последнего Тобольского прорыва; часто расхваливал полководческий талант генерала Дитерихса, которому просто «не хватило организации, которую он и не мог наладить в тех условиях»; гораздо реже и гораздо тише он говорил о Сибирском Ледяном походе — тогда шли не наступать, а отступать, и через ледяную тайгу и пустыню дошла, дай Бог, половина. Играли в пульку. Геневский не играл. Бык и Марченко наперебой обсуждали новые политические веяния — сегодняшний разговор начали с итальянского фашизма, рассуждали, к чему приведет эта диковинка. Марченко утверждал, что фашизм ничем, кроме названия, от большевиков не отличается. Бык просто сыпал факты, никак не рассуждая. Матвей сидел, что называется, ни жив ни мертв, но, разумеется, не от страха, а от забытья. Он все думал — правильно ли он сделал, уехав из России? Быть может, стоило там лечь? С другой стороны, в Болгарии он жил не просто так — в 1923 год они с Туркулом, Витковским, Манштейном и еще парой сотен офицеров помогали болгарской армии подавлять восстание красных. РОВС вообще довольно искусно действовал с пропагандистской точки зрения — ходили слухи, что в СССР находятся десятки подпольных группировок, готовых к удару на советы. Были они, или нет, действительно ли проводил генерал Кутепов свои боевые вылазки, или то были лишь слухи, знали немногие. Вероятно, сами советы толком не знали, отчего у них разваливалась администрация иного города, а глав этой администрации находили в лесу зарезанными — вылазка белых или крестьянское возмездие? Играли в пульку и вяло говорили о другом возмездии. Вторую неделю уже приходили новости об убитых ночью офицерах. Болгарская полиция прямо говорила, что советские агенты убивают наиболее активных офицеров РОВСа; но — разводила руками, дескать, мы полиция и в международную политику лезть не можем, следовательно, надежной защиты офицерам не окажем. В любом случае, очевидно: боевой офицер с семилетним опытом войны может защитить себя лучше, чем рядовая болгарская полиция. Иногда за чернеющим стеклом комнатки действительно слышалось нечто похожее на выстрелы. Кто стрелял? Кто знает. Геневский все думал о том пляже. О солдатах, в которых он стрелял на берегу. Неужели не лучше было бы остаться в России? Да, умереть через неделю в ЧК, но умереть в России. Не лучше ли было поддаться в перестрелке и умереть сразу на пляже, побежать за красными, игнорируя казаков? «Голос малодушия страшен, как яд», — яд, но не в пустоту ли поверил Геневский, решив оставить себя, как кадр для будущей войны — для будущей России? На эти вопросы не было ответов. Но — что самое страшное — уже не было других вопросов. Была вера: вот, да, пройдет еще время, и вернемся… Вера иррациональная, поскольку рацио, конечно, понимало: этому времени трудно прийти. Впрочем, как бы процитировал былой Покровский: «Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему». Обрывки разговора Быка и Марченко долетали до слуха Геневского и как-то даже пробуждали его: хотелось отринуть пелену забытья и сказать нечто остроумное, а потом перевести тему. Что же он слышал? Бык говорил нечто такое: «Теоретическая философия и, особенно, философия истории ведут нас в бездну революции — не было бы Декарта и Лейбница — не было бы и Петровской революции. Без Вольтера и Дидро не случилась бы и Французская. А без Гегеля и Маркса, да и без наших Кропоткиных — не было бы ни Февраля, ни Октября. Пора понять, что революция начинается не с нехватки хлеба и ущемления рабочих, но с профессорских кафедр и с философских кресел. Я хочу сказать, что нам необходим мир полностью без философии, политической теории, социологии и прочих общественных наук. Да, да! — восклицал он на удивления Лотарева или Задунайского. — Мне нужно было выучиться на философском факультете, чтобы понять вред философии. Не нужно ничего придумывать: Бог и человек сами все придумали.Нам нужно ориентироваться на то, что уже есть — на обычную семью, которая хочет свободно творить, работать и богатеть. От богатства этой семьи будет богатеть сильное и независимое государство. В русских условиях, с постоянными войнами и климатом, очень сложно воплотить проклятое реакционное буржуазное общество, — но нужно хотя бы стремиться. Вот тебе вчерашний крестьянин: колосок, плуг да картуз. А сегодня он в техникуме выучился, взял в кредит трактор, арендовал земли и — получите-ка! — вот он уже и богач, и с долгами расплатился, и десять сыновей у него в хромовых сапогах щеголяют и прочее и прочее. Только вы не думайте, я на самом деле капитализм терпеть не могу. И не удивляйтесь — я всю важную национальную промышленность — производство пушек там или нефть, или еще что, ну важное, понимаете, не знаю… Вот вчерашний крестьянин не может ведь заниматься нефтью? В общем, я все это никаким буржуа не отдам — пусть этим Государь занимается. Пусть он один, как казенными землями, владеет казенными заводами. Пусть какой Государь будет — а все одно, он человек будет честный, о своей промышленности озаботится…». Но Геневский не отвечал и не отвлекался. Он глядел на маленькую комнатку, утопающую в табачном дыму, на новенькие карты, мелькающие в руках, на три бутылки вина и одну бутылку водки, стоящие на столе.… Глядел и не видел. Он не пил, не курил и не играл; этим увеселениям он предпочитал свои мысли. Нет, он не отчаивался и не разлагался заживо — он просто искал, что будет честнее. Искал теоретически. А тут — Бык говорит, что теория во вред. Вот и хотелось высказаться. Вот и пробивалась борьба и усмешка. Вот и… Черт с ним! Геневский отмахнулся и обратился к окружению. Традиционный преферанс, мелкий гедонизм, слабая музыка из граммофона. Семь человек офицеров в слабо освещенной комнате в одно грязненькое окно. На лицах — мало сомнений; на лицах — тот же, более провинциальный, чем столичный, азарт от игры и от распитого на семерых штофа. Что ж это: четверо в увлечении играют, закусив губы, двое в большем увлечении рассуждают на темы бытия, а он один — загрустил? От точного слова «грусть» весь дух Геневского вздыбился и возмутился. «Да никогда! Мы еще нужны. Борьба еще будет. Отбоя нам не давали! Мы и есть Россия. Та часть России, которая устояла от рабства и хотела спасти от оного другую часть России. Нам — этому маленькому кусочку свободной России — нельзя умереть. Мы еще вернемся». Он было хотел спросить, когда следующая раздача, и налил себе вина, как вдруг на лестнице послышался волнительный бег и дверь распахнулась. На пороге стоял, тяжело дыша, знакомый офицер-марковец, ныне работающий корреспондентом одной из болгарских газет умеренно-правого направления. Но вид у него был, словно он увидел смерть своими глазами. И не ту смерть, которую он не раз видывал на поле брани, а какую-то абсолютнейшую и ужаснейшую, вот вроде всадников иоанновского Откровения. — Что, что случилось? — заговорили наперебой офицеры. Марковец отдышался, но никак не мог прийти в себя. Никак не мог решиться сообщить то, что узнал. Но вот и с него сошла дрожь, и офицерское собрание, наконец, услышало: — Манштейн… он застрелился сегодня утром. Сказал, не может без России. Наступившее молчание сразу же было прервано вставшим со скрипучего стула Геневским. Он, словно повинуясь органическому инстинкту, встал и пошел на улицу. — Куда вы, господин полковник? — тревожно спросил Лотарев своего шурина. — Прогуляюсь, — зловеще-туманно сказал Матвей. — Такого нельзя прощать. — Осторожнее, прошу вас. Раз господин генерал… покинул нас, мы не должны терять других. Вы же знаете — ходить одному… — Геневский уже вышел, когда Лотарев заканчивал. По прошествии получаса ночную портовую глушь Варны нарушили несколько выстрелов, — не желающих прощать.
Пусть знает враг, что бойцы-генералы
В наших сердцах все живут,
И что опять, как и прежде бывало,
К победам нас позовут.
И снова, опять, за Отчизну Святую
Дружно, как братья, пойдем.
Страху не знаем мы и удалую
Песню в бою запоем.
Песня Марковского полка.
Благодарности Никите Клименко и Евгению Зенину — за помощь в идеях Михаилу Гордиенко — за помощь в оформлении текста Евгении Матвеевой и другим работникам Орловского военно-исторического музея — за фотографии газеты «Орловский вестник» 1919 года Маме — за помощь в редактуре и идеях Моему редактору — за всё
Последние комментарии
2 часов 12 минут назад
6 часов 27 минут назад
8 часов 45 минут назад
10 часов 35 минут назад
16 часов 20 минут назад
16 часов 26 минут назад