Р.А. Будагов. БОРЬБА ИДЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ В ЯЗЫКОЗНАНИИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Академия наук СССР Институт языкознания Утверждено к печати Отделением литературы и языка АН СССР Ответственный редактор член-корреспондент АН СССР Ф.П. Филин•
Издательство «Наука» Москва 1978•
Сдано в набор 06.04.78. Подписано к печати 18.08.78. Тираж 4.150 экз. Цена 1 р. 40 к.
Вводные замечания
«…История идей есть история смены и, следовательно, борьбы идей»В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 25, с. 112.
В этом небольшом исследовании, как и следует из его же названия, сделана попытка показать борьбу идей и направлений в лингвистике (и отчасти в филологии в целом) в наше время. Проблема эта представляется автору весьма актуальной по целому ряду причин. Дело в том, что за последнюю четверть века обычно приходится встречаться с утверждением, согласно которому в науке о языке имеются современные и несовременные идеи и методы. Создается впечатление, что проблема определяется одной лишь хронологией: все опубликованное в наше время относится к передовому, прогрессивному, все обнародованное в прошлом – к непередовому, устаревшему. При этом не учитывается, что и теперь в науке о языке бытуют разные теоретические концепции, как бытовали они и в прошлом. Несходные концепции часто оказываются методологически несовместимыми, теоретически противоположными. Разумеется, в новых идеях и в новых методах имеется немало верного, значительного, интересного. Филология, как и все другие науки, в каждую эпоху обновляется, обогащается, становится все более содержательной наукой. Вместе с тем, как мне уже приходилось и ранее писать, далеко не все новое в силу одного только принципа новизны оказывается передовым и прогрессивным. Многое определяется общей теоретической концепцией того или иного научного направления. Передовые и прогрессивные идеи остаются в науке, все остальное рано или поздно подвергается забвению. При освещении того или иного вопроса автор обычно дает небольшие исторические очерки, чтобы показать старые истоки многих концепций, объявляющих себя «абсолютно новыми». В книге предложен опыт истолкования самого значения борьбы идей для дальнейшего развития науки о языке. Автор понимает, что он лишь затронул большую и важную тему. В работе нет анализа отдельных крупных творческих индивидуальностей. Нет и анализа тех или иных частных научных направлений, сформировавшихся за последнюю четверть века. Автор поставил перед собой лишь одну задачу. Хотелось показать, как различное, часто диаметрально противоположное понимание природы самого языка отразилось в истолковании специальных проблем лингвистики и филологии: значения слова, значения контекста, значения литературного языка и его нормы, языка художественной литературы, многообразных функций грамматики. Особый акцент поставлен на категории точности в филологии, на соотношении социальных и имманентных факторов в языке и в науке о языке. К сожалению, за последние два-три десятилетия и в советской, и в зарубежной лингвистике острые теоретические споры о природе языка часто ведутся как бы в стороне от самих национальных языков народов мира. Возникают концепции не языка в собственном смысле этого слова, а концепции «по поводу языка», размышления не о самих языках, а только в связи (нередко отдаленной) с языками. Автор настоящих очерков стремился все время оставаться «на почве» реально существующих языков и обосновывать свои заключения на материале самих этих языков. Разумеется, данная работа связана с предшествующими публикациями автора, в особенности с книгой «Что такое развитие и совершенствование языка?»
Глава первая. Понятие точности в филологии (к его истории и теории)
1
В наш век научно-технической революции понятие точности обычно представляется связанным с понятием о науке как таковой. «Какая же это наука, если она неточна», – постоянно приходится слышать не только из уст неспециалистов, но и от представителей одной науки по адресу другой науки. «Наша наука (следует ее название) более точная дисциплина, чем ваша наука» (следует название другой науки). Такого рода «любезностями» часто обмениваются представители разных наук, разных специальностей. Между тем, что означает понятие точности в подобных случаях? Существует ли подобное понятие как универсальное или его следует «дробить», считаясь с особенностями каждой отдельной науки или с совокупностью одних наук в отличие от других наук? Применимо ли понятие точности в математике, «царице точных наук», к точности в физике, которая едва ли захочет уступить свое высокое место в шкале распределения уровней точности в разных областях современного знания? А как быть с гуманитарными науками и критериями точности, которыми они располагают или должны располагать? Вот лишь некоторые вопросы (в действительности, как увидим, их гораздо больше), которые возникают при самой постановке вопроса о научной точности. Все мы готовы ругать метеорологов, когда они ошибаются в прогнозах погоды, хотя метеорология принадлежит к наукам о природе и, следовательно, должна быть точной. Точность как научное понятие оказывается тем самым гораздо более сложным понятием, чем это кажется с первого взгляда. Между тем широко распространено, на мой взгляд, обывательское представление о точных науках как о науках прежде всего физико-математических. Если согласиться с такой терминологией («точные науки»), то невольно возникает убеждение, что существуют и науки неточные (все познается в сравнении) – термин, сам по себе двусмысленный и невозможный по отношению к любой науке (неточная наука: contradictio in adjecto). Разные языки по-разному стремятся выйти из возникающего серьезного затруднения. По-русски, избегая нелепого противопоставления («точные – неточные науки»), можно сказать «естественные и гуманитарные науки», по-французски «точным наукам» (les sciences exactes) противополагают «общественные науки» (les sciences sociales), по-английски «естественные или физические науки» (natural or physical sciences) образуют антитезу «гуманитарным наукам» (the humanities), а по-немецки «духовные науки» (Geisteswissenschaften) противопоставляются «наукам о природе» или «естественным наукам» (Naturwissenschaften). Почти стихийно сами литературные языки (разумеется, не без помощи человека) стремятся избежать нелепой антитезы «точных и неточных наук». Вместе с тем колебания в самой терминологии показывают, что не везде и не всегда удается избежать глубоко ошибочного представления о неточных науках. «Ну, а если та или иная наука действительно неточна, почему же ее нельзя назвать неточной наукой?» – спросит иной читатель. Почему, если метеорология (точнее, ее представители) может ошибаться, если лингвистика может не знать чего-то, то почему же их нельзя назвать неточными науками? Но дело в том, что, во-первых, ошибаются не те или иные науки, а их отдельные представители, и, во-вторых (и это особенно важно), каждая наука на определенном уровне своего развития может не быть в состоянии решать те или иные задачи, освещать те или иные проблемы. Но это – не признак неточности данной науки, а результат уровня ее развития. Немаловажную роль при этом играет и то, в чьих «руках» она находится, как и кем практически применяется. Что же касается проблемы, на какие вопросы конкретная наука не может ответить при нынешнем ее состоянии, то таких «безответных вопросов» немало и у самой «точной науки», у математики. И это вполне понятно: все без исключения науки находятся в состоянии движения и развития, и ни одна наука не может быть «завершенной». Таковы лишь некоторые доводы, позволяющие считать противопоставление «точные науки – неточные науки» несостоятельным. Другой вопрос (он тесно связан с отмеченным противопоставлением), что само понятие точности наполняется разным содержанием в разных науках. Попытка показать подобное различие будет сделана дальше, пока же еще задержимся на более общих положениях. В свое время Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге» предложил простую и вместе с тем ясную классификацию наук: 1) науки о неживой природе, 2) науки о живых организмах и 3) исторические науки[1]. Думается, что эта классификация сохраняет все свое значение и в наше время, хотя формы и методы взаимодействия между разными науками стали теперь сложнее и многообразнее. Как бы через «голову» этой тройственной классификации намечается и классификация более грубая, по одному нелепому противопоставлению: точные науки – неточные науки. Устраняя нелепость подобной антитезы, стали говорить о гуманитарных и естественных науках. Но и здесь возникло новое осложнение. Сравнительно не так давно английский писатель Чарлз Сноу, физик по образованию, напомнил о широко распространенном мнении, согласно которому человек, никогда не читавший Шекспира или Толстого, справедливо считается необразованным. Но, пояснял свою мысль Сноу, человек, ничего не слыхавший о втором законе термодинамики, обычно не считается необразованным, если сам он физикой не занимается[2]. Возникает странное положение. С одной стороны, в эпоху научно-технической революции как будто бы усиливается взаимодействие между разными науками, а с другой – обостряется поляризация между ними. Все это способствует оживлению старого несостоятельного противопоставления «точных и неточных наук». При этом парадоксальность положения в том, что образованность людей продолжает ассоциироваться с «неточными науками», хотя удельный вес «точных наук» растет именно в нашу эпоху. Очень сложную проблему взаимодействия наук нельзя решать с помощью всевозможных терминологических фокусов. Нередко приходится слышать, что в наше время все науки являются гуманитарными, в том числе и математика[3]. При этом смешиваются два синонима – гуманный и гуманитарный, четко различающиеся в современном русском языке. Можно согласиться с тем, что в интерпретации больших ученых все науки являются гуманными в том смысле, что они служат человеку, облегчают условия его существования. В этом плане и математика, разумеется, является гуманной наукой. Все это не дает, однако, никаких оснований не различать ту тройственную классификацию наук, о которой речь шла раньше. Вместе с тем сохраняет свою силу и более широкая оппозиция наук о человеке и наук о природе, гуманитарных и негуманитарных наук[4]. Вернемся, однако, к понятию точности. Если согласиться, – а на мой взгляд это аксиома, – что каждая наука оперирует своим понятием точности (точность, как будет показано дальше, – функциональное, а не метафизическое понятие), то станет очевидно: широко бытующее и у нас, и за рубежом противопоставление точных и гуманитарных (общественных) наук в свете всего сказанного надо признать несостоятельным[5]. Отношение к гуманитарным наукам как «неточным областям человеческого знания» имеет давнюю историю. Оно лишь обострилось в нашу эпоху. Пока напомним некоторые эпизоды. В 60-х годах прошлого столетия даже такому образованному и блестящему публицисту, как Д.И. Писарев, казалось, что гуманитарные науки едва ли могут считаться подлинными науками[6]. И.С. Тургенев хорошо уловил настроения известной части интеллигенции того времени, когда устами Базарова подчеркивал: «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта». Проходит несколько десятилетий после публикации романа «Отцы и дети», и уже в другую эпоху, в конце минувшего столетия А.П. Чехов в прелестном маленьком рассказе «Дом с мезонином» демонстрирует «Базарова в юбке» – Лиду Волчанинову. Она объявляет художнику, от имени которого ведется повествование, что «любая библиотечка или аптечка» ей дороже «всех пейзажей на свете». И уже в нашем столетии, в 20-е годы, О. Шпенглер еще решительнее и на другом уровне подчеркивал:«Я люблю глубину и точность математических и физических наук, в сравнении с которыми представители философских и эстетических наук представляются обыкновенными халтурщиками»[7].Как видим, вновь возникает понятие точности, которое будто бы разделяет подлинные науки (для них характерна точность) от мнимых наук, халтурных наук (они не знают и не могут знать точность). Хотя эта концепция и кажется излишне «открытой» и прямолинейной (многие предпочитают ее защищать более «дипломатическими» словами), именно на ее основе возникло уже известное нам противопоставление «точных и гуманитарных наук», противопоставление, вторая часть которого невольно отождествляется с понятием «неточных наук» («точные науки – неточные науки»). Какая же судьба ожидает «неточные науки» (в классификации Ф. Энгельса – исторические науки)? Представители разных методологических концепций предлагают здесь разные ответы. В наше время наибольшей популярностью пользуется ответ, содержание которого может быть кратко разъяснено так: необходимо внедрять точные математические методы в неточные (они же гуманитарные) науки, и тогда все будет хорошо и «правильно». Что дело обстоит именно так (здесь нет никакого преувеличения), показывают многочисленные и разнообразные примеры. Перед нами, в частности, сборник «Проблемы грамматического моделирования» (М., «Наука», 1973). Его авторы неоднократно подчеркивают, что у них нет никаких претензий к традиционной лингвистике. Они хотят «лишь внести точность» в эту традиционную науку (с. 24). При этом речь идет не о точности самой лингвистики, а о точности совсем другой науки – математики. Возникает доктрина: с помощью математической точности превратить лингвистику в точную науку, «вырвать» ее из объятий неточных (гуманитарных) наук. Нетрудно заметить, что сторонники подобных операций признают лишь одну точность – математическую. Следовательно, понятие точности рассматривается не как функциональное понятие, зависящее от специфики той или иной науки, а как понятие антифункциональное, будто бы универсальное, как бы находящееся над отдельными науками и от них самих вовсе не зависящее. Эта концепция, в наше время весьма популярная в разных странах, разумеется, не нова. Можно привести имена ее многочисленных предшественников. Здесь пока ограничусь лишь одним примером. В 1910 г. Андрей Белый в книге «Символизм», в которой имеется немало отдельных интересных наблюдений, утверждал, что лишь с помощью физико-математических законов можно превратить искусство в подлинную науку. А. Белому казалось, что искусство управляется такими же «энергетическими законами», как и физика. Понятие закона автор ограничивал лишь сферой самых «строгих наук», методы которых предлагалось «внедрять» в исторические дисциплины[8]. Так подтверждается еще раз старая антифункциональная трактовка самого понятия точности. В другой связи психолог М.Г. Ярошевский справедливо пишет о позитивистских иллюзиях, согласно которым математическая формализация того или иного исторического феномена будто бы «…автоматически повышает научный характер гуманитарных дисциплин». При этом он справедливо подчеркивает, что подобные иллюзии возникали уже в эпоху Возрождения[9].
2
Хотя споры о научной точности ведутся очень давно, однако именно во второй половине нашего столетия они стали особенно острыми. И это целиком относится к филологии – к теории языка и к теории литературы в широком смысле. Вот свидетельство одного из видных американских лингвистов:«Мы искали точности любой ценой… Точность определений была для нас гораздо важнее, чем принцип понятности…»[10]В этих словах уже чувствуется разочарование в напрасных поисках универсальной точности, будто бы независящей от специфики каждой конкретной науки. Необходимо рассеять возникающее здесь недоразумение. Слова Ч. Хокетта о поисках «точности любой ценой» были вызваны, на мой взгляд, тем, что понятие о математической точности до сих пор у многих ученых не только ассоциируется, но и отождествляется с понятием «подлинной научности» (уже знакомое нам представление об универсальной точности). Ю.М. Лотман, например, пишет:
«Я с радостью наблюдаю, как филология перестает быть легкой профессией, которая не требует особой специализации»[11].Перед этим заключением автор говорил о важности формализации категорий поэтики, создавая у читателей впечатление, что, во-первых, филология до сих пор была легкой наукой (это, разумеется, неверно) и что, во-вторых, только в результате «внедрения» уже знакомой нам универсально понятой точности филология, наконец, перестанет быть «легкой наукой», превратится в «точную науку». На мой взгляд, в действительности все происходит совсем не так. Если филология не поддается простой схематизации, она, увы, остается трудной наукой, требующей огромной предварительной подготовки и самых разнообразных знаний. Если же филологию можно было бы «подвести» под определенные типы схем, на которые в известной степени опирается универсально понятая точность, то и сама филология упростилась бы. В таком виде она требовала бы от своих адептов лишь определенных, сравнительно ограниченных знаний и не предполагала бы ни широкой начитанности в области мировой литературы, ни разнообразных знаний в области истории и теории самых разных языков. Можно привести многочисленные доказательства в пользу сформулированного положения. Один из крупнейших современных французских филологов Э. Бенвенист, оценивая книгу американского лингвиста Л. Блумфилда «Язык», заметил, что это исследование
«отличается исключительной технической точностью и строгостью, но философски совершенно беспомощно и бедно»[12].Как видим, техническая строгость далеко не всегда сочетается с глубиной мысли исследователя. В этом может убедиться каждый квалифицированный читатель книги Блумфилда. Поэтому предположение о том, что филология перестанет быть «легкой» в результате «внедрения» в эту науку технической точности (универсально понятой) представляется мне весьма односторонним заключением. Не говорю уже о том, что филология и в прошлом никогда, разумеется, не была легкой наукой. Ввиду общественной важности обсуждаемого вопроса остановлюсь на нем подробнее. В шестидесятых годах среди части советских филологов остро обсуждался вопрос о том, можно ли определять поэзию как «особым образом организованный язык». Как показал в своей статье В.В. Кожинов, для многих советских филологов-структуралистов (автор перечисляет их фамилии) приведенное определение поэзии казалось тогда окончательным, бесспорным, аксиоматичным[13]. Сам В.В. Кожинов решительно не соглашается с подобной дефиницией поэзии, которая сводит все особенности поэзии к особенностям языка и ничего не сообщает о других важных и многообразных функциях поэзии. Но упрощенное и одномерное определение поэзии удобно для проведения различных операций по «внедрению» точности в процесс изучения поэзии. Если поэзия – это только «особым образом организованный язык», то изучать поэзию различными арифметическими и статистическими методами гораздо проще, чем при многомерном истолковании самой поэзии (здесь существен, разумеется, не только язык, но прежде всего дарование автора, его идеи и замыслы, его новаторство, его отношение к предшествующей поэтической традиции и многое, многое другое). При таком осмыслении поэзии «внедрять» в ее изучение математически (по существу арифметически) истолкованную точность становится бесконечно труднее. Вот и получается: для того, чтобы изучать поэзию точно (при нерасчлененном и прямолинейном понимании самой точности) надо резко упростить специфику изучаемого объекта, превратив его тем самым в другой объект. Все это происходит в результате неправомерного понимания точности, при котором сама точность оборачивается неточностью, искажая объект, подлежащий всестороннему изучению. Дело, разумеется, не в том, что постановка вопроса о степени научности той или иной дисциплины будто бы уже является кощунством. Такие вопросы возникали всегда и в разных странах. Проблема в другом: как разрешались подобные сомнения и какими методами они устранялись. О степени научности филологии, как определенной дисциплины, спорили и в прошлом столетии. В 1863 г. молодой тогда А.Н. Веселовский спрашивал себя же:
«…история литературы – может ли она быть предметом науки?»[14].Спорили и о строгости методов изучения в лингвистике и литературоведении. Но отнюдь не всегда при этом возникала мысль о том, что подобная строгость должна быть непременно математической. Обсуждались возможности филологии: на какие вопросы она может дать в данное время удовлетворительные ответы и на какие таких ответов дать пока не может или лишь частично может. Обсуждались вопросы, связанные с перспективами дальнейшего развития филологии. В свое время Э. Кассирер убедительно показал, что сочинения выдающегося лингвиста и этнографа В. Гумбольдта при полном отсутствии каких-либо внешних признаков систематизации (внешне выраженной точности) строятся на основе глубоко продуманной внутренней систематизации, внутренней точности мысли[15]. И это справедливо, даже несмотря на некоторые противоречия в концепции Гумбольдта и не всегда последовательную терминологию автора. То же можно сказать и о лингвистических сочинениях А.А. Потебни, внутренняя сила которых предстает как точность мысли их автора, хотя и здесь читатели не найдут никаких внешних атрибутов точности. Так возникает весьма важный вопрос о соотношении внешней (внешне выраженной) точности и внутренней (точности мысли и точности аргументации, без внешних признаков ее оформления). Сказанное, разумеется, не означает, что цифры и схемы вообще противопоказаны филологии. В ряде случаев они могут быть и полезны, и необходимы. Но хочется подчеркнуть другое: наличие разных видов и форм проявления самого понятия точности в такой науке, как филология. Еще придется вернуться к этому важному вопросу. Недопустимо считать, что сам по себе объект, подлежащий изучению, всегда будет точно интерпретирован, если он анализируется математическими или физическими науками, и неточно интерпретирован, если к его изучению, обращаются гуманитарные науки. Здесь все зависит совсем от другого: насколько продвинуто вперед исследование данного явления в той или другой науке. Из множества возможных примеров здесь ограничусь одним. В последние годы физики обратили внимание на так называемую шаровую молнию. Это – сгустки, до сих пор загадочные, появляющиеся во время гроз и часто наводящие страх на очевидцев. Уже полтора века специалисты занимаются этой проблемой, но объяснить ее хоть сколько-нибудь удовлетворительно не могут. В 1973 г. у нас была опубликована книга С. Сингера «Природа шаровой молнии» (изд-во «Мир»), а в 1975 г. «Литературная газета» обратилась к девяти крупнейшим специалистам (физикам, биохимикам) с просьбой ответить на вопрос о том, в какой степени упомянутая монография убедительно трактует природу шаровой молнии. Мнения ученых разделились примерно поровну: одни заявили, что С. Сингер ничего не сумел объяснить, другие – сумел истолковать многое[16]. Следовательно, представители «точных наук» могут не только неточно представлять себе существо объекта, подлежащего вéдению их же науки, но и неточно (совсем несходно) оценивать результаты его анализа, проведенного специалистами. Теперь представим себе совсем другой случай из области «неточных наук». В 1933 г. французский лингвист Ж. Вандриес писал, что в области Корнуолла (Англия) один из местных кельтских диалектов исчез 27 декабря 1777 г. вместе со смертью его последней носительницы. Еще раньше таким же способом итальянский лингвист М. Бартоли точно устанавливал дату исчезновения остатков далматского языка[17]. При всей условности подобных дат (вплоть до одного дня), насколько все же утверждения лингвистов представляются здесь более «точными», чем утверждения физиков, и насколько объект изучения первых очерчивается яснее и определеннее, чем объект изучения второй группы ученых. Эти факты здесь приводятся только с одной целью: показать полную условность понятия «точности» как абсолютного понятия, как категории будто бы универсальной, которая может иметь какое-то значение безотносительно к специфике каждой науки.
3
Как это и ни странно, до сих пор приходится слышать рассуждения, согласно которым признание невозможности решить тот или иной вопрос в конкретной области знания будто бы равняется агностицизму. Такие рассуждения не только антиисторичны, но и теоретически наивны. Они опираются на убеждение «об окончательной законченности» каждой науки. Между тем все науки развиваются и совершенствуются, и нет предела ни этому развитию, ни этому совершенствованию. Сплошь и рядом определенная конкретная наука, не умея в прошлом объяснить то или иное явление, объясняет его в наше время или потенциально должна будет объяснить его в будущем. Понятие агностицизма – это общефилософская концепция. Она исходит из убеждения в принципиальной непознаваемости окружающего нас мира. Между тем человек может не уметь удовлетворительно объяснить то или иное явление (в равной мере в области физико-математических наук, наук о природе и наук об обществе), но при этом быть убежденным в принципиальной познаваемости всех явлений объективного мира. Это глубоко различные явления и их смешение (в наше время оно, увы, широко наблюдается прежде всего у представителей физико-математических наук) совершенно недопустимо. Мысль о том, что существует универсальная точность, одинаково приложимая ко всем наукам и управляющая ими, развивалась в Европе в XVII столетии и стала широко популярной в следующем XVIII в. Уже Рене Декарт (1596 – 1650) рассуждал так: животные – это те же машины, простые механизмы, которые действуют по принципу автоматов. Лишь люди – более сложные механизмы, так как души людей бессмертны. Вера в бессмертие души заставляла Декарта различать простые механизмы (животные) и механизмы более сложные, наделенные «бессмертными душами» (люди). И все же живые существа – это машины (механизмы) в двух их разновидностях. Поэтому и поступки, и действия людей можно точно рассчитывать[18]. Как показал в свое время известный историк науки Г. Башляр, в XVIII столетии считали, что все науки должны уметь все точно предсказывать и все точно рассчитывать. Крупнейший натуралист той эпохи Ж. Бюффон (1707 – 1788) писал, например:«…прошло 74.832 года с тех пор, как наша Земля оторвалась от Солнца в результате столкновения с кометой, а в 93.291 году Земля настолько охладеет, что всякая жизнь на ней станет невозможной»[19].Легко убедиться, что отказ от подобного рода «точности» в геологии и астрономии стал признаком быстрого прогресса этих наук. Аналогичного рода «точность» пронизывает и по-своему великий памятник той эпохи – «Энциклопедию» Дидро и Даламбера (1751 – 1772). Вот, например, что можно прочитать в первом томе этого издания, в статье воздух (air):
«Доказано, что три тысячи человек, помещенные в пространстве 500 квадратных метров (lʼétendue dʼun arpent de terre), в течение 34 дней образуют своим дыханием такую атмосферу на высоте 71 фута, которая, в случае, если она не будет немедленно рассеяна ветрами, станет сейчас же заразной для всех окружающих»[20].Все эти «точные цифры» (34 дня, 71 фут, 500 квадратных метров) приводились лишь с целью внушения читателям мысли о могучей силе арифметики. Аналогичными «определениями» и рассуждениями были полны и другие публикации той эпохи, в частности, многотомные «этюды о природе», принадлежавшие известному писателю и натуралисту Бернардену де Сен-Пьеру (1737 – 1814)[21]. Весьма оживленные споры о «соотношении разных наук» проходили немного позднее и в России, в двадцатые годы минувшего столетия, в эпоху Пушкина[22]. Понятие закона в науке возникло сравнительно недавно. Коперник и Кеплер говорили больше о гипотезах, а не о законах. У Галилея чаще всего аксиома, а следствие из нее – теорема. Декарт предпочитает правила, а Ньютон – аксиомы. Одна из первых попыток дать определение закона встречается у Монтескье:
«Закон – это необходимые отношения, вытекающие из природы вещей»[23].Понятие закона (lex) если и встречалось раньше, то главным образом в моральном, а не физическом смысле[24]. Весьма интересно, что «сильное слово» закон, которое в наше время обычно связывают прежде всего с физико-математическими науками, исторически раньше ассоциировалось с человеком и его «поведением» и позднее – с законами природы. Леонардо да Винчи успешно изучал различные явления природы, еще не зная, что такое закон и закономерность[25]. А когда в 1687 г. Ньютон обнародовал свои «Математические начала натуральной философии», то на основе этой книги в течение двух столетий успешно развивалась физика и астрономия. Между тем, по свидетельству специалистов, исходные положения Ньютона были неточными в свете современных данных обеих этих наук[26]. Из этого, разумеется, не следует, что точность не нужна науке. Следует подчеркнуть другое: историческую подвижность самого понятия точности в любой науке, в том числе, казалось бы, и в самой точной. В этом же плане приобретают глубокий смысл и слова крупнейшего физика нашего столетия А. Эйнштейна:
«Началом каждой физической теории являются мысли и идеи, а не формулы»[27].Формулы Ньютона теперь уже устарели, его же «мысли и идеи» продолжают оставаться великими. Существует широко распространенное, хотя и не всегда прямо высказанное мнение, согласно которому «точные науки» целиком опираются на разум, а гуманитарные науки – преимущественно на чувства и интуицию. Ничего не может быть наивнее и несостоятельнее подобного заключения.
«У нас в математике, – замечает современный французский математик Жак Адамар, – чувство красоты является чуть ли не единственно полезным»[28].Он же членит процесс открытия в математике на четыре стадии: подготовка, инкубация, озарение и завершение. Особенно знаменателен «процесс озарения» в такой «точной науке», как математика. Адамар справедливо подчеркивает, что без него невозможно никакое математическое открытие. Об этом же писал еще в начале нашего столетия великий математик Анри Пуанкаре:
«Чистая логика… сама по себе не может дать начала никакой науке… Для того, чтобы создать арифметику, как и для того, чтобы создать геометрию, нужно нечто другое, чем чистая логика. Для объяснения этого другого у нас нет иного слова, кроме слова интуиция»[29].Здесь нельзя не вспомнить глубокого суждения В.И. Ленина о большой роли фантазии в любой науке[30]. Ни озарение, ни фантазия не только не противопоказаны «точным наукам», но и органически им свойственны. Разумеется, если речь идет не о ремесленниках «от науки», а о подлинных ученых. Даже в самих недрах «точных наук» понятие точности может приобретать весьма различный характер в зависимости от особенностей той или иной конкретной науки, традиционно относящейся к сфере «точных наук». По воспоминаниям акад. А.С. Орлова, наш крупнейший кораблестроитель акад. А.Н. Крылов любил подчеркивать:
«Математика, подобно жернову, перемалывает то, что под нее засыпают – и вот на эту-то засыпку прежде всего инженер и должен смотреть»[31].Инженер должен осмыслить и упорядочить материал своей науки, математику же подобный материал сам по себе может быть совсем не интересен. Математик чаще всего стремится к решению таких задач, которые в состоянии оказаться «выше» конкретного материала отдельных наук, прежде всего привлекающего инженера. «Дважды два четыре» – это не только четыре «вообще», но и четыре конкретные единицы, материальное содержание которых вовсе не безразлично для инженера или биолога, для химика или авиастроителя. Вот и оказывается, что понятие точности всякий раз определяется спецификой той или иной науки, той или иной группой наук. В науках о природе, в частности, понятие точности чаще всего оказывается совсем иным, чем в физико-математических науках, не говоря уже о том, что в свою очередь физик часто иначе интерпретирует точность, чем математик. Один из крупнейших физиков нашего времени имел все основания подчеркнуть:
«Я убежден, что такие идеи, как абсолютная определенность, абсолютная точность… являются призраками, которые должны быть изгнаны из науки»[32].Прямо к этому суждению примыкает уже упомянутое замечание другого виднейшего физика Норберта Винера, одного из основателей кибернетики. Развивая мысль о преимуществах человека над любой, даже самой совершенной машиной, ученый говорит о способности человека «оперировать с нечетко очерченными понятиями»[33]. Именно в силу этой исключительно важной способности человека ему обычно не нужна статичная точность. В процессе совершенствования каждой науки и уточняется понятие точности, само находящееся в постоянном движении. Так складывалось понятие точности в физико-математических науках и в науках о природе.
4
А как же обстоит дело с гуманитарными областями человеческого знания? В последующих строках я попытаюсь проанализировать это понятие в филологии (в языкознании и в литературоведении), отдавая себе отчет о не меньшей важности изучаемого явления во всех других гуманитарных науках. Но и при этом ограничении остается очень широкая тема, лишь контуры которой могут быть здесь намечены. У некоторых филологов уже давно сложилось ошибочное убеждение, что точными методами исследуются только формы, а не содержание, не смысловое «наполнение» этих форм. В лингвистике – формальные конструкции языка, в литературоведении – формальные структуры художественных произведений. Эта концепция, известная уже в прошлом столетии, получила у нас широкое распространение в двадцатые годы, в особенности среди членов «общества по изучению поэтического языка» (ОПОЯЗ). Эту формалистическую концепцию (назовем ее прямо и точно) разделяли многие филологи – лингвисты и литературоведы[34]. Только форма может изучаться точными методами, поэтому за пределы филологии выносилось «все остальное», что не подлежит анализу этими точными методами. Среди сторонников подобной концепции были (они имеются и в наши дни) не только дилетанты, но и видные ученые. В мою задачу не входит история этого вопроса (о ней уже немало писали за последние пять-шесть лет). Хочется обратить внимание на другое: как в поисках односторонне понятой точности искажался самый объект изучения в филологии. Логическая ошибка здесь обнаруживается в двух случаях.«Так как точными методами могут изучаться только формы в языке и в литературе, то все остальное не принадлежит миру филологии».
«Так как в мире филологии имеются лишь формы языка и формы литературы, то филологию следует изучать точными методами: формы сравнительно легко поддаются изучению с помощью подобных методов».Односторонне понятая точность вела к формализму, а формализм в свою очередь как бы подчеркивал односторонне истолкованную точность. Возникал замкнутый круг, из которого, как некоторым до сих пор кажется, не может быть иного выхода, кроме отождествления понятия точного метода и понятия формалистического метода анализа языка и литературы. Здесь возникает новая проблема. По моему давнему и глубокому убеждению, необходимо строго различать два совершенно различных понятия – понятие формального и понятие формалистического. Без первого понятия само существование филологии невозможно: и в языке, и в литературе по-своему все оформлено, все имеет свои формы выражения. К тому же формальное так или иначе, прямо или опосредованно всегда взаимодействует со смысловым, со смысловыми категориями в языке, с идейным замыслом писателя в литературе. Совсем иное – понятие формалистического, где формы изучаются как бы сами по себе и для себя. Строгое разграничение этих двух понятий имеет принципиальное значение в современных дискуссиях о судьбах филологии. Для русской и советской филологии в целом всегда было характерно сознание необходимости дифференцировать эти понятия. Правда, это сознание не всегда и не у всех ученых выражалось ясно и явно. В лингвистике стоит только сравнить в этом плане Потебню, Шахматова, Виноградова и их последователей, с одной стороны (здесь это сознание передавалось явно), с Фортунатовым и его сторонниками – с другой (здесь подобное сознание явно никогда не обнаруживалось), чтобы убедиться в различии[35]. Но в особом положении оказались: «эпоха ОПОЯЗа» в двадцатые годы, некоторые направления в советской филологии в шестидесятые годы и в наши дни. Желая снять с терминов формалисты и формалистический какую бы то ни было уничижительную окраску, почти все члены ОПОЯЗа стали употреблять эти термины в кавычках. В 1924 г. в журнале «Печать и революция» (№ 5) была опубликована статья Б.М. Эйхенбаума, которая называлась «Вокруг вопроса о „формалистах“», где интересующий нас термин уже был дан в кавычках. Так же употребляли оба термина и все другие деятели ОПОЯЗа[36]. Таким способом была сделана попытка не только снять важнейшую для филологии проблему разграничения формального и формалистического, но и создать впечатление, что подобная проблема не может существовать вовсе. Ситуация почти полностью повторилась через 40 лет, но на этот раз она более явно и более открыто создавалась не столько литературоведами, сколько прежде всего некоторыми советскими лингвистами. Так, в частности, в коллективном сборнике «Основные направления структурализма» (М., «Наука», 1964) термины формалисты и формалистический употребляются отдельными авторами либо в кавычках (с. 118), либо совсем снимается противопоставление формального и формалистического, причем явно формалистическая теория Л. Ельмслева называется «строгой и стройной формально-лингвистической теорией» (с. 166). То, что предлагали некоторые литературоведы в 20-е годы, в 60-е годы стали развивать лингвисты, которым предельно формализованный язык кажется удобным для «точного исследования». На мой взгляд, возникло бесперспективное противопоставление категории формы и категории значения в науке о языке. Подобное противопоставление мотивируется обычно тем, что форма доступна точному изучению, тогда как значение такому изучению будто бы никогда не поддается. Часто стали утверждать:
«Цель лингвистики как науки заключается в том, чтобы разработать строгую и непротиворечивую методику анализа, опираясь на форму выражения, а не его значение»[37].Здесь совершенно прямо форма (она подлежит научному изучению) противопоставляется значению (оно не подлежит научному изучению), причем само противопоставление ведется под флагом защиты точности, трактуемой как категория универсальная для всех дисциплин. Было бы ошибочно видеть в отмеченных расхождениях лишь терминологическую небрежность. Проблема гораздо сложнее. Попробуем спроецировать эти расхождения в область лексикологии и семасиологии. Если слово (основная единица названных дисциплин) – это только форма, какая-то единица, звуковым и морфологическим способом оформленная, но не имеющая никакого значения, тогда – я умышленно обостряю проблему – ближе к истине был гоголевский Петрушка. Ему, хотя и нравилось «не то, о чем он читал», а больше «процесс самого чтения», но все же он понимал, «что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит». Как видим, Петрушка все же добирался до значения слова (все же что-то значит). Хотя подобное сравнение шутка, но шутка, обнажающая существо разногласий между сторонниками «чистой формы» и сторонниками единства формы и значения в филологии. Приведу самые простые доказательства, причем попытаюсь показать, что и для теории языка, и для теории литературы эта проблема приобретает первостепенную важность, хотя теория языка оперирует иным понятием формы и иным понятием значения, чем теория литературы. Оба раздела филологии объединяет, однако, само понятие взаимодействия формы и значения. В известном манифесте футуристов «Пощечина общественному вкусу» (1913 г.), в частности, подчеркивалось:
«Долой слово-средство, да здравствует Самовитое, Самоценное Слово»[38].В свете такого тезиса сочетание звуков «дыр, бул, шил…» некоторым тогда представлялось прекрасной русской поэзией[39]. Как видим,подобное заключение перестанет быть нелепым, если согласиться с тезисом лингвистов-формалистов, согласно которому филолога должна интересовать лишь одна форма выражения. Этой концепции противостоит действительно полярная концепция, которая уже в 1935 г. была, в частности, прекрасно сформулирована М.М. Бахтиным:
«Изучать слово в нем самом, игнорируя его направленность вне себя, – так же бессмысленно, как изучать психологическое переживание вне той реальности, на которую оно направлено и которою оно определяется»[40].Я глубоко убежден, что данное положение, относимое его автором к теории художественной речи, весьма важно и для теории общенародного языка, которая разрабатывается лингвистами. Как видим, строгое разграничение формального и формалистического – это не терминологический спор «по пустякам», а спор но самым принципиальным вопросам теории языка и теории литературы. Если же учесть, что проблема постоянного и глубокого взаимодействия формы и значения относится ко всем жанрам художественной литературы и ко всем областям языка (в первую очередь к лексике, к словообразованию, к синтаксису, к стилистике), то станет ясным огромный удельный вес этой проблемы в филологии. Хочется еще раз подчеркнуть, что специфика взаимодействия формы и значения сохраняет всю свою силу в каждой сфере филологии[41]. Что же способствовало возрождению формализма в советском языкознании 50 – 70-х годов? После лингвистической дискуссии 1950 г. у многих ученых сложилось убеждение, что отдельные вульгарно-социологические интерпретации языковых фактов у акад. Н.Я. Марра будто бы должны привести ученых (дабы они не повторяли ошибок Марра) к полной изоляции языка от его социальных функций в обществе. Казалось удобным изолировать язык от органически свойственных ему общественных функций. Так возникла широко распространенная теория, согласно которой лишь формы языка могут изучаться «точными методами». Все же остальное стали «выносить» за пределы науки о языке. При этом были подвергнуты забвению большие достижения именно советских лингвистов 30 – 40-х годов в области исследования социальных функций языка, в развитии теории национальных языков, в изучении литературных языков и во многих других областях лингвистики. Все это наложило глубокий отпечаток на разыскания многих советских ученых 50 – 70-х годов. Стала оформляться теория, согласно которой лишь формы языка должны интересовать ученого: лишь они могут научно изучаться «точными методами». Теперь часто рассуждают так: для кого термин формалистический существует как уничижительный термин, тот, дескать, не понимает, что сам язык образует структуру (систему). Между тем первое отнюдь не обусловливает второго. Структурный (системный) характер языка и его отдельных уровней – это уже аксиома лингвистики XX в. Но структура языка опирается не на пустые формы, а на формы, функционально осмысленные и обусловленные. Следовательно, различие между формальным (при единстве формы и значения) и формалистическим (при отрицании единства формы и значения) сохраняет всю свою принципиальную силу совершенно независимо от признания или непризнания структурного (системного) характера языка и его отдельных уровней.
5
Положение осложняется тем, что работы русских формалистов 20-х годов постоянно издаются за рубежом, особенно во Франции, в ФРГ и в Америке, именно как работы формалистов без всяких кавычек. Причем, как правило, в этих странах они оцениваются высоко прежде всего по методологическим соображениям: за попытку полной изоляции формы от ее значения, от ее смыслового «наполнения»[42]. Вместе с тем за рубежом находятся и такие ученые, которые видят в формализме (без всяких кавычек) реальную угрозу науке о языке. Они считают, что формалистическая концепция не дает возможности показать, на что способна наука о языке в наше время. Точность анализа должна опираться не только на форму, но и на содержание, в ней заключенное. В противном случае анализ не достигнет цели. Об этом, в частности, писал английский филолог Ульман, причем ему казалось совершенно невозможным изолировать форму для достижения большей точности исследования[43]. Что формализм – это реальная угроза, способная погубить науку о языке, прекрасно понимал Л.В. Щерба еще в 20-х годах нашего столетия. В статье «О частях речи в русском языке» (1928 г.) он подчеркивал:«Едва ли мы потому считаем стол, медведь за существительные, что они склоняются. Скорее мы потому их склоняем, что они существительные. Я полагаю, что… функция слова в предложении является всякий раз наиболее решающим моментом для восприятия»[44].Примерно в это же время, в 1930 г. Щерба осудил такой метод преподавания грамматики в школе, который опирался на сближение конструкций типа хочу читать и мне холодно и на разъединение конструкции типа конь бежит и конь бежал. В первом случае сближение мотивировалось тем, что в каждом из двух первых словосочетаний нет прямой морфологической зависимости одного слова от другого, слова опираются на простое соположение (хочу читать; мне холодно). Во втором случае – морфологическая зависимость бесспорна, хотя и различна: существительное сочетается с определенным личным окончанием глагола (конь бежит, но нельзя конь бежишь или конь бегу). В случае же с прошедшим временем глагола морфологическая иррадиация вызывается категорией рода существительного конь: конь бежал, нельзя конь бежала (но лошадь бежала). В результате в формалистической грамматике такие сочетания, как конь бежит и конь бежал, разъединяются (хотя в смысловом плане они, разумеется, сближаются), а такие, как хочу читать и мне холодно, сближаются (хотя в смысловом плане у них нет ничего общего). Л.В. Щерба уже в конце 20-х годов понимал огромную опасность подобного искусственного противопоставления смыслового и формального рядов в грамматике[45]. Формальный ряд (при полной изоляции от ряда смыслового) превращается в формалистический ряд в грамматике. Его функция в языке перестает интересовать исследователя. Различие между формальным и формалистическим обнаруживается вполне конкретно. Как видим, проблема взаимодействия формальных и смысловых рядов в грамматике – это проблема достаточно сложная и достаточно старая, и все же, несмотря на постоянные подчеркивания многими лингвистами нашего века чисто формального характера и грамматики, и языка вообще («язык – это форма, а не субстанция»[46]), острая борьба вокруг истолкования природы языка не утихает в нашу эпоху во всем мире. Попытки «снять» проблему субстанции и формы в самом языке и в науке о языке, объявить эту проблему схоластичной (так поступает, в частности, Н. Хомский[47]), не могут рассматриваться как серьезные. От этой проблемы никуда «не уйдешь», она в основе самих функций языка, самой теории языка. Защитники формалистической грамматики обычно рассуждают так: наша грамматическая концепция помогает избавиться от разных «проклятых вопросов» (вроде только что названной проблемы субстанции и формы) и дает однозначное освещение всех грамматических категорий. Присмотримся, однако, ближе, что это за освещение и насколько подобная грамматика соответствует действительной грамматике тех или иных конкретных языков. Чтобы дать непротиворечивое освещение всех грамматических вопросов, сторонники формалистической грамматики прежде всего объявляют открытую войну понятию оттенка и в грамматике, и во всех других областях языка и науки о языке. Вслед за своим учителем Н. Хомским они исходят из убеждения, что объектом лингвистики является однородный речевой коллектив, все члены которого не только говорят одинаково, но и обучаются языку очень быстро и по одному шаблону. При таком истолковании языка и языковой среды понятию оттенка объявляется самая настоящая война.
«Понятие оттенка, – читаем в одной из работ этого направления, – никакой научной ценности не представляет, и от него необходимо отказаться… Термин оттенок… в лучшем случае является избыточным, в худшем – бессодержательным»[48].Итак, долой понятие оттенка! Но что же тогда станет с человеческим языком, если он лишится возможности передавать оттенки? Что же тогда станет с языком, если он будет в состоянии выражать лишь утверждение и отрицание, черное и белое, да и нет? Исследователи, которые обрекают язык на такую печальную участь, обрекают на такую же печальную участь и самого человека. Несмотря на всю бесперспективность создания языков, не умеющих передавать оттенки человеческих мыслей и чувств, войну понятию оттенка уже успели объявить многие лингвисты[49]. Между тем традиции русской лингвистики до сих пор складывались так, что почти все выдающиеся русские ученые (за единичными исключениями) всячески подчеркивали необходимость беречь и развивать те особенности родного языка, которые связаны с его же умением передавать и выражать тонкие и тончайшие оттенки мыслей и чувств людей, живущих в обществе. Чтобы язык успешно справлялся с этим заданием, он должен быть исключительно восприимчивым к передаче мыслей и чувств людей. Он обязан располагать и в своей лексике, и в своей грамматике, и в своей стилистике соответствующими средствами. Сказанное попытаюсь пояснить простым примером. В свое время Пешковский сравнивал такие два предложения: он закалывается кинжалом и он убивается бандитом. Формальная модель обоих предложений совершенно одинакова. Тем не менее орудийное значение творительного падежа кинжалом проступает явственнее в сознании говорящего на русском языке человека, чем аналогичная форма бандитом. Как тонко замечает автор, бандитом здесь не простое орудие (как кинжалом), а что-то «вроде» действующего лица. Поэтому все предложение тяготеет к иному построению: Его убивает бандит. Формально одинаковые творительные падежи (кинжалом, бандитом) функционально оказываются неравными: кинжал легко приобретает орудийное значение, бандит – нелегко. Взаимодействие формы и функции осложняет проблему и превращает формально равные отношения в отношения функционально неравные. Поэтому у Пешковского были все основания по этому поводу заметить:
«…всё дело в этих почти и как бы, на которых зиждется вся грамматика»[50].Обратим внимание: вся грамматика зиждется на почти и как бы, т.е. на оттенках. Если лишить грамматику этой способности передавать оттенки мыслей и чувств говорящих и пишущих людей, грамматика перестанет быть грамматикой. Такова концепция Пешковского. Таков же взгляд на грамматику (и шире – на язык в целом) был характерен для Потебни и Крушевского, для Шахматова и Виноградова, как и для многих других выдающихся ученых. Вот эту способность языка передавать оттенки некоторые поклонники Н. Хомского у нас и за рубежом спешат объявить ненужной, избыточной, бессодержательной. Между тем такой ученый, как Шахматов, не только в грамматике и в лексике, но и в фонетике обнаруживал способность языка передавать оттенки. Устанавливая типы звуков в праславянском и в праиндоевропейском, Шахматов демонстрировал «тончайшие оттенки, существовавшие в самих типах звуков»[51]. Применительно к лексике об оттенках писал и Щерба:
«Всякое слово так многозначно, так диалектично и так способно выражать все новые и новые смысловые оттенки…»,что исследователь все время должен быть начеку[52]. Можно без труда привести и другие свидетельства виднейших русских филологов в защиту понятия оттенка. Больше того. По мысли этих ученых, способность передавать оттенки в лексике, в грамматике, в стилистике составляет «душу» каждого развитого языка, имеющего богатую литературную традицию. Чем чувствительнее конкретный язык к передаче тех или иных оттенков мыслей и чувств людей, говорящих на этом языке, тем, как общее правило, выше и культура данного языка, и культура людей, умеющих передать возникающие оттенки. И это вполне понятно. Как мы уже знаем, главное преимущество человека над любой, даже самой усовершенствованной машиной – это «способность оперировать с нечетко очерченными понятиями»[53]. Поэтому надо признать глубоко печальным недоразумением, что в некоторых направлениях лингвистики нашего времени понятие оттенка стало ассоциироваться не с мощью и величием литературного языка, а с его мнимой слабостью. Между тем способность языка передавать не только мысли и чувства людей, но и оттенки этих мыслей и этих чувств составляет одно из тех важнейших свойств самого языка, которое принципиально отличает его от всякой знаковой системы, от всякого искусственного «языка». К сожалению, против понятия оттенка выступают не только прямо, но и косвенно. Например, утверждают:
«Научные труды Ломоносова написаны прекрасным русским литературным языком. Синтаксис в них почти не отличается от современного»[54].Здесь весьма характерно наречие почти. Автору кажется, что почти несущественно в грамматике. Между тем почти здесь очень существенно. При всех заслугах Ломоносова в области русского литературного языка его синтаксис, разумеется, еще весьма далек от современного. В этом может легко убедиться каждый, раскрыв любое научное сочинение Ломоносова, написанное по-русски. Иное членение периода, иные отношения внутри многих словосочетаний, иные связи между предложениями отличают синтаксис Ломоносова от синтаксиса нашего времени. И это вполне понятно, учитывая, что речь идет об эпохе интенсивного развития русского языка. Уже Белинский понимал, что «благодаря Лермонтову русский язык далеко продвинулся вперед после Пушкина» (критик видел различие даже между современниками)[55] и у нас нет никаких оснований не обнаруживать языковых различий между целыми веками. Вот что значит в филологии пренебречь оттенками. В свое время Проспер Мериме, много лет изучавший русский язык, подчеркивал, что способность передавать тончайшие оттенки мыслей и чувств людей является одной из характернейших особенностей русского языка[56]. И было бы по меньшей мере неосмотрительно, если этой особенностью русского языка современная наука стала бы пренебрегать на том основании, что оттенки не могут изучаться «точными методами».
6
Но если, как мы видим, без уменья передавать тонкие оттенки мысли и чувства не может существовать ни один современный развитой литературный язык, носитель национальной культуры, то в еще большей степени этой же способностью передавать тончайшие оттенки мысли и чувства обладает язык каждой великой художественной литературы. Сейчас почти невозможно представить ту или иную большую национальную художественную литературу, которая не располагала бы соответствующим национальным языком[57]. Разумеется, не сам по себе язык художественной литературы в состоянии автоматически выражать все богатство внутреннего мира современного человека. Проблема гораздо сложнее. Лишь большим художникам удается это сделать. Язык лишь потенциально таит в себе подобные возможности. Искусство писателя и состоит, в частности, в том, чтобы обнаружить в языке скрытые в нем возможности, заставить язык быть предельно выразительным, предельно чувствительным при передаче мира людей современного общества. Здесь мы вступаем в особую область точности языка художественной литературы, точности поэтического языка. Уже Аристотель понимал, что это особая точность. Имея в виду своеобразие художественного восприятия мира, он подчеркивал:«Еще вопрос – в чем ошибка: в области самого искусства или в чем-либо ином, случайном. Не так важно, если поэт не знал, что лань не имеет рогов, как то, если бы он представил ее несоответственно действительности»[58].Нельзя не удивляться, как глубоко понимал художественную точность уже Аристотель. Отдельные предметы и явления необязательно фотографически точно должны воспроизводиться в художественном тексте. Важнее другое: общая перспектива, общее соответствие действительности. Уже поэтика Аристотеля осложняет принцип художественной точности, различая точность «в лоб» и точность перспективы, точность общего «духа» текста. И все же новое понятие художественной точности не сразу завоевывает прочные позиции. И это понятно, если помнить, что
«средневековый автор больше делает свое произведение, чем творит его, как современный художник»[59].Нечто сходное наблюдалось и в русской средневековой художественной литературе, как это показали работы Г.А. Гуковского и Д.С. Лихачева. До середины XVIII столетия художественные произведения у нас не создавались, а делались, причем художественная речь понималась как речь непременно украшенная[60]. При таком положении дел художественная точность еще мало чем отличалась от точности, толкуемой арифметически. И заветы Аристотеля забывались. Положение вещей у нас меняется с конца XVIII столетия, в особенности с эпохи зрелого Пушкина. Художественная точность завоевывает свои права. Уже в наше время об этом хорошо пишет К.А. Федин:
«Но точность искусства не одинакова с точностью грамматики. У Алексея Толстого иволга посвистывает водяным голосом. Водяной голос – это неточность. Но на таких неточностях стоит искусство»[61].В 1874 г. французский поэт Поль Верлен в своем «Поэтическом искусстве» сформулировал повое понимание поэтической точности в двустишии, которое в переводе Б. Пастернака звучит так:
Всех лучше песня, где немножко
И точность точно под хмельком.
«Французский художник Матисс, – вспоминал И. Эренбург, – показал мне однажды двух разгневанных слонов, вырезанных из кости жителем Черной Африки. Одно изображение меня особенно поразило. Матисс спросил, не замечаю ли я чего-либо странного. Я ответил отрицательно. Тогда Матисс показал мне, что у одного слона, который меня восхитил, подняты вверх вместе с хоботом бивни. Это придало ему выразительность. Матисс усмехнулся. „Приехал один дурак, который сказал, что бивни не могут быть подняты вверх. Негр послушался и сделал вот это… Видите – здесь бивни на месте, но искусство кончилось…“»[62].Поднятые бивни – вообще говоря, неточность, но в данном случае они великолепно передают замысел художника (разгневанного слона) и поэтому верно (точно!) служат искусству. И точность здесь выступает не как биологическая точность, а как точность языка искусства. И все подлинные художники это великолепно понимают. В свое время В.М. Жирмунский показал, что за двести лет своего развития русская рифма от Ломоносова до Маяковского прошла путь от рифмы точной к рифме неточной, но выразительные возможности этой неточной рифмы стали несравнимо бóльшими, чем выразительные возможности рифмы точной. Само понятие «неточной рифмы» переосмысляется: она остается неточной в чисто формальном плане и точной и выразительной – в плане функциональном[63]. Чтобы понять глубокое своеобразие самого понятия точности в стиле художественной литературы, приведу такой пример. Когда в первом томе «Войны и мира» Л. Толстого Николай Ростов видит перед собой «эскадрон с однообразно-разнообразными лицами», то приведенное словосочетание, первоначально кажущееся неточным и даже противоречивым, по существу очень точно передает впечатление молодого Ростова от армии: лица солдат ему кажутся и однообразными, и разнообразными одновременно. Они однообразны в своей массе, но разнообразны индивидуально. И Ростов видит это. И неточности здесь никакой не оказывается. Неточное арифметически (либо однообразные, либо разнообразные) оказывается точным психологически. И художественная литература, шире – искусство имеет дело прежде всего с такой психологической точностью. Ею же пронизан и язык художественной литературы. Ему приходится постоянно иметь дело с точностью особого рода, играющей решающую роль в художественном восприятии. Как только что было подчеркнуто, сказанное, разумеется, не означает, что язык художественной литературы довольствуется полуточностью. «Однообразно-разнообразные лица» не полуточно, а очень точно передают первые впечатления Ростова от войны, «поднятые бивни слонов» – очень точно выражают их гнев. В искусстве, следовательно, обнаруживается не полуточность, а точность особого рода, которая не сводится к формулам «да – нет», к «черно-белому», а опирается на оттенки, без которых она сама была бы невозможна. Речь идет, разумеется, о большом искусстве, о языке больших писателей. Когда к поэтическому языку предъявляют чисто арифметические требования, тогда обнаруживают «расплывчатость» его смысла, его мнимую неточность. Об этой расплывчатости писал у нас И.И. Ревзин вслед за румынским математиком С. Маркусом, автором «Математической поэтики»[64]. Но лишь при антифункциональном подходе к языку больших поэтов и прозаиков можно обнаружить «расплывчатость» их языка. При функциональном же анализе «расплывчатость» оборачивается точностью, определяемой самим назначением художественного текста. Дело в том, что большой писатель вовсе не произвольно выбирает ресурсы языка. И сам этот выбор обусловлен упорными поисками точности. В 1887 г. в предисловии к своему роману «Пьер и Жан» Г. де Мопассан писал:
«Каков бы ни был предмет, о котором хочешь говорить, есть только одно слово, чтобы его выразить, один глагол, чтобы его одушевить, одно прилагательное, чтобы его охарактеризовать. И нужно искать это существительное, этот глагол и это прилагательное, пока не откроешь их, и никогда не удовлетворяться приблизительностью, никогда не прибегать к подлогам, даже если они удачны, и клоунадам речи, чтобы избежать трудностей…»[65]Как видим, упорные поиски должны устранить возможные неточности, но найденная точность – это функциональная точность, детерминированная самим замыслом художественного текста. Такая точность может противоречить количественной точности и опираться, например, на такие определения, как «однообразно-разнообразные лица». В одном из рассказов известного английского писателя Сомерсета Моэма сообщается:
«с позиции логики абсурдно заявлять, будто желтый цвет может иметь „цилиндрическую форму“, а благодарность оказывается „тяжелее воздуха“, но с позиции нашего я могут сближаться самые, казалось бы, несоединимые понятия»[66].И создателям художественной литературы постоянно приходится иметь дело с такого рода явлениями. Писатели нашей эпохи оперируют понятием такой точности, которая допускает самые неожиданные словесные сближения. Поэтому и точность в языке художественной литературы может принципиально отличаться от точности в научном стиле изложения. Специфика языка художественной литературы, очевидная уже в прозе, еще более ярко проявляется в поэзии. Здесь вступает в силу закон «боковых смыслов» слова, о котором в свое время, совсем в другой связи писали Ю.Н. Тынянов и Б.М. Эйхенбаум. Приведу один из их примеров. В четырехстишье:
Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем,
Свежо и остро пахли морем
На блюдце устрицы во льду.
«Слово устрицы, – комментирует Б.М. Эйхенбаум, – насыщается здесь боковым смыслом, благодаря, с одной стороны, словам пахли морем, которые… порождают новый круг эмоциональных ассоциаций, а с другой – благодаря корреспонденции остро – устрицы. Точно так же корреспонденция на блюдце – во льду взаимно окрашивает эти слова, затемняя их основные, вещественные значения и оттеняя боковые – не предметные, а эмоциональные, чувственные»[67].В таких условиях точность выражения предполагает опору не на предметные значения слова, а на значения, рождающиеся в данном контексте. Несмотря на то, что мировая художественная литература XIX – XX вв. показала и доказала, что в языке, на котором она создается, читатели имеют дело отнюдь не с арифметически выраженной точностью, тем не менее желание опереться на цифры при исследовании поэтического языка возникало много раз в разные эпохи. Успехи естествознания в конце прошлого века привели к тому, что и в филологии формировались направления, опиравшиеся на идеи Ч. Дарвина. Когда уже в начале нашего столетия французский филолог Г. Лансон опубликовал книгу «Метод в истории литературы» (она вскоре была переведена и на русский язык), то он отмечал увлечение «цифрами и арифметическими подсчетами» даже у таких историков литературы и критиков, как И. Тэн и Ф. Брюнетьер[68]. А в Италии в 80-х годах минувшего столетия один из виднейших филологов Франческо де Санктис выступил даже со специальным исследованием на тему «Дарвинизм в искусстве»[69]. Как видим, представление о том, что если речь идет о точности, то подобная точность должна иметь арифметико-математические формы выражения, настолько глубоко проникает в сознание многих людей, что и в искусстве подобное истолкование точности, хотя и противоречит природе самого искусства, все же много раз возрождалось и возрождается в наше время. Известно, что Эрнест Хемингуэй любил сравнивать художественный образ у большого писателя с айсбергом, одна десятая часть которого возвышается над поверхностью океана, а девять десятых находится под водой. Художественная точность тоже предполагает нечто подобное. Все, выраженное только частично, только намеком, может казаться внешне неточным, но по существу быть глубоко обоснованным внутренне. Здесь тоже речь идет о точности другого рода, нежели точность арифметическая. В знаменитом стихотворении Фридриха Шиллера «Художники» есть слова, так звучащие в русском переводе:
В уменье пчела человека наставит
В прилежании научит червь долин…
Искусством же, человек, владеешь ты один.
7
Только догматическому сознанию кажется, что понятие оттенка и понятие точности несовместимы друг с другом. Между тем в языке они не только совместимы, но и немыслимы друг без друга. Точность без оттенков, которыми она же располагает, оказывается грубой точностью, приблизительной точностью. При этом сама точность не выступает как понятие строго функциональное. В знаменитом стихотворении Тютчева «Есть в осени первоначальной» имеются строки, в которых сообщается, что ранней осенью «паутины тонкий волос блестит на праздной борозде». Догматическому сознанию может показаться, что борозда «праздной быть не может», что это неточное выражение, неточное словосочетание. Между тем здесь все сказано точно и лаконично. Борозда стала праздной ранней осенью: урожай уже снят и борозда больше не служит человеку, и, хотя она праздной стала фигурально, но от этого все выражение не перестает быть точным. Но эта уже знакомая нам точность функциональная, контекстная, разумеется, не арифметическая. Известно, что Гольденвейзер в своих воспоминаниях о Льве Толстом отмечал эти строки Тютчева с восклицанием Толстого: как точно сказано![70]«Язык, – замечает по другому поводу М. Бахтин, – нужен поэзии весь, всесторонне и во многих моментах, ни к одному нюансу лингвистического слова не остается равнодушной поэзия»[71].Больше того. Поэзия не только пользуется всеми нюансами общелитературного языка, но и дальше развивает эти нюансы и эти оттенки. Петрарка перечислял около 400 метафор, которыми писатель может передать понятие людской юдоли. Вместе с тем большие писатели всегда понимали, что язык поэзии не должен слишком отрешаться от общелитературного языка. чтобы не утрачивать своей доступности, силы своего воздействия.
«Сочиняя „Пармский монастырь“, – писал Стендаль, – настраиваясь на надлежащий тон, я каждое утро читал две или три страницы из „Гражданского кодекса“»[72].Так язык поэзии и взаимодействует с общелитературным языком, и отличается от него. В разных литературных направлениях, у разных писателей и в разные исторические эпохи подобное взаимодействие может быть весьма разнообразным. Следует постоянно иметь в виду специфику языковой точности и языковых оттенков (нюансов)[73]. В языке могут бытовать и такие оттенки, которые в дальнейшем ходе развития литературного языка иногда оказываются ненужными. Старые индоевропейские языки, например, располагали десятками указательных местоимений, впоследствии не сохранившимися. Средневековые языки различали предметы близко находящиеся, немного более далеко расположенные, еще чуть-чуть дальше расположенные, расположенные по эту или не по эту сторону от говорящего и т.д. Градации были бесконечно дробными[74]. Большинство подобных местоимений позднее в европейских языках не сохранилось. Другой пример. В старофранцузском синтаксисе отрицание передавалось с помощью самых разнообразных слов, удерживавших дробное вещественное значение: mie ʽкрошкаʼ, goutte ʽкапляʼ, pas ʽшагʼ, point ʽточкаʼ, rien ʽвещицаʼ и мн. др. К началу XVII столетия произошла генерализация одного типа, опиравшегося на pas (ne… pas). От других моделей сохранились лишь пережитки. Язык перестал ощущать необходимость располагать особыми типами отрицания с помощью таких вещественных слов, как крошка, капля, вещица и т.д. Это не означает, что язык утратил способность передавать эмоциональные оттенки. В этой сфере ресурсы языка неисчерпаемы. Но это означает, что по мере развития и совершенствования языка укрепляются и его абстрагирующие возможности в грамматике. Так или иначе, конкретные материалы разнообразного характера показывают, что в процессе развития разных языков происходит дифференциация между оттенками, сохраняющимися в языках, и оттенками, которые позднее становятся по той или иной причине излишними, ненужными, устаревшими. Намеченная здесь проблема, сама по себе очень важная, остается до сих пор почти совсем не изученной. Вопрос в том, какие оттенки, ранее различавшиеся в языке, затем различаться перестали, и какие оттенки, ранее не различавшиеся, затем стали строго дифференцироваться. Все это весьма существенно при историческом изучении ресурсов и возможностей различных языков. Проблема оттенков осложняется еще и тем, что сами оттенки и в лексике, и в грамматике обычно не поддаются, как мы уже знаем, чисто количественному взвешиванию. Сформулировать количественные расхождения между синонимами типа смелый, храбрый, мужественный, отважный невозможно, поэтому различия между ними должны описываться с учетом несходных контекстов, с учетом функционирования подобных слов в языке и в речи. Дело в том, что даже в тех случаях, когда математика оперирует, казалось бы, качественными отношениями, подобные качества вырастают из количественных пропорций. Это положение не так давно было прекрасно показано А.Ф. Лосевым в его глубоком исследовании[75]. Между тем понятие оттенка – это прежде всего качественное понятие, требующее функционального анализа. Статистический метод изучения разнообразных языковых явлений возник уже в XVIII столетии[76]. Тогда же была сделана попытка с помощью статистики объяснить, почему «выживают» одни формы языка и «умирают» другие. Затем о статистическом методе вспомнили в 80-х годах прошлого столетия в некоторых направлениях младограмматического языкознания, в частности, в школе латиниста Вельфлина. Позднее, более горячо статистический метод в филологии стал обсуждаться и применяться в 20-е годы нашего столетия. Но и в эту эпоху особых результатов с его помощью получить не удалось. В 1918 г. Г. Шенгели подсчитал, сколько гласных и сколько согласных содержат два текста, имеющие одинаковое название – «Памятник» А.С. Пушкина и «Памятник» Валерия Брюсова. Получилось, что у Пушкина
«на один гласный звук приходится 1,33 согласных звуков, а у Брюсова на один гласный уже 1,44 согласных»[77].Шенгели считал, что таким способом можно определить отличие поэтики Пушкина от поэтики Брюсова. Между тем глубокое несходство поэтики двух авторов не поддается количественному исчислению и определяется совокупностью многих условий, в том числе и неповторимой индивидуальностью каждого автора. Поэтому, как ни соблазнительно и здесь понятие точности связать с понятием числа, подобная связь может иметь лишь подсобное значение. И это понятно, если не забывать, что, как правило, понятие оттенка в языке выступает как качественная, а не количественная категория. Статистический метод иногда создает иллюзию объяснительного метода. Уже давно было замечено, что на вопрос «какие деревья растут в этом саду?» можно ответить различно, в том числе с помощью простой констатации – «в саду 20 деревьев». Но назвав число деревьев, мы оставили без ответа вопрос о том, какие именно деревья растут в саду[78]. О синонимическом ряде смелый, храбрый, мужественный, отважный можно сказать, что этот ряд опирается на четыре прилагательных (если ими «закрыть» данный ряд), но назвав цифру, мы еще не пояснили, какие смысловые оттенки составляют «душу» подобного ряда и чем каждый из четырех синонимов отличается от своего «соседа» (по значению, по употреблению, по стилистической окраске и пр.). Число – лишь один из признаков ряда, но не только не единственный признак, но и не главный, не определяющий признак. Такова общая судьба количественных отношений в языке, а шире – и в филологии. А.В. Чичерин безусловно прав, когда подчеркивает, что языковые и тем более стилистические явления
«требуют весов гораздо более чувствительных, чем статистические подсчеты»[79].К тому же и в научном, и в художественном тексте то или иное слово, которое встречается только один раз, может оказаться гораздо более «ключевым», гораздо более весомым, чем слово, 20 раз употребленное автором. Сказанное не означает, что статистические исследования вообще невозможны в области филологии, но приведенные соображения лишний раз свидетельствуют, что роль подобных разысканий может иметь лишь вспомогательное значение.
8
Наша эпоха – эпоха содружества наук. Это бесспорно. И филология – не исключение, она находится в подобном содружестве. Вместе с тем разделение наук на физико-математические, науки о природе и науки об обществе сохраняет свою силу. И здесь нет никакого противоречия: взаимодействие наук не лишает и не должно лишать специфики каждую науку. В.И. Ленин был глубоко прав, когда, конспектируя одну из книг Гегеля, заметил:«Метод философии должен быть ее собственный (не математики…)»[80].Действительно, по меньшей мере наивно считать, что с помощью одной науки, какой бы точной она ни представлялась, можно решить все сложнейшие вопросы другой науки, часто имеющей дело с совершенно другим объектом. Науки помогают друг другу, но не заменяют и не вытесняют друг друга. То же следует сказать и о методах разных наук. В 1842 г. В.Г. Белинский в статье о Баратынском писал:
«…Человеческое знание состоит не из одной математики и технологии, оно прилагается не к одним железным дорогам и машинам… Напротив, это только одна сторона знания, это еще только низшее знание… Высшее объемлет собою мир нравственный, заключает в область своего ведения все, чем высоко и свято бытие человеческое…»[81]Эти полные глубокого смысла слова сохраняют все свое значение и в нашу эпоху. В предшествующих строках была сделана попытка показать, что и категория точности сохраняет свою специфику в такой области знания, как филология, и что филологическую точность недопустимо отождествлять с точностью математической. В свое время акад. Л.В. Щерба был безусловно прав, когда подчеркивал, что в языке
«…ясны лишь крайние случаи. Промежуточные же в самом первоисточнике – в сознании говорящих – оказываются колеблющимися, неопределенными. Однако это-то неясное и колеблющееся и должно больше всего привлекать внимание лингвиста, так как здесь… мы присутствуем при эволюции языка»[82].И это глубоко справедливо. То, что «колеблется» в языке, обычно кажется неточным, неуловимым. Но подобные колебания составляют душу любого национального языка, они – свидетельство его развития и совершенствования. За последние 20 лет в разных странах были предложены различные рецепты превращения филологии в точную науку. Но в тех случаях, когда подобные рецепты составлялись без учета специфики самой филологии в ее различных областях, подобные рецепты оказывались обычно бесполезными и не оказывали влияния на дальнейшее развитие самой филологии. Только тогда, когда понятие точности будет рассматриваться не «вообще», а как «точность данной науки», больше того – «точность данной области данной науки», споры вокруг понятия точности перестанут быть схоластичными, станут плодотворными. В предшествующих строках была сделана попытка показать, что 1) понятие точности – это понятие не арифметическое, а функциональное; 2) точными методами должны изучаться не только формальные, но и содержательные категории языка и литературы (отсюда недопустимость смешения формального и формалистического); 3) формальная непротиворечивость того или иного филологического построения отнюдь не обеспечивает ему теоретической глубины и убедительности, ибо все в конце концов определяется идейной основой всякой концепции; 4) поиски точности ни в коем случае не должны вестись так, чтобы приводить к искажению изучаемого объекта (языка и литературы), к изгнанию важнейшего понятия оттенка, столь существенного в процессе коммуникации, в процессе выражения человеческих мыслей и чувств; 5) в сфере языка художественной литературы функциональная сущность самого понятия точности выступает особенно ярко и особенно очевидно; 6) не всякая «точность» оказывается нужной в языке и стиле (факты истории разных языков показывают, что от многих видов «мелочной точности» языки постепенно стремятся избавиться, как от ненужного для их же системы балласта); 7) точность хороша и сильна тогда, когда она оказывается собственно языковой точностью (вырастает из специфики функций языка), собственно художественной точностью (вырастает из специфики художественного творчества).
Глава вторая. Знаки – значения – вещи (явления)
1
Проблема соотношения знака – значения – вещи (явления) уже с древнейших времен интересовала человека. Известен старый рассказ о некоем простолюдине, который, присутствуя при ученом споре астрономов о природе небесных тел, спросил:«Я понимаю, как люди определили природу небесных тел, особенности их строения и их физические свойства, но скажите, пожалуйста, как люди узнали названия небесных тел».В самом деле: почему вещь – предмет (явление) называется так, а не иначе? Этот вопрос кажется и простым, и сложным одновременно. Простым, если разделять концепцию абсолютной произвольности всяких названий (обозначений), сложным, если понимать, что подобная произвольность редко бывает абсолютной, а сама проблемаперерастает в проблему мотивировки названия, в известной мере связанной с проблемой этимологического значения слова. Проблема значения слова была уже в центре не только древнеиндийской филологии, но и древнеиндийской философии. Уже тогда умели различать в слове его номинативную, метафорическую и чувственную функции. Значение слова рассматривалось в связи с учением о поэтическом символе: слова, обозначая предметы (явления), вместе с тем сохраняют свой «звон» или «эхо звона» (dhvani «двани»). Характер подобного «звона» следует так же тщательно изучать, как и характер обозначения самих предметов (явлений). Проблема мотивировки любого названия уже тогда обращала на себя внимание[83]. Этот интерес никогда не угасал и позднее, хотя и поддерживался по разному поводу, то в связи с этимологическими разысканиями, то в связи с более отвлеченными размышлениями о природе названий, то в связи с разработкой теории поэтического языка. Попытку разобраться в типах мотивировки слова сделали лингвисты-компаративисты в первой половине минувшего столетия. Проблема знака во второй половине этого же века специально интересовала американского ученого-философа и математика Чарлза Пирса (1839 – 1914). Различные современные концепции знака обычно связывают с его именем. Уже в нашем столетии проблема знака и проблема значения была остро поставлена Ф. де Соссюром в его «Курсе общей лингвистики», посмертно опубликованном в 1916 г. Хотя часто утверждают, что «современная постановка проблемы лингвистического знака» связана с именами Пирса и Соссюра, знатокам научного творчества Соссюра до сих пор не удалось обнаружить у него следов знакомства с публикациями Пирса[84]. Поэтому точки соприкосновения Соссюра и Пирса в трактовке знака нужно объяснять не влиянием второго ученого на первого, а «духом времени», постановкой самой проблемы накануне и в эпоху обоснования теории относительности. Но и в эту эпоху единства взглядов не наблюдалось. Сама проблема освещалась с разных методологических позиций. Резкое несходство теоретических позиций обнаруживается и в современных истолкованиях знаков и знаковости. Весьма разнообразные доктрины можно свести к трем основным концепциям. Согласно одной из них, все естественные языки человечества являются такими же знаковыми системами, какими оказываются искусство, литература, религия и «прочие семиотические системы». Здесь прямо выравниваются в одну шеренгу все семиотические системы. Языкознание рассматривается в одном плане с любой другой знаковой системой. Подчеркивается равенство всех знаковых (семиотических) систем. Литература, искусство и даже религия оказываются в одном ряду с языком, хотя первые три системы изучаются «уже не вполне лингвистическими методами»[85]. Находятся исследователи, которые идут еще дальше по пути подобного отождествления.
«Нет принципиального различия между языковым актом и художественным произведением. Художественное произведение, как и язык, имеет характер знака»[86].С подобным отождествлением языка и художественного произведения «в акте знаковости» соглашаются, однако, далеко не все исследователи. Гораздо шире распространена другая концепция, согласно которой из ранее перечисленных «семиотических систем» лишь язык выступает как последовательно знаковая система, тогда как художественная литература, имея дело с индивидуальностью писателя и его идеологией, к знаковым системам непосредственно не относится[87]. Наконец, третья концепция основывается на убеждении, что в любом естественном языке имеются лишь элементы знаковости (фонетический облик языка), но что в целом ни один естественный язык не может быть знаковой системой. Люди, говоря на родном языке, оперируют не знаками как таковыми, а значениями, ибо знаки сами по себе являются не двусторонними, а односторонними единицами (имеют только форму)[88]. Таковы три, методологически и принципиально различные концепции, характерные для филологии нашего времени: 1) все сферы и области филологии – это знаковые сферы и знаковые области, 2) из всех областей филологии только язык является последовательно знаковой областью, 3) в языке имеются лишь элементы знаковости (фонетика), тогда как в целом язык не может быть знаковой системой, ибо он непосредственно связан с мышлением, является нашим реальным, практическим сознанием и оперирует не односторонними, а двусторонними единицами (и в лексике, и в грамматике), наделенными определенным значением. Так могут быть кратко определены три противоположные истолкования знаковости в различных областях современной филологии. Острота столкновения между представителями этих концепций оказывается тем более заметной, чем категоричнее защищают свое понимание знаковости адепты каждой из этих концепций. Так, например, в коллективном исследовании «Общее языкознание» глава о «знаковой природе языка» излагается так, будто бы другие осмысления этой проблемы являются несовременными и устаревшими[89]. При этом авторы не объясняют, как представление о знаковой природе языка и представление о языке, как о реальном сознании, неразрывно связанным с мышлением, должны не противоречить друг другу, не отрицать друг друга. Защитники знаковой природы языка обычно ставят вопрос «от противного»: если бы противники знаковости языка были правы, непонятным оказался бы факт многоязычия, факт различных наименований одних и тех же предметов (явлений) в разных языках. Между тем вторая проблема в действительности не имеет никакого отношения к первой. Подчеркивая единство знака и значения в любом национальном языке, исследователь исходит из единства, сложившегося в данном языке исторически в отличие от аналогичного единства в других языках, в особенности в языках неродственных. Думать иначе, значит переносить законы функционирования искусственных сигнальных кодов на законы функционирования национальных языков, природа которых принципиально отлична от природы любого искусственного кода (см. об этом следующую главу). Защита знаковой природы языка обычно ведется под знаменем сближения лингвистики с семиотикой и кибернетикой. Поэтому концепция знаковой природы языка объявляется концепцией современной, а ее противники – лингвистами несовременными, отсталыми, непонимающими нужды научно-технической революции[90]. Между тем в действительности все обстоит гораздо сложнее. Можно отождествить лингвистику и семиотику и не быть современным лингвистом, если одновременно не учитывать, что любой национальный язык – это не только определенная система обозначений, но и результат своеобразного отражения всей деятельности людей, говорящих на данном национальном языке. Признак современности не может ассоциироваться лишь с признаком «семиотичности». Первый признак не только гораздо сложнее, но и многоаспектное второго. К сожалению, подобное различие очень редко учитывается в наших острых современных лингвистических спорах. Еще важнее другое: концепция знаковой природы языка необычайно обедняет природу национальных языков, а следовательно, и лингвистику, науку об этих языках. В самом деле:
«…знак – это материальный, чувственно воспроизводимый предмет (явление, действие), выступающий в процессе познания и общения в качестве представителя (заместителя) другого предмета (предметов) и используемый для получения, хранения, преобразования и передачи информации»[91].Между тем значение слова – это исторически образовавшаяся связь между звучанием слова и тем отображением предмета или явления, которое происходит в нашем сознании и находит свое выражение в самом слове[92]. Взаимодействие между тáк понятым знаком и тáк понятым значением составляет душу самой науки о языке. Лишить ее этой важнейшей проблемы взаимодействия – это прежде всего безмерно обеднить самый предмет лингвистики. Любопытно, что многие литературоведы уже давно поняли, что сведение художественного творчества к семиотике бесконечно обедняет и само художественное творчество, и науку о нем. Поэтому у Я. Мукаржовского, И.И. Ревзина и В.Н. Топорова (см. выше) в наши дни уже немного союзников[93]. Гораздо сложнее оказалось с лингвистикой. Многие литературоведы не возражают против обеднения лингвистики (пусть, дескать, сами лингвисты разбираются). Что же касается части лингвистов, то они со странной легкостью идут навстречу процессу обеднения своей собственной науки, размахивая флагом, на мой взгляд, ошибочно понятой «современности и актуальности».
2
Почему же знаковая концепция национальных языков резко обедняет и возможности самих этих языков, и возможности науки, которая специально занимается в первую очередь именно ими? Президент международной ассоциации семиотики, один из самых видных современных лингвистов Э. Бенвенист по-своему уже ответил на подобный вопрос, подчеркнув, что семиотика совершенно не интересуется отношением языка к действительности, к реальному миру, в котором живут люди[94]. Если же к этому прибавить, что семиотика не интересуется и прошлым состоянием национальных языков, то станет ясно, что я имел в виду, говоря о безмерном обеднении самого предмета лингвистики при семиотическом ее толковании. Изучать систему языка ради самой этой системы, одновременно не интересуясь, как с ее помощью ориентируются люди в окружающем их мире – это действительно отказаться едва ли не от самого главного в лингвистике. Это главное превращает ее в одну из важных гуманитарных наук нашей эпохи. К этому же вопросу можно подойти и с другой стороны. Если значение слова – это неотъемлемая часть слова, входящая в него органически, если без значения нет и самого слова, а только «пустое звучание», то, следовательно, слово не может быть простым знаком. Хотелось бы особенно подчеркнуть отмеченную зависимость. Проблема решается в форме «или – или», третьего здесь не дано: либо надо признать, что значения слов и область языкознания, специально изучающая именно значения слов (семасиология), к лингвистике не относится, и тогда слова могут предстать как знаки, либо значения слов и семасиология, исследующая подобные значения – важнейшая область лингвистики, и тогда слова не могут быть простыми знаками, так как знаки сами по себе значений не имеют. Поэтому когда семасиологию включают в лингвистику и одновременно защищают знаковую природу слова, то допускают не только contradictio in adjecto, но и искажают всю перспективу изучения семасиологии, лексикологии и лексикографии[95]. Здесь спор идет не о терминах, а о самом существе науки о языке. Если не забывать, что и грамматические категории любого национального языка – это двусторонние категории, имеющие свою форму и свое грамматическое значение, то станет очевидно, что речь идет о самом главном, о том, каков подлинный объект изучения в науке, именующей себя лингвистикой. В специальной литературе уже приводились такие примеры. Серп и молот в нашей стране – это знак союза рабочих и крестьян. Но сам этот союз существует до знака и независимо от данного знака. Следовательно, знак не включает значения, он односторонен, тогда как слово органически включает значение, оно двусторонне. Зеленый цвет на дороге может служить показателем разрешения движения. Но«знаком является не разрешение движения, а только зеленый цвет как показатель этого разрешения… Разрешение движения не может быть элементом знака потому, что оно существует до знака и независимо от него»[96].Разграничение знака как односторонней единицы и слова как двусторонней единицы, всегда включающей значение, перерастает в важнейший методологический принцип, теоретически разделяющий современную лингвистику на разные, во многом противоположные направления[97]. Ученые, рассматривающие категорию значения в лексике и грамматике как важнейшую лингвистическую категорию, тем самым и к понятию знака обязаны подходить с учетом постоянно действующих отношений: знак → значение → вещь (явление). В науке о языке сам знак может быть знаком только в системе отмеченных отношений. Поэтому определять язык как знаковую систему (даже с прибавлением «особого рода») и при этом не показывать отношений между знаками, значениями и вещами (явлениями) неправомерно. Подобные отношения существуют в любом национальном языке и дают о себе знать постоянно в процессе функционирования каждого языка. Не считаться с этим – значит не только обеднять предмет лингвистики, но и во многом искажать его. Покажу здесь на одном примере, как следует понимать взаимодействие знака, значения и вещи (явления). В свое время К. Яберг писал[98], что изобретение пороха в XIV столетии имело важные последствия не только для экономической жизни человечества, но косвенно и для самых разнообразных языков, в том числе и романских. До XIV в. французское существительное poudre означало ʽпыльʼ, с периода же изобретения пороха poudre стало употребляться не только для наименования ʽпылиʼ, но и для наименования ʽпорохаʼ. Возникла полисемия poudre. По мысли Яберга, подобная полисемия «оказалась для языка неудобной». Чтобы «избавиться от нее», язык использовал другое слово – poussière, ранее бытовавшее лишь в диалектах, а затем вошедшее в литературный обиход. Возникла дифференциация значений между двумя существительными: poudre стало служить главным образом для наименования ʽпорохаʼ, a poussière – для наименования ʽпылиʼ. В этой семантической истории двух взаимно связанных слов, очерченной ученым, все же не все представляется ясным. Прежде всего: почему полисемия poudre (ʽпыльʼ, ʽпорохʼ), сформировавшаяся в определенную эпоху, оказалась позднее «неудобной»? Как следует понимать подобное «неудобство», если в других романских и германских языках, где тоже известно это слово, оно легко сохраняет аналогичную полисемию? Чтобы ответить на подобные вопросы, разыскания в сфере знак – значение – вещь (явление) оказываются совершенно необходимыми. В старофранцузском языке poudre (другие формы и написания poudrier, poldrier, poudrer) действительно означало ʽпыльʼ. Это же значение poudre ʽпыльʼ сохраняется вплоть до конца XVII в. у французских классиков той эпохи оно оказывается еще вполне живым. Так, у Мольера («Bourgeois gentilhomme», III, 3): Ce grand escogriffe de maitre dʼarmes remplit de poudre tout mon ménage ʽЭтот верзила, учитель фехтования, наполнил пылью все мои покоиʼ. В современном языке poudre ʽпыльʼ возможно лишь в несвободных сочетаниях, как пережиток старого осмысления: jeter de la poudre aux yeux ʽпустить пыль в глазаʼ и в некоторых других выражениях. Так очень медленно, на протяжении ряда веков формировалась дифференциация слов и значений: poudre ʽпорохʼ и poussière ʽпыльʼ. Сходным образом разграничены понятия ʽпорохʼ и ʽпыльʼ в испанском и португальском языках (исп. pólvora ʽпорохʼ и polvo ʽпыльʼ, порт. pólvora и poeira). Но вот в итальянском языке, казалось бы, аналогичный вопрос решается совсем иначе. Итальянское существительное polvere весьма многозначно и в современную эпоху. Это и ʽпыльʼ, и ʽпорохʼ, и ʽпорошокʼ, и ʽпрахʼ. Итальянский не знает ни дифференциации, издавна характерной для испанского и португальского языков (разные слова для обозначения ʽпорохаʼ и ʽпылиʼ), ни дифференциации, сравнительно поздно сложившейся во французском. Еще одно новое отношение сложилось в румынском языке. Теоретически здесь были весьма благоприятные условия для дифференциации пыль – порох между разными словами: наряду с образованием латинского происхождения (pulbere) этот язык издавна располагал и существительным славянского источника (praf, ср. рус. прах). Однако практически, несмотря на благоприятные предпосылки, разграничения здесь не получилось. Современные толковые словари румынского языка отмечают, что каждее из этих двух существительных может иметь и значение ʽпыльʼ, и значение ʽпорохʼ. Различие лишь в том, что praf употребляется чаще, чем pulbere. Румынский язык остается равнодушным к дифференциации пыль – порох между разными словами. Сказанное, разумеется, не означает, что румынский смешивает данные понятия. Румынский язык, как и итальянский, передает эти разные понятия с помощью многозначных (полисемантичных) слов. Следовательно, то, что в одних языках выражается с помощью одного слова (полисемия), в других может передаваться с помощью разных слов, каждое из которых стремится к одному значению (моносемия). Полисемия и моносемия, взаимодействуя в пределах семасиологии родственных слов, осложняют принцип другого взаимодействия – знака, значения, вещи (явления). Полисемия пыль – порох не должна удивлять нас по ряду соображений. Ведь даже в тех языках, в которых лексическая дифференциация этих понятий выражена наиболее отчетливо, каждое вновь образованное слово для каждого из этих понятий в свою очередь становится многозначным. Так, например, французское poudre, отделившись от poussière ʽпыльʼ, вместе с тем означает и ʽпорошокʼ, и ʽпудруʼ. Оба эти наименования как бы входят в систему более общего понятия – ʽпорошокʼ, хотя этот последний может служить различным целям и назначениям, состоять из различных веществ (от взрывчатого порошка до душистой пудры). В этом, в частности, и обнаруживается обобщающая сила человеческого мышления, находящая свое выражение и в сложных лексических взаимоотношениях. Прогресс языка и мышления нельзя сводить, как это часто делают, только к увеличению их различительной (дифференциальной) силы. Он выражается также в углублении обобщающей (интегральной) способности языка и мышления. На эту их особенность и опирается полисемия. Из нее она и вырастает. Интересно, что в тех языках, куда проникло французское существительное poudre, оно сохраняет полисемию. Так, английское powder – это и ʽпыльʼ, и ʽпорохʼ, не говоря уже о других его значениях (порошок, пудра). Следовательно, современное английское powder семантически соответствует не современному французскому poudre (связь здесь сохраняется только историческая), а тому существительному, которое и во французском языке некогда означало и ʽпыльʼ, и ʽпорохʼ. Напротив того, немецкое pulver вслед за французским poudre стало специализироваться после XIV в. именно для наименования пороха[99]. Таким образом, если видеть в языке прежде всего знаки («язык – знаковая система»), то осмыслить, в частности, как складывались в европейских языках названия для понятий пыль, порошок, порох невозможно. И это только один пример из огромного числа возможных иллюстраций. Напротив того, если осознать, как соотносятся (обычно сложно и редко прямо) в языке знаки, значения и вещи (явления), если везде и всегда учитывать, что в национальных языках знаки без значений существовать не могут, а значения постоянно соотносятся с предметами (явлениями) окружающего людей мира, то вся «картина языка» окажется иной. Изобретение пороха послужило лишь толчком для развития семантики ряда слов в европейских языках. Конкретные же пути подобного развития в разных языках от этого толчка уже не зависели. Здесь сыграли решающую роль различные пути взаимодействия между знаками, значениями и вещами, пути интеграции различных значений (полисемия) и пути дифференциации различных значений (образование терминов, возможность распада старой полисемии и формирование новой полисемии). Не сами по себе знаки определяют развитие лексики национальных языков, а знаки в их постоянном и глубоком взаимодействии со значениями и вещами (явлениями). Еще в 1929 г. С. Карцевский в ярком и интересном этюде «Об асимметричном дуализме языкового знака» совершенно справедливо подчеркивал:
«Означающее (le signifiant) стремится выполнять в языке не только свою, но и другие функции, в то же время как означаемое (le signifié) тоже стремится найти свое выражение самыми различными способами. Означающее и означаемое асимметричны. Соединенные вместе в языке, они находятся в состоянии неустойчивого равновесия».И далее:
«Но, если знаки были бы неподвижны и каждый из них имел лишь одну функцию, то язык превратился бы в простое собрание этикеток. Вместе с тем невозможно представить себе живой язык, знаки которого оказались настолько подвижными, что их семантика определялась бы лишь одним контекстом»[100].И хотя автор не сделал всех важных и возможных выводов из этих бесспорных положений, его стремление показать сложную природу языковых знаков, постоянное взаимодействие между означаемым и означающим, имело важные последствия. Особенно существенно принципиальное разграничение языковых знаков и этикеток, с которыми первые до наших дней постоянно и настойчиво смешиваются, даже отождествляются. Здесь вновь обнаруживается различное понимание самой природы языка в науке нашего столетия.
3
Проблема мотивировки слова, остро поставленная в 1916 г. в «Курсе» Соссюра, в действительности является очень старой проблемой, которая интересовала человека с давних времен. Уже в самом элементарном словообразовании эта проблема дает о себе знать. Прилагательное деревянный кажется нам более мотивированным, чем существительное дерево, подобно тому как англичанину wooden ʽдеревянныйʼ представляется мотивированным на фоне существительного wood ʽдеревоʼ. Но человек издавна хотел понять мотивировку не только производных образований, но и исконных слов. В своей «Истории греческого языка» А. Мейе, основываясь на данных языка Гомера, предложил различать «слова-знаки» (les mots-signes) и «слова-понятия» (les mots-forces), буквально «сильные слова». Первые употреблялись у Гомера как слова, отношение к которым со стороны говорящих и слушающих обычно бывало нейтральным. Вторая же группа слов обнаруживала заинтересованность говорящих в том, о чем они говорят, их желание оказать с помощью слов воздействие на слушающих. Так, например, слова типа upnos ʽсонʼ у Гомера выполняли не только номинативную функцию, но и передавали убеждение говорящих в том, что будто бы существует особая сила, вызывающая сон. Само слово upnos ʽсонʼ получало уже не словообразовательную (грамматическую) мотивировку, а своеобразную идеологическую мотивировку, обусловленную уровнем научных знаний эпохи Гомера. Если учесть, что подобных слов тогда было немало, то разграничение, предложенное Мейе, представляет бесспорный интерес[101]. Дело даже не в том, прав ли А. Мейе в каждом отдельном случае, и не в том, насколько удачен термин le mot-force ʽслово-силаʼ в отличие от le mot-signe ʽслово-знакʼ. Меня интересует другое: стремление человека с давних времен употреблять слова не только как условные номинации (в известной степени в процессе коммуникации это неизбежно), но и как номинации, активное отношение к которым человек не может и не хочет скрывать. В этом уже тогда обнаруживалось стремление дать своеобразную, ту или иную мотивировку словам, в особенности словам, которые в наше время станут называться «словами-ключами» определенной эпохи. Хотя знак односторонен, а слово двусторонне, как двустороння и грамматическая категория, все же и в пределах двусторонних категорий, которыми оперирует любой язык, имеются единицы, семантически более открытые, и единицы, семантически менее открытые. В этом плане всем широко известно еще со школьных времен противопоставление слов самостоятельных и служебных. Они различаются по ряду признаков, в том числе и по признаку соотнесенности значения и знака. У слов самостоятельных (в школьной традиции «знаменательных») функция значения подчиняет себе функцию знаковости, у слов служебных, наоборот, функция знаковости как бы отодвигает на второй план функцию значения. В свое время один из известных психологов последовательно различал «язык-внушение» (le langage suggestion) и «язык-знак» (le langage signe) в зависимости от того, в какой сфере функционирует язык и насколько сознательно люди пользуются своим родным языком. У больших писателей язык обычно выступает как «язык-внушение», у просто говорящих – как «язык-знак». В свою очередь у французских романтиков первой половины прошлого столетия язык был ближе к идеалу «языка-внушения», чем у французских классиков XVII столетия, манера выражать мысли и чувства у которых «характеризовалась бесстрастностью». Градации проводятся и в пределах общелитературного языка: когда мы сообщаем о хорошей погоде, наш язык ближе к типу «языка-знака», когда же мы рассказываем о взволновавших нас событиях, наш язык вольно или невольно приближается к типу «языка-внушения»[102]. Таким образом, хотя все национальные языки оперируют и в лексике, и в грамматике двусторонними единицами, в самой этой двусторонности может выделяться либо категория значения, либо категория знаковости. Больше того. В процессе своего функционирования язык в целом в состоянии обращать на себя внимание (тогда он приближается к типу «языка-внушения») или не обращать на себя внимание (тогда он приближается к типу «языка-знака»). Нередко приходится слышать, что в эпоху научно-технической революции сам язык превращается в чисто техническое средство, в «язык-знак». Он только называет, только утверждает или отрицает, избегает всяких «сантиментов», стремится быть точным и лаконичным. «Язык-знак» вытесняет «язык-внушение». Таково, по мнению многих, «требование эпохи». При всей кажущейся неотразимости подобного заключения, оно по существу своему поверхностно, ошибочно. Само требование точности языка приводит к тому, что говорящие и пишущие люди невольно начинают обращать больше внимания на то, кáк они говорят и кáк они пишут, чем они это делали раньше, т.е. обращают внимание на сам язык. Все это вольно или невольно вовлекает язык в сферу «языка-внушения». Сталкиваются две противоположные тенденции: одна из них, упрощая язык, движет его по направлению «к языку-знаку», другая, – обращая внимание на способ выражения мыслей и чувств людей в современном обществе, тем самым влечет язык по направлению к «языку-внушению». К тому же резко увеличивается удельный вес научной терминологии в системе современных литературных языков. Термины же формируются сознательно. Столь же сознательно обычно осмысляется и внутренняя форма каждого термина. Из менее заметного средства общения язык сам по себе становится средством более заметным. Он требует к себе большего внимания, чем раньше, до эпохи научно-технической революции. К тому же и художественная литература с ее «языком-внушением» не только не сдает своих позиций в период НТР, но и расширяет их, если сама НТР совершается в социально-благоприятных для народа условиях. Это последнее обстоятельство важно во всех отношениях, в том числе и для судьбы национальных языков. Итак, если тенденция к стандартизации влечет язык к типу «языка-знака», то противоположная тенденция, обусловленная многообразием материальных и духовных потребностей людей нашего времени, обогащает национальные языки, делает более разнообразными их стилистические регистры и влечет языки к типу «языков-внушений». Лингвист не имеет права упускать из виду ни первую, ни вторую из этих тенденций. Когда в 1916 г. в «Курсе» Соссюра впервые так настойчиво подчеркивалась произвольность языкового знака, то многим казалось, что теперь наступила эпоха знакового истолкования языка. Если в русском языке дерево называется «деревом», а конь – «конем», то выбор того или иного названия в синхронной системе языка произволен, ничем не обусловлен. Создавалось впечатление, будто концепция знаковой природы языка сразу избавляет лингвистов от решения многих сложных проблем и дает возможность построить простую и однозначную систему знаковых отношений. Такое впечатление оказалось, однако, совершенно иллюзорным. Любопытно, что уже Ш. Балли, ученик Соссюра и один из двух издателей его «Курса», резко возражал против принципа произвольности (немотивированности) языкового знака. В своей остро теоретической книге Ш. Балли всячески стремился сузить сферу функционирования в языке произвольных знаков и всеми возможными способами расширить сферу функционирования знаков мотивированных, непроизвольных[103]. Балли рассуждал при этом так: с помощью языка люди выражают не только свои мысли, но и свои чувства. Вместе с ними люди обычно передают и свое отношение к обсуждаемым вопросам. Так возникает мотивировка слов, словосочетаний и целых предложений. Так формируются переносные значения, полисемия, полифункциональность грамматических категорий и т.д. Человек не остается в стороне от своего родного языка. Поэтому и языковые единицы (лексические, грамматические и, отчасти, фонологические), как и система языка в целом, не могут оставаться немотивированными для людей, для которых данный язык является родным. Но Балли лишь начал критиковать принцип произвольности языкового знака. Позднее эта критика была расширена и глубже обоснована. Не ставя перед собой задачи – дать историю критических суждений об этом принципе Соссюра – укажу лишь на некоторые моменты, существенные для интересующей меня темы. Языковой знак не может быть произволен уже потому, что, как мы знаем, языковой знак может существовать лишь в ряду «знак – значение – вещь (явление)». В этом ряду знак соотносится с внеязыковой действительностью. Каждый отдельный знак, будучи отдельным, вместе с тем контактирует с другими знаками в языке. А через посредство других знаков, каждый отдельный знак взаимодействует и с адресатом, к которому обращается говорящий или пишущий. Подобная троякая обусловленность языкового знака придает ему всестороннюю мотивированность. Тем самым принцип произвольности языкового знака, который поначалу представляется бесспорным, в действительности оказывается принципом иллюзорным. Мотивированность языкового знака отличает, в частности, все естественные (национальные) языки от всевозможных искусственных кодов, создаваемых для тех или иных чисто технических потребностей. В свое время Л.О. Резников убедительно показал, почему шахматы – это игра, а не семантическая система. Шахматы опираются на строго определенный синтаксис игры (правила игры), но подобный синтаксис не имеет семантической интерпретации, поэтому в ряду «знаки – значения – вещи (явления)» в шахматной игре нет ни второго, ни третьего из этих звеньев. Не имея же опоры во втором и третьем звеньях, шахматы оказываются игрой[104]. В отличие от шахмат языковые знаки оказываются такими знаками, которые в только что отмеченном ряду не могут существовать без второго и третьего звеньев самого этого ряда («значения – вещи»). Когда подобных звеньев по той или иной причине нет, то язык нам представляется необычным, некоммуникативным, даже ненормальным. Ощущение подобной ненормальности людьми, говорящими на данном языке, лишний раз подтверждает подлинное назначение любого национального языка. Разумеется, знаки знакам рознь. Специфику языковых знаков обычно сводят к специфике звуковой оболочки слова. Бесспорно, подобная специфика существенна, с ней необходимо считаться и ее необходимо изучать. Но, на мой взгляд, гораздо важнее другая, более общая, менее формальная специфика: постоянная отнесенность языковых знаков сквозь сферу их же значений в сферу предметов и явлений окружающего человека мира (в самом широком смысле этого последнего слова). Поэтому языковые знаки перестают быть знаками в собственном смысле. Природа языка сложнее и многоаспектное природы любой знаковой системы, даже самой сложной. Слушая музыку, мы не всегда соотносим ее с действительностью, не всегда ищем для нее опоры в действительности. А вот в живописи и скульптуре мы уже гораздо настойчивее ищем аналогий в действительности. Это, разумеется, не означает, что подобные аналогии должны быть прямыми, тем более – прямолинейными, но они обычно возникают и уже этим живопись отличается от музыки – мира более отвлеченных эмоций[105]. Что же касается языковых знаков, то их отнесенность к действительности (реальной или воображаемой) становится одним из важнейших свойств самих этих знаков, свойством, без которого они функционировать не могут, а следовательно, и существовать не могут. При всем значении чисто формальной специфики языковых знаков (их звуковой оболочки) еще существеннее их семантическая специфика, определяемая основными функциями любого естественного языка – быть средством общения людей в обществе и вместе с тем быть средством выражения их мыслей и чувств. И в этом плане язык оказывается «непосредственной действительностью мысли», о чем в другой связи неоднократно писали К. Маркс и Ф. Энгельс.4
Как я уже отмечал в первой главе, категория значения и в лексике, и в грамматике обычно рассматривалась как важнейшая лингвистическая категория в истории русского и советского языкознания. Достаточно вспомнить работы Буслаева, Потебни, Крушевского, Шахматова, Щербы, Виноградова, Пешковского, Винокура и других, чтобы убедиться в этом. В 1934 г. психолог Л.С. Выготский, в частности, писал:«Слово, лишенное значения, не есть слово. Оно есть звук пустой…»[106].Лишь у отдельных лингвистов, и прежде всего у Фортунатова и Бодуэна де Куртенэ, категории значения не уделялось должного внимания. К ним примыкали и некоторые философы 20-х годов, которым казалось, что категория значения оказывается за пределами языка и науки о языке[107]. Ситуация изменилась с начала 60-х годов. Под воздействием убеждения, что «язык – это прежде всего система знаков», отдельные советские лингвисты стали утверждать, что категория значения – это нелингвистическая категория. Больше того. Эти ученые стали писать о том, что категория значения мешает «чистоте лингвистического анализа».
«Если на некотором уровне анализа – читаем мы у одного из сторонников подобной концепции – определение элементов языка требует обращения к семантике, то отсюда следует (? – Р.Б.), что анализ не достиг необходимой полноты или он исчерпан в нужном направлении и дальнейшее описание элементов языка осуществляется уже на экстралингвистическом уровне»[108].И несколько дальше еще категоричнее:
«Значение – категория неязыковая по своей природе»[109].Автору нельзя отказать в последовательности: если язык – это прежде всего знаковая система, а знаки, как мы видели, сами по себе значений не имеют (знаки – односторонняя, а не двусторонняя категория), то естественно при таком понимании природы языка категория значения должна оказаться категорией экстралингвистической. Итак, существует прямая связь между признанием знаковой природы языка (подчеркиваю – самой природы языка) и изгнанием категории значения (во всех ее многообразных разновидностях) из языка и из науки о языке. Эту прямую связь устанавливают сами сторонники концепции знаковой природы языка. И все же подобная концепция в целом не характерна для советского языкознания, ее разделяют лишь отдельные исследователи. Иную судьбу категория значения, как лингвистическая категория, имела в американском языкознании. Один из ученых не так давно даже писал о «национальном отвращении к семантике» у американских лингвистов[110]. И хотя в последние годы американские ученые стали усиленно заниматься семантикой, однако это оказалась совсем другая семантика, предопределенная общими теоретическими взглядами самих этих ученых. Один из наиболее видных американских лингвистов первой половины нашего столетия Л. Блумфилд рассуждал при этом так: категория значения имеется во всех науках, поэтому ее нельзя считать специфически лингвистической категорией. Языковеды, которые занимаются категорией значения, тем самым исследуют нечто, для языка и науки о языке нехарактерное[111]. У большинства же советских ученых вопрос ставится совсем иначе: категория значения в лингвистике вовсе не повторяет и не дублирует категорию значения в других областях человеческого знания. Проблема заключается в том, чтобы выявить специфику этой лингвистической категории значения, без которой не может существовать ни один национальный язык и которая, следовательно, является важнейшим объектом изучения в самой науке о языке. В американской филологии нередко раздаются голоса, объявляющие категорию значения метафизической категорией. Поэтому «пусть философствуют европейские лингвисты», мы же будем заниматься лишь точной наукой, которая опирается на формы языка и ничего другого знать не хочет. Так можно резюмировать суждения той многочисленной группы американских ученых, которые объявляют категорию значения либо нелингвистической категорией, либо категорией, общей у лингвистики и у «всех других наук». Спору нет: категория значения действительно имеется везде или почти везде. Физику категория значения так же важна, как и категория причинности. Категорией значения оперирует геолог и искусствовед, историк и экономист. Тем существеннее установить специфику категории значения в каждой науке, тем более в такой, которая целиком опирается на коммуникацию, на способы выражения человеческих мыслей и чувств. Эти же последние процессы даже в абстракции невозможно отделить от категории значения во всех ее многообразных разновидностях. Ссылки на то, что категория значения имеется везде, поэтому ее будто бы следует исключить из лингвистики, не только бьют мимо цели, но лишний раз свидетельствуют об огромном удельном весе этой категории в любом национальном языке, а следовательно, и в науке о языке. Но что такое недифференцированное рассмотрение категории значения? Постараюсь пояснить это на примере работ Н. Хомского разного времени. В ранних публикациях Хомский утверждал, что семантика вообще не имеет никакого отношения к грамматике. Поставить вопрос, рассуждал он, «как построить грамматику, не обращаясь к значению?» – это все равно, что спросить, «как построить грамматику, не зная ничего о цвете волос говорящих?»[112]. В так называемом втором варианте своей теории Хомский уже включает семантику в грамматику, но при этом, однако, грамматическое значение понимается лишь как лексическая несвобода тех или иных грамматических построений. Так, например, если нельзя сказать «бесцветные зеленые идеи спят бешено», то это прежде всего потому, что идеи цвета не имеют и спать или бодрствовать они тоже не могут[113]. Грамматическое значение здесь отождествляется со значением лексическим и истолковывается как лексическая допустимость или недопустимость определенных грамматических построений. При такой постановке вопроса специфика грамматического значения в отличие от специфики лексического значения остается непонятой и нераскрытой. Возникает то самое недифференцированное рассмотрение категории значения, которое и дает возможность утверждать, будто бы эта категория в лингвистике ничем не отличается от аналогичной категории «во всех прочих науках». Между тем подобное заключение совершенно неверно[114]. Категории значения в лингвистике приходится одинаково плохо и тогда, когда ее прямо отрицают, и тогда, когда не хотят или не умеют обнаружить ее специфику («зеленые идеи спят бешено» обычно действительно оказываются невозможным предложением с позиции «всех наук», если речь идет о нормальных людях). Но в чем же общая специфика лингвистического значения, независимо от того, идет ли речь о лексическом или о грамматическом значении? Как было подчеркнуто в начале этой главы, подобная специфика обнаруживается прежде всего в том, что категория значения в языке оказывается в ряду «знак – значение – вещь (явление)», причем первый элемент этого ряда (знак) имеет звуковое или письменное выражение. Это последнее условие отличает языковой знак от других возможных знаков так же, как отличает и языковое значение от возможных значений в других науках. Отождествление знака и значения приводит к безмерному обеднению языка и науки о национальных языках человечества. Разумеется, стремление доказать, что словá – это только знаки, не всегда равносильно агностицизму. Об этом уже писали сами сторонники подобного отождествления[115]. Проблема сложнее. Но одно бесспорно: только концепция «знаки – значения – вещи (явления)» в состоянии раскрыть, как я стремился показать, специфику языкового знака в отличие от других знаков, с которыми имеют дело или могут иметь дело разные области знания. Нередко, выхватывая слова из широкого контекста, сторонники знаковой концепции языка приводят следующие слова К. Маркса:
«Название какой-либо вещи не имеет ничего общего с ее природой»[116].Но К. Маркс этим отнюдь не хотел сказать, что названия вообще произвольны. Речь шла лишь о том, что в синхронной системе языка связи между названием предмета и его природой сложны и опосредованы. Подобные связи обычно неясны говорящим. Но сам К. Маркс в различных своих исследованиях прекрасно показал, как, например, денежные названия могли возникать из названий товаров. К тому же язык всегда рассматривался К. Марксом как практическое, действительное сознание[117]. Поэтому, хотя название вещи и природа вещи – это, разумеется, разные категории, материалисты всегда считали,что существует проблема исторического происхождения названий в любом языке, в любой группе родственных языков в первую очередь. Автор настоящих строк понимает, насколько сложна проблема знаков в разных науках, и прежде всего – в философии. Как уже отмечалось, этой проблемой интересовались уже в древности, в частности – в индийской и арабской философии и поэтике[118]. Позднее, в истории новой философии наметились два основных течения. В одном из них сама проблема знаков рассматривалась как важнейшая философская проблема. Так было у Д. Локка и у Г. Лейбница, у их последователей. В другом направлении отношение к знакам сложилось совсем иное. В. Гумбольдт иронически оценивал проблему знаков, а Гегелю она казалась «пустой забавой в осмыслении процесса познания»[119]. Таким образом, даже независимо от того, как понимались знаки в процессе познания (а они истолковывались весьма различно), само их признание или непризнание (вплоть до высмеивания) уже свидетельствует о том, что проблема знаков оказалась сложной не только в лингвистике, но прежде всего в философии, в теории познания. Как видим, сложность проблемы заключается в том, что материалист Локк признавал роль знаков в процессе познания, тогда как идеалист Гегель подобную роль решительно отрицал. Следовательно, в философии, как позднее и в лингвистике, вопрос сводится не столько к признанию или непризнанию роли знаков в познании, сколько к характеру интерпретации самих знаков в материалистическом или идеалистическом планах. Это последнее положение представляется мне весьма важным. Когда В.И. Ленин, конспектируя книгу Фейербаха о философии Лейбница, выписывает из этой книги следующее положение о сущности названия
(«Чувственное восприятие дает предмет, разум – название для него… Что же такое название? Отличительный знак, какой-нибудь бросающийся в глаза признак, который я делаю представителем предмета, характеризующим предмет, чтобы представить его себе в его тотальности»)и сопровождает эту цитату замечанием «хорошо сказано», то в подобном кратком комментарии нельзя не обнаружить стремления В.И. Ленина дать материалистическое истолкование теории знака[120]. Речь идет, следовательно, не столько о признании или непризнании роли знака в познании, сколько, подчеркну это еще раз, о материалистическом или идеалистическом осмыслении подобной роли. Сказанное имеет прямое отношение и к лингвистике: устанавливается возможность двух противоположных истолкований ряда «знак – значение – вещь (явление)» в науке о языке. Подобный ряд может соотноситься с окружающей людей действительностью (в тенденции материалистическая концепция) или не соотноситься, рассматриваться только в пределах знаков, без учета и даже при отрицании познавательной функции языка, языка как непосредственной реальности мысли (в тенденции идеалистическая концепция).
5
К сожалению, многие лингвисты (в том числе и некоторые советские ученые) не учитывают, что сближение искусственных кодов и национальных языков, которое стало проводиться за последние 20 лет, по существу своему неправомерно. Любой код – это закрытая и ограниченная система, а живой язык – это открытая и подвижная система с огромными внутренними возможностями. В коде все обусловлено заранее, в языке все устанавливается в процессе его же функционирования. Французский лингвист Ж. Мунен безусловно прав, подчеркивая невозможность и недопустимость подобного сближения и отождествления. Уродуются и искажаются национальные языки в процессе такого отождествления[121]. Он же резко и совершенно справедливо ставит вопрос о непреодолимой теоретической пропасти («un fossé théorique infranchissable»), которая отделяет материалистическую лингвистику от формалистической науки, опирающейся лишь на внешние показатели знака[122]. Между тем советские филологи имеют возможность и в этом вопросе опереться на прекрасные отечественные традиции. Против попыток представить словá национального языка лишь как условные знаки, не находящиеся в ряду «знаки – значения – вещи (явления)», всегда выступали видные наши филологи. Уже в 1901 г. Д.Н. Овсянико-Куликовский в статье «О значении научного языкознания для психологии мысли», приводя ироническое изречение Мефистофеля из «Фауста» Гете («Где отсутствуют понятия, там на помощь всегда подвертываются слова»), справедливо подчеркивал, что слова любого национального языка – это вовсе не пустышки, приходящие на помощь людям, не умеющим выражать свои мысли и чувства или вовсе лишенным подлинных мыслей и подлинных чувств. Функция слов национальных языков – функция совсем иная, гораздо более ответственная. Она тесно связана с самим процессом познания[123]. Аналогичный тезис защищали у нас Крушевский и Потебня, Шахматов и Виноградов, Жирмунский и Винокур и многие другие филологи. Как мы видим, истолкование значения слова находится в самой непосредственной связи с истолкованием взаимодействия между знаком, значением и вещью (явлением). И здесь могут быть выделены две противоположные концепции, между которыми располагаются всевозможные «промежуточные» доктрины. Согласно одной из них, категория значения (во всех ее разновидностях) – это центральная лингвистическая категория, согласно другой, противоположной, категория значения – это нелингвистическая или экстралингвистическая категория. В этом втором случае язык оказывается в стороне от процесса познания, а тезис о глубоком взаимодействии языка и мышления лишается всякого смысла. Язык предстает как элементарная знаковая система. Разумеется, проблема разграничения лингвистического и нелингвистического значений сама по себе сложна и ее нельзя упрощать. В свое время Фреге предложил различать значение (лингвистическая категория) и смысл (логическая категория, известная в практической жизни)[124]. Позднее об этом же писал Выготский, а уже в наше время – итальянский филолог Мауро[125]. Иногда разграничение значения и смысла проводится под другим углом зрения: первый термин толкуется в лингвистическом плане, второй – в плане контекстной семантики (значение, бытующее лишь в определенном словесном окружении). Не решая здесь вопроса о степени удачности подобного терминологического разграничения (в целом оно представляется справедливым), несомненным остается одно: категория значения в языке и в науке о языке имеет свои особенности и вместе с тем эта же категория так или иначе соприкасается, взаимодействует с категорией смысла в нашей практической жизни. Вот почему, например, при определении любого слова в «Толковом словаре» совершенно необходимо считаться с реальными представлениями о семантике этого же слова в данную эпоху. В последние годы было предложено и иное разграничение: значения и имманентного значения[126]. В сфере филологии (прежде всего в художественном произведении, в его стиле) сторонники подобной дифференциации видят лишь имманентное значение, за пределами филологии – значение без всякого ограничительного эпитета. При таком истолковании, однако, остается открытым вопрос о взаимодействии имманентного значения с объективным значением, и весь, уже хорошо знакомый нам ряд «знак – значение – вещь (явление)» как бы повисает в воздухе: можно ли говорить о незамкнутости имманентного значения? Или имманентное значение существует само по себе и никакого отношения к другим видам значений и к объективной действительности не имеет? Как только что отмечалось, для категории лингвистического значения одинаково опасны обе крайности: и объявление значения нелингвистической категорией и утверждение, что в языке «всё значение». Как это и ни странно с первого взгляда, тезис «в языке – все значение» оказывается для категории значения таким же смертельным, как и простое изгнание значения за пределы языка и науки о языке. Итак, лингвистическая категория значения, сохраняя свою специфику, взаимодействует и не может не взаимодействовать с другими видами и типами значений, которые встречаются в разнообразных областях человеческого знания и в практической жизни людей. При этом – и это очень существенно – чем более отвлеченным и общим является понятие, тем большее значение приобретает для его передачи чувственная форма слова. Отсюда сознательное отношение людей не только к терминологии отдельных наук, но и к словам более широкого бытования, имеющих, однако, отвлеченные значения. Покажу на одном примере, какие этапы может пройти слово в поисках подобной чувственной мотивировки, даже независимо от воли людей. Мне уже пришлось писать об этом в другой связи[127]. Сейчас я попытаюсь обратить внимание на другой аспект процесса. В латинском и романских языках широко известен такой семантический переход: существительное testa ʽглиняный горшокʼ получило в поздней латыни значение головы, тогда как латинское классическое caput ʽголоваʼ почти не сохранилось в этом значении в романских языках, где большинство наименований головы восходит к testa. Весьма чувственное представление о глиняном горшке оказалось в основе этимологии многих романских наименований головы (франц, tête, исп. testa, ит. testa и др.). Не так давно Гиро предложил такую очередность переходов (см. сл. стр.)[128].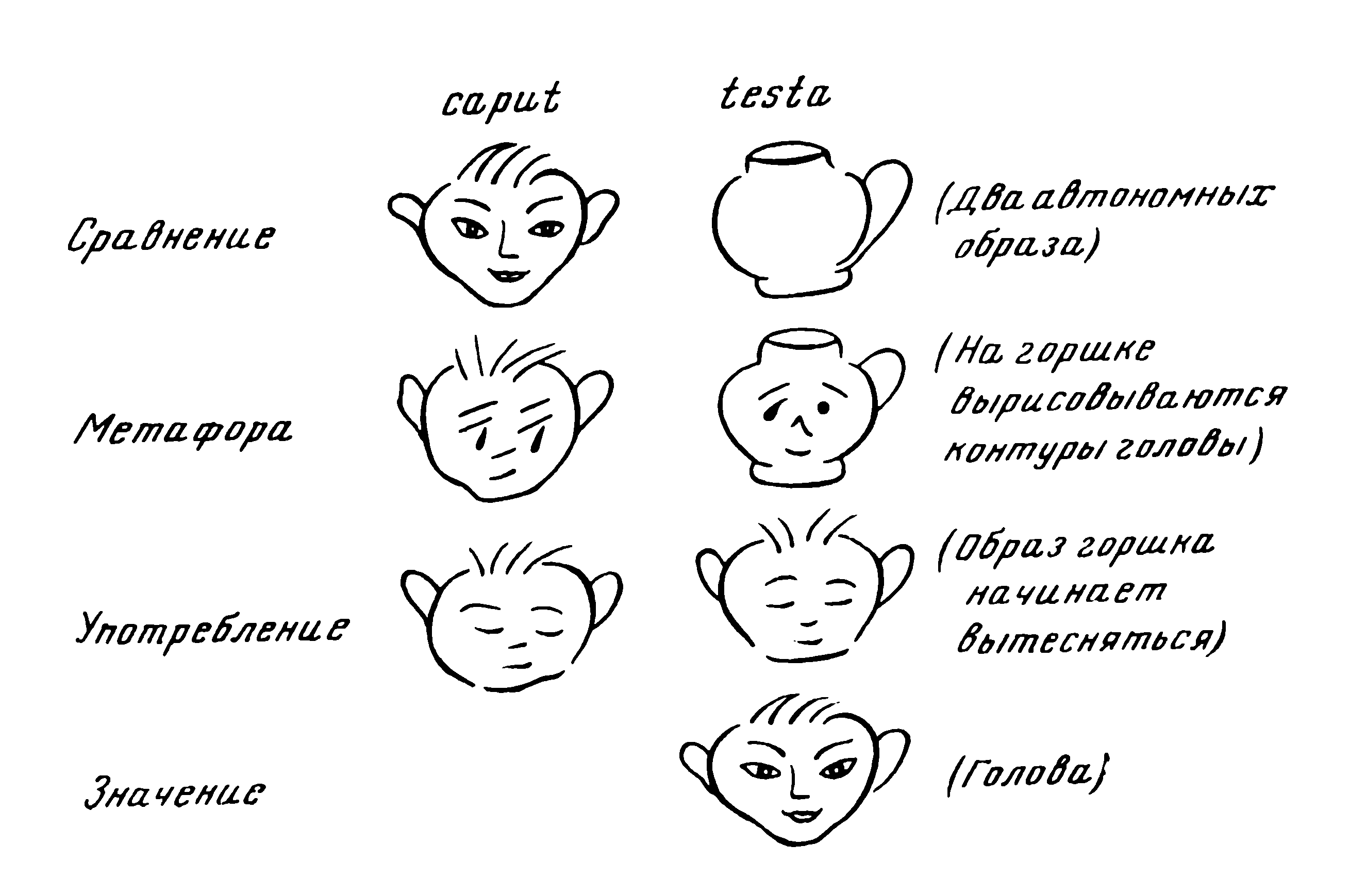 Как видим, метафора объясняет отнюдь не все, а является лишь звеном в семантической цепи соотношений caput > testa. Первоначально возникало сопоставление двух предметов и слов, их обозначающих. Говорящие долго осознавали различие между caput и testa. В одной из латинских глосс так прямо и объяснялось, что testa: caput vel vas fictile «это голова или глиняный горшок». Testa и сопоставлялось с головой и противопоставлялось ей одновременно (первый этап). Затем метафора сближает понятия, а с понятиями и слова (второй этап). После этого в отдельных контекстах testa начинает именовать голову (третий этап). Наконец, уже независимо от отдельных контекстов testa – это голова вообще (четвертый этап)[129].
Проблема, однако, не исчерпывается этими материалами и соображениями. Старинные значения testa ʽгоршокʼ до сих пор живут во многих романских диалектах, в частности, в Италии, в неаполитанском диалекте, где testa ʽваза для цветовʼ. В романских языках и диалектах находят свое отражение и caput, и testa. В румынском и каталанском cap ʽголоваʼ. В испанском и португальском cabo весьма полисемантично, но включает также значение глава, начальник. Понятие голова здесь передается не только с помощью testa, но и с помощью образований, производных от caput (порт. cabeça ʽголоваʼ). Во французском tête ʽголоваʼ, но chef (от caput) ʽглаваʼ, ʽначальникʼ (ср. в аналогичном осмыслении шеф в русском языке). Если посмотреть на карту распространения caput и testa в современных итальянских диалектах, то можно обнаружить своеобразную чересполосицу: зоны одного слова чередуются с зонами другого слова[130].
Существительные caput и testa и разделяют романские языки, и сближают их одновременно. Если не считаться с диалектами, которые часто сохраняют архаичную лексику, то в литературных романских языках нередко сосуществуют оба эти слова. В этих случаях возникает дифференциация между ними. Процесс растянулся на многие столетия. Во французском языке, в частности, где tête ʽголоваʼ стало основным наименованием этой части человеческого тела, еще у Ронсара и Рабле в XVI столетии в аналогичной функции выступало и chef (лат. caput). Чувственный образ способствовал семантическому переходу от глиняного горшка к голове. Вместе с тем процесс подобного перехода оказался достаточно сложным: он прошел ряд этапов и в некотором отношении еще не завершился и в наше время, в особенности в тех языках, где бытуют оба слова, семантически или стилистически дифференцированные.
Такими материалами (их легко увеличить) может быть подкреплено ранее выдвинутое теоретическое положение: чем более отвлеченным является понятие, требующее наименования, тем большее значение для него приобретает чувственная оболочка слова. Говорящие и пишущие люди обычно не замечают подобных процессов, но исторически аналогичные процессы широко пронизывают лексику самых разнообразных языков.
Все эти важнейшие диахронные закономерности в лексике остаются в стороне при подходе к языку лишь как к знаковой системе. В этом плане ограниченность знакового понимания природы языка не может не бросаться в глаза. Разумеется, в ходе изучения материала ученый может для тех или иных целей отвлекать знак от его значения. Но, как справедливо заметил один из исследователей этого вопроса, необходимо строго различать две, совершенно несходные операции: знаки, временно рассматриваемые в отвлечении от их значений, и знаки, рассматриваемые как вовсе не имеющие никаких значений[131]. Эти концепции действительно оказываются несовместимыми, теоретически противоположными.
Если устранить всевозможные «промежуточные доктрины», как правило эклектические, то в лингвистике нашей эпохи бытуют и борются друг с другом две основные концепции: для одной из них язык – это только система обозначений, для другой, язык выступает не только в этой своей функции, но и в функции отражения действительности, в функции, тесно связанной с общим историческим процессом познания. Вторая концепция не просто дополняет первую, а принципиально иначе истолковывает функции языка, принципиально иначе понимает знаки в их взаимодействии со значениями и вещами (явлениями). Язык – это не только формальная система обозначений, но прежде всего – культурное завоевание и достояние каждого народа, располагающего своей национальной историей. Возможности национальных языков – это возможности принципиально иных масштабов сравнительно с возможностями кодов, создаваемых для тех или иных, чисто технических целей.
Как видим, метафора объясняет отнюдь не все, а является лишь звеном в семантической цепи соотношений caput > testa. Первоначально возникало сопоставление двух предметов и слов, их обозначающих. Говорящие долго осознавали различие между caput и testa. В одной из латинских глосс так прямо и объяснялось, что testa: caput vel vas fictile «это голова или глиняный горшок». Testa и сопоставлялось с головой и противопоставлялось ей одновременно (первый этап). Затем метафора сближает понятия, а с понятиями и слова (второй этап). После этого в отдельных контекстах testa начинает именовать голову (третий этап). Наконец, уже независимо от отдельных контекстов testa – это голова вообще (четвертый этап)[129].
Проблема, однако, не исчерпывается этими материалами и соображениями. Старинные значения testa ʽгоршокʼ до сих пор живут во многих романских диалектах, в частности, в Италии, в неаполитанском диалекте, где testa ʽваза для цветовʼ. В романских языках и диалектах находят свое отражение и caput, и testa. В румынском и каталанском cap ʽголоваʼ. В испанском и португальском cabo весьма полисемантично, но включает также значение глава, начальник. Понятие голова здесь передается не только с помощью testa, но и с помощью образований, производных от caput (порт. cabeça ʽголоваʼ). Во французском tête ʽголоваʼ, но chef (от caput) ʽглаваʼ, ʽначальникʼ (ср. в аналогичном осмыслении шеф в русском языке). Если посмотреть на карту распространения caput и testa в современных итальянских диалектах, то можно обнаружить своеобразную чересполосицу: зоны одного слова чередуются с зонами другого слова[130].
Существительные caput и testa и разделяют романские языки, и сближают их одновременно. Если не считаться с диалектами, которые часто сохраняют архаичную лексику, то в литературных романских языках нередко сосуществуют оба эти слова. В этих случаях возникает дифференциация между ними. Процесс растянулся на многие столетия. Во французском языке, в частности, где tête ʽголоваʼ стало основным наименованием этой части человеческого тела, еще у Ронсара и Рабле в XVI столетии в аналогичной функции выступало и chef (лат. caput). Чувственный образ способствовал семантическому переходу от глиняного горшка к голове. Вместе с тем процесс подобного перехода оказался достаточно сложным: он прошел ряд этапов и в некотором отношении еще не завершился и в наше время, в особенности в тех языках, где бытуют оба слова, семантически или стилистически дифференцированные.
Такими материалами (их легко увеличить) может быть подкреплено ранее выдвинутое теоретическое положение: чем более отвлеченным является понятие, требующее наименования, тем большее значение для него приобретает чувственная оболочка слова. Говорящие и пишущие люди обычно не замечают подобных процессов, но исторически аналогичные процессы широко пронизывают лексику самых разнообразных языков.
Все эти важнейшие диахронные закономерности в лексике остаются в стороне при подходе к языку лишь как к знаковой системе. В этом плане ограниченность знакового понимания природы языка не может не бросаться в глаза. Разумеется, в ходе изучения материала ученый может для тех или иных целей отвлекать знак от его значения. Но, как справедливо заметил один из исследователей этого вопроса, необходимо строго различать две, совершенно несходные операции: знаки, временно рассматриваемые в отвлечении от их значений, и знаки, рассматриваемые как вовсе не имеющие никаких значений[131]. Эти концепции действительно оказываются несовместимыми, теоретически противоположными.
Если устранить всевозможные «промежуточные доктрины», как правило эклектические, то в лингвистике нашей эпохи бытуют и борются друг с другом две основные концепции: для одной из них язык – это только система обозначений, для другой, язык выступает не только в этой своей функции, но и в функции отражения действительности, в функции, тесно связанной с общим историческим процессом познания. Вторая концепция не просто дополняет первую, а принципиально иначе истолковывает функции языка, принципиально иначе понимает знаки в их взаимодействии со значениями и вещами (явлениями). Язык – это не только формальная система обозначений, но прежде всего – культурное завоевание и достояние каждого народа, располагающего своей национальной историей. Возможности национальных языков – это возможности принципиально иных масштабов сравнительно с возможностями кодов, создаваемых для тех или иных, чисто технических целей.
Глава третья. Теория относительности и материал национальных языков
1
Известно, что в XX в. получила развитие теория относительности и было, в частности, открыто свойство многих вещей менять свою природу под воздействием других вещей, под воздействием окружения, в котором обычно находятся вещи. И сразу же возник острый теоретический вопрос о том, является ли подобная относительность самих вещей частичной или она приобретает свойства относительности абсолютной, и тогда нельзя говорить о каких-то объективных свойствах вещей, а следует видеть в самих вещах лишь их относительные, всегда преходящие особенности. Разумеется, теория относительности оказалась гораздо шире, она не сводилась к решению только этого вопроса (ее специальные проблемы касались прежде всего физики), но и этот вопрос предстал во всей своей значительности и теоретической остроте. Сразу же оформились две противоположные концепции истолкования понятия об относительности, во многих планах ставшие непримиримыми. В последующих строках я попытаюсь показать, как борьба этих противоположных доктрин отразилась в науке о языке и какие выводы для теории и практики изучения самих языков были сделаны различными учеными. Известно, что теория относительности в первом варианте была сформулирована А. Эйнштейном в 1905 г., а в 1955 г., когда ее создатель умер, ученый мир отмечал 50-летие этой теории[132]. Теория относительности сразу же получила самые различные истолкования в различных научных и философских школах. По словам одного из крупнейших физиков-теоретиков, А. Эйнштейн неоднократно подчеркивал:«С тех пор, как за теорию относительности принялись математики, я ее уже сам больше не понимаю»[133].Этими словами А. Эйнштейн хотел показать органическую связь, существующую между предметами и их отношениями: математика могут не интересовать предметы, он направляет свое внимание прежде всего на отношения между предметами, тогда как физику не безразличны сами предметы. Именно эту мысль развивает сподвижник Эйнштейна физик А. Зоммерфельд:
«Не относительность понятий длины и длительности является для Эйнштейна главным, а независимость законов природы… от точки зрения наблюдателя»[134].Об этом же сообщает и французский ученый П. Кудерк в своей книге о теории относительности:
«Эта теория изгнала из науки фальшивые абсолюты, но она же открыла и другие, более достоверные истины»[135].Глубокое истолкование философского значения теории относительности дал еще в начале нашего столетия В.И. Ленин, прежде всего в книге «Материализм и эмпириокритицизм» (1909 г.). Однако с самого начала теория относительности расценивалась и с совершенно других теоретических позиций, представители которых утверждали, что будто бы новая теория доказала полную и абсолютную относительность всех вещей и всех понятий. А это уже означало, что ни о каких объективных свойствах вещей теперь будто бы не может быть и речи. Философскую несостоятельность этой последней концепции точно и убедительно показал в только что упомянутой книге В.И. Ленин. Позднее об этом писали многие советские философы. Я же попытаюсь продемонстрировать лингвистический аспект борьбы разных осмыслений самих понятий об отношении и об относительности.
2
Известная парадоксальность теории относительности заключается в том, что, как подчеркивают материалисты, это «величайшее открытие XX в.» показало не относительность «всего сущего», а объективность «всего сущего», необходимость его изучения во всех связях и взаимодействиях[136]. Но это стало очевидно с материалистической точки зрения. Ее же противники утверждали и утверждают противоположное.«Если логика, – заявляет один из подобных противников, – хочет быть независимой от эмпирического знания, она не должна соглашаться ни на какие допущения относительно существования тех или иных объектов»[137].Вещи – это лишь «точки пересечения отношений», поэтому рассматривать мир как «совокупность вещей», значит оставаться на уровне «примитивно-реалистического взгляда» – утверждают другие противники объективности вещей[138]. Как видим, наличие двух диаметрально противоположных истолкований принципа относительности не подлежит никакому сомнению. Всё это имеет не только большое общефилософское значение, но и значение, непосредственно связанное с отдельными науками, также имеющими дело и с вещами (в широком смысле), и с отношениями между ними. В 1957 г. один из советских лингвистов, желая подчеркнуть всю важность изучения отношений в такой области языкознания, как грамматика, спрашивал: «Следует ли бояться отношений в грамматике?» Ответ следовал незамедлительно: разумеется, не следует[139]. Подобная постановка вопроса представляется странной. Нет никакого сомнения, что грамматика любого естественного языка не может существовать без внутренних отношений, связующих ее категории в единое, хотя и сложное, и нередко противоречивое целое. Теория грамматики и теория грамматических отношений – понятия, немыслимые друг без друга. Вопрос, следовательно, не сводится к тому, надо или не надо изучать отношения, бытующие в грамматике (здесь среди специалистов двух мнений быть не может). Вопрос возникает совсем по другому поводу: кáк следует изучать отношения в грамматике (и в языке в целом), кáк понимать подобные отношения, в какúх связях и контактах находятся отношения и отдельные единицы языка (в грамматике – прежде всего грамматические категории), кáк вещи (в специфически лингвистическом их преломлении) взаимодействуют с отношениями и кáк в результате подобного взаимодействия формируется и функционирует любой национальный язык. В лингвистике нашей эпохи вопрос, следовательно, сводится не к тому, надо или не надо изучать отношения в любой области языка и в языке в целом (здесь двух мнений быть не может), а как осмыслять подобные отношения и их функции, организующие разнообразный материал конкретного языка. Справка из истории вопроса здесь оказывается необходимой. Еще до возникновения логики отношений, в 60-х годах минувшего столетия, представители психологического направления в языкознании стали подвергать сомнению самостоятельность отдельных слов и отдельных грамматических категорий. Виднейший из этих представителей Г. Штейнталь рассуждал при этом так: слово – это психический акт, и человек, произнося слова, вкладывает в их значения свои переживания. Эти переживания различны, поэтому одни и те же слова всякий раз выступают в ином облике, в ином значении. То же происходит и с грамматическими категориями. Множественное число может употребляться «вместо» единственного числа, а единственное – «вместо» множественного, если конкретная ситуация общения этого требует[140]. И все это писалось задолго до возникновения логики отношений[141]. Но вот XX в. создает логику отношений. Известно, что классическая формула суждения гласит:
S есть Р.
Это означает, что познающая мысль человека направлена прежде всего на предмет, который выражен термином S (субъект суждения). Предикат же суждения (Р) передает определенные свойства предмета. В основе этой формулы оказывается материалистическое убеждение, согласно которому наше познание имеет предметный (в широком смысле) характер. Логика отношений стремится противопоставить этому положению другой принцип и формулирует его так:aRb,
где а и b являются предметами, a R – отношения между ними. В этом случае познающая мысль человека направляется не столько на изучение свойств самих предметов (а, b), сколько, прежде всего, на связи и отношения, существующие между предметами (R). С первого взгляда создается впечатление, будто бы вторая концепция так же верна, как и первая. Отношения между предметами нуждаются в таком же тщательном изучении, как и сами предметы. При более пристальном анализе, однако, выясняется, что формула логики отношений может таить в себе известные методологические опасности. Всячески подчеркивая и выдвигая на первый план фактор отношения, сторонники этой формулы часто отодвигают на задний план, а нередко и вовсе забывают о предметах, отношения между которыми подлежат исследованию. Они призывают изучать не отношения между предметами (что совершенно необходимо), а отношения как бы сами по себе, независимо от предметов. Возникает реальная опасность абсолютизации категории отношения. Понятие отношения поглощает понятие предметности. Эта концепция находит свое прямое выражение в некоторых направлениях лингвистики нашей эпохи. Ссылаясь на логику Карнапа, датский лингвист Луи Ельмслев еще в начале 50-х годов подчеркивал:«По мнению Карнапа, каждое научное утверждение должно быть утверждением о соотношениях, не предполагающих знания или описания самих элементов, входящих в эти соотношения»[142].Здесь соотношения прямо противопоставляются элементам, образующим подобные соотношения. При этом противопоставляются так, что от самих элементов ничего собственно не остается.
«Лингвистика описывает схему языковых отношений, не обращая никакого внимания на то, чем являются элементы, входящие в эти отношения»[143].Немного позднее тот же Ельмслев утверждал:
«…не субстанция, а только ее внутренние и внешние отношения имеют научное существование…»[144]Аналогичные признания можно легко обнаружить не только у Ельмслева, но и у многих других представителей тех направлений в лингвистике, которые целиком исключают и выключают субстанцию (материю) конкретных языков из поля зрения ученых. Такого рода признания («не обращать никакого внимания на элементы, образующие данные отношения!») свидетельствуют о том, что центральная формула логики отношений (aRb) получила разное истолкование в разных направлениях лингвистики второй половины нашего столетия. Разумеется, «вина» здесь падает не на логику отношений (важное открытие науки XX в.!), а на различные, порой диаметрально противоположные, способы ее истолкования. Сама же логика отношений, подчеркивая важность R в формуле aRb, вовсе не отрицает значения а, b, т.е. элементов (субстанций), входящих в те или иные взаимоотношения. Возникли и другие осложнения. Отрицая субстанцию (материю в широком смысле), некоторые интерпретаторы логики отношений ставили вопрос так, будто бы подобное отрицание – признак самой высокой науки, которая преодолевает эмпиризм старого знания и создает совсем другую науку, интересующуюся лишь абстрактными отношениями, освобожденными от «бремени» презренной субстанции. О таких многочисленных комментаторах логики отношений можно сказать словами Гегеля, что они защищают не роль абстракции в науке (эта роль действительно велика!), а роль дурных абстракций, мешающих видеть подлинные отношения, бытующие в каждой конкретной науке[145].
3
Обратимся теперь к тому, как только что изложенное истолкование логики отношений преломилось в практике филологии – в языкознании и, отчасти, в литературоведении. В этом плане весьма интересно, что некоторые зарубежные и отечественные теоретики нашего времени стали повторять положения, сформулированные в русской научной школе «Общества по изучению поэтического языка» еще в 20-е годы[146].«Литературное произведение, – писал, например, в 1921 г. В.Б. Шкловский, – есть чистая форма: оно не есть вещь, не есть материал, а отношения материалов. Безразличен масштаб произведения… Шутливые, трагические, мировые, комнатные произведения, противопоставления мира миру или кошки камню – равны между собой»[147].Даже если учесть стремление молодого тогда исследователя огорошить своих читателей («отсюда» кошка и камень) с помощью невероятного парадокса (этой страшной болезнью парадокса теперь страдают и некоторые более зрелые авторы), все же мысль книги ясна: изучаться должны только отношения, ради самих этих отношений. Как мы только что видели, аналогичный тезис через 30 лет стали защищать Л. Ельмслев и его последователи применительно уже к языковому материалу (не элементы языка, а лишь – только, исключительно – отношения между ними). Проходит 10 – 15 лет и в нашем отечественном издании 1962 г. в тезисах одного из докладов читаем:
«Мысль о литературном произведении, как не материале, а отношении материалов… соответствует общепринятым в лингвистике со времен Соссюра представлениям о системе»[148].Здесь вопрос ставится еще более категорически. Авторы этого тезиса стремятся создать впечатление, что «со времен Соссюра» вопрос о системе, которой будто бы совершенно безразличны элементы, ее образующими (материя языка), давно решен, причем решен однозначно. Авторы приведенного утверждения хотят лишь распространить этот, с их точки зрения бесспорный, тезис и на науку о литературе. Между тем в действительности все обстоит совсем иначе. И вокруг истолкования лингвистикой системы, будто бы лишенной всякого материального содержания, со времен Соссюра идет такая же острая теоретическая борьба, как и вокруг истолкования системы литературного произведения. Еще до рождения теории относительности А. Эйнштейна (1905 г.) философское обоснование идеи относительности на рубеже нашего века стремился дать немецкий математик и философ, один из создателей феноменологии Э. Гуссерль (1859 – 1938). Он много сделал для построения науки о самой науке, для так называемого наукоученья. Уже в своих «Логических исследованиях» Гуссерль строго противопоставил естественнонаучное знание, как знание низшего уровня, и знание истинное (философское), как знание высшего уровня. В сфере этого высшего знания категория отношения выступает у Гуссерля как категория главная, центральная, определяющая построение самого подобного знания[149]. Хотя разработка теории абстрактного знания в начале нашего века имела большое теоретическое значение, но уже тогда возникала опасность одностороннего противопоставления «науки вообще» и материала каждой конкретной науки. В дальнейшем эта опасность стала еще более реальной у многочисленных последователей Гуссерля в разных странах. И здесь стали оформляться две методологически противоположные теории – теория частичной релятивности (при понимании объективности существования материи каждой науки) и теория абсолютной релятивности (при отрицании объективных свойств самой материи). Разумеется, обе эти теории не всегда находились под непосредственным воздействием гуссерлианства, но настойчиво они стали пробивать себе дорогу с начала нашего столетия (в зародыше их можно обнаружить и раньше). В 1907 г., рецензируя книгу В. Чернышева («Законы и правила русского произношения»), И.А. Бодуэн де Куртенэ писал:
«Нельзя говорить, что известная форма данного слова служит первоисточником для всех остальных и в них переходит. Разные формы известного слова не образуются вовсе одна от другой, а просто сосуществуют. Конечно, между ними устанавливается взаимная психическая связь и они друг друга обусловливают… Но с одинаковым правом мы можем говорить, что форма вода „переходит“ в форму воду, как и, наоборот, форма воду – в форму вода»[150].При всей своей внешней убедительности, это заключение и теоретически, и практически безусловно ошибочно. Разумеется, перечисленные формы, как и им подобные, никуда не «переходят» в школьном смысле этого слова. Они действительно сосуществуют в языке и взаимодействуют друг с другом. Но всякий человек, для которого русский язык является родным, всегда скажет (и это очень легко проверить экспериментально), что форма вода является основной, как бы исходной, номинативной, определяющей, а форма воду – формой зависимой, производной, несвободной, семантически и грамматически связанной. Увидев, например, воду в чашке, мы можем воскликнуть вода, но в этой же ситуации нельзя сказать воду, чтобы затем не последовало: «что воду?», «что вы хотите сказать?» и т.д. Будучи представителем формально-психологического направления в русском языкознании, Бодуэн де Куртенэ подчеркивал лишь общую связь грамматических форм, но он проходил мимо другой важнейшей грамматической проблемы – проблемы грамматического значения. В свете этой последней вода в современном русском языке выступает в иной функции, чем воду. Теория абсолютной относительности выравнивает языковые формы, семантически и функционально совсем неравные. Любопытно, что подобные утверждения были бы невозможны у тех лингвистов, которые умеют видеть в грамматике не только ее формы (это само по себе совершенно необходимо), но и ее грамматические значения (что само по себе тоже совершенно необходимо)[151]. Во всех индоевропейских языках противопоставление единственного и множественного чисел действительно обусловлено самой необходимостью передавать с помощью грамматики представление об одном предмете (явлении, понятии) и представление о многих предметах (явлениях, понятиях). Противопоставляя стол и столы, животное и животные, наука и науки, говорящие на русском языке люди действительно передают грамматическими средствами представление об единственном и множественном числах. Но вот сторонники абсолютной относительности возражают: они подчеркивают, что словосочетания типа пара саней, много колье, обилие крови оказываются как бы вне категории числа. Следует вывод: в грамматике все относительно и ни о каком общем значении категории числа говорить будто бы вовсе нельзя. Так возникла широко распространенная и в советском, и в зарубежном языкознании критика общих значений в грамматике[152]. Как мне представляется, отрицание общих (или основных) значений в грамматике ошибочно и теоретически, и практически. Никто не будет спорить с тем, что в приведенных сочетаниях типа обилие крови или много колье категория числа не выражена так отчетливо, как в сочетаниях типа стол – столы или животное – животные. Но сила грамматических обобщений как раз и заключается в том, что она дает возможность грамматике выделять типичное и характерное от менее типичного и менее характерного. В русском языке, несмотря на наличие сочетаний образца обилие крови, где противопоставление единичности – множественности отступает на задний план, все же именно это противопоставление внутри грамматической категории числа остается типичным и характерным не только для русского, но и для многих других языков нашей эпохи. Что касается всевозможных и нередко многочисленных исключений и осложнений, то они должны тщательно изучаться в грамматике, но они не могут опровергнуть или взять под сомнение наличие общих (основных) значений, без которых существование самой грамматики было бы невозможно. Сочетания типа обилие крови или пара саней показывают, что грамматика, будучи самостоятельной системой языка, вместе с тем обязана считаться с лексикой, с семантикой тех или иных слов, которые она же организует в своей системе. Существительные типа обилие по своей семантике как бы не нуждаются в противопоставлении чисел, а существительные типа пара по своей семантике формируют особую разновидность числа. Однако слова такого образца, как ни интересны сами по себе, не могут опровергнуть общего (основного) значения самой категории грамматического числа, значения, отчетливо выраженного в подавляющем большинстве случаев, во многих национальных языках народов мира. Если будут правы сторонники абсолютной относительности семантики грамматических категорий, тогда и грамматика перестанет существовать как грамматика и превратится в набор отдельных, бесконечно дробных категорий. Даже независимо от субъективных желаний сторонников абсолютной относительности грамматики, сами они разрушают те основы, на которых покоится грамматика[153].
4
Теория абсолютной относительности еще более настойчиво дает о себе знать в лексикологии и семасиологии. В свете этой теории значение слова рассматривается как сумма его сочетаемостей. Сторонники такой концепции утверждают:«В плане чисто лингвистическом значение слова определяется его потенциально возможными сочетаниями с другими словами, которые составляют так называемую лексическую валентность слова»[154].Аналогичное определение значения слова встречаем и у многих зарубежных исследователей лексикологии, разделяющих принцип абсолютной относительности самой категории значения[155]. На первых порах подобное «решение вопроса» сложной проблемы значения слова кажется простым и заманчивым. В самом деле: не надо раздумывать над соотношением между значением слова и понятием, над полисемией слова, над общим (основным) его значением и над значениями вторичными, зависимыми, производными. Подсчитать количество возможных сочетаний данного слова с другими словами и на этом поставить точку, заранее отбросив все «проклятые», сложные вопросы теории языка, которые при этом возникают. Весьма характерно, что подобное истолкование значения слова обычно именуется «чисто лингвистическим», как будто бы лингвистике и дела нет до больших проблем общей теории языка. В действительности подобное толкование, несмотря на весь свой эмпиризм (сколько разных сочетаний – столько же и возможных значений), ничего собственно не решает. Остается неясным, почему одно слово допускает одни сочетания и не допускает другие (без предварительного выяснения самого значения слова), как влияют подобные сочетания на семантику слова, почему сочетания со словом, переведенным на другие языки, образуют иные сочетания, во многом несовпадающие с первыми и т.д. Определение значения слова, опирающееся на концепцию абсолютной его релятивности, ничего не разъясняет. Надо строго различать два совершенно разных понятия: историческую изменчивость семантики слова и релятивистическую концепцию природы слова и его значения. Историческая изменчивость семантики слова уже давно была известна, в особенности в связи с успехами сравнительно-исторического языкознания. Так, например, если не выходить за пределы языка нового времени: существительное личность на рубеже XIX в. еще не было синонимом слова индивидуальность и употреблялось чаще всего в уничижительном значении («никакая личность не должна быть терпима на службе»). Однако постепенное вовлечение самого слова личность в один ряд со словами индивидуальность, индивидуум в 20 – 30-х годах минувшего столетия, определялось общим развитием русской философской лексики в определенную историческую эпоху. Здесь обнаруживается понимание исторической подвижности лексики вообще. И здесь нет, разумеется, ни релятивистической концепции слова, ни релятивистической концепции языка в целом[156]. Совсем иной вопрос возникает тогда, когда исследователь отрицает общее (основное) значение этого же слова личность в современном русском языке, подчеркивая, что его значение складывается лишь из суммы контекстов, в которых данное существительное встречается или может встретиться. В этом случае перед нами концепция абсолютного релятивизма, ибо слово личность, разумеется, имеет общее значение («человек как носитель определенных свойств»), хотя само слово уточняется и заметно видоизменяется в разных контекстах (в особенности в специальных выражениях – «прошу без личностей», «перейти на личности» и пр.). Следует строго различать концепцию исторической изменчивости лексической семантики (подобная изменчивость определяется социально-исторической природой самого языка) и концепцию абсолютной релятивности значений всех слов в любом современном национальном языке. Эти две противоположные концепции основываются на столь же противоположных методологических убеждениях, о которых уже шла речь раньше. Проследим теперь за тем, как постепенно формировалась в лингвистике концепция абсолютной релятивности категории значения. В дальнейшем я не стремлюсь обнаружить первые истоки анализирующей концепции (это особый вопрос), а хочу лишь подчеркнуть, что она складывалась в острой борьбе со сравнительно-историческим языкознанием. Еще в 1919 г. А. Мейе, рецензируя книгу колумбийского ученого Ф. Рестрепо, посвященную общим вопросам семасиологии («El alma de las palabras». Bogota, 1917), отмечал свое полное несогласие с автором, который сводит значение каждого слова к сумме возможных контекстов с участием данного слова. При этом весьма знаменательна позиция выдающегося представителя сравнительно-исторического языкознания: А. Мейе считал, что доктрина Ф. Рестрепо не дает возможности построить теоретическую семасиологию, так как автор рецензируемой монографии сводит проблему к сумме разрозненных контекстов[157]. Уже Мейе отлично понимал опасность, возникающую здесь для теоретической семасиологии. Под флагом защиты «чисто лингвистического» понимания значения предлагалась по существу эмпирическая концепция суммы возможных сочетаемостей слова. Позднее, уже в 30-е годы, с защитой абсолютного релятивизма в лексикологии и семасиологии выступил немецкий ученый Йост Трир со своей, впоследствии знаменитой теорией семантического поля слова, обычно называемой у нас языковым полем. Не подлежит сомнению, что в разысканиях и самого Трира, и его многочисленных учеников имеется много интересного и поучительного. Был, в частности, собран и проанализирован обширный материал германских (в первую очередь) языков, показывающий взаимодействие слов в различных синонимических рядах и в различные исторические эпохи[158]. Стремясь обосновать свою теорию языкового поля, Трир писал, что в любом языке значение каждого слова зависит от значений других слов, «стоящих» с ним рядом. Изучая такие слова, как weise ʽмудрыйʼ в истории немецкого языка, Трир считал, что семантика этого прилагательного определяется тем, какие слова «стоят рядом с ним». Если в современном немецком языке weise сопровождается рядом понимаемых в широком смысле синонимов (klug, gescheit, gerissen, schlau, gewitzig и др.) – рядом более разнообразным, чем аналогичный ряд в средневерхненемецком, то фактор самого наличия ряда синонимов определяет значение каждого синонима, входящего в данный ряд. Так, значение weise в разные эпохи жизни немецкого языка детерминируется словами, стоящими с ним рядом. Значение отдельного слова как бы определено его синонимами, его отношением к другим словам. Трир был прав, тщательно исследуя связи между словами, в первую очередь между словами, близкими друг к другу семантически. Вместе с тем, как представляется, Трир был и неправ,подчеркивая, что значение каждого слова измеряется лишь тем, как оно относится к другим словам, связанным с ним по смыслу. Даже независимо от намерения автора возникала уже знакомая нам концепция: значение слова целиком и полностью определяется его отношением к другим словам. Категория отношения постепенно стала делать как бы ненужной категорию значения. Точнее: категория отношения сама по себе объявлялась категорией значения. Проблема взаимодействия двух разных категорий (значения и отношения) отрицалась. Категории отношения действительно принадлежит важная роль во всех сферах языка и в лексике, в частности. И все же важнейшая проблема взаимодействия двух разных категорий сторонниками теории смыслового поля слова решалась неправомерно. Получалось так, будто бы анализируемое слово weise, как отдельное слово, не имеет никакого значения. Между тем его объективное значение в каждую определенную эпоху жизни немецкого языка не подлежит никакому сомнению. Синонимический ряд лишь уточняет положение каждого синонима в этом ряду, но не лишает и не может лишить отдельное слово его самостоятельности. Уже В. Порциг критиковал Трира за известный «логицизм» его построений. Сам же Порциг стремился перевести теорию семантического поля из сферы преимущественно логической в сферу, как ему казалось, собственно языковую[159]. В действительности и Порциг продолжал оперировать миром идей в их взаимоотношениях с миром слов, но при этом и у него акцент ставился не на слова и не на идеи, а лишь на отношения между ними. Когда произносят глагол идти, то обычно возникает ассоциация не с руками, а с ногами, когда видят, то вспоминают о глазах, а когда слышат – об ушах. Но как ни существенны подобного рода ассоциации (идеи – слова), Порциг и его сторонники не могли объяснить, почему анализируемые отношения сами по себе бесспорные, будто бы лишают семантической самостоятельности существительные рука, нога, глаз, ухо, глаголы идти, видеть, слышать и т.д. С 30-х годов до наших дней теория смыслового поля слова разрабатывалась во многих вариантах и разновидностях. В 50-х годах, в частности, голландский лингвист П. Зюмтор предложил свой вариант истолкования теории поля. Прежде всего он разделил все слова на две большие категории – слова повседневного обихода и слова книжные, относящиеся к науке и философии. Зюмтор доказывал, что, занимаясь историей таких слов (он называл их «слова-понятия»), как философия, наука, теория, проза, поэзия, риторика и т.д., приходишь к убеждению, что в средние века и в эпоху Возрождения эти слова-понятия в европейских языках имели гораздо более автономное значение, чем в наше время[160]. Исследователь считал, что современная наука, установив связи между такими словами-понятиями, которые раньше казались разрозненными, тем самым показала не только взаимодействие наук, но и взаимодействие терминов этих наук. Хотя сама попытка специально проследить историю взаимодействия различных терминов в различные исторические эпохи представляется важной и интересной, оставалось все же неясным, почему взаимодействие терминов сводит на нет известную самостоятельность каждого из них. Разумеется, современному человеку легче понять значение термина поэзия на фоне термина проза, значение термина философия на фоне таких терминов, как социология или психология, однако подобные «фоны», безусловно важные сами по себе, не сводят и не могут свести на нет самостоятельного значения каждого из перечисленных терминов. Совсем иной вопрос – различная идеологическая их интерпретация. Что же касается их известной самостоятельности в современном знании, то она не подлежит сомнению. Мы можем говорить, например, о психологии, как о самостоятельном слове-понятии нашей эпохи, независимо от лексического ряда, в котором это слово находится. Взаимодействие между терминами и соответствующими понятиями, с помощью данных терминов выражаемых, оказывается очевиднее, чем в сфере нетерминологических слов. Развитие всевозможных наук действительно помогает обнаружить связи между такими понятиями (соответственно терминами), которые раньше могли казаться изолированными. Но, во-первых, взаимное сближение самих понятий не уничтожает самостоятельности каждого из них, хотя и показывает широту контактов отдельного понятия с другими понятиями. Во-вторых, историю понятий нельзя отождествлять с историей терминов, несмотря на то, что между ними существует органическое взаимодействие. Как видим, самостоятельность слова отрицается с самых различных позиций: и путем полной изоляции слов от понятий, и путем отождествления слов (в первую очередь терминов) и понятий. В обоих случаях частичная релятивность слова рассматривается как релятивность абсолютная, что (вольно или невольно) приводит исследователей к отрицанию объективности существования языка, в частности – его лексики.
5
Как уже было отмечено, релятивистическая концепция языка стала оформляться еще до того, как А. Эйнштейн обосновал свою теорию относительности. И это неудивительно: во-первых, идея относительности уже давно «носилась в воздухе», во-вторых, между физической теорией относительности и ее различными отражениями в отдельных конкретных науках дистанция оказалась огромной. Все это нисколько не умаляет значения великого открытия Эйнштейна. К тому же, как подчеркивают знатоки творчества этого большого ученого, у него «идея объективности мира была основой его мировоззрения»[161]. Между тем иное представление о мире складывалось у многих ученых, считавших себя последователями Эйнштейна. Но если можно сомневаться в объективности существования окружающего нас мира, то можно, как стали утверждать многие лингвисты уже с начала нашего столетия, сомневаться и в реальности существования национальных языков. Языки бытуют лишь в процессе «говорения», и только. Значения слов обнаруживаются лишь в данном контексте, и только. За пределами подобного контекста говорящие люди ничего о языке не знают и не могут знать. В начале XX в. К. Фосслер еще ничего не мог знать о теории относительности, да и позднее он серьезно не познакомился с нею. Но вот идеи феноменологии Э. Гуссерля привлекли внимание немецкого филолога. Об этих идеях он судил с позиции своей концепции эстетической природы языка[162]. Фосслер ставил вопрос так: язык – это творчество отдельных индивидуумов, поэтому в каждое слово каждый человек вкладывает неповторимое содержание. Когда в знаменитой сцене с Франческой в «Божественной комедии» Данте (ч. I, песня 5) героиня этого эпизода произносит несколько раз подряд слово amore ʽлюбовьʼ, то оно воспринимается каждый раз как новое слово с новым значением. Фосслер был убежден, что индивидуальная и контекстная окраска слова всегда неповторимы, поэтому и в лексике не могут существовать общие значения слов, обязательные для всех людей, говорящих на данном языке[163]. Свою концепцию языка Фосслер считал эстетической. При этом исследователь не различал эстетической окраски слов, которую они действительно часто приобретают в стиле художественной литературы, у больших писателей, и общенародных значений этих же слов, обязательных для всех людей, независимо от их эстетических или каких-либо иных индивидуальных побуждений. Как бы чувствуя уязвимость своей концепции, немецкий филолог стремится укрепить ее указанием, что язык – это не только творчество (Schöpfung), но и развитие (Entwicklung), в сфере которого возможна повторяемость. Но, по убеждению автора, активное начало в языке всегда определяется индивидуальным лингвистическим творчеством. Универсальная эстетическая функция языка у Фосслера не уживалась с известным «шаблоном» лексических и грамматических построений, без которых язык не может служить средством общения всех людей, для которых данный язык является родным или усвоенным. Сам Фосслер и его многочисленные ученики и последователи сделали немало в изучении языка и стиля художественной литературы разных эпох и народов, но последовательное неразличение и неразграничение коммуникативной и эстетической функций языка привело к тому, что в недрах этой научной школы центральная функция языка (функция общения) оказалась отодвинутой на самый задний план. Тем самым неправомерно осмыслялось основное назначение всякого национального языка[164]. Но если у Фосслера отрицание известной самостоятельности слова мотивировалось общей эстетической концепцией языка, то в некоторых направлениях современной лингвистики подобное отрицание мотивируется релятивистической концепцией языка: язык существует лишь в процессе его функционирования.«Текст, – читаем мы у сторонников подобной доктрины, – это единственная реальность языка»[165].В такого рода заявлениях весьма характерны определения – единственный, единственная.
«Значение слова существует только в процессе его употребления» (с подчеркнутым «только»)[166].За пределами данного употребления слова оказываются фикцией. В свое время один из исследователей утверждал: так как существительное лев для ребенка, для зоолога и для охотника каждый раз представляется в разном психологическом ореоле, то об общем значении слова лев говорить не приходится. Все определяется контекстом, все зависит от ситуации, которую некоторые лингвисты называют ситуацией hic et nunc (здесь и теперь)[167]. Любопытно, что эксперимент со львом уже фигурировал у исследователей прошлого столетия. В свое время Вегенер утверждал, что в предложении «Лев может разгрызть любую кость» и «Лев – благородное животное» существительное лев будто бы выступает в совершенно различных значениях: в первом случае – «нечто сильное», во втором – «нечто благородное»[168]. В действительности, однако, в обоих контекстах лев имеет, разумеется, одно и то же значение, хотя и акцентированное неодинаково: «крупное хищное млекопитающее, семейства кошачьих». Доказательство: приведенное определение сохраняет свою полную силу для обоих приведенных контекстов. Нежелание считаться с подобного рода совершенно необходимыми обобщениями приводит к неправомерному растворению языка в сумме разрозненных контекстов. Обобщающая сила языка сводится на нет. Контекст приобретает не только всемогущее значение. За его пределами существование языка объявляется иллюзорным.
«Слова и предложения – заявляет один из современных западногерманских лингвистов – за пределами того или иного контекста – это сплошная фикция»[169].Как я уже отмечал, в разных направлениях лингвистики нашего времени наблюдается острое столкновение двух противоположных доктрин: один ученые утверждают, что значение слова – это сумма его возможных сочетаемостей с другими словами, другие исследователи склонны считать, что значение слова вовсе не зависит от контекстной ситуации. Французский лингвист Ж. Мунен так формулирует подобное столкновение концепций:
«…все зависит от ситуации, ничего не зависит от ситуации»[170].И дело, разумеется, не в том, что крайности нехороши, как предполагает только что названный ученый. Дело в том, что обе, внешне противоположные точки зрения, полностью сходятся в своем нежелании считаться с реальными материалами языков мира. Этот же материал показывает (см. следующий раздел), что каждое слово любого естественного языка сохраняет свою известную самостоятельность независимо от других слов того же языка, сохраняет свое общее (основное) значение. Вместе с тем контексту тоже принадлежит важная роль: слова уточняются в контексте, приобретают дополнительные акценты и оттенки. И в этом нет ничего удивительного, если постоянно помнить о полифункциональности любого естественного языка, в особенности языка, с богатой исторической и литературной традицией.
6
Обратимся теперь к материалу. В первой половине минувшего столетия существительное позор еще осмыслялось этимологически: то, что представляется взору, зрелище. У Е.А. Баратынского, например, в стихотворении «Последняя смерть» (1827 г.) читаем:Величествен и грустен был позор
Пустынных вод, лесов и гор.
Но между тем какой позор
Являет Киев осажденный?
И вскоре слуха Кочубея
Коснулась роковая весть:
Она забыла стыд и честь,
Она в объятиях злодея!
Какой позор!
«Всякое стихотворение, – подчеркивал А. Блок, – покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся как звезды»[171].Тут же вспоминаются блоковские строчки: «Ночь, улица, фонарь, аптека…» Известно, что еще в 20-х годах было замечено:
«Поэзия Маяковского есть поэзия выделенных слов по преимуществу»[172].И хотя наречное выражение «по преимуществу» здесь, разумеется, излишне, функция подчеркнуто самостоятельных слов у Маяковского действительно велика:
«Приду в четыре», – сказала Мария.
Восемь. Девять. Десять.
Кто
где бы
мыслям дал
такой нечеловеческий простор.
«Владимир Яхонтов, читая классиков, Пушкина, ориентировался на опыт стиха Маяковского: невесомых, проходных слов у этого артиста никогда не было»[173].Разнообразные средства смыслового и интонационного выделения слов в стихе широко применяются выдающимися поэтами нашего времени и в других странах, на других языках[174]. Слова сохраняют свою самостоятельность не только в поэзии, но и в художественной прозе, у больших мастеров. Вот, например, начало знаменитого рассказа А.П. Чехова «Дама с собачкой»:
«Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой».Здесь, хотя и целое предложение, но в этой целостности многие единицы самостоятельны. Говорили передает обстановку курортного города, где скучающие господа занимаются сплетнями. Набережная – события рассказа в дальнейшем происходят именно на набережной, дама с собачкой (центральное лицо повествования) образует определенное словосочетание, достаточно самостоятельное внутри более сложного целого – предложения. Вот и оказывается, что в предложении «действуют» и более дробные единицы, сохраняющие самостоятельность. Они и образуют целое предложение, и ему же подчиняются, и ему же противостоят, напоминая о своей собственной значимости. Подчеркну еще раз: подобные «эксперименты» в поэзии и прозе были бы невозможны, если в самых национальных литературных языках не существовало постоянного взаимодействия между целостной системой языка (в данном случае – системой лексики) и ее отдельными элементами (словами). Вместе с тем само это взаимодействие напоминает и о более общем законе языка – о взаимодействии общего и отдельного. Тонкий знаток литературы и искусства Ю. Олеша, особенно хорошо знавший живопись, однажды заметил, что великий итальянский художник XV столетия Боттичелли является «художником очень современным нам по характеру своего мышления», так как на его полотнах отдельные линии рисунка никогда не пропадают на фоне целого произведения[175]. Перефразируя эти слова, можно сказать, что и в художественном произведении большого писателя функция отдельных слов никогда не сходит на нет не только в системе одного предложения, но и в системе целого повествования. И сам литературный язык предоставляет писателю соответствующие возможности и ресурсы.
7
Как известно, большинство слов естественных языков народов мира отличается многозначностью (полисемией)[176]. Многие современные исследователи категорически утверждают, что многозначные слова могут существовать только в контексте. Если однозначным словам в какой-то мере еще дозволяется иметь свободные значения, то многозначные слова, по убеждению этих ученых, лишены каких бы то ни было свободных значений.«За исключением случаев однозначности, слова имеют несвободные, связанные значения»[177].Иначе говоря, подавляющее большинство слов лишается свободных значений. Аргументация этих ученых несложна, но весьма типична. Когда произносят, например, такое русское слово, как земля, – рассуждают они, – то вне строго определенного контекста невозможно сказать, что разумеют при этом говорящие: планету, на которой живут люди, реальную действительность, сушу (в отличие от водных пространств), почву, страну, территорию и т.д. То же наблюдается и в любом другом языке. Английское существительное body – это не только ʽтелоʼ, но и ʽосновная часть предметаʼ, ʽгруппаʼ, ʽкорпорацияʼ и пр. Лингвисты, которые считают, что многозначные слова могут иметь только несвободные (связанные) значения, отрицают тем самым само явление полисемии, так как несвободное значение бытует только в известных контекстах. Тезис, гласящий «полисемантичное слово обладает только несвободными значениями», неизбежно приводит к отрицанию самой полисемии: получается, будто каждое значение слова – это лишь особое употребление самого слова. Между тем употребление слова – сфера речи, значение – сфера языка. Полисемии тем самым не находится места в сфере языка. При беглом подходе может показаться, что нет никакой связи между отрицанием полисемии и отрицанием самостоятельного значения отдельного слова. Между тем здесь оказывается взаимообусловленная концепция. Она основывается на последовательно релятивистической доктрине: если самостоятельное значение слова – это лишь фикция (реальны только отношения между словами), то такой же фикцией оказывается и полисемия (реальны лишь контекстные значения слов). Язык превращается тем самым в сумму этикеток: каждому слову соответствует лишь одно значение, а каждое значение передается с помощью лишь одного слова. Полифункциональность языка объявляется вне закона. Национальные языки приравниваются к кодам, искусственно создаваемым для тех или иных технических целей. Противники полисемии нередко осложняют свою аргументацию. Значение слова, – рассуждают они, – действительно обобщает определенные признаки предмета или явления, но значение не может одновременно обобщать признаки разных предметов и разных явлений. Поэтому каждое значение полисемантичного слова рассматривается такими учеными как самостоятельное слово. Полисемия отрицается, не признается, рассматривается как фикция. Но понятие обобщения есть понятие историческое. Слово всегда обобщает, но на разных этапах развития языка и в разных языках слово неодинаково обобщает признаки предметов или явлений. С позиции современного русского языка может показаться странным, что прилагательное caecus в системе латинского языка определенной исторической эпохи означало не только ʽневидящийʼ (слепой), но и ʽневидимыйʼ, altus – не только ʽвысокийʼ, но и ʽглубокийʼ, luctuosus – не только ʽприносящий печальʼ, но и ʽнаходящийся в печалиʼ, anxius – не только ʽполный беспокойстваʼ, но и ʽприносящий беспокойствоʼ, molestus – не только ʽобременяющийʼ, но и ʽпринужденныйʼ. То, что в одном языке на определенном этапе его исторического развития может выражаться с помощью разных значений одного слова (например, caecus – ʽневидящийʼ и ʽневидимыйʼ), в другом языке на другом этапе функционирования может передаваться двумя разными словами – ʽневидящийʼ (слепой) и ʽневидимыйʼ. В русском языке нет слова, которое было бы способно одновременно обобщать столь различные явления (ʽневидящийʼ – ʽневидимыйʼ), тогда как в латинском языке такое слово было (caecus). То же следует сказать и о других прилагательных и причастиях, приведенных выше. В свою очередь и полисемия русских слов часто не совпадает с полисемией соответствующих латинских или греческих слов. Следовательно, характер обобщения в слове признаков различных предметов или явлений определяется историческим развитием лексики данного языка, тем, как осмысляет человек окружающую его действительность, а также отношениями, существующими между словами в системе одного языка в отличие от системы другого языка. Своеобразие полисемии в каждом языке на том или ином этапе его исторического развития становится очевиднее при сравнении между собой языков неродственных. При этом подобное своеобразие объясняется не только различными условиями жизни самих народов, носителей языков (случаи относительно простые), но и особенностями обобщений, происходящих в слове. Приведу два примера из хауса – одного из наиболее распространенных языков Африки. Если существительное fage означает не только ʽсвободное открытое местоʼ, но и ʽместо, где вяжут снопы, устраивают игрыʼ, то своеобразие подобной полисемии сравнительно легко объясняется условиями жизни некоторых африканских народов (на открытом месте вяжут снопы, а иногда и играют). Но если полисемия другого существительного magana раскрывается более сложно (это не только ʽязыкʼ, но и ʽсловоʼ), то своеобразие такого обобщения оказывается не вполне привычным для новых европейских языков, в которых понятие языка и слова обычно передается двумя разными словами (ср., впрочем, полисемию древнегреческого logos – ʽзнаниеʼ и ʽсловоʼ)[178]. К проблеме полисемии слова нужно подходить, учитывая общее историческое развитие лексики данного языка и своеобразие обобщений, характерных для его разных лексических пластов. Крупные лингвисты и этнографы, занимавшиеся языками так называемых первобытных народов, всегда подчеркивали, что даже в наиболее архаических языках слово всегда обобщает, хотя характер этого обобщения может существенно отличаться от обобщений, наблюдаемых в языках, находящихся на иной ступени исторического развития[179]. Вернемся теперь к вопросу о том, почему нельзя отрицать полисемию, ссылаясь на то, что в одном слове не могут обобщаться признаки разных предметов или понятий. Такое утверждение, при всей его кажущейся убедительности, по существу своему неправомерно. Дело в том, что в каждом обобщении, заключенном в слове, есть элемент не только логический, но и исторический. В старом русском языке красный означало прежде всего «красивый, прекрасный, светлый» (ср. красна девица). Для обозначения же красного цвета употреблялись другие прилагательные – чьрвьчатый, червленный, черленый. Впоследствии, в эпоху образования русского национального языка прилагательное красный стало именовать цвет. Еще позднее, в XIX в., в связи с развитием революционного движения красный приобрело значение «свободолюбивый, революционный». Это значение является новой ступенью в историческом развитии слова. От фигурального значения, известного уже старому языку (красный – красивый), слово как бы устремляется к более точному «предметному» значению (красный о цвете) с тем, чтобы на основе этого значения вновь подняться к фигуральному осмыслению (красный – революционный). Изменилось ли в истории русского языка обобщение, характерное для прилагательного красный? Безусловно изменилось. Это обобщение сделалось многоплановым: оно может теперь относиться и к цвету, и к политическим убеждениям, а иногда и к красоте. Стало ли при этом слово неопределенным, расплывчатым? Нисколько. Многоплановость обобщений не только не сделала слово неопределенным, но, обогатив его смысловую структуру, только придала ему большую емкость. Подобно тому как в логике могут меняться обобщения в процессе развития отдельных научных дисциплин[180], так и в языке меняются обобщения в словах в процессе исторического развития лексики. Задача конкретной истории, конкретных групп или рядов слов в разных языках заключается в том, чтобы показать, кáк и почемý меняются эти обобщающие признаки слов в процессе развития лексики. Уточним теперь, что же определяется здесь логикой и что историей. Логический фон языка определяет органическое свойство почти каждого слова обобщать те или иные признаки предмета или явления, именуемого с помощью данного слова. Историческое же развитие языка показывает, как эти признаки предмета или явления обобщаются в слове. Если сама способность к обобщению определяется логической природой слова, то конкретная реализация отмеченной особенности слова в определенном языке в известную эпоху его существования детерминируется исторически. Поскольку в исторических путях развития лексики разных языков есть немало общего, полисемия этих языков обнаруживает известные точки соприкосновения. В той же мере, в какой каждый язык имеет свои особенности формирования и движения, полисемия одного языка часто не совпадает с полисемией другого языка. Единство логического и исторического определяет значения слова и его полисемию. Как бы ни было многозначно слово, среди его разнообразных значений всегда имеется общее или основное, цементирующее остальные значения в определенную эпоху жизни языка. Так, возвращаясь к прилагательному красный, легко обнаружить, что обозначение цвета является теперь его основным значением (такое значение в толковых словарях указывается первым и имеет объективные признаки выделения по степени частотности). В другую историческую эпоху языка данное значение могло быть, как мы видели, не основным, а только периферийным. То, как основное значение слова скрепляет остальные значения в стройную систему лексической структуры слова, определяется историческими условиями развития языка. Между языками, находящимися на разных уровнях развития, здесь обнаруживается немало расхождений. Сравним, например, семантическую структуру того же русского слова красный с семантической структурой какого-нибудь слова языка аранта, одного из австралийских языков, прекрасно описанного в свое время норвежским лингвистом А. Соммерфельтом[181]. На языке этого племени kanta – это не только ʽкругʼ, но и ʽзмеяʼ, ʽвьющаяся траваʼ, ʽукрашение вокруг головыʼ, ʽвсякий круглый предметʼ. Если сравнить ряд значений этого многозначного слова языка аранта, который не получил благоприятных условий для своего развития и не имеет письменности, с таким языком, как русский, то различие смысловой структуры слова в этих двух языках можно изобразить так:
 В первом случае (схема слева) разные значения слова обычно скреплены основным значением и им определяются (см. красный в современном русском языке: цвет – основное, все остальное – производное и зависимое). Стóит только оборваться связи между разными значениями слова, как они оказываются на пороге перехода в омонимический ряд самостоятельных слов. Во втором случае (схема справа) смысловая структура слова является более «рыхлой»: отдельные значения слова недостаточно скреплены его основным значением, которое само обозначено недостаточно рельефно (в приведенном примере со словом kanta трудно установить основное значение). В языках этого второго типа различные значения слова в гораздо большей степени зависят от широкого контекста и ситуации, чем в языках первого типа. Смысловая структура слова в столь непохожих языках оказывается различной. Чем сильнее развито концептуальное мышление у народа, носителя данного языка, тем обычно исторически закономернее развивается и смысловая структура слова, тем больше обнаруживается преемственность между различными его значениями, тем очевиднее основное значение каждого слова для каждой исторической эпохи[182].
Отрицание реальности полисемии тесно связано с отрицанием самостоятельности значения отдельного слова. Если значение слова – это только сумма его контекстов, сумма распределений (дистрибуций), то тем в большей степени на сумму контекстов должно распадаться и многозначное слово. В этом плане одно утверждение обусловлено другим. Стóит только взять под сомнение реальность самостоятельных значений отдельных слов, так еще в большей степени иллюзорной покажется полисемия. Если даже моносемантичные слова существуют только «в распределениях», то в еще большей зависимости от окружений оказываются полисемантичные слова. Между тем, как я стремился показать на примере влияния контекста, каждое слово, в том числе и многозначное, выступает не только как элемент системы, но и как самостоятельная субстанция, вместе с другими словами (субстанциями) формирующая лексическую систему языка.
В первом случае (схема слева) разные значения слова обычно скреплены основным значением и им определяются (см. красный в современном русском языке: цвет – основное, все остальное – производное и зависимое). Стóит только оборваться связи между разными значениями слова, как они оказываются на пороге перехода в омонимический ряд самостоятельных слов. Во втором случае (схема справа) смысловая структура слова является более «рыхлой»: отдельные значения слова недостаточно скреплены его основным значением, которое само обозначено недостаточно рельефно (в приведенном примере со словом kanta трудно установить основное значение). В языках этого второго типа различные значения слова в гораздо большей степени зависят от широкого контекста и ситуации, чем в языках первого типа. Смысловая структура слова в столь непохожих языках оказывается различной. Чем сильнее развито концептуальное мышление у народа, носителя данного языка, тем обычно исторически закономернее развивается и смысловая структура слова, тем больше обнаруживается преемственность между различными его значениями, тем очевиднее основное значение каждого слова для каждой исторической эпохи[182].
Отрицание реальности полисемии тесно связано с отрицанием самостоятельности значения отдельного слова. Если значение слова – это только сумма его контекстов, сумма распределений (дистрибуций), то тем в большей степени на сумму контекстов должно распадаться и многозначное слово. В этом плане одно утверждение обусловлено другим. Стóит только взять под сомнение реальность самостоятельных значений отдельных слов, так еще в большей степени иллюзорной покажется полисемия. Если даже моносемантичные слова существуют только «в распределениях», то в еще большей зависимости от окружений оказываются полисемантичные слова. Между тем, как я стремился показать на примере влияния контекста, каждое слово, в том числе и многозначное, выступает не только как элемент системы, но и как самостоятельная субстанция, вместе с другими словами (субстанциями) формирующая лексическую систему языка.
8
Здесь хотелось бы обратить внимание еще на один важный вопрос, до сих пор почти совсем неизученный. Дело в том, что степень самостоятельности отдельных слов, в школьной грамматике именуемых «знаменательными»[183], оказывается не только в зависимости от всего строя того или иного языка. Проблема эта имеет и исторический аспект, особенно очевидный в языках, располагающих древней письменностью. В четвертом разделе настоящей главы я уже отмечал позицию голландского филолога П. Зюмтора, который утверждал, что зависимость значения отдельного слова от контекста в старых языках была меньшей, чем в языках новых. Ученый оперировал при этом терминами и стремился показать, что наука нового времени, глубже обосновав связь между понятиями в каждой области знания, тем самым увеличила зависимость и терминов от данного контекста в отличие от других контекстов. Термины сравнительно поздно оказались контекстно обусловленными. Проблема представляется мне более сложной, менее прямолинейной. Во-первых, количество общелитературных слов обычно заметно превышает количество терминов в языковой норме и, во-вторых (и это особенно важно), вступая в контакты с другими словами, слова типа прежде всего имен существительных и глаголов укрепляются в своей семантической самостоятельности, как бы протестуя против возможной смысловой безликости. Процесс оказывается не односторонним (зависимость от контекста), а двусторонним (независимость от контекста). К ранее приведенным иллюстрациям присоединю еще несколько примеров совсем иного характера. В древних памятниках, например, французского языка (аналогичную ситуацию можно обнаружить и в памятниках других индоевропейских языков) зависимость отдельных слов от широкого контекста была гораздо большей, чем подобная же зависимость в памятниках нового и новейшего времени. Вот, например, типичный эпизод из «Песни о Роланде» (начало XII в.). Один из «неверных» дает торжественную клятву, что он победит Роланда в бою на шпагах (строки 985 – 988):Se trois Rollant li proz enmi ma veie,
Se ne lʼassaill, dunc ne faz jo que creire,
Si cunquerrai Durendal od la meie.
«Ele se pensa qu ʼileuc ne faisoit mie bon demorer e trova un pel aguisié que cil dedens avoient jeté…» ʽОна поняла, что там пребывать ей будет отнюдь не хорошо и она нашла острый кол, брошенный туда внутрь теми…ʼЭтот буквальный перевод показывает, что теми (теми людьми) можно понять лишь на фоне гораздо более широкого контекста, чем этого требуют условия выражения мысли на новых языках. «Злые люди», преследующие Николетту, упоминаются в оригинале лишь на десять предложений раньше. Читатель должен помнить очень широкий контекст. В противном случае ему будет неясно, к кому относятся подобные они, те, он, она и пр. Подобные примеры из старых европейских текстов можно приводить десятками. Средневековые европейские тексты часто строились так: подлежащее упоминалось в начале повествования, а затем могли следовать на протяжении десятков и даже сотен строк сказуемые типа сказал, сказала, увидел, увидела, сделал, сделала и т.д. Приходилось помнить, о каких подлежащих идет речь и какие действия как и к кому относятся. Опора на более широкий контекст, чем одно предложение, в таких случаях совершенно очевидна. Мы имеем здесь дело уже с совершенно иной проблемой. Тексты типа «Песни о Роланде» или «Песни о Нибелунгах» рассчитывались не столько на читателей, сколько на слушателей (да и записывались они обычно позднее). Эти последние воспринимали каждый эпизод на фоне целого повествования. Соответственно и значения тех или иных слов уточнялись в широком контексте. Зависимость значения каждого слова от подобного контекста была тем самым гораздо большей, чем в произведениях более поздней поры. Таким образом, взаимодействие между частями (словами) и потоком речи (предложением или более сложным структурным целым) могло определяться не только грамматической и лексической типологией разных языков, но и культурно-историческими факторами: характером письменности определенной эпохи, степенью развития тех или иных стилей языка и т.д. Следовательно, степень зависимости значения слова от контекста не прямо увеличивается в процессе развития языка. Широко бытующее представление о том, что чем ближе к современности, тем в большей степени значение слова детерминируется контекстом, оказывается по меньшей мере неточным. Стремление с помощью слова точнее выразить или полнее передать чувство усиливается с ростом культуры общества. Подобное же стремление способствует оживлению тех сил в каждом слове, которые укрепляют его самостоятельность в системе целого (предложения, синтаксического целого и т.д.). Все это лишний раз иллюстрирует важнейший закон естественных языков человечества – закон взаимодействия частей и целого на всех уровнях каждого языка. Степень зависимости значения слова от системы языка – это таким образом не только проблема актуального членения синтаксического целого, но и проблема уровня исторического развития литературного языка. Вместе с тем в каждую синхронно ограниченную эпоху жизни языка отмеченная проблема решается с учетом характерных черт самого этого языка.
9
Говоря о самостоятельности слова, следует учитывать различие, существующее между так называемыми знаменательными и служебными словами. Даже при самом беглом рассмотрении вопроса очевидно, что слова типа дом или лев гораздо более самостоятельны и меньше зависят от словесного окружения, чем слова типа в, с, этот. Имея в виду дифференциацию между словами таких групп, Бертран Рассел писал со свойственной ему образностью выражения:«Когда вы хотите объяснить слово лев, вы можете повести вашего ребенка в зоопарк и сказать ему: „Смотри, вот лев!“ Но не существует такого зоопарка, где вы могли бы показать ему если или этот…, так как эти слова не являются изъявительными»[184].Английский философ противопоставил слова этих двух категорий по субстанциональному признаку: слова первой категории выражают субстанцию, слова второй категории ее не выражают («не являются изъявительными»). Такое противопоставление неправомерно, так как и слова второй категории передают субстанциональные понятия, хотя они и лишены непосредственной предметности, характерной для слов первой категории. Но прежде чем подробно рассмотреть этот вопрос, отметим, что сторонники дескриптивной лингвистики развивают сходные с идеями Рассела положения.
«Значение cat ʽкошкаʼ, – пишет Г. Глисон, – можно разъяснить (разумеется, лишь частично) человеку, не говорящему на английском языке, указав на животное, которое cat обозначает. Но объяснить таким образом значение предлога to невозможно. Вместо этого было бы необходимо привести ряд случаев его употребления и тем самым выделить контексты, в которых to встречается регулярно, контексты, в которых оно может встречаться, и те контексты, в которых оно встречаться не может. Иными словами, to имеет характерную для него дистрибуцию»[185].При всем различии, действительно существующем между самостоятельными и служебными словами, при всей важности изучения многообразных дистрибуцийдля понимания идиоматики языка в широком смысле нельзя забывать, что слова и первого, и второго типов являются в одинаковой степени словами, и как слова они всегда обладают известной самостоятельностью. Не случайно многие служебные слова могут субстантивироваться («все эти но и все эти если мне достаточно надоели»). Но близость между словами отмеченных двух категорий не ограничивается функциональным соприкосновением. Связь между ними не только функциональная, но и субстанциональная. Обратим на нее внимание. Как только что было отмечено, все части речи, не только самостоятельные, но и служебные, являются словами. Между тем все слова обладают значениями (особое положение занимают лишь междометия, которые обычно не выражают понятийных значений). Всякое слово, передающее определенное значение, всегда характеризуется, как мы видели, известной самостоятельностью. Весь вопрос в специфичности значений служебных слов в отличие от значений слов самостоятельных. Именно эта специфичность значения служебных слов и определяет отличие понятия самостоятельности в применении к служебным словам от понятия самостоятельности в применении к словам неслужебным[186]. Значения служебных слов обычно выступают как категории обобщенные, менее «предметные», чем значения слов самостоятельных. Предлог в русского языка прежде всего обозначает «внутрь чего-нибудь» (положить в карман). Как всякое полисемантическое слово, предлог в может иметь и другие значения, но отмеченная его семантика является наиболее употребительной в современном языке. Нетрудно заметить, что «внутрь чего-нибудь» действительно менее «предметно» по сравнению со значениями, которые выражают самостоятельные слова типа дом или лев. В силу этой «непредметности» служебных слов их самостоятельность оказывается менее ясно обозначенной, чем самостоятельность так называемых знаменательных слов. Именно поэтому слова типа в или с в большей степени зависят от различных словесных окружений, чем слова типа дом или лев. На льва действительно можно показать пальцем в зоопарке, но аналогичный эксперимент невозможен со словом в, так как оно лишено предметности. Отмеченное различие отнюдь не приводит, однако, к тому, что слова служебные будто бы вообще не имеют никаких лексических значений и не приобретают никакой самостоятельности, как это кажется, в частности, Б. Расселу[187]. Наличие у служебных слов обобщенных значений обусловливает и их общую самостоятельность как отдельных слов. Дифференциация обнаруживается лишь в различной степени самостоятельности слов двух отмеченных категорий: как известно, более самостоятельными являются слова типа имен существительных или глаголов, менее самостоятельными – слова служебные. Соответственно и увеличивается зависимость второй группы слов от всякого рода контекстных окружений (дистрибуций). Таким образом, различные функции слов двух основных категорий обусловлены различными их субстанциями. Субстанция определяет функцию, функция выступает как производное от субстанции. В этом можно лишний раз убедиться, обращаясь к истории многих служебных слов в разных языках мира. То, что не всегда ясно на основе синхронных данных, становится очевиднее в диахронном движении. Широко известно, что многие служебные слова восходят к словам самостоятельным. Связь между такими служебными и самостоятельными словами, как русский предлог вследствие и существительное следствие, немецкий предлог trotz ʽнесмотря наʼ и существительное Trotz ʽупорство, упрямствоʼ, венгерское местоимение belé ʽв него, в нееʼ и существительное bél ʽкишка, сердцевинаʼ, очевидна[188]. В одних случаях нити, скрепляющие эти слова, проходят как бы по поверхности самих слов (вследствие – следствие), в других – связи становятся очевидными лишь в результате исторического анализа слова (belé – bél). Но, так или иначе, диахрония вносит поправки в синхронию, вскрывая субстанциональное соприкосновение там, где в чисто синхронном плане оно кажется не существующим. В некоторых случаях движение от самостоятельных слов к служебным может быть и более сложным. Так, французский предлог chez ʽуʼ восходит к латинскому имени существительному casa ʽдомʼ. Однако в современном французском языке предлог chez, вступая в сочетание с местоимением soi, вновь образует существительное: chez-soi ʽсвой домʼ, ʽсвой уголʼ. Это сложное образование полностью субстантивируется: aimer son chez-soi ʽлюбить свой дом, свою квартиру, свой уголʼ, être chez-soi partout ʽчувствовать себя везде как домаʼ. Если в предлоге chez совсем выветрилось его былое этимологическое значение, что способствовало образованию разных частей речи (лат. casa – имя существительное, франц. chez – предлог), то в сочетании с другим словом (chez-soi) предлог как бы вновь возвращается к субстантивному значению, но уже в новом осмыслении. И здесь отношение зависит от субстанции. Движение самостоятельных слов к служебным может быть таким образом не только односторонним, как обычно считают, но и двусторонним: от самостоятельных слов к служебным и от служебных – в определенных условиях, на новом этапе развития языка – вновь к словам самостоятельным. Все это подтверждает наличие прочных связей, которые существуют между словами этих двух категорий. Проблема самостоятельности значения слова имеет, следовательно, отношение не только к словам типа имен существительных, но, mutatis mutandis, и к словам служебным. Между тем во многих направлениях зарубежного языкознания, как и среди некоторых советских лингвистов, отрицание самостоятельности служебных слов все чаще и чаще переносится и на слова типа имен существительных. Основным аргументом при этом оказывается система языка[189]. У многих ученых получается так, что система языка не только противостоит самостоятельному значению слова, но и отрицает эту самостоятельность. В действительности значение слова, находясь в системе языка, не утрачивает своей самостоятельности, а лишь осложняется в результате взаимодействия с значениями других слов. Система не отрицает отдельных слов, а лишь скрепляет их в такое целое, в пределах которого общее не подавляет отдельного, но взаимодействует с ним. Разумеется, в синхронной системе каждого отдельного языка различие между такими частями речи, как имена существительные или глаголы, с одной стороны, и такими, как предлоги или союзы – с другой, ощущается достаточно отчетливо всеми говорящими (сознательно или бессознательно). Поэтому и самостоятельность частей речи первого типа гораздо очевиднее самостоятельности частей речи второго типа. Но здесь была сделана попытка показать, что даже для слов служебного характера существует проблема взаимодействия общего и отдельного, системы и элементов системы.
10
Свыше ста лет тому назад, задолго до возникновения теории относительности и задолго до опубликования основных работ феноменолога Э. Гуссерля, Карл Маркс в первом томе своего «Капитала» писал:«… свойства данной вещи не возникают из ее отношения к другим вещам, а лишь обнаруживаются в таком отношении…»[190].В этой краткой и предельно ясной формулировке особенно хочется подчеркнуть слова «лишь обнаруживаются в таком отношении». Аналогичную мысль К. Маркс подчеркивал и в других сочинениях, в частности, в «Теории прибавочной стоимости». Здесь он разъяснял важнейший тезис на таком примере: сила притяжения той или иной вещи является силой самой этой вещи, но подобная сила может остаться до известного времени скрытой, пока не появляется другая вещь, способная притянуть к себе первую. Все это нисколько не мешает объективности существования всех свойств первой вещи[191]. Вопрос о том, что, например, такое «расстояние между буквой А и столом», представляется бессмысленным прежде всего потому, что понятия (буква А, стол), между которыми предлагается установить отношение, сами по себе несоотносительны. Даже если представить, что подобные понятия когда-нибудь станут соотносительными, тогда надо будет заняться субстанцией буквы А и субстанцией стола, а затем уже показать, какие отношения между ними возможны и какие – невозможны. И здесь в уже знакомой формуле aRb, а и b не менее существенны, чем R. Больше того, R (отношение) оказывается возможным только при соотносительности а и b на данном этапе развития определенной науки. То же оказывается и в любом естественном (национальном) языке, а следовательно, и в науке о языке. Ранее приведенные примеры и иллюстрации показывают справедливость подобного толкования формулы aRb. Само познание человека было бы вообще невозможным, если оно в равной степени не опиралось на познание фактов (явлений) и на установление связей (отношений) между данными фактами (явлениями). В.И. Ленин был глубоко прав, когда подчеркивал:
«Материалистическая диалектика Маркса и Энгельса безусловно включает в себя релятивизм, но не сводится к нему, т.е. признает относительность всех наших знаний не в смысле отрицания объективной истины, а в смысле исторической условности пределов приближения наших знаний к этой истине»[192].Здесь особенно важно отметить: материалистическая диалектика, включая релятивность, отнюдь не сводится к ней. Вещи сохраняют объективность существования, хотя и оказываются исторически изменчивыми. Подобно этому значения слов и грамматических категорий включают релятивность, но не сводятся к ней. Они существуют вполне объективно в процессе их же исторического развития. Нередко приходится слышать, что современное состояние изучения математики и физики должно изменить наши представления о соотношении между объективным и релятивным «началами в природе самих вещей» в пользу абсолютной релятивности. Это, разумеется, неверно. Вот что говорит по этому поводу один из крупнейших физиков нашего столетия Макс Планк:
«В отношении физики мы имеем основания утверждать, что уже современная картина мира, хотя она… сверкает различными красками в зависимости от личности исследователя, содержит в себе некоторые черты, которых больше не изгладит никакая революция ни в природе, ни в мире человеческой мысли. Этот постоянный элемент, не зависящий… ни от какой мыслящей индивидуальности, и составляет то, что мы называем реальностью»[193].Подобное понимание реальности характерно для многих больших ученых нашей эпохи, имеющих дело не только с абстрактной теорией, но и с практикой изучения самой этой реальности[194]. Хотя учение об относительности в широком смысле (под воздействием более специальной теории относительности А. Эйнштейна) действительно является детищем науки XX столетия, однако истоки самого этого учения уходят, как я уже отмечал раньше, не только в прошлое столетие, но и в гораздо более ранние времена. Разумеется, это было еще иное понятие об относительности по сравнению с его современными различными истолкованиями. В 1927 г. проф. Н.И. Новосадский в большой вводной статье к новому русскому переводу «Поэтики» Аристотеля писал:
«Уже Аристотелю было ясно, что слово получает свое определенное значение только в связи с другими словами в предложении»[195].И хотя в тексте «Поэтики» Аристотеля такой формулировки нет, но Н.И. Новосадский счел возможным именно так истолковать суждения античного мыслителя о подвижности значения слова в предложении. При этом автор предисловия был убежден, что подобный взгляд «правилен и в настоящее время». В комментарии характерно наречие только (значение выявляется «только в связи с другими словами»). Обратимся теперь к гораздо более поздней эпохе – к эпохе позднего европейского Возрождения. Здесь проблема ставится иначе, как проблема взаимодействия частей и целого. Один из знатоков этого времени пишет:
«Человек той поры мыслил целостностями столь же универсальными, сколь мизерными были его действительные знания о них. Часть он мог воспринимать только как часть целого, в неразрывной связи с ним, через него… Свое положение в собственном доме он мог уяснить через положение короля в государстве, и наоборот… Если человек интересовался, какое положение занимает Солнце среди планет, то это вовсе не значит, что он был любителем астрономии… Пожалуй, никогда еще мысль о том, что все в мире взаимосвязано, не пользовалась столь всеобщим и чаще всего неосознанным признанием, как в XVI веке»[196].Как видим, – и это очень важно, – понимание зависимости части от целого не всегда было признаком глубокого понимания законов природы и общества. Не умея осмыслить положение части в системе целого, человек той эпохи был склонен абсолютизировать целое. В XIX столетии ситуация вновь меняется. Наука этого времени начинает пристально изучать теперь прежде всего отдельные объекты, подлежащие ее компетенции. Поэтому, как считают многие исследователи, в конце прошлого века уже возникает противоположная антиатомистическая концепция, выступающая против изолированного изучения частей, которые должны составлять сложное целое. Вновь складывается культ целого, культ принципа целостной структуры. Постепенно оформляется убеждение во всеобщей структурности всех вещей, явлений, понятий. Появляются и протесты против подобного осмысления структурности. Как писал известный советский психолог Л.С. Выготский в предисловии к русскому переводу книги К. Кофки, уже в 30-х годах
«все кошки оказались серыми в сумерках этой всеобщей структурности: инстинктивные действия пчелы и разумные действия шимпанзе… Если восприятие курицы и действия математика одинаково структурны, то очевидно, что самый принцип, который не позволяет выделить различие, оказывается недостаточно расчлененным…»[197]Возникла реальная опасность нерасчлененного истолкования самого принципа структурности применительно к разным наукам, имеющим дело с совершенно различными объектами. Появилась опасность утратить понимание специфики каждой науки в «сумерках всеобщей структурности». Вот один из примеров подобного нерасчлененного истолкования структуры. Еще в 50-х годах в эксперименте психолога В. Келера кур выпускали на два поля – черное и серое, но кормили их постоянно на сером поле. Затем изменили цвет одного поля и выпустили кур теперь уже на серое и белое поля. Куры сразу же вышли не на серое поле, на котором раньше они получали пищу, а на белое. Следовало заключение: у кур возникла ассоциация относительности: они привыкли получать пищу на относительно более светлом поле. Следовало и второе заключение: не важен цвет поля (объективный фактор), а важно отношение между более светлым и менее светлым полем[198]. При всей серьезности подобного эксперимента, все же неправомерно, во-первых, утверждать, что объективное различение разных видов цвета вообще несущественно для животных и, во-вторых, переносить подобный эксперимент на людей, у которых при полном понимании соотносительности разнообразных видов цвета, обнаруживается и столь же ясное понимание объективного существования каждого цвета в отдельности. Как здесь ни существенна в обоих случаях категория отношения, она не может бросить тень на объективность самого наличия элементов, образующих данное отношение. В научной литературе уже приводился другой пример. Когда, отвечая на вопрос, что такое «вагон-ресторан», подчеркивают – это вагон, который не помещается между двумя товарными вагонами, то подобный комментарий требует предварительного понимания функции (сущности) вагона-ресторана. Следовательно, в начале объективная сущность определяемого предмета (явления), а затем уже, как следствие из данной сущности, отношение объекта к другим объектам. Значение (сущность) определяет отношение, а не наоборот. Все это весьма важно и для языка, и для теории языка. К сожалению, в наше время немногие лингвисты разделяют справедливый тезис В.В. Виноградова, сформулированный ученым еще в 1947 г.:
«Вне зависимости от его данного употребления слово присутствует в сознании со всеми своими значениями, со скрытыми и возможными, готовыми по первому поводу всплыть на поверхность»[199].На мой взгляд, здесь следует выделить общее (основное) значение полисемантичного слова: именно это основное для данной эпохи значение обычно совсем не зависит от контекста, оно всегда «присутствует в сознании», тогда как периферийные, неосновные значения (сами по себе тоже очень важные) могут возникать в нашем сознании и сами по себе, и под воздействием того или иного контекста. В этом же плане аналогичную мысль точно формулирует польский лингвист Е. Курилович:
«Главное значение слова (общее или основное значение. – Р.Б.) – это то, которое не определяется контекстом, в то время как остальные значения к семантическим элементам главного значения прибавляют еще и элементы контекста»[200].Ни один сторонник концепции абсолютной релятивности слова никогда не согласится ни с первым, ни со вторым из приведенных утверждений. Между тем оба эти тезиса безусловно справедливы, причем второй точнее передает понятие частичной релятивности слова, чем первый. Оба эти тезиса решительно и принципиально противостоят концепции абсолютной релятивности слова, согласно которой значение каждого слова бытует лишь в определенном контексте, за пределами которого словá вообще ничего не выражают и ничего не обозначают. Трудность проблемы заключается, однако, в том, что общее значение слова механически не складывается из его отдельных значений. Больше того. Отдельные значения могут далеко «уходить» от общего значения. Задача исследователя каждого конкретного языка или группы языков заключается в том, чтобы по возможности установить своеобразную диалектику общего значения слова и его отдельных значений на каждом этапе бытования анализируемых языков. Концепция объективного существования слова и языка в целом противостоит концепции их абсолютной релятивности. Напомним при этом, что первая (материалистическая) концепция нисколько не отрицает важности учета как частичной релятивности значения слова, так и частичной релятивности грамматических категорий. Таковы два противоположных истолкования самого принципа релятивности в системе национальных языков.
11
Когда говорят, что система языка организует его материю, когда подчеркивают, что отношения в языке немыслимы без элементов, формирующих подобные отношения, тогда следует помнить и об историческом процессе развития самого понятия о конкретных фактах. А.Я. Гуревич, например, отмечает, что за последнее столетие понятие исторического факта прошло сложный путь«от наивной веры в реальность и вещественность всякого факта, в его атомарную простоту и однозначную объективность интерпретации… через осознание сложности состава исторического факта, его многозначности и возможности его различных истолкований, к пониманию исторического факта как конструкции, наконец, к полному субъективизму и к идее невозможности понять прошлое… На смену фетишизации исторического факта реалистами натуралистической школы пришла полнейшая мистификация этого понятия абсолютными релятивистами»[201].Понятие факта менялось не только исторически, но и логически. Один из виднейших представителей позитивизма писал:
«Факт, в моем понимании этого термина, может быть определен только наглядно. Все, что имеется во вселенной, я называю фактом. Солнце – факт, переход Цезаря через Рубикон был фактом, если у меня болит зуб, то моя зубная боль есть факт…»[202]Как видим, в некоторых направлениях современной философии обнаруживается стремление либо взять под сомнение само наличие самых разнообразных материальных фактов (уже знакомый нам абсолютный релятивизм), либо уравнять принципиально разнородные факты (Солнце и переход Рубикона) и тем самым бросить тень на убеждение, согласно которому многообразные науки имеют дело с многообразными фактами, во многом несводимыми друг к другу (поэтому Солнце и переход Рубикона гетерогенны как факты). Наука о языке имеет дело со своими фактами – со звуками разных языков мира, с грамматическими системами в их смысловом и формальном выражении, со словами и их значениями и т.д. Во всех этих случаях наука о языках опирается на факты самих языков, на их звуковую, грамматическую и лексическую материю. Поэтому общая теория «значения и отношения» в науке о языке предстает как теория взаимодействия между материей естественных языков и теми отношениями, которые и организуют эту материю, и сами зависят от нее. Вместе с тем следует постоянно учитывать, что понятие материи языка, как и понятие языкового факта (языковых фактов), в наше время предстают как понятия гораздо более сложные, чем это представлялось младограмматикам в конце минувшего столетия. Само явление взаимодействия категории значения и категории отношения в лексике и в грамматике осложнило наши представления о материи языка. В предшествующей главе я уже вспоминал прекрасную работу С. Карцевского, который в 1929 г. писал:
«Если знаки языка были бы неподвижны и каждый из них имел лишь одну функцию, то язык превратился бы в простое собрание этикеток. Вместе с тем невозможно представить себе живой язык, знаки которого оказались бы настолько подвижными, что их семантика определялась бы одним контекстом»[203].Действительно, всякий национальный язык, в особенности язык с большой культурно-исторической традицией, полифункционален. Как общее правило, его слова и грамматические категории многозначны и способны к разнообразным обобщениям. И хотя контекст оказывает влияние на значения слов, подобное влияние нисколько не препятствует словам сохранять свои общие значения и вне той или иной ситуации, независимо от конкретного окружения. Категория отношения воздействует на категорию значения, но ею же и определяется. После всего сказанного можно так определить общее (или основное) значение слова, общее (или основное) значение грамматической категории: это такое значение, которое контекстно не обусловлено и которое выделяется говорящими или пишущими на данном языке людьми (как на языке родном) обычно раньше других значений слова, раньше других значений данной грамматической категории[204]. Итак, в главе была сделана попытка показать, что: 1) открытие частичной релятивности категории значения в лексике и грамматике привело к оформлению двух противоположных концепций языка в нашу эпоху; это открытие в одних случаях (первая концепция) стало стимулировать более глубокое изучение самой категории значения в ее взаимодействии с категорией отношения, в других же случаях (вторая концепция) упомянутое открытие привело к доктрине абсолютной релятивности самого языка, к представлению о языке как системе, бытующей лишь в конкретной ситуации; 2) как представляется автору, первая концепция, учитывающая новейшие достижения науки, вместе с тем остается концепцией последовательно материалистической, тогда как сторонники второй концепции, также стремящиеся осмыслить все новое, вместе с тем делают неправомерные выводы, объявляя язык ненаблюдаемым, отказывая ему в объективной реальности его же собственного существования. Превращая частичную релятивность языковых категорий в релятивность абсолютную, вторая концепция тем самым становится концепцией неприемлемой; 3) как представляется автору, непримиримая антиномия отдельных единиц и отношений между ними в такой науке, как языкознание, – выдуманная антиномия. Только при неглубоком подходе может показаться, что единицы (если сохранить этот условный термин) и отношения между ними бытуют в языке независимо друг от друга. Говорят: единицы языка (в фонетике, в лексике, в грамматике) вне системы самого языка не существуют. Совершенно справедливо. Но при этом нельзя забывать, что и система (структура) языка сама по себе, без единиц, из которых она слагается и которые она же организует, оказывается системой-пустышкой, системой-мифом. Какого-либо естественного языка, состоящего из «чистых отношений», человечество не знает и не может знать до тех пор, пока язык остается средством общения людей, средством передачи их мыслей и чувств. Автор сознает: проблема взаимодействия категории значения и категории отношения и в самих естественных (национальных) языках и в науке об этих языках – большая и сложная проблема. Она ждет дальнейших разысканий на материале различных языков и в их современном состоянии, и в их историческом прошлом.
Глава четвертая. Противостоят ли социальные факторы факторам имманентным в науке о языке?
1
Положение о том, что язык – это общественное явление, общественный феномен уже давно стало трюизмом. В наше время, едва ли найдется серьезный человек, даже далекий от лингвистики, который не понимал бы, что язык существует в обществе и дает возможность людям понимать друг друга, общаться друг с другом. А такие понятия, как общество, общение, общественный, связаны между собой не только этимологически, но и функционально. Поэтому общественная (социальная) природа языка кажется совершенно очевидной. Однако это положение сейчас же перестает быть трюизмом, если мы попытаемся ответить на вопрос о том, что такое общественная (социальная) природа языка, как следует понимать в этом словосочетании прилагательное общественный?[205] Больше того. В лингвистике нашего времени здесь существуют прямо противоположные толкования. Пока отмечу лишь две полярные концепции: для одних ученых «социальная природа языка» отождествляется лишь с внешними условиями бытования каждого отдельного языка, для других – «социальная природа языка» – это сам язык в процессе его функционирования. В свою очередь каждая из этих противоположных доктрин имеет множество градаций и подразделений, о которых речь пойдет в дальнейшем изложении. Обратим внимание и на другие принципиальные расхождения. Как следует понимать раздел языкознания, который обычно именуется социальной лингвистикой или социолингвистикой? Если имеется особый раздел науки о языке, посвященный социальной природе языка, то в каком отношении к этому разделу находятся другие разделы лингвистики? Оказываются ли они антисоциальными разделами или здесь идет речь лишь об условном терминологическом разграничении? Но в таком случае, как следует понимать другое разграничение – внешних и внутренних законов развития и функционирования языка? Правомерно ли отождествлять внешние законы с законами социальными, а внутренние – с законами имманентными? Как видим, то, что поначалу могло показаться трюизмом, – в действительности, при пристальном рассмотрении, не только не оказывается трюизмом, но превращается в целый ряд серьезных проблем, освещаемых с самых различных позиций учеными различных методологических убеждений и ориентации. Разумеется, нельзя сказать, что до сих пор никто не замечал своеобразных «подвопросов», на которые распадается большой вопрос о социальной природе языка. Подобные «подвопросы» нередко ставились и раньше. Но – странное дело! – ставя подобные «подвопросы», исследователи обычно либо тут же отодвигали их в сторону, либо забывали о них в процессе исследования конкретного материала. Пока приведу лишь один пример. Авторы коллективной монографии «Русский язык и советское общество» сделали попытку преодолеть одностороннее противопоставлеление «внешнего и внутреннего» в процессе функционирования языка. Составители этой монографии правильно отметили, что «…внутренние двигатели развития языка социально отнюдь не инертны». Значение этого важного и бесспорно правильного положения тут же, однако, было сведено на нет утверждением:«Выражения социальные факторы, внеязыковые факторы, внешние факторы… употребляются как синонимические»[206].После этого вопрос о том, как же следует понимать тезис – «внутренние двигатели развития языка социально отнюдь не инертны» – остался без ответа. Понятие социального в языке авторы сборника продолжают отождествлять с понятиями внеязыкового, внешнего. Сближение внутреннего и социального понадобилось авторам лишь для общей декларации. Между тем в науке о языке, как, впрочем, и в любой науке, общие декларации только тогда приобретают подлинную силу, когда они подкрепляются тщательным анализом конкретного материала. В противном случае они остаются лишь декларациями. Мне уже приходилось писать о том[207], что положение о социальной природе языка резко осложняется в концепции тех лингвистов, которые и в наши дни продолжают противопоставлять такие понятия, как «лингвистические процессы, вызванные социальными факторами» и «лингвистические процессы, вызванные имманентными факторами». Больше того. Многие лингвисты и у нас, и за рубежом считают, что объяснить какое-либо лингвистическое явление ссылкой на социальный фактор, вызвавший это явление, значит признать свое бессилие как лингвиста[208]. Но тогда как следует понимать социальную природу языка? Хочется подчеркнуть при этом само понятие природы языка. Разумеется, этот вопрос совсем непростой. Сказанным я отнюдь не хочу отождествить понятия лингвистический и социальный. Это, конечно, разные понятия. Но объясняя те или иные явления в процессе функционирования языка социальными факторами, исследователи не покидают сферы теории языка, а, напротив, углубляют эту сферу, показывают ее огромные возможности. Социальные факторы в самом языке, а следовательно, и в теории языка, как общее правило, «действуют» сквозь призму самого языка, его системы. Поэтому отнюдь не отождествляя понятия социального и лингвистического, исследователи вместе с тем должны стремиться не только разграничить эти понятия (что обычно и делается), но и показать их взаимодействие в процессе функционирования каждого конкретного языка или группы языков. Это задача гораздо более трудная, и в таких областях языка, как, например, фонология или грамматика, почти никем еще не осмысленная. Кое-что сделано лишь в сфере лексики и стилистики, но до наших дней все еще очень немного[209]. Конечно, здесь могут возникнуть обвинения в защите принципов вульгарной социологии. Однако попытка связать развитие и функционирование каждого конкретного языка с социальными (в самом широком смысле) явлениями сама по себе не только не является вульгарной, но совершенно необходимой предпосылкой для тех лингвистов, для которых положение о социальной природе языка является не простой, ни к чему не обязывающей декларацией, а выступает как «руководство к действию». Другой вопрос, кáк проводится подобное исследование. В фонологии и морфологии социальные факторы дают о себе знать совсем иначе, чем в лексике, в синтаксисе или в стилистике. В свою очередь в каждой из этих областей обнаруживается своя специфика. Вульгарным не может оказаться самый принцип взаимодействия социального и лингвистического, стремление установить социальный фон тех или иных процессов в языках в разную эпоху их бытования. Вульгарным может оказаться прием, способ истолкования взаимодействия социального и лингвистического в процессе анализа языкового материала. Из множества возможных иллюстраций приведу здесь только два примера, показывающие, как недопустимо понимать социальный фон грамматических процессов. Эти примеры (один старый, другой новый) сейчас в лучшем случае могут вызвать только улыбку. В свое время немецкий филолог О. Вейзе в книге о структуре латинского языка, стремясь объяснить, почему в латинской морфологии меньше флексий, чем в морфологии греческого языка, с серьезным видом ссылался на характер древних римлян, которые
«чуждались всякой роскоши в языке, так же, как они чуждались ее и в жизни»[210].Прошло свыше пятидесяти лет, и один из французских ученых в большой монографии об особенностях французского глагола утверждает уже в наше время, что для «воинственного общества» глаголы более характерны (они передают действие), чем для «общества невоинственного»[211]. Разумеется, такого рода «толкования» лишь компрометируют принцип социальной обусловленности языка. В этом, однако, повинен, разумеется, не самый принцип, а его незадачливые комментаторы. К сожалению, с такого рода «истолкователями» социальной природы языка приходится до сих пор встречаться нередко. Нельзя не учитывать, что подобного рода «объяснения», все еще бытующие в науке, приводят к тому, что многие серьезные ученые, так сказать, с порога отвергают всякие попытки, в том числе и попытки совсем иного рода, осмыслить социальный фон грамматических процессов, совершающихся в разных языках. Отсюда и возникло широко распространенное и почти всеми принимаемое противопоставление внутренних процессов в языке процессам социальным. В результате понятия социального и лингвистического выступают не как взаимодействующие, а как понятия антагонистические. Тем самым, казалось бы, всеми признанная аксиома о социальной природе языка перестает быть аксиомой и превращается в недоказанную гипотезу. Я еще попытаюсь вернуться к этому важнейшему вопросу, а сейчас хочу обратить внимание на другую сторону проблемы. В совсем недавно вышедшем у нас коллективном сборнике утверждается, что «социальная лингвистика – это молодая отрасль современного языкознания», а на следующей странице этого же сборника сообщается, что «социальная лингвистика в СССР имеет давнюю традицию»[212]. Здесь не было бы никакого противоречия, если читатели знали, что существуют совершенно различные осмысления социальной природы языка: в одном осмыслении эта область лингвистики действительно выступает как новая, в другом – как достаточно старая. При этом – и это очень важно! – старое осмысление социальной лингвистики (о самом этом термине речь пойдет дальше) связано с материалистическими традициями науки о языке в СССР, а новое осмысление, казалось бы, того же предмета, с осмыслением нередко антиматериалистическим. Это не означает, разумеется, что осмысление социальной лингвистики в нашу эпоху не вносит ничего нового и в самый предмет изучения (здесь немало интересного!), но это означает, что методологические расхождения в истолковании социальной природы языка наметились и сформировались уже давно.
2
Интерес к социальной лингвистике, стремительно растущий в наше время во всем мире, тесно связан с интересом к общим вопросам социологии, тоже непрерывно возрастающим. В 1949 г. под эгидой ЮНЕСКО была создана «Международная социологическая ассоциация», которая стала проводить международные социологические конгрессы. В 1974 г. в Токио завершился уже восьмой такой конгресс. На нем было прочитано около двух тысяч докладов и зарегистрировано около шести тысяч выступлений. При этом проблемы социологии освещались с самых различных теоретических позиций[213]. За последние годы даже возникло особое понятие «социологической пропаганды». Французский социолог Ж. Эллюль сравнивает подобную пропаганду со вспахиванием земли, тогда как обычную или прямую пропаганду – с засеиванием земли, которая предварительно была вспахана с помощью социологической пропаганды[214]. Все это показывает не только огромный интерес к общим вопросам социологии, но и острую идейную борьбу вокруг этих общих проблем. И все же во многих построениях до сих пор остаются неясными различные толкования взаимоотношений между социологией, философией и конкретными областями человеческого знания. Под воздействием общего интереса к социологии стал обостряться интерес и к более специальным сферам социологии, в частности, к лингвистической социологии. За последние 10 – 15 лет в разных странах публиковались не только специальные социолингвистические исследования, но выходили в свет и хрестоматии, в которые включались аналогичные разыскания, уже признанные в той или иной степени классическими[215]. И все же, несмотря на подобные усилия, основные понятия социальной лингвистики все еще остаются либо спорными, либо неясными. Причин подобной неясности много. Сейчас попытаюсь указать на одну из главных. Дело в том, что социолингвистические исследования только тогда могут быть плодотворными, когда у самих исследователей существует ясное понимание социальной природы языка, ясное понимание языка, как глубоко общественного феномена. Между тем, как сообщалось в коллективной работе группы советских лингвистов еще в 60-е годы,«…наиболее серьезным недостатком американского структурализма является отсутствие в нем теории языка как общественного явления, приводящее к резкому ограничению самой языковедческой проблематики…, отсутствие в американской структурной лингвистике сколько-нибудь четкой философской базы, направляющей исследование»[216].Из этого справедливого замечания следует, что теорию социальной лингвистики невозможно строить без ясного понимания социальной природы самого языка, без ясной общей философской концепции. Из сказанного, однако, не следует, что правильное истолкование социальной природы языка как бы автоматически обеспечивает столь же справедливое осмысление задач социальной лингвистики. Вопрос этот гораздо сложнее. Так, например, советских лингвистов давно объединяет марксистское понимание социальной природы языка, однако проблемы социальной лингвистики до сих пор освещаются ими весьма различно. Глубокое понимание социальной природы языка лишь создает благоприятные условия для столь же глубокого понимания социальной лингвистики, но само по себе первое условие отнюдь не гарантирует успеха второму условию. Движение от первого тезиса ко второму тезису оказывается сложным. Поэтому и среди советских лингвистов имеются различные интерпретаторы не только самого предмета социолингвистики, но и методов ее изучения. К этому важнейшему вопросу я попытаюсь вернуться в процессе изложения конкретного материала, сейчас хочу обратить внимание на другое – на время возникновения социальной лингвистики. Как только что было отмечено, возникновение социальной лингвистики в значительной степени определяется тем, о какой социальной лингвистике идет речь: о такой, которая стремилась опереться на марксистское понимание языка и общества или о другой области знания, которая прошла мимо важнейших положений учения Маркса и Ленина. Первая зародилась прежде всего в советском языкознании уже в самом начале 30-х годов, вторая – обычно связывается с именем французского лингвиста А. Мейе, но широкое развитие она получила лишь за последние 20 лет в некоторых зарубежных странах. Разумеется, обе эти по существу различные дисциплины соприкасаются в материале исследования, однако методологические позиции ученых, разделяющих ту или иную доктрину, оказываются принципиально иными. Как пишут современные историки языкознания, сам А. Мейе считал себя родоначальником социальной лингвистики[217]. Однако при всем уважении к этому выдающемуся специалисту в области всех индоевропейских языков, автору многих капитальных конкретных разысканий, его толкование социальной природы языка было преимущественно декларативным. Так, например, Мейе неоднократно подчеркивал, что задача историка каждого языка заключается в том, чтобы установить, в
«каком соответствии находится социальная структура общества, говорящего на данном языке, и структура языка этой же эпохи»[218].Свою книгу о латинском языке он начинает с утверждения, что
«политическая история Рима и история римской цивилизации должны объяснить нам историю латинского языка»[219].Однако ни в этой монографии, ни в других своих публикациях А. Мейе нигде так и не показал, как следует понимать отмеченную им зависимость. На страницах его книг история языка совершается сама по себе, а история народа, говорящего на этом языке, лишь упоминается для соблюдения общего «социологического фона». Читателю самому предоставляется возможность размышлять или не размышлять на тему о том, какая здесь может существовать зависимость между лингвистическим и социальным «рядами». И хотя самому Мейе так и не удалось в своих книгах показать взаимодействие подобных рядов, все же важно, что он отчетливо понимал всю серьезность и принципиальность подобной проблемы. Для немарксистской лингвистики такое понимание социальной природы языка было характерно вплоть до начала 60-х годов нашего столетия, когда возникли новые лингвосоциологические проблемы, расширившие круг наблюдений ученых. Впрочем, в методологическом плане здесь, как мы увидим дальше, почти ничегоне изменилось. Иначе складывалась история социальной лингвистики у нас в стране. Интерес к социальной природе языка, ярко выраженный уже у выдающихся русских филологов конца XIX или начала XX в. (у А. Потебни, А. Шахматова, Л. Щербы и др.), после Великой Октябрьской революции 1917 г. заметно расширяется и углубляется. Новое осмысление социальной природы языка возникло, однако, отнюдь не сразу. Работы советских лингвистов 20-х годов еще мало самостоятельны в этом плане. В небольшой книге Р.О. Шор «Язык и общество» прямо сообщается:
«Задача предлагаемого очерка – изложить в доступной для русского читателя форме новейшие достижения западноевропейской мысли в области социологии языка»[220].Примерно такую же цель преследовала и статья M.Н. Петерсона «Язык как общественное явление»[221]. Здесь социальная природа языка понимается прежде всего как своеобразная совокупность всевозможных влияний: влияния путей сообщения на развитие и функционирование языка, влияния школы и расширения образования, влияния больших культурно-промышленных центров и т.д. Хотя подобные влияния несомненны, они все же прямо не отвечают на вопрос о том, как следует понимать социальную природу самого языка, его функций и его назначения. Повторялась уже знакомая нам концепция, согласно которой социальным феноменом является не сам язык, а те многочисленные внешние факторы (сами по себе важные), которые воздействуют на язык. В истории советской социальной лингвистики перелом происходит в самом начале 30-х годов. В 1931 г. выходит интересная, хотя и спорная книга Е.Д. Поливанова, в которой делается попытка расширить понимание социальной природы языка[222]. В следующем году публикуется яркое исследование А.М. Иванова и Л.П. Якубинского[223]. Здесь, едва ли не впервые, на конкретном материале была сделана попытка показать социальную природу не только «институтов», влияющих на язык, но и социальную природу самого языка, его различных уровней, особенности его функционирования. Широко была поставлена проблема формирования национальных языков у разных народов, получившая интересную и плодотворную разработку в разысканиях советских ученых 30 – 40-х годов[224]. Я здесь не стремлюсь дать очерк истории советской социолингвистики. Это особая и важная задача, которая должна быть выполнена в специальном исследовании. Здесь хотелось показать другое: вопреки широко распространенному мнению, хронология социальной лингвистики не может определяться тем или иным годом. Все дело в том, что уже с начала нашего века определились во многом различные концепции социальной лингвистики, каждая из которых имеет свою хронологию. Достаточно напомнить, что и Соссюр в своем знаменитом «Курсе» (1-е изд. 1916 г.), с одной стороны, подчеркивал социальную природу языка, а с другой – призывал изучать язык «в самом себе и для себя»[225]. Разумеется, в этом случае концепция социальной лингвистики должна быть совершенно особой. Распространить принцип социального осмысления языка на его внутренние уровни оказалось, однако, совсем непросто. Многое определяется здесь самим характером того или иного уровня. Даже неспециалисту ясно, что лексика социально обусловлена прямее и непосредственнее, чем грамматика, которая многим вообще кажется вне всяких социальных осмыслений. Диалекты предстают социально детерминированными очевиднее, чем, например, стиль языка художественной литературы, на первый взгляд создающий впечатление о своей зависимости лишь от индивидуальной воли отдельных авторов. Возникает множество вопросов, требующих специального анализа. Образуется и другая опасность, когда речь заходит о социальной обусловленности различных уровней внутренней структуры языка. Эта опасность выражается в том, что сама проблема сводится к разрозненным иллюстрациям, к отдельным примерам. Между тем отдельные примеры, интересные сами по себе, еще мало о чем говорят, когда речь заходит о целом уровне языка, о его внутренней структуре, в особенности – о его грамматическом строе. Даже лексические иллюстрации (не говоря уже о грамматических) здесь оказываются чаще всего разрозненными или случайными. Вот несколько примеров. Еще в 1820 г. Вальтер Скотт в своем знаменитом романе «Айвенго» обратил внимание на то, что в английском языке названия многих домашних животных англо-саксонского происхождения, тогда как названия соответствующих блюд, которые изготавливаются из мяса этих животных, французского происхождения. Объяснение последовало такое: крепостные англосаксы ухаживали за скотиной, тогда как господа, владевшие французским языком и знакомые с французской кухней, предпочитали называть соответствующие блюда словами французского происхождения. Этим обусловлены и различия, например: swine ʽсвиньяʼ, слово германского происхождения, pork ʽсвининаʼ, слово французского происхождения. Оперируя подобного рода примерами не только из области кулинарии, но и из области государственных отношений феодального общества, Вальтер Скотт подчеркивал социальную дифференциацию известной части английской лексики. Немного позднее Виктор Гюго в своем знаменитом «Ответе на обвинение» (1834 г.) приводил примеры отдельных французских слов, изменения значений которых совершились под воздействием событий французской буржуазной революции 1789 – 1793 гг.[226] Как ни интересны сами по себе подобные иллюстрации (их число легко увеличить из истории разных языков), они еще не доказывают, что природа языка социально обусловлена. Здесь справедливо обычно задают такой вопрос: ну, а какой процент подобных слов имеет каждый язык? При этом легко доказывается, что процент таких слов (сравнительно с общим количеством слов данного языка) оказывается невелик. Отвечая таким образом, и лингвисты, и простые наблюдатели языка невольно бросают тень на, казалось бы, аксиоматическое положение о социальной природе языка. В действительности эта аксиома является подлинной аксиомой. Беда, однако, в том, что даже лингвисты обычно освещают ее с помощью довольно примитивных примеров. Разумеется, отдельные слова и даже группы слов в каждом языке могут иметь более очевидную социальную окраску, чем другие слова и другие группы слов. Но такими, чисто количественными подсчетами, в языке почти ничего не докажешь. Вопрос должен быть поставлен совершенно иначе. Весь уровень развития лексики каждого конкретного языка социально обусловлен. Если рассматривать литературный язык, то степень разграничения значений между синонимами, тонкие лексические оттенки между словами разных стилистических «пластов», возможность выразить новые понятия с помощью новых слов, словообразовательные ресурсы языка и степень их развития, органичность во взаимодействии между терминами и «житейскими» словами, как и многое другое, демонстрирует уровень развития лексики данного языка – уровень, который сам по себе оказывается социально детерминированным. Социально детерминирован и характер взаимодействия между литературной нормой языка и ее общенародными истоками. Речь идет, следовательно, не об отдельных словах, а о лексике и семантике языка в целом. Именно поэтому можно говорить о языках с более развитой лексикой и о языках с менее развитой лексикой. И здесь, разумеется, нет ничего обидного для каждого отдельного языка и отдельного народа, носителя этого языка, ибо все определяется неодинаковыми историческими условиями, в которых находились и находятся разные языки и разные культуры тех или иных народов[227]. Ну, а как же быть с грамматикой? Чаще всего грамматику объявляют вне всякой социальной обусловленности. И с определенных методологических позиций это последовательно: ученые, разделяющие подобную концепцию, считают (о чем шла уже речь в предшествующих строках) социально обусловленным не сам язык, не его внутренние возможности и ресурсы, а лишь социальные «институты», с которыми так или иначе соприкасается язык. Иногда и здесь допускают отдельные социальные воздействия, но строго ограничивают их отдельными иллюстрациями. Здесь повезло, в частности, так называемым формам обращения. Хорошо известно, что, обращаясь к своему собеседнику на ты или на вы, мы вольно или невольно подчиняемся определенному социальному этикету, обнаруживаем степень своей воспитанности, внимательности и т.д. Иногда подобный этикет распространяется и на другие грамматические явления. Наши известные японисты – Н.И. Конрад и А.А. Холодович – в свое время писали об особом «социальном спряжении глаголов в японском языке», в котором выбор типа спряжения обусловливается не только тем, кто и к кому обращается, но и тем, идет ли речь об отношении «я к не-я» или «не-я к я»[228]. Сравнительно недавно В.М. Алпатов в монографии «Категория вежливости в современном японском языке» (М., 1973) убедительно показал, что многообразные «категории вежливости» в японском языке имеют не только лексические, но и отчетливо грамматические формы выражения. В связи с этим возникает и интересная, совсем малоизученная проблема: тó, что в одних языках передается преимущественно лексически, в других языках транспонируется грамматически. Соответственно могут расширяться и социальные функции грамматики.
3
В чем же, однако, сложность самой попытки социолингвистического рассмотрения грамматики? На одно из таких осложнений уже было обращено внимание в предшествующих строках (боязнь оказаться на позициях вульгарной социологии). В действительности таких осложнений немало. Между тем пока грамматика (душа всякого естественного языка) будет считаться областью, недоступной социолингвистическому анализу, тезис, утверждающий социальную природу всякого языка, остается простой, если не пустой декларацией. Обратим внимание на другую трудность. Часто приходится слышать, что история формирования грамматики каждого языка – это постепенное движение от конкретных категорий к категориям абстрактным. В самом общем плане подобное утверждение справедливо, но лишь как общий постулат, постоянно нарушаемый конкретным материалом разных языков. Уже А.А. Потебня, со свойственной ему остротой и глубиной мысли, совершенно справедливо подчеркивал:«Нельзя охарактеризовать развитие языка его стремлением к отвлеченности, не прибавив, что вместе с тем развивается и его способность изображать конкретные явления»[229].В истории самых различных языков растут и крепнут не только их абстрагирующие возможности, но и их способности точно передавать конкретные представления. Китаистам, например, хорошо известно, что в письменных памятниках китайского языка конца первого тысячелетия до нашей эры уже встречались абстрактные числительные, хотя позднее возникает другой счет, опирающийся на конкретные предметы[230]. Здесь движение определяется не типом «от конкретного к абстрактному», а более сложным типом – «от абстрактного к конкретному, а затем вновь к абстрактному». Правда, в этом ряду второе абстрактное обычно предстает как абстрактное качественно иного характера, чем первое абстрактное. Все это говорит о том, что развитие грамматики разных языков не определяется какой-то универсальной схемой, а зависит от многих условий, подлежащих самому тщательному изучению[231]. К сожалению, проблема языка и мышления – одна из центральных проблем теоретического языкознания, которая в работах советских лингвистов 30 – 40-х годов действительно занимала видное место, после лингвистической дискуссии начала 50-х годов была отодвинута на самый задний план. За последние 25 лет у нас появились лишь немногие работы, в которых специально, а чаще всего бегло и попутно рассматривались вопросы, относящиеся к взаимодействию языка и мышления[232]. Причины, вызвавшие подобный «уход» от одной из центральных проблем науки о языке, были многочисленны. Прежде всего надо отметить влияние формалистической лингвистики, объявившей проблему языка и мышления проблемой схоластической и несовременной. Уже в 1952 г. американский ученый Ч. Фриз подчеркивал, что все «беды современного языкознания» будто бы определяются былым стремлением филологов как-то связать язык и мышление[233]. Немного позднее об этом же писал и глава лондонской школы лингвистов Дж. Ферс, считавший дихотомию «язык и мышление» лишь «обузой (nuisance) для всякого лингвиста»[234]. И какие только доводы не выдвигались за последние четверть века против проблемы взаимодействия языка и мышления! В идеалистической философии нашего времени обычно считают, что «подлинное мышление» проходит мимо языка, оно будто бы не нуждается во вмешательстве «грубых форм языка». При этом ссылаются на наличие многоязычия.
«Если бы человек мыслил на определенном языке, то всякое изучение нового языка стало бы невозможным»[235].Этот очень старый аргумент по существу своему не только несостоятелен, но и наивен, хотя уже в 1818 г. его защищал такой видный философ, как А. Шопенгауэр[236]. Позднее с аналогичным тезисом выступал Е. Дюринг. Рассматривая положение Дюринга, согласно которому отвлеченное мышление протекает без языка, Ф. Энгельс заметил:
«Если так, то животные оказываются самыми отвлеченными и подлинными мыслителями, так как их мышление никогда не затемняется назойливым вмешательством языка»[237].Дюрингу казалось, что «вмешательство материи языка» огрубляет проблему мышления. В действительности подобное «вмешательство» ставит проблему языка и мышления на твердые основания. Против проблемы взаимодействия языка и мышления выдвигаются, однако, не только старые доводы, но и новые. Рассмотрим кратко некоторые из них. В последние годы многие лингвисты стали говорить не о взаимодействии языка и мышления, а о взаимодействии языка и «речевого мышления»[238]. Спору нет, в языке действительно существуют специфические «мыслительные категории», которые лингвист обязан уметь выявлять и анализировать. Но при этом лингвист обязан уметь делать и другое: устанавливать, какое отношение существует между подобными, казалось бы, чисто языковедческими категориями и категориями человеческого мышления вообще. Пусть те и другие категории не всегда и не во всем совпадают, но, если исследователь замыкает свой анализ «мыслительными категориями языка», не ставя вопроса о взаимодействии между подобными категориями и категориями человеческого мышления вообще, он невольно замыкает свой анализ «языком в самом себе и для себя» (как известно, это тезис Соссюра). Между тем в той мере, в какой мышление человека органически связано с языком, подобного рода «замыкание» не может в конечном счете не привести к изоляции (полной или частичной) языка от мышления. Разумеется, вопрос этот сложный и его нельзя упрощать, но, как представляется, его освещение с определенных методологических позиций имеет принципиальное значение для правильного понимания сущности борьбы идей и научных направлений в современном языкознании. Ведь К. Маркс и Ф. Энгельс всегда подчеркивали, что язык – это действительное, реальное сознание. Поэтому без точного разъяснения (а этого до сих пор никто не сделал), в каком отношении «речевое мышление» находится к общему мышлению и сознанию человека, терминологическое словосочетание «речевое мышление» (быть может есть и «языковое мышление», и «общее мышление»?) остается неясным. В последние годы возникла и другая, очень широко распространенная теория, согласно которой мышление человека всегда остается неизменным. Изменяется его мировоззрение, тогда как мышление никаким трансформациям не подвержено. В наше время эту концепцию защищают многие видные ученые. Так, например, Д.С. Лихачев пишет:
«Мышление человека во все времена было в целом тем же. Менялось не мышление, а мировоззрение, политические взгляды и эстетические вкусы»[239].В свете такого тезиса (на мой взгляд, ошибочного) проблема взаимодействия языка и мышления сейчас же становится неясной: развитие языков народов мира не отрицает ни один серьезный ученый, но подобное развитие при исторически неизменном мышлении становится неясным. Получается, что изменяются лишь формы языка, никак не взаимодействующие с человеческой мыслью. Тем самым оказывается неясным, казалось бы, очевидный тезис, утверждающий взаимодействие языка и мышления. Конечно, в той постановке вопроса о взаимодействии языка и мышления, которая была характерна для советского языкознания 30 – 40-х годов, некоторые положения уже устарели. Но многое до сих пор сохраняет все свое значение. Поэтому никак нельзя согласиться с теми учеными, которые в наши дни утверждают, что современная постановка вопроса о языке и мышлении «абсолютно несопоставима с прошлым», с тем, как ставился этот же вопрос в 40-е годы[240]. На мой взгляд, гораздо более правы те историки и этнографы, которые защищают тезис, утверждающий историческое развитие человеческого мышления[241]. Еще в начале нашего столетия выдающийся этнограф Ф. Боас убедительно развивал такое положение: дело не в том, что, например, индейцы не могут передавать абстрактные понятия (в принципе, они в состоянии это делать), но дело в том, что в определенные исторические эпохи у тех же индейцев может отсутствовать общественная необходимость в передаче подобных понятий и представлений[242]. На мой взгляд, подобная постановка вопроса отличается историчностью. Она весьма убедительна. Она же обнаруживает социальную природу мышления. А социальная природа мышления помогает глубже понять и социальную природу языка. Тогда и тезис, утверждающий взаимодействие языка и мышления, перестает быть простой декларацией. В первой половине нашего столетия известный французский философ и этнограф Л. Леви-Брюль в целом ряде своих исследований стремился показать, как исторически развивалось мышление человека. И хотя в концепции этого ученого было немало слабых мест (несколько прямолинейное истолкование стадий мышления), в целом его доктрина была несомненно прогрессивной[243]. Уже в нашу эпоху другой французский историк и этнограф, ученый, фамилия которого оказалась частично омонимичной с фамилией первого исследователя, К. Леви-Стросс занял иную позицию: тоже пристально изучая мышление древнего человека, он стремится установить прежде всего мифологический характер подобного мышления, устраняя вопрос об его исторической периодизации. Но постановка вопроса о мифологическом характере мышления древнего человека уже сама по себе заставляет задуматься над проблемой развития, совершенствования мышления, над тем, что мышление человека исторически может быть более зрелым или менее зрелым. Все это не имеет никакого отношения к «врожденным способностям» тех или иных народов. Но в строго историческом плане проблема представляет большой интерес[244]. У нас есть все основания считать, что классики марксизма придавали большое значение общей теме – язык и мышление. Язык, писал К. Маркс,
«элемент самого мышления…, в котором выражается жизнь мысли…»[245]
«…разум человека развивался соответственно тому, как человек научался изменять природу»[246].В первом случае подчеркивается органическая связь языка и мышления, во втором – развитие разума в процессе трудовой деятельности человека.
«Движение, – подчеркивает Ф. Энгельс, – рассматриваемое в самом общем смысле слова, т.е. понимаемое как способ существования материи, как внутренне присущий материи атрибут, обнимает собой все происходящие во вселенной изменения и процессы, начиная от простого перемещения и кончая мышлением»[247].Здесь прямо связываются понятие о движении и понятие о мышлении. Следовательно, мышление человека подвижно, оно развивается, причем развивается не в плане простого перемещения, а в плане высшей формы движения («…кончая мышлением»). Столь же важные и глубокие суждения по этому вопросу находим и у В.И. Ленина:
«…если всё развивается, то относится ли сие к самым общим понятиям и категориям мышления? Если нет, значит, мышление не связано с бытием. Если да, значит, есть диалектика понятий и диалектика познания, имеющая объективное значение»[248].Как видим, В.И. Ленин обосновывает важный тезис, утверждающий органическую связь не только между понятием о мышлении и понятием о движении, но и между понятием о мышлении и понятием о развитии. Мышление человека не только изменяется (движение), но и развивается, т.е. качественно совершенствуется. Эту же мысль В.И. Ленин подчеркивает и в другом месте. Комментируя введение к «Лекциям по истории философии» Гегеля, В.И. Ленин замечает:
«…за строгую историчность в истории философии, чтобы не приписывать древним такого „развития“ их идей, которое нам понятно, но на деле отсутствовало еще у древних»[249].Это ленинское положение имеет большое значение не только для историков человеческого мышления, но и для историков самых различных языков, в силу самого принципа единства языка и мышления. То, что на одном этапе своего бытования люди и их языки еще не умели выражать и передавать (или иначе выражали и передавали), то на другом этапе они могли получить подобную возможность. Языки не просто изменяются (принцип коловращения), но развиваются, совершенствуются. То же происходит и с человеческим мышлением[250]. В свете такой, строго исторической постановки вопроса становится ясно, почему даже в пределах культуры только одних европейских стран, такие, например, понятия и соответствующие слова, их выражающие, как душа, работа, счастье, слава, успех, победа, поражение, и десятки других имели еще в средневековую эпоху во многом иное значение сравнительно с их же значениями в наше время. В этом плане большой интерес представляет история таких слов-понятий, как причина, качество, количество, восприятие, разум, чувства, и мн. др.[251] Ну, а каков же социальный и исторический фон грамматики? Если опыт исторического истолкования грамматики имеет длительную историю, то проблема социального фона грамматики все еще остается по существу нетронутой. В последующих строках, пока лишь на небольшом конкретном материале, я постараюсь хотя бы обратить внимание на эту важную и интересную проблему.
4
Хорошо известно, что в простом предложении латинского классического языка сказуемое (глагол) обычно находилось на последнем месте: pater filium amat ʽотец любит сынаʼ. В романских языках постепенно сложилось иное соотношение и сказуемое (глагол) переместилось на второе место в предложении, предполагая тем самым другую исходную латинскую конструкцию: pater amat filium. Этот процесс перемещения сказуемого (глагола) произошел во всех романских языках, но наиболее последовательно и регулярно он совершился во французском – наиболее аналитическом по своему грамматическому строю языке романского лингвистического ареала. В свое время были обсуждены различные теории, авторы которых предлагали те или иные объяснения процесса передвижения сказуемого в составе предложения. Ссылались на изменения ритма предложения, на будто бы более «примитивный характер» конечной позиции сказуемого сравнительно с позицией в центре предложения, на психологические условия протекания речи и т.д.[252] Но доказать, что одна из двух конструкций лучше или хуже другой, разумеется, невозможно. Сейчас же возникает справедливый вопрос: с какой точки зрения лучше или хуже, для кого – лучше или хуже? Сами по себе обе конструкции не дают и не могут дать ответов на подобные вопросы. Попытаюсь поэтому совсем иначе подойти к анализу подобных конструкций. Хорошо известно, что в связи с развитием аналитического строя во всех романских языках и особенно последовательно во французском, личные местоимения становятся обязательными спутниками личных форм глагола. Римлянин мог сказать canto ʽя поюʼ и флексия передавала соответствующее лицо глагола. В связи же с распадом глагольных флексий французы уже к XV столетию должны были прибегать в таких случаях к местоимениям для передачи лица глагола. Форма chante стала непонятной (кто поет – я или он?) и местоимения начали укреплять ее. Возникло спряжение иного структурного типа: je chante ʽя поюʼ, но il chante ʽон поетʼ. Легко заметить, что дифференциация в пределах категории лица здесь осуществляется с помощью личных местоимений. Процесс этот совершался постепенно, но к началу XVII столетия во французском языке он был завершен. Теперь попытаемся взглянуть на это, хорошо известное явление, глазами лингвиста, стремящегося не только констатировать внутренние изменения, происходящие в грамматике, но и обнаружить социальный фон (в широком смысле), на котором подобные изменения происходили. Для этой цели сравним конструкции отмеченного типа в старофранцузских текстах до XIV столетия с соответствующими конструкциями в современном французском языке. В знаменитой «Песне о Роланде» (конец XI в.) постоянно встречаем построения с глаголом (сказуемым) в конце и без соответствующего местоимения. Например, (строки 96 – 98) сообщается об «императоре храбром и веселом» и что он «завоевал Кордову» (город в Испании) :Li empereres se fait et balz et liez
Cordres ad prise et les murs peceiez[253].
Fuit sʼen Ernauz brochant a asperon,
Raous lʼenchauce qui euer a de felon[257].
«все вещи противоречивы в самих себе»[261].Иное осложнение может определяться тем, что современные языки более чувствительны к разграничению стилей (например, разговорный стиль – письменный стиль), чем языки старые. Поэтому подчинительные конструкции в письменном стиле современного языка могут иметь значительно больший удельный вес, чем в стиле разговорном. И все же общее движение от синтаксического сочинения к синтаксическому подчинению, несмотря на отмеченные осложнения, сохраняет свою силу для большинства индоевропейских, как, по-видимому, и для многих других языков[262]. Социальный же фон этого важнейшего грамматического процесса очевиден, хотя до сих пор никем не отмечался. Но не только общие грамматические тенденции тех или иных языков должны быть осмыслены с позиции социальной (в широком смысле) функции этих языков в определенную историческую эпоху, но и тенденции более локальные, казалось бы, чисто имманентные, но в действительности тоже имеющие определенные социальные импульсы. По другому поводу мне уже приходилось писать о препозиции и постпозиции прилагательных в романских языках. Сейчас попытаюсь осмыслить и эту проблему с социальной позиции. Как известно, во французском (во многом сходная картина и в других романских языках) место прилагательного по отношению к имени существительному, которое прилагательное определяет или характеризует, отличается большой подвижностью: прилагательное может быть и в препозиции, и в постпозиции. Ср., например, un homme pauvre ʽбеднякʼ, ʽбедный человекʼ, но un pauvre homme ʽбеднягаʼ, ʽнеудачникʼ. Препозиция и постпозиция прилагательного обычно передают тонкие семантические оттенки. В 1840 г. Стендаль в знаменитом письме к Бальзаку заметил:
«Я стремлюсь быть ясным. Нередко я размышляю минут пятнадцать, поставить ли мне прилагательное после или перед существительным»[263].В современных грамматических описаниях также подчеркивается сложность самого правила выбора препозиции и постпозиции прилагательного. Отмечается важность таких факторов, как cтиль, ритм, большее или меньшее единство самого сочетания прилагательного и существительного. Наряду со многими факторами фигурирует и такой: в постпозиции прилагательное обычно сохраняет свое буквальное значение, а в препозиции – фигуральное значение: ранее приведенный пример (а таких иллюстраций нетрудно дать десятками) подтверждает данное правило. В свете этого правила к специальному, но живому грамматическому процессу можно подойти с позиции социолога. В связи со стремительным ростом удельного веса научных публикаций во всем мире, в том числе, разумеется, и на французском языке, в системе единого языка развиваются своеобразные стили или типы, разновидности единого языка. Вырабатываются не только особенности разговорной речи в отличие от речи письменной (тоже стили или типы), но и особенности научного изложения в отличие, например, от художественного изложения. Но в научном стиле имена прилагательные обычно выступают в своем прямом, непереносном значении. Ср., например, la physique nucléaire ʽядерная физикаʼ, la géométrie analytique ʽаналитическая геометрияʼ, la chimie organique ʽорганическая химияʼ, la linguistique sociologique ʽсоциальная лингвистикаʼ, le système astronomique ʽастрономическая системаʼ. Подобные примеры (их можно приводить сотнями) обнаруживают не только устойчивую постпозицию прилагательного в научной терминологии, но и его точное, собственное (не фигуральное) значение. В той же мере, в какой рост удельного веса научной литературы в современном мире является фактором глубоко социальным, этот фактор оказывает свое опосредованное воздействие и на некоторые грамматические особенности языка. Разумеется, вопрос этот нельзя упрощать. В наше время, как и в эпоху Стендаля, хорошие стилисты продолжают раздумывать над препозицией и постпозицией прилагательного. На выбор места прилагательного продолжают оказывать воздействие все внутренние факторы, имевшие место и раньше (семантические и стилистические оттенки, ритм словосочетания, синтаксическое окружение и пр.). И все же социальный импульс, как ариаднина нить, дает возможность взглянуть на все перечисленные факторы с новой точки зрения. Хотя социальный импульс объясняет лишь одну группу подобных факторов, он сам по себе очень важен в методологическом плане: социальная природа языка обнаруживается и в грамматических процессах живых языков человечества. Пусть мы не всегда умеем увидеть и «вытянуть» эту ариаднину нить, само ее существование приобретает важнейшее теоретическое значение. Разумеется, сравнительно с первым грамматическим процессом, вызвавшим перестройку всей конструкции предложения, препозиция и постпозиция прилагательного выступают как сравнительнолокальные синтаксические явления, но здесь важно подчеркнуть, что социальные импульсы дают о себе знать и в общих, и в частных грамматических трансформациях. Таковы лишь некоторые конкретные материалы (здесь неизбежно ограниченные), позволяющие провести дальнейшую разработку проблемы социального фона грамматики, больше того – проблему социальной детерминации грамматики.
5
К этим двум проблемам, точнее – к двум аспектам по существу единой проблемы можно подойти и с другой позиции. Известно, что на грамматику литературного языка вполне допустимо воздействовать, что нисколько не противоречит объективности существования языка, объективности его развития. К сожалению, многие лингвисты, в том числе и такие крупные ученые, как А. Мартине, считают, что понятие объективный и понятие подверженный воздействию несовместимы[264]. Между тем, как показывает история самых разнообразных языков, эти понятия лишь внешне кажутся несовместимыми. По существу же они лишь обогащают друг друга: развиваясь по вполне объективным законам, литературный язык в процессе своего функционирования вместе с тем «обрабатывается», совершенствуется, его категории дифференцируются, уточняются в соответствии с нуждами людей. В истории русского литературного языка можно выделить, например, конец XVIII и первую треть XIX в., когда грамматика подверглась особенно заметному, сознательному воздействию со стороны ряда выдающихся писателей и прежде всего – со стороны Пушкина. В истории английского языка обращает на себя внимание XVI столетие с его многочисленными грамматическими трактатами, а на рубеже следующего столетия – с текстами Шекспира. Знатоки истории итальянской культуры считают, что в Италии язык сыграл решающую роль в развитии самосознания итальянского народа, причем этот процесс проходил в разные эпохи, в частности, в эпоху Данте (XIV в.) и в эпоху Л. Мандзони (XIX в.). Влияние выдающихся писателей на литературный язык, в том числе и на нормы его грамматики, было во всех перечисленных случаях весьма значительным. До начала XIX столетия никто из крупных европейских писателей не сомневался, что на язык и его нормы люди могут воздействовать. Менялось лишь представление о том, кáк понимать характер подобного воздействия. Ситуация изменилась в 20-е годы прошлого столетия. Открытие сравнительно-исторического метода и фонетических знаков, не имеющих исключений (как тогда думали), создавало впечатление, что языки функционируют и развиваются совершенно механически. Человек оказывался в стороне от подобных процессов. Такое убеждение осложнялось, однако, тем, что в эту же эпоху широкое романтическое движение в странах Западной Европы с его культом индивидуального начала и индивидуального творчества противоречило лингвистическим представлениям о будто бы чисто механических законах развития языка. Во второй половине прошлого века эту последнюю точку зрения попытались усилить младограмматики, исследовавшие прежде всего внешние формы языка. Об этом же думают и ортодоксальные структуралисты нашей эпохи, подчеркивающие автономный характер языка, якобы совсем не зависящий от мыслей и чувств людей, говорящих на нем. Иную картину обрисовывают те современные филологи, которые связывают язык с культурой народа в широком смысле и у которых язык выступает прежде всего как средство общения людей, как средство передачи их мыслей и чувств, намерений и переживаний, убеждений и пожеланий. В такой концепции понятие объективности существования языка и понятия воздействия на язык, прежде всего на его литературную норму, выступают не как контрадикторные понятия, а как понятия, взаимно обогащающие друг друга. Язык оказывается не в изоляции от человека. Язык выступает как органическая часть самого человека во всей его социальной обусловленности. Когда говорят о связи языка с действительностью, то обычно, как мы уже знаем, все сводят к лексике, точнее – к новым и старым словам. Отдельные слова умирают, становятся архаичными, другие возникают, становятся новыми. На этом чаще всего и ставится точка. Подобное представление о большой, сложной, важной проблеме «язык и действительность» нельзя не признать наивным. Разумеется, лексика показательна. Но, как я стремился демонстрировать, весь язык прямо или косвенно связан с действительностью. Трудность проблемы, однако, в том, что все мы, филологи, еще недостаточно научились подобную связь обнаруживать и тщательно исследовать. Зная, что в определенном конкретном языке имеется единственное число в грамматике, еще нельзя утверждать, сколько «чисел» ему противостоит. Если же в конкретном языке имеется двойственное число, можно с уверенностью сказать, что в этом языке существует и единственное, и множественное числа. В первом же случае никто не ошибется, предположив, что одно число, как самостоятельная грамматическая категория бытовать не может: ему должно быть что-то противопоставлено. В таких примерах обычно усматривают лишь нежесткость системы любого живого языка[265]. На мой взгляд, здесь важно и другое: как грамматика языка «откликается» на представления, которые имеются в мышлении. Трудность проблемы в том, что на подобные разграничения, подсказанные связью языка с мышлением и с действительностью, разные языки дают разные ответы. Но исследование подобных «ответов» представляет большой теоретический интерес. Уже тот факт, что в европейских языках противопоставление единственного и множественного чисел приобретает в самой грамматике большее значение, чем противопоставление, например, единственного и двойственного (где оно имеется) чисел, обнаруживает связь грамматики через посредство мышления с реальной действительностью. Первое противопоставление оказывается семантически важнее и универсальнее сравнительно со вторым противопоставлением. С подобной связью языка и действительности в наше время стало модным не считаться[266]. Об этом нельзя не сожалеть. Что только не делается, например, чтобы доказать, будто между грамматической категорией времени в европейских языках и категорией времени, которой люди оперируют в жизни, нет никакой связи. Между тем при всей специфике понятия времени в грамматике в отличие от понятия времени в жизни между ними, разумеется, имеются глубокие и разнообразные контакты. В свое время Вандриес отмечал, что одному немецкому прошедшему времени типа ich liebte ʽя любилʼ соответствуют во французском языке два прошедших времени типа jʼaimais (имперфект) и jʼaimai (перфект)[267]. И таких примеров несовпадения количества грамматических типов времен между разными языками (даже в пределах родственных групп) можно приводить десятками. И все же принцип разграничения внутри категории времени, хотя и передается в разных языках различно, остается принципом, подсказанным самой жизнью, самой необходимостью так или иначе разобраться в категории времени. На пути подобного исследования возникают разнообразные препятствия. В одной итальянской новелле XIV столетия автор заставляет рыцаря прожить целую жизнь за один краткий миг, в течение которого император Фридрих едва успевает вымыть руки[268]. Когда в сказках различных народов сообщается «жили-были старик и старуха», то подобное прошедшее время имеет такой же прошедший характер, как и настоящий или будущий[269]. Когда полушутя, полусерьезно Валентин Катаев замечает устами одного из персонажей:«Ты опять тут? – спросил Санька по прошествии того, что в физике называется временем»,то в этой шутке много серьезного: здесь подчеркнута сложность самого понятия «быстротекущего времени»[270]. И все же, несмотря на подобные осложнения, категория времени в грамматике различных языков, не прямо и отнюдь не прямолинейно, но так или иначе соотносительна с категорией времени в жизни, с категорией, необходимость которой для человека совершенно очевидна. На пути исторического истолкования категории времени возникает множество интереснейших проблем. В свое время Ф.Ф. Зелинский убедительно показал, что в гомеровском эпосе обнаруживается закон, названный им законом хронологической несовместимости: одновременные события здесь излагаются как события последовательные – мышление человека тогда еще не умело представить себе принцип одновременности, раздвигая во времени то, что в действительности происходит одновременно[271]. До сих пор еще мало исследован вопрос о том, как на такие явления в истории человеческого мышления откликался тот или иной язык, в частности, с помощью своих грамматических категорий. Таковы, как представляется, предпосылки, позволяющие понять историческую и социальную природу грамматики. Грамматика не может быть в стороне от языка, социальная природа которого очевидна. Известно, что сознание средневекового человека расчленяло мир во многом иначе, чем сознание современного человека. На материале лексики подобное различие демонстрировать, разумеется, легче, чем на материале грамматики. В предшествующих разделах уже была сделана попытка показать, что и грамматика участвует в общих процессах развития языка. Возвращаясь к лексике, отмечу, что во многих древних европейских языках нельзя было сказать «прекрасный, но дурной», «умный, но нечестный»: одно понятие не совмещалось с другим и в логике, и в языке.
«Различие между современными и древними представлениями о чести настолько велико, что бесполезно пытаться выразить посредством современного слова древние представления»[272].Здесь прямо ставится вопрос о том, как несходства между понятиями в различные исторические эпохи должны были отражаться и в соответствующих языках. Но то, что в лексике передается непосредственно, в грамматике – не только опосредованно, но и менее конкретно: грамматика обычно откликается на подобные процессы в истории мышления не словами, а категориями. Итак, проблема воздействия человека на язык, в особенности на литературный язык, еще раз обнаруживает социальную природу языка. И в той мере, в какой подобное воздействие относится и к грамматике, оно же выявляет социальную природу грамматики. То, что социальная природа языка в разных его областях и сферах обнаруживается различно и требует соответственно различных приемов исследования, не может служить основанием для сведéния понятия социального к одному лишь понятию лексического.
6
На пути исследования важнейшей темы «язык и действительность» (часть более широкой проблемы социальной природы языка) возникают не только реальные и серьезные трудности, о которых уже шла речь, но и трудности мнимые, хотя часто и настойчиво до сих пор повторяемые. К таким мнимым трудностям относится, в частности, следующее. Уже давно, а в наше время особенно настойчиво, вопрос обычно ставят так: многое, возможное в языке, невозможно в действительности, следовательно, язык не отражает действительности и не связан с нею. При этом приводятся стандартные примеры – баба-яга, русалка, леший и т.д. Цитируются образцы нереальных понятий и соответствующих обозначений у Плавта и Данте, у Шекспира и Флобера и у многих других писателей[273]. Известно, что когда Конан-Дойл прекратил свои рассказы о Шерлок Холмсе и объявил о смерти знаменитого сыщика, то многие читатели не хотели верить этому и просили писателя продолжить повествование о приключениях Холмса. В реальность Шерлок Холмса верили, хотя это была призрачная реальность. Подобные «доводы» не могут, однако, ни в малейшей степени поколебать положение о связи языка с реальной действительностью, с нуждами и потребностями людей (в самом широком смысле) определенной эпохи. Если сознание даже большой группы людей допускает реальность существования леших и русалок, то вопрос этот, сам по себе важный и интересный, относится к тому кругу проблем, которые стремятся установить, как исторически люди научились или не научились понимать окружающую их природу. Они могут воспринимать ее по-разному, в зависимости от множества условий их жизни и мировоззрения, их культуры и образования, исторических традиций и семейных преданий. Все это свидетельствует о сложности отношения людей к окружающему их миру, но все это не дает никаких оснований для сооружения преграды между языком и действительностью. Приходится только удивляться, что аргумент с лешими и русалками до сих пор часто приводится для «доказательства» автономности языка. Гораздо более серьезная проблема возникает при рассмотрении взаимоотношений между языком и идеологией людей, говорящих на том или ином языке. Прежде чем дать краткую справку из истории вопроса, подчеркну, что в наше время его освещение дается с позиций двух противоположных концепций. После лингвистической дискуссии 1950 г. проблема «язык и идеология» у нас стала считаться как бы решенной в отрицательном плане: язык не имеет никакого отношения к идеологии. Между тем рассматриваемая проблема не только сложна, но и весьма интересна в методологическом отношении. До 1950 г. советские лингвисты сделали немало для того, чтобы показать, как язык при всей своей общенародной сущности, вместе с тем не остается в стороне от борьбы идеологий и в прошлом, и в современном мире[274]. Но обратимся к современности и попытаемся обрисовать только что отмеченные две противоположные концепции. С одной стороны, знаменем ортодоксальных структуралистов является лозунг – «освободиться от идеологии». Под таким названием в некоторых странах даже выходят целые книги, распространяющие принцип «деидеологизации» не только на всю филологию (и языкознание, и литературоведение), но и на всю науку вообще, в том числе и на естествознание[275]. Аргументация сторонников подобной концепции обычно стандартная: идеология будто бы мешает объективно описывать факты. Приверженцы противоположной концепции (их в наше время становится все больше и больше в разных странах) утверждают совсем иное, несколько неожиданно ссылаясь на общую семиотику и на семиотику языка, в частности. Эти теоретики ставят вопрос так: тексты, написанные на разных языках, передают мысли и чувства людей, создававших подобные тексты. Эти тексты в те или иные эпохи очень часто понимаются и истолковываются неодинаково, что зависит не только от содержания каждого текста, но и от языка, с помощью которого текст создан. «Семиотика текста» связывается с идеологией разных классов общества[276]. В настоящее время в странах Западной Европы и Америки выходят многочисленные сборники под названием «язык и идеология» и чаще всего под эгидой семиотики. Публикуются сборники под таким же названием и в социалистических странах[277]. К сожалению, при этом обычно не проводится различия между идеологией, которая определяется содержанием текста и идеологическими аспектами языка. Между тем – это, разумеется, различные явления, и их совершенно необходимо различать. На мой взгляд, проблема «язык и идеология» должна решаться так: как общее правило, всякий национальный язык имеет общенародный характер, и в этом отношении он безразличен к классам в классовом обществе. Другой вопрос, что каждый язык может использоваться в классовых целях. Другими словами, использование языка, в особенности его лексики и фразеологии, его стилей, может детерминироваться классовыми целями, нисколько, впрочем, не нарушая общенародного характера каждого национального языка, который, как общее правило, выступает в функции великого общенародного достояния. Разумеется, такие слова, как свобода, равенство, государство, материя, многие термины (философия, субстанция), многие словосочетания и фразеологические выражения (право на труд, базис и надстройка) могут получать и получают несходное идеологическое осмысление у представителей разных классов общества, не нарушая этим принципа общенародного характера национального языка[278]. Изучение подобного влияния классов общества на функционирование языка представляет большой интерес, еще и еще раз обнаруживая социальную природу языка. Вместе с тем следует различать понятие социального и понятие идеологического. Первое значительно шире второго. Как я стремился показать, вся природа языка социально детерминирована, тогда как идеологические аспекты языка дают о себе знать лишь в определенных пластах лексики и фразеологии, в определенном использовании языка. Вот почему случаи, когда влияние идеологии обнаруживается в грамматике языка, очень редки, тогда как социальная обусловленность грамматики устанавливается в самом процессе ее становления и дальнейшего развития. Как ни существенно подобное несходство между двумя различными, хотя и взаимодействующими понятиями, с подобным различием обычно совсем не считаются. В результате возникают недоразумения, а иногда и ошибочные заключения. Приведу здесь только два, но типичных примера. Постоянно приходится слышать такие рассуждения: грамматика языка не подвержена идеологическому воздействию, поэтому нельзя говорить и о ее социальной обусловленности. Между тем первое положение отнюдь не ведет ко второму. Неправильное второе положение привело и приводит к печальным последствиям: у нас до сих пор почти полностью отсутствуют исследования, посвященные социальной обусловленности различных грамматических процессов в языках мира. А вот второй пример, еще более показательный. Когда в 1922 г. известный французский лингвист Ф. Брюно опубликовал большую и интересную книгу «Мысль и язык» (позднее она переиздавалась без всяких изменений), то в предисловии к ней автор подчеркивал, что он хотел вернуться к идеологическим проблемам грамматики, которыми интересовались в XVIII столетии[279]. Между тем внимательно изучая монографию Брюно, нельзя не заметить, что в ней идет речь не об идеологии, а всего лишь о семантике грамматических категорий. Брюно в этом плане небрежно отождествлял два, еще более различных понятия – семантику и идеологию. Как видим, в сознании отдельных исследователей понятие идеологический не только отождествляется с понятием социальный, но и с понятием семантический. Между тем если всякое исследование той или иной идеологии закономерно оказывается исследованием одновременно и социальным, то противоположное соотношение обычно бывает иным, в силу более широкого значения самого понятия социальный. Что же касается термина семантический, то он, как известно, имеет прежде всего лингвистическое значение и, разумеется, не может и не должен быть отождествлен с термином идеологический. Другой вопрос, что семантические аспекты языка, его важнейшие аспекты, всегда взаимодействуют с социальной природой языка. И все же разграничение трех терминов (социальный, семантический, идеологический) совершенно необходимо в науке о языке[280].7
После всего сказанного, резюме данной главы окажется кратким. На вопрос, поставленный в заглавии, ответ предлагается такой: социальные факторы языка не противостоят факторам имманентным, как обычно считают, а взаимодействуют с ними. Это не означает, что те и другие факторы тождественны, но это означает, что в языке они органически переплетаются, причем характер их взаимодействия может быть прямым или косвенным. В предшествующих строках была сделана попытка обосновать сформулированный тезис на конкретном языковом материале. Я глубоко убежден, что сведения всего социального в лингвистике лишь к внешним факторам развития и функционирования языка ошибочно и фактически, и методологически. Фактически – материал различных языков показывает иное, методологически – тезис о социальной природе языка в этом случае становится простой декларацией. Сказанное, разумеется, не означает, что внешние факторы для языка несущественны (они весьма существенны). Но дело в том, что социальная природа языка обусловлена прежде всего самим языком, его функционированием в обществе и его историческим развитием. За последние четверть века лингвисты стремились к постановке новых вопросов во что бы то ни стало. Возникла опасность: новое ради нового. Стали изобретаться бесчисленные новые термины, за которыми нередко скрывались старые, все еще малоизученные и малоосмысленные проблемы. Между тем в науке о языке еще много старых и вечных проблем, которые действительно нуждаются в новом осмыслении. К таким относится и проблема социальной природы языка. На вопрос же, поставленный в заглавие данной главы («Противостоят ли социальные факторы факторам имманентным в науке о языке?»), я стремлюсь ответить так: нет, не противостоят, но глубоко и постоянно взаимодействуют. Хотя обе эти группы факторов различать необходимо, но в процессе функционирования любого живого языка они выступают в органическом взаимодействии.Глава пятая. Споры вокруг понятия нормы литературного языка
1
С первого взгляда может показаться, что название данной главы не оправдано: при чем же здесь борьба идей, когда речь идет о таком «мирном понятии», как литературный язык и его норма? Между тем и обоснование самого понятия литературного языка, и толкование его нормы всегда проходило и проходит в острой борьбе мнений, которая обнаруживает разное осмысление самой природы языка и его функций в обществе[281]. Как мне уже приходилось отмечать, литературный язык – это обработанная форма общенародного языка, обладающая в большей или меньшей степени письменно закрепленными нормами. В этом определении следует подчеркнуть: а) историческую изменчивость самого понятия «обработанной формы» (в разные эпохи и у разных народов), б) известную относительность представления о «закрепленности» норм литературного языка (при всей социальной важности нормы, она подвижна и во времени, и в типологии). Здесь сейчас же возникает множество вопросов, на которые обычно даются самые различные ответы. Как следует понимать социальную важность нормы, если она сама в любом живом языке находится в постоянном движении? В каком отношении норма литературного языка находится к норме общенародного языка, имеет ли этот последний норму? Почему в разные эпохи и у разных народов норма литературного языка истолковывается несходно? Вот лишь некоторые из вопросов (в действительности, как увидим, их гораздо больше), которые при этом возникают. Теории литературных языков в истории нашей науки обычно не везло. Дело в том, что до возникновения сравнительно-исторического языкознания и обоснования исторической точки зрения на язык (начало XIX столетня), литературные языки интересовали многих выдающихся людей разных стран и народов. Каждый, кто писал на родном языке, вольно или невольно задумывался над тем, кáк он пишет, успешно ли передает свои мысли и чувства другим людям? Для европейских стран подобный вопрос приобретал большое значение, так как вплоть до начала прошлого столетия научные сочинения часто излагались по-латыни и опыта составления аналогичных исследований на родном языке было все еще очень мало. С начала прошлого столетия отношение к литературному языку довольно резко меняется. Обоснование исторического взгляда на язык создает широко распространенное убеждение, согласно которому лишь общенародные языки являются «естественными образованиями», тогда как литературные языки создаются искусственно («делаются») и поэтому для филолога интереса не представляют. Эта глубоко ошибочная, как увидим, концепция разделялась не только филологами, но и писателями-романтиками с их культом «народного начала» во всех сферах культуры, в том числе и в языке. Тогда еще никто не понимал, что понятие о литературном языке нисколько не противоречит принципу общенародности самого языка. Это удалось (и то лишь частично) обосновать гораздо позднее. Что же касается романтической концепции языка, то во второй половине прошлого века ее по-своему развивали почти все младограмматики: им казалось, что только общенародные языки развиваются объективно, а поэтому только они могут быть предметом строго научного изучения. Дело доходило до того, что, например, А.И. Томсон еще в 1910 г. писал о литературных языках, как «языках искусственных или полуискусственных»[282], а француз Ж. Вандриес сравнивал литературные языки с жаргонами[283]. С отголосками подобной несостоятельной концепции приходится, как увидим, иметь дело и в наши дни. И с определенных методологических позиций это было последовательно: все, что оказывается в языке под прямым или опосредованным воздействием человека, все это объявлялось «искусственным, неестественным, сделанным», не заслуживающим внимания. В начале нашего века сходную доктрину особенно настойчиво защищал немецкий психолог В. Вундт в своем многотомном сочинении «Народная психология». Эта доктрина имела тем больший успех, чем больше она защищалась под флагом объективности: язык – явление, существующее объективно, поэтому все «искусственно сделанное» должно безжалостно от него отсекаться[284]. Я еще вернусь к этим вопросам, сейчас же подчеркну, что с отголосками подобного ошибочного понимания литературного языка придется встретиться и в советской лингвистике, точнее – у некоторых ее представителей. В 20-х годах А.М. Пешковский сравнивал литературный язык с оранжереей и комментировал:«…подобно тому как ботаник всегда предпочитает изучение луга изучению оранжереи»,так и лингвист предпочитает исследовать общенародные, а не литературные языки[285]. Даже в 60-х годах к подобной концепции был близок А.А. Реформатский. В его учебнике «Введение в языковедение», который выдержал ряд изданий, нет ни специального раздела о литературных языках, ни определения самого понятия о них. Но во всех случаях, где все же возникает название «литературный язык», оно во всех случаях связывается с чем-то искусственным. Вот один из таких контекстов. В разделе «Языковые отношения эпохи капитализма» читаем:
«Литературный язык распространяется через чиновников (? – Р.Б.), через школы, больницу, театр, газеты и книги и, наконец, через радио»[286].Выдвинутые на первый план чиновники должны создать у читателей соответствующее отношение к литературному языку, в действительности являющемуся одним из величайших завоеваний человеческой культуры. Все остальные упоминания о литературном языке в учебнике даются в аналогичном контексте. Ни одного «доброго слова» о литературном языке здесь мы не находим[287]. Все это сообщается не для того, чтобы упрекнуть тех или иных исследователей, а для того, чтобы еще раз подчеркнуть всю сложность самого понятия о литературном языке и его истолкования. Здесь особенно существен строго исторический подход к проблеме. Конечно, история знает, когда литературные языки могли выполнять функцию искусственных средств общения (ср. роль латыни в средневековой Европе, роль арабского языка в некоторых странах Востока и т.д.), как это может наблюдаться и в наше время (ср. язык колонизаторов в некоторых странах, где он навязывается силой). Но, во-первых, при всей важности подобных ситуаций, они должны рассматриваться с исторических позиций и, во-вторых, не смешиваться с теми случаями (а их подавляющее большинство), когда литературный язык выступает в функции культурного фактора огромного общественного значения для каждого народа. Любопытно, что даже такие выдающиеся филологи, как академик А.А. Шахматов, не смогли избежать здесь известного теоретического противоречия. С одной стороны, Шахматов в известной мере разделял младограмматическую концепцию искусственности литературных языков, а с другой – он же связывал историю литературных языков с историей русского просвещения[288]. А сама эта связь резко повышала удельный вес литературных языков в истории формирования не только культуры отдельных народов, но и мировой культуры. Это не было, однако, единственным противоречием в концепции многих, даже очень крупных ученых. Дело в том, что уже обоснование сравнительно-исторического метода в начале прошлого столетия создавало впечатление, согласно которому самый принцип изменчивости языка будто бы бросает тень на литературные языки с их постулатом нормы. Считалось, что норма противоречит развитию языка и в той мере, в какой литературные языки ассоциируются с нормой, они будто бы не представляют интереса для лингвиста, изучающего процесс развития языка. И хотя подобное заключение было безусловно ошибочным (дело в том, что, находясь в постоянном движении, и общенародные и литературные языки функционируют как целостные системы, неизменяющиеся в период своего функционирования), оно имело и до сих пор имеет широкий резонанс, отрицательно сказывающийся на изучении литературных языков. На пути исследования литературных языков возникают и другие трудности. Лингвисты, исследующие внутреннюю структуру различных языков, часто сторонятся литературных языков, анализ которых всегда (так или иначе) связан с анализом социальных проблем лингвистики. Тем более, что здесь возникает проблема взаимоотношений литературных и национальных языков, весьма важная с определенной исторической эпохи. Уже знакомая нам боязнь допустить ошибки вульгарно-социологического характера, к сожалению, приводила к тому, что многие лингвисты и у нас, и за рубежом обходили подобные вопросы, относили их к проблемам внешней лингвистики. Наконец, еще одна трудность мешала разысканиям в области литературных языков: имею в виду осложнения, возникающие при разграничении истории литературных языков и истории языка художественной литературы. Известно, например, что украинский национальный литературный язык
«сначала развивается и закрепляется преимущественно в художественной литературе (творчество И. Котляревского, Г. Квитко-Основьяненко, И. Гулака-Артемовского, Е. Гребенки, раннего Т. Шевченко), позднее распространяется на жанры публицистики и научной прозы и лишь впоследствии на разновидности официально-документального и производственно-технического языка. Близкие процессы наблюдаются и в истории… белорусского национального литературного языка»[289].То же наблюдалось и в истории многих романских и германских языков. Все это затрудняет разграничение области литературных языков и области языка художественной литературы. Здесь следует говорить не только о разграничении, но и взаимодействии обеих областей в истории формирования национальных литературных языков. Таковы лишь главные трудности, возникающие на пути изучения истории и теории литературных языков. Считаться с подобными трудностями, разумеется, необходимо, но нет никаких оснований бояться и избегать их, относить лишь к сфере внешней лингвистики, будто бы не имеющей прямого отношения к сфере лингвистики в собственном и точном смысле этого слова.
2
К сожалению, существует довольно широко распространенное, хотя и негласное убеждение, сформировавшееся за последние 20 – 25 лет, согласно которому занятие литературными языками будто бы не имеет теоретического значения, тогда как занятие, например, семиотическими проблемами лингвистики – это сфера подлинной теории. Но такое противопоставление несостоятельно. Теоретические проблемы науки возникают всегда там, где имеются нерешенные вопросы. Все зависит, однако, от того, кáк ставятся и кáк освещаются подобные вопросы. Поэтому в наше время проблема литературных языков может иметь не меньшее теоретическое значение, чем проблема семиотических аспектов языка, подобное тому, как обе эти проблемы не приобретают никакого теоретического смысла, если они освещаются схоластично, вне материала и вне функционирования конкретных языков мира. Теория литературных языков тесно связана с понятием лингвистической системы (структуры)[290]. Само это понятие, как мы уже знаем, стало очень важным в науке нашего времени. Трудно назвать такую область знания, которая так или иначе не оперировала бы понятием системы. И это вполне закономерно. Каждая наука нашей эпохи стремится осмыслить целостный характер объекта своего изучения. И у нас в стране публикуются «Системные исследования», выходящие ежегодно, не говоря уже о многочисленных изданиях такого же рода применительно к той или иной конкретной науке. Вместе с тем осложняется и само понятие системы: стали говорить о системе говорящего в отличие от системы слушающего, о системе действительности и о системе идеологии, о системе содержания и о системе формы и т.д. Все это потребовало различать не только общее понятие системы, но и понятие системы применительно к тому или иному конкретному представлению, к той или иной конкретной науке. Вместе с тем наметилось и явное злоупотребление термином система (структура). Историк психологической науки сообщает, что среди некоторых ученых бытует представление о 114 законах системы (структуры), так что представление о целостности подобной системы невольно разрушается[291]. Намечается и другая крайность: одно из направлений структурной лингвистики настойчиво подчеркивает тезис, согласно которому не люди обнаруживают системы в вещах и явлениях окружающего нас мира, а сами системы порождают людей. Применительно к языку эта мистическая доктрина выглядит так:«… не люди создают и развивают языки, а языки создают и формируют людей»[292].Поистине, от великого до смешного – один шаг. Этот шаг «в сторону» ставит всю проблему с ног на голову. Но бывает и так, что термин система не преследует никаких методологических целей и употребляется для «красоты слога», для того, чтобы придать изложению современный вид. У таких авторов современность ассоциируется прежде всего с модными терминами, отнюдь не всегда оправданными темой самого исследования. Здесь возникает новый вопрос. Дело в том, что само слово система (термином оно стремится стать лишь в наше время) бытовало уже в XVIII столетии и в России, и в Западной Европе. В специальном исследовании показано, что «системные идеи» в России развивались в ту эпоху в геологии, в биологии, в медицине[293]. Подобные же идеи стремились обосновать и на материале грамматики в некоторых зарубежных странах. Историки грамматических концепций считают, что система – «одно из ключевых слов» во французских грамматических трактатах эпохи Просвещения[294]. Делались попытки изучать отдельные категории грамматики на фоне целого, в системе целостных отношений. Сказанное, разумеется, не означает, что XX в. ничего не прибавил к старому осмыслению системы. Но здесь меня интересует история вопроса и сам факт рассмотрения объектов различных наук в системных связях и отношениях. Известно также, что первое исследование Ф. Боппа называлось «О системе спряжения в санскрите»[295]. Один из основоположников сравнительно-исторического метода уже по-своему понимал роль и значение системных отношений в грамматике. Но и здесь история науки о языке не развивалась на глухой дороге. Открытие исторической точки зрения на общественные явления, в том числе и на язык, в начале прошлого столетия одновременно привело к более глубокому пониманию роли индивидуального «начала» в историческом процессе. Эта последняя концепция с большой страстью развивалась представителями романтического движения и в России, и в западноевропейских странах. Тогда казалось, что система подавляет личность, а системный анализ того или иного объекта (прежде всего в гуманитарных областях знания) – анализ индивидуальный, в особенности таких явлений, которые казались индивидуально неповторимыми. Любопытно, что в одном из русских журналов начала прошлого столетия в некрологе немецкого мыслителя Гердера отмечалось, что достоинство его философии обнаруживается прежде всего «в отсутствии духа системы»[296]. В этом случае система истолковывалась как нечто предвзятое, искусственное, нежелательное. И хотя подобное осмысление системы с современных материалистических позиций представляется неправомерным, приведенное свидетельство, однако, интересно как показатель борьбы вокруг понятия системы в разные исторические эпохи. Не успело слово зародиться в европейских языках во второй половине XVIII столетия, как уже в начале следующего столетия в романтической концепции культуры и языка оно стало выступать в уничижительном осмыслении. Что же мешает системе превратиться в термин со строго определенным значением в наше время? Этому мешают различные (нередко диаметрально противоположные) истолкования самой системы. У нас в стране система в филологии стала вновь широко употребляться в 20-е годы нашего столетия в работах «Общества по изучению поэтического языка» (ОПОЯЗ). При этом система понималась в чисто формальном плане как система взаимодействующих форм художественного целого[297]. Получалось так, будто бы система способна организовывать лишь формы изучаемого произведения, никак не воздействуя, никак не соединяя в целое его содержательные категории. Такое одностороннее понимание системы позднее получило справедливую критическую оценку. Оценивая сборники, посвященные «системным проблемам» и вышедшие у нас в большом количестве с различными наименованиями в 60-е годы, рецензенты справедливо писали:
«Будущее системных исследований связано… с наличием развитой содержательной плоскости системных исследований… Только на этом основании можно ожидать в будущем теоретического синтеза»[298].Еще более определенно и справедливо замечает один из самых видных польских филологов В. Дорошевский:
«Смысл понятия системности – в его социальном характере; никакого иного смысла это понятие иметь не может»[299].Казалось бы, все ясно: давно следует перейти от системы как понятия будто бы относящегося только к формам языка, к понятию системы, относящемуся ко всем аспектам языка, к его содержательным и социальным категориям. Это положение, однако, легче декларативно объявить, чем осуществить на практике. К тому же ортодоксальные структуралисты продолжают утверждать, что научному изучению поддаются лишь формальные, а не содержательные категории языка. Проблема не сводится, однако, только к расширению самого понятия системы. Дело в том, что система, «распространенная» на содержательные категории языка, становится не только и не столько более широкой системой, сколько качественно иной системой сравнительно с системой, организующей лишь формальные категории в грамматике. Чисто формальное понимание системы в лингвистике имело еще один серьезный недостаток: ученые стремились как-то уложить в «системные рамки» категории фонетики и морфологии, тогда как синтаксические и особенно лексические категории оказывались за пределами системы. В свое время А. Мейе считал, что лишь отдельные группы слов, например, такие, как термины родства, названия цветов спектра, могут анализироваться в системных противопоставлениях, тогда как лексика языка в целом оказывается вне системы[300]. После этих замечаний Мейе прошло несколько десятилетий, и сейчас исследователи почти то же говорят о лексике: они обычно допускают систему лишь в «малых лексических группах», что же касается «большой лексики», лексики в целом, то здесь система постулируется лишь в той мере, в какой сама лексика зависит от грамматики (например, в словообразовании)[301]. Любопытно, что самые ортодоксальные современные структуралисты, убежденные в жесткости системы всех живых языков, часто оперируют терминами, противоречащими самому понятию системы. К таким терминам или терминологическим сочетаниям относится, в частности, выражение набор признаков, весьма популярное в определенных доктринах. Между тем понятие набора (ср. «набор слов») не предполагает чего-то закономерного, строгого, того самого «строгого», за которое как будто бы ратуют ортодоксальные структуралисты (ср. «большой набор признаков», «малый набор признаков» и пр.). В свое время таким же антисистемным термином выступало и выражение сумма приемов художественного произведения, широко бытовавшее у нас в 20-е годы в теоретических разысканиях в области поэтики. Едва ли не самая большая трудность, возникающая при изучении лингвистической системы, кроется в самих естественных языках народов мира. По справедливому замечанию одного из хорошо известных западногерманских лингвистов, все естественные языки должны быть охарактеризованы как «несистемные системы» (asystematische Systeme). Это означает, что в самих языковых системах обнаруживается много явлений и категорий, которые не вмещаются ни в какую систему, даже широко понимаемую[302]. Поэтому «несистемная система», хотя и звучит парадоксально, но зато отражает реальную картину современных языков. Причем, подобная«несистемная системность» относится, разумеется, не только к лексике, но и ко всем другим уровням языка, включая фонетику и грамматику. Само по себе положение о нестационарных явлениях и категориях в национальных языках было, разумеется, известно и раньше. Однако только в последние годы подобные явления и категории стали особенно пристально анализироваться. Интерес к ним всегда был велик в истории русского и советского языкознания. В 30-е годы нашего века они же привлекали внимание пражских лингвистов. Было, в частности, показано, что во флективных европейских языках падежи и противопоставлены, и одновременно не противопоставлены друг другу. Установив, например, грамматическую семантику винительного падежа в славянских языках, никак нельзя сказать, что она имеет по отношению к именительному падежу противоположное значение, хотя в некоторых других ракурсах именительный и винительный падежи могут противостоять друг другу[303]. Хотя ученые тогда еще не говорили о языках как о «несистемных системах», но асимметрия двучленных противопоставлений была для них уже очевидной.
3
Но если национальные языки человечества – это «несистемные системы», то как же языки могут иметь нормы и какое значение подобные нормы приобретают? Проблема нормы – одно из важнейших понятий лингвистики. И вокруг этого понятия, как я постараюсь показать, ведутся острые методологические споры. Представление о норме связано с представлением о языковом планировании. До сих пор находятся лингвисты (и у нас в стране, и за рубежом), которые считают, что объективность развития языка исключает всякую возможность его планирования. В другой связи я уже касался этого вопроса. Сейчас попытаюсь его уточнить в связи с истолкованием лингвистической нормы. В статье под названием «Возможно ли планирование языкового развития?» М.И. Стеблин-Каменский дает отрицательный ответ на им же поставленный вопрос. Исследователь отождествляет понятие нормы и понятие стандарта, подчеркивая, что одни люди придерживаются стандарта, другие – не придерживаются. В ранних произведениях Г. Ибсена, в том числе и в его «Пер Гюнте», встречается множество диалектизмов, в более поздних сочинениях писателя их уже почти нет совсем. Вся проблема нормы сводится к несущественным терминологическим спорам[304]. До последнего времени отрицали возможность языкового планирования и американские лингвисты, во всяком случае многие из них. Считалось, что планирование будто бы противоречит объективности существования языка. Положение резко изменилось примерно за последние 10 – 15 лет. Стали публиковаться многочисленные сборники, посвященные планированию языка, и если некоторые из них и выходят с вопросительным знаком в самом названии («Возможно ли планирование языка?»), то ответ на подобный вопрос дается уже не отрицательный, а положительный, нередко весьма положительный (разумеется, планирование языка и возможно, и необходимо)[305]. Интерес к языковому планированию возник в американской лингвистике в связи с общим интересом к социологии языка. Обе эти проблемы оказались для американских ученых новыми. И в обоих случаях здесь не было хоть сколько-нибудь определенных методологических обоснований. Проблема планирования обычно опирается на такой несколько наивный постулат: все люди влияют на язык, поэтому планирование возможно. Здесь нет даже попытки разграничить главное от неглавного, существенное от случайного. Нет и общей постановки вопроса о принципах языкового планирования. Совсем иначе эта проблема изучалась в истории советской филологии. В нашей многонациональной стране, где немало языков не имело своей письменности до Октябрьской революции, проблема языкового строительства и планирования приобретала не только теоретическое, но и практическое значение. Приобщение миллионов людей к грамотности требовало решения множества вопросов, в частности, и вопросов, относящихся к норме различных языков. Даже русский язык с его многовековой культурой стал нуждаться в своеобразном воздействии в различных своих сферах в связи с тем, что русским языком стали овладевать представители самых различных национальностей. Так возникла не только проблема языкового планирования, но и тесно связанные с нею проблемы языкового строительства и языковой политики[306]. В 1931 г. Л.П. Якубинский убедительно показал, почему тезис Соссюра о «невозможности языковой политики» является ошибочным. Соссюр разделял убеждение младограмматиков, согласно которому язык, видоизменяясь во времени вместе с тем не может изменяться под воздействием людей, на нем говорящих. Но в отличие от младограмматиков Соссюр ставил эту проблему острее: он связывал ее с понятием лингвистического знака, который недосягаем (intangible), но отнюдь не неизменяем (inaltérable)[307]. Л.П. Якубинский на целом ряде примеров показывает, что парадокс Соссюра остается парадоксом. История свидетельствует: люди в самом процессе функционирования языка оказывают на него воздействие и в его общенародном виде, и в его литературной форме. Хотя подобное воздействие легче показать на материале литературной формы языка (уже в простейших рекомендациях типа: «говорите так – не говорите так»), оно же обнаруживается в глубоких процессах формирования и развития общенародных языков[308]. О.С. Ахматова права, подчеркивая, что в ходе самого развития языка усиливается и расширяется воздействие людей на их родной язык[309]. Не следует забывать, что анализируемая проблема во многом обусловлена социально. В социалистическом обществе формы и виды воздействия людей на язык обычно оказываются гораздо более последовательными, гораздо менее случайными, чем в обществе феодальном или капиталистическом. Вместе с тем никак не хотелось бы упрощать весьма сложную проблему. В середине прошлого столетия Макс Мюллер, относя лингвистику к наукам о природе, ссылался на факт невозможности «сделать язык» так, как люди «делают (строят) дома», «сочиняют романы и поэмы»[310]. Разумеется, к такой примитивной аргументации в наше время теперь уже никто не прибегает. И все же возражения против возможности воздействия людей на язык (в его многообразных разновидностях) до сих пор выдвигаются учеными, в том числе и выдающимися исследователями. Основной аргумент оказывается при этом таким (он совсем не похож на аргумент Макса Мюллера): в самом процессе воздействия есть что-то для языка искусственное. Даже такой филолог, как В.В. Виноградов, иногда прибегал к подобному аргументу[311]. Разумеется, история отдельных языков знает немало примеров, когда воздействие людей на язык по тем или иным, обычно социальным, причинам становилось для языка, для его литературной нормы, нежелательным, приводило к отрицательным последствиям. Но следует строго различать два, принципиально различных явления: самую возможность воздействия людей на язык и различные частные случаи подобного воздействия – благоприятные или неблагоприятные для дальнейшей судьбы каждого конкретного языка. В целом для русского и позднее советского языкознания (и шире – для всей нашей филологии) характерно признание важной роли культуры языка – понятия, неразрывно связанного с отношением людей к своему родному языку. Об этом, в частности, прекрасно писал Л.В. Щерба в 1923 г. в предисловии к первому выпуску сборников «Русская речь»[312]. При этом необходимо учитывать, что вся современная культура, в том число и культура языка, становятся все более и более результатами сознательной деятельности человека. Вместе с тем нельзя не считаться с тем, что здесь существует и прямо противоположное мнение. Для всех, кто рассматривает язык как жесткую автоматическую структуру, воздействие людей на подобную структуру заранее признается невозможным.«Не мы говорим на языке, – заявляют сторонники подобной доктрины, – а язык дает нам возможность разговаривать»[313].Защитники такого тезиса не хотят считаться с тем, что конкретные факты из истории и теории разных языков опровергают их утверждение. Как сейчас будет сделана попытка показать, концепция жесткой автоматической структуры языка противоречит человеческой природе языка и его социальной функции. Но если в этом случае человек оказывается совершенно в стороне, то не менее опасной для самого человека становится теория, внешне как будто бы все сводящая к человеку, а по существу превращающая его в демиурга действительности. Современный итальянский лингвист Л. Розьелло утверждает:
«Мы больше не верим в романтическую идею народа-языкотворца, формирующего национальный язык. Лингвистические системы всегда создаются чьей-либо целенаправленной волей: ее обедняют, фиксируя в виде нормы»[314].Здесь тоже уже знакомое нам стремление поставить проблему с ног на голову и огорошить читателей очередным парадоксом. О какой «целенаправленной воле» может идти речь, если даже неизвестно, на что она направлена? Не говорю уже о противопоставлении «народа-языкотворца» и отдельных его представителей, как будто бы подобные представители не являются частью самого народа? В этом мнимо революционном суждении все остается неясным: ни то, кем же собственно создается язык, ни то, как же «целенаправленная воля» воздействует на язык, если по ее же мановению создается сам язык? Ко всему прочему, всякая лингвистическая норма рассматривается только со знаком минус. Можно было бы не останавливаться на подобного рода декларациях, если они не представлялись весьма характерными для определенных теорий нашего времени. И все же в этом многоголосом хоре, если отбросить парадоксы, выделяются две противоположные концепции: согласно одной – язык развивается вполне объективно, но люди, его носители, воздействуют (так или иначе, неодинаково в разных сферах самого языка) на самый процесс его же движения; согласно другой концепции – люди оказываются в стороне от функционирования языка, так как одно только допущение их влияния на язык будто бы ставит под сомнение объективность его существования. Первая концепция в целом характерна для советского языкознания (за единичными исключениями), вторая концепция – для самых разнообразных ученых, не признающих глубокого и постоянного взаимодействия объективных и субъективных факторов в истории человеческой культуры, в том числе и в истории литературных языков. Разумеется, иногда возникает необходимость (для определенных научных целей) как бы снять «налет» культурного (человеческого) воздействия на те или иные языки, чтобы понять особенности их гораздо более древнего состояния. Так, например, один из крупных современных французских ученых К. Леви-Стросс исходит из следующих предпосылок: 1) логика всех людей, всех рас и народов универсальна, но 2) логика европейских народов и их языки находятся под сильным воздействием современной культуры и техники, поэтому 3) чтобы выяснить универсальные основы логики, надо обратиться к мифологии американских индейцев, которая не могла находиться под подобным воздействием. Так родилось большое и ценное четырехтомное исследование мифологии американских индейцев, опубликованное Леви-Строссом[315].
4
Споры вокруг понятия языковой нормы всегда были ожесточенными во многих странах. Причины, вызывавшие подобную ожесточенность, в свою очередь оказывались разнообразными. На некоторые из них я постараюсь обратить внимание в последующих строках. Следует принять предложенное А.А. Касаткиным разграничение нормативности и нормы[316]. Первое понятие более широкое и менее жесткое, чем второе. Чтобы говорить на том или ином языке и чтобы тебя понимали, известная нормативность языка необходима. В противном случае никто никого не поймет. В отличие от нормативности норма выступает как более «отработанная» форма языка. Норма предполагает сознательный отбор категорий (на всех уровнях языка), более четкое противопоставление «правильного и неправильного», сознательное отношение ко всем языковым ресурсам, понимание последствий в случае различных отступлений от принятого узуса. В истории науки с проблемой нормы литературных языков произошло то же самое, что и с проблемой самих литературных языков. Эволюция интереса к норме весьма показательна. Античность знала такой интерес. В средние века он почти совсем угас. В эпоху Возрождения он вновь резко увеличился. Норма широко обсуждалась и в XVII – XVIII вв., а затем, после обоснования сравнительно-исторического метода в первой трети прошлого столетия, интерес к норме вновь резко упал. Чтобы в дальнейшем не возвращаться к современным противникам нормы, отмечу среди них две, совершенно несходные категории: группу догматиков и группу серьезных историков. Первые без всяких научных обоснований видят в любой лингвистической норме проявление «диктатуры в языке». Выступая против нормы, они подчеркнуто выступают против подобной «диктатуры». Можно было бы не останавливаться на такой «концепции», если она не повторялась бы отдельными лингвистами и в наши дни[317]. Это мнимо «революционное» заявление по существу лишает язык его важнейшей функции – коммуникативной. Как только что было отмечено, язык не может функционировать без известной нормативности. И диктатура не имеет никакого отношения ни к понятию нормативности, ни к понятию нормы. Гораздо более серьезные возражения против нормы иногда выдвигают лингвисты-историки, среди которых встречаются и выдающиеся ученые. Так, например, А.А. Шахматов, как мы уже знаем, считал, что самый факт непрерывного движения и развития живых языков приводит к тому, что интерес к нормативности самих этих языков невольно отходит на задний план[318]. Между тем в действительности одно положение нисколько не противоречит другому: непрерывно развиваясь, живые языки в каждую синхронную эпоху своего бытования опираются на определенные основы, существование которых немыслимо без определенной нормативности (как минимум обязательности). Таковы две основные группы (совершенно различные) противников лингвистической нормативности и лингвистической нормы. Выступления против нормы[319] – наряду с уже упомянутыми двумя основными группами противников имеются и другие, к которым еще придется вернуться – обусловлены прежде всего сложностью самого понятия нормы. В современных европейских литературных языках норма далеко не всегда императивна, она обычно допускает варианты. Между тем с позиции теории информации варианты в самой норме представляются невозможными. Чтобы информация достигла своей цели, она должна опираться на такие нормы литературного языка, которые не должны допускать вариантности. Между тем потребности языковой экспрессии как раз-то и основываются на вариантности. Последняя предоставляет возможность выбора той или иной формы, чаще всего в целях определенного воздействия на слушателей или читателей[320]. Это жизненное противоречие отчасти устраняется тем, что в наше время образуется особая сфера научного изложения, где вариантность нормы оказывается значительно меньшей, чем в обычном литературном языке и чем (это особенно важно) в языке художественной литературы. Как уже было отмечено, с позиций исторического языкознания норма многим филологам вообще кажется понятием условным. В Италии, например, долго существовало убеждение, согласно которому всякий лингвист – это прежде всего пурист, обеспокоенный соблюдением нормы[321]. И хотя такое убеждение и несправедливо, и неоправданно (его сторонники не учитывают огромного социального значения нормы), с ним или с его отголосками до сих пор приходится считаться исследователю (обычные возражения: «подумаешь, не все ли равно как сказать, лишь бы тебя поняли»). Эта проблема гораздо важнее, чем кажется с первого взгляда. Сталкиваются два совершенно различных принципа – «не все ли равно!» (антифилологический постулат) и принцип «нет, совсем не все равно!» (филологический постулат). Дело в том, что даже в тех развитых литературных языках, где норма кажется достаточно императивной, она все же всегда предоставляет говорящим и пишущим возможность выбора (особенно в сфере лексики, синтаксиса и стилистики). Выбор же языковых средств выступает как проблема широкого филологического значения. В свое время Е. Косериу предложил такую удачную схему (ныне хорошо известную) соотношения между системой языка, его нормой и речью: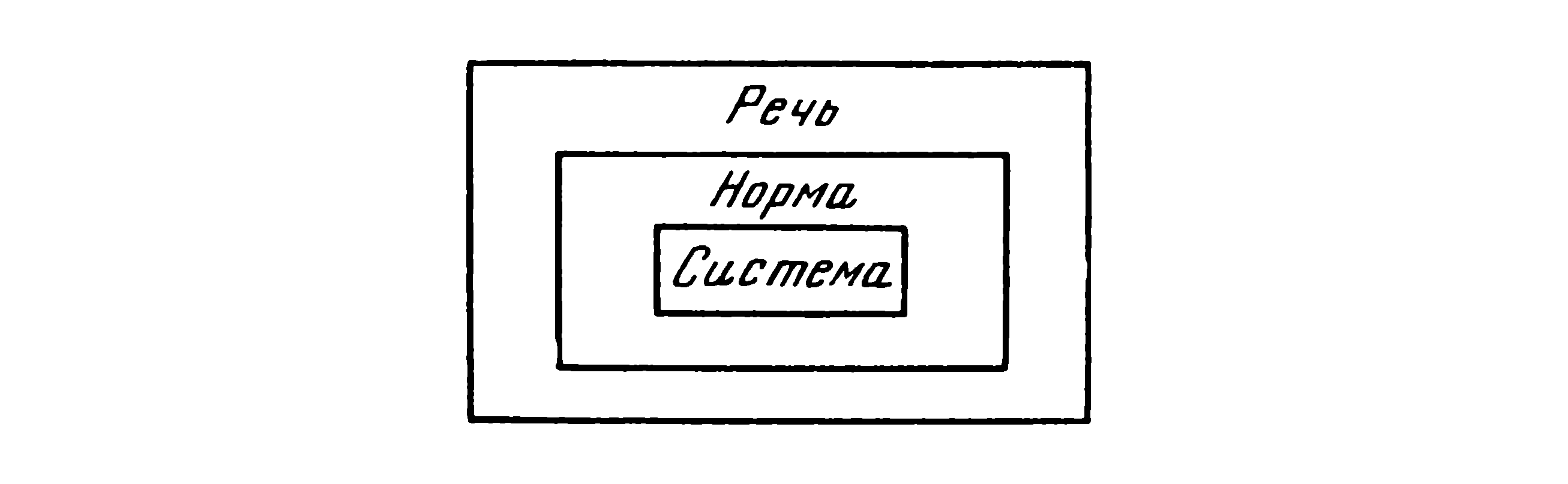 Система – самая «жесткая» основа литературного языка, норма, обычно допускающая многочисленные варианты, выступает как более широкое понятие, чем система, что же касается речи, основывающейся не только на вариантах нормы, но и предполагающей возможные отступления уже от самой нормы, то речь оказывается и шире системы, и шире нормы[322]. Эта схема дает возможность разобраться в сложных и весьма динамичных взаимоотношениях между различными основами литературного языка, определяющими его единство в каждую историческую эпоху. Норма отнюдь не выступает как нечто старое или, во всяком случае, устаревшее (к сожалению, так часто думают). Норма часто фиксирует новое, всякий раз обнаруживая подвижные границы между системой, нормой и речью.
Постараемся уяснить теперь, как норма давала о себе знать в европейских текстах разных эпох. Вопрос этот большой и специальный. Здесь могут быть обрисованы лишь самые общие его контуры.
В свое время Л.П. Якубинский убедительно показал, чем норма средневекового русского языка во многом отличалась от его нормы в прошлом столетии: норма старого языка включала в себя самые разнообразные диалектные особенности (не только лексические, но и грамматические). В эпоху, когда не существовало книгопечатанья, переписчики в разных областях государства, часто бессознательно, вносили в рукопись те особенности, которые были характерны для их родного диалекта. Поэтому, например, слово конь могло иметь в дательном падеже и коню, и коневи, а слово сынъ – сыну и сынови и т.д. Это не означало, разумеется, что язык той эпохи вообще не имел нормы. Но это была скорее нормативность, чем норма (по принятой мною терминологии). Так, например, если от существительного конь родительный падеж мн. числа мог быть или конь, или конев, или коньи (конии, коней), то уже никакая иная форма становилась невозможной[323]. Следовательно, если диалектные особенности языка не могут, как правило, входить в норму современного русского литературного языка, то в эпоху создания «Слова о полку Игореве» они обычно входили в норму языка той эпохи. Разумеется, подобные различия социально детерминированы: в разные эпохи функция диалектов оказывалась различной, различной была и грамотность переписчиков, сказывалось и отсутствие книгопечатанья и т.д.
Уже простейшие наблюдения подчеркивают исторически изменчивый характер нормы и ее зависимость от культуры эпохи в целом.
Между разными европейскими языками средних веков здесь было много общего. Достаточно напомнить, что и в средневековой Франции еще никто не различал такие понятия, как язык, диалект, патуа. Само слово диалект впервые появилось в этой стране в XVI столетии[324]. Полное неразличение языка и диалекта долго наблюдалось и в Италии, и в Испании[325]. В Англии норма языка стала обсуждаться в XVI в., но только применительно к письменному тексту, так как разговорная речь, как «низшая форма» общения, представлялась недостойной иметь свои нормы[326]. В Германии проблема языковой нормы возникает еще позднее – только в XVII столетии.
Особенно сложным соотношение между языком и его диалектами оказалось в тех странах, которые в силу определенных социальных причин на протяжении веков не имели единого экономического и политического центра и тем самым были лишены и лингвистической ориентации на диалект столицы. Последствия этой ситуации до сих пор сказываются и в истории отдельных языков. Так, итальянцы вплоть до наших дней различают не два регистра (язык – диалект), а четыре: общеитальянскии литературный язык, региональный итальянский язык, итальянизированный диалект и диалект в обычном смысле[327].
В большинстве европейских стран делаются первые попытки теоретически разобраться во всех этих вопросах в XVI – XVII вв. Эпоха Возрождения ставила перед гуманистами новые проблемы культуры. Вместе с тем отсутствие исторической точки зрения не только на факторы культуры, но и на окружающий человека мир крайне затрудняло самую постановку таких вопросов.
В XVI столетии изменения, происходящие в языке, рассматривались как его порча. Чтобы предотвратить подобную «порчу», необходимо создать грамматику. Она поможет языку быть понятным всегда и всем. Подобные рассуждения встречаются во многих филологических трактатах эпохи Возрождения. Особенно настойчиво эту концепцию защищал испанский эрудит Антонио Небриха (1449 – 1532)[328]. Вместе с тем и здесь вопрос не решался просто. Эпоха Возрождения получила свое название, как известно, и в силу того, что именно в этот период возрождается новый интерес к античности. Принцип «подражание древним» приходил в столкновение с обострившимся интересом к родной культуре, литературе и языку. «Подражать древним» мешало другому принципу – развивать все свое. Привычка писать по-латыни не давала возможности как следует заняться родным языком[329]. Позднее, уже в следующем столетии, великий мыслитель Декарт в своем «Рассуждении о методе» (1637) уже прямо мотивирует переход с латинского языка, языка тогдашней науки, на родной «вульгарный» язык необходимостью обсуждать новые проблемы науки, неизвестные античности. До Декарта сходные мысли выражал в Германии М. Лютер (1483 – 1546), смело предлагавший смотреть на немецкий язык не с позиций латинского, а с позиций самого немецкого языка[330].
В самых разных европейских странах эпоха Возрождения и XVII столетие характеризуется резким обострением внимания к родному языку и его норме. Больше того. Культура народа стала восприниматься сквозь призму родного языка. Так было, в частности, в XVI в. в Польше, так было в эту же эпоху и во Франции[331]. Вместе с тем в связи с культом античности никак не удастся преодолеть острое противоречие: латинский язык продолжает казаться во многих отношениях лучше родного языка. Известный французский гуманист, философ и математик Шарль Бовель так и писал в 1533 г.:
Система – самая «жесткая» основа литературного языка, норма, обычно допускающая многочисленные варианты, выступает как более широкое понятие, чем система, что же касается речи, основывающейся не только на вариантах нормы, но и предполагающей возможные отступления уже от самой нормы, то речь оказывается и шире системы, и шире нормы[322]. Эта схема дает возможность разобраться в сложных и весьма динамичных взаимоотношениях между различными основами литературного языка, определяющими его единство в каждую историческую эпоху. Норма отнюдь не выступает как нечто старое или, во всяком случае, устаревшее (к сожалению, так часто думают). Норма часто фиксирует новое, всякий раз обнаруживая подвижные границы между системой, нормой и речью.
Постараемся уяснить теперь, как норма давала о себе знать в европейских текстах разных эпох. Вопрос этот большой и специальный. Здесь могут быть обрисованы лишь самые общие его контуры.
В свое время Л.П. Якубинский убедительно показал, чем норма средневекового русского языка во многом отличалась от его нормы в прошлом столетии: норма старого языка включала в себя самые разнообразные диалектные особенности (не только лексические, но и грамматические). В эпоху, когда не существовало книгопечатанья, переписчики в разных областях государства, часто бессознательно, вносили в рукопись те особенности, которые были характерны для их родного диалекта. Поэтому, например, слово конь могло иметь в дательном падеже и коню, и коневи, а слово сынъ – сыну и сынови и т.д. Это не означало, разумеется, что язык той эпохи вообще не имел нормы. Но это была скорее нормативность, чем норма (по принятой мною терминологии). Так, например, если от существительного конь родительный падеж мн. числа мог быть или конь, или конев, или коньи (конии, коней), то уже никакая иная форма становилась невозможной[323]. Следовательно, если диалектные особенности языка не могут, как правило, входить в норму современного русского литературного языка, то в эпоху создания «Слова о полку Игореве» они обычно входили в норму языка той эпохи. Разумеется, подобные различия социально детерминированы: в разные эпохи функция диалектов оказывалась различной, различной была и грамотность переписчиков, сказывалось и отсутствие книгопечатанья и т.д.
Уже простейшие наблюдения подчеркивают исторически изменчивый характер нормы и ее зависимость от культуры эпохи в целом.
Между разными европейскими языками средних веков здесь было много общего. Достаточно напомнить, что и в средневековой Франции еще никто не различал такие понятия, как язык, диалект, патуа. Само слово диалект впервые появилось в этой стране в XVI столетии[324]. Полное неразличение языка и диалекта долго наблюдалось и в Италии, и в Испании[325]. В Англии норма языка стала обсуждаться в XVI в., но только применительно к письменному тексту, так как разговорная речь, как «низшая форма» общения, представлялась недостойной иметь свои нормы[326]. В Германии проблема языковой нормы возникает еще позднее – только в XVII столетии.
Особенно сложным соотношение между языком и его диалектами оказалось в тех странах, которые в силу определенных социальных причин на протяжении веков не имели единого экономического и политического центра и тем самым были лишены и лингвистической ориентации на диалект столицы. Последствия этой ситуации до сих пор сказываются и в истории отдельных языков. Так, итальянцы вплоть до наших дней различают не два регистра (язык – диалект), а четыре: общеитальянскии литературный язык, региональный итальянский язык, итальянизированный диалект и диалект в обычном смысле[327].
В большинстве европейских стран делаются первые попытки теоретически разобраться во всех этих вопросах в XVI – XVII вв. Эпоха Возрождения ставила перед гуманистами новые проблемы культуры. Вместе с тем отсутствие исторической точки зрения не только на факторы культуры, но и на окружающий человека мир крайне затрудняло самую постановку таких вопросов.
В XVI столетии изменения, происходящие в языке, рассматривались как его порча. Чтобы предотвратить подобную «порчу», необходимо создать грамматику. Она поможет языку быть понятным всегда и всем. Подобные рассуждения встречаются во многих филологических трактатах эпохи Возрождения. Особенно настойчиво эту концепцию защищал испанский эрудит Антонио Небриха (1449 – 1532)[328]. Вместе с тем и здесь вопрос не решался просто. Эпоха Возрождения получила свое название, как известно, и в силу того, что именно в этот период возрождается новый интерес к античности. Принцип «подражание древним» приходил в столкновение с обострившимся интересом к родной культуре, литературе и языку. «Подражать древним» мешало другому принципу – развивать все свое. Привычка писать по-латыни не давала возможности как следует заняться родным языком[329]. Позднее, уже в следующем столетии, великий мыслитель Декарт в своем «Рассуждении о методе» (1637) уже прямо мотивирует переход с латинского языка, языка тогдашней науки, на родной «вульгарный» язык необходимостью обсуждать новые проблемы науки, неизвестные античности. До Декарта сходные мысли выражал в Германии М. Лютер (1483 – 1546), смело предлагавший смотреть на немецкий язык не с позиций латинского, а с позиций самого немецкого языка[330].
В самых разных европейских странах эпоха Возрождения и XVII столетие характеризуется резким обострением внимания к родному языку и его норме. Больше того. Культура народа стала восприниматься сквозь призму родного языка. Так было, в частности, в XVI в. в Польше, так было в эту же эпоху и во Франции[331]. Вместе с тем в связи с культом античности никак не удастся преодолеть острое противоречие: латинский язык продолжает казаться во многих отношениях лучше родного языка. Известный французский гуманист, философ и математик Шарль Бовель так и писал в 1533 г.:
«Было бы излишним и напрасным трудом искать идеи во всяком вульгарном языке».Поэтому и норма может остановить лишь порчу родного языка, но не сделать его великим[332]. XVII и XVIII столетия вносят немало нового в осмысление проблемы нормы языка. На протяжении этих столетий в различных европейских странах создаются научные академии, многие из которых начинают пристально заниматься вопросами языковой нормы. Среди этих академий были организации, первоначально имевшие чисто филологический характер (перед ними прежде всего ставилась задача – создать словарь и грамматику родного языка), как, например, в Италии и во Франции, и такие, цели которых сводились к изучению естественных наук, как, например, в Англии. Вместе с тем весьма любопытно, что и эта вторая группа академий, казалось бы, далекая от филологии, в первые десятилетия своего существования горячо вмешивалась в обсуждение вопроса о характере научного изложения, об особенностях «языка науки». Так оказалось, в частности, с естественнонаучным лондонским королевским обществом, созданным в 1647 г.[333] Вопросы языка и его норма, их обсуждение приобретали широкое государственное значение. Справиться даже с ближайшими филологическими задачами (создать толковый словарь языка и его грамматику) европейским академиям оказалось, однако, очень трудно. Достаточно сказать, что над толковым словарем первые французские академики проработали 60 лет, прежде чем в 1694 г. появилось первое его издание. Что же касается академической грамматики, то она увидела свет только в нашем столетии, почти через триста лет после возникновения ее замысла. Вместе с тем грамматика оказалась настолько несовершенной, что вызвала суровую критику самих же видных французских филологов[334]. XVII в. резко обострил дискуссию о социальных основах нормы литературного языка. Виднейший французский грамматист середины этого века К. Вожла, рассуждая о том, на какой обычай (usage) должен ориентироваться литературный язык, выделяет прежде всего придворное общество («наиболее здоровую его часть») и язык «хороших писателей»[335]. Весьма любопытны оговорки: ориентация не на язык придворного общества, а на его «наиболее здоровую часть», в свою очередь как бы проверенную практикой «хороших писателей». Через 85 лет другой грамматист К. Бюффье поправит Вожла, подчеркивая, что при установлении нормы надо равняться не на язык двора и даже не на его «наиболее здоровую часть», а на «обычай большинства» образованных людей, с которым обязан считаться филолог[336]. Как видим, социальные основы языковой нормы остро дебатировались уже в XVII и в особенности в XVIII столетиях. Как уже подчеркивалось, ситуация изменилась в начале прошлого века, когда открытие сравнительно-исторического метода в лингвистике временно отодвинуло интерес к языковой норме на задний план. С начала нашего столетия и особенно в последние десятилетия этот интерес вновь оживился во всем мире. И здесь вновь обнаружились разные концепции истолкования самой проблемы.
5
Хотя на хороших писателей, как источник нормы литературного языка, филологи стали ссылаться уже с эпохи Возрождения, однако позднее именно писатели, особенно выдающиеся мастера слова, заметно осложняли понятие о языковой норме. Уже в 1820 г. великий немецкий лингвист и филолог В. Гумбольдт писал:«Язык должен быть обработанным и в то же время народным. Для этого он должен непрерывно переходить от народа к писателям и филологам, а от них – вновь в уста народа»[337].Знаменательно, что эта мысль выражалась в эпоху, которая еще не знала разграничения общенародного и литературного типов единого языка. Гумбольдт считал подобное взаимодействие характерным для языка в целом, в особенности для языков, имеющих богатую письменность. Разумеется, такое взаимодействие в истории европейских языков сложилось не сразу. Причем хронология процесса была сложной: от более явного взаимодействия в античную эпоху к его резкому ослаблению в средние века, к новому оживлению в эпоху Возрождения, к последующему повторному ослаблению, к порывистому усилению процесса на рубеже XIX столетия и т.д. При этом типы взаимодействия между народным и литературным «началами» языка не просто повторялись, а всякий раз исторически видоизменялись, качественно преобразовывались.
«Поэмы Гомера, – сообщает исследователь античной культуры, – были первыми литературными произведениями, с которыми соприкасался только что выучившийся чтению и письму греческий мальчик. Из них он черпал первое знакомство с идеологическими ценностями античного общества… Поэмы Гомера и их язык воспринимались как единое целое»[338].Разумеется, в наше время трудно установить, в какой степени в языке поэм Гомера имелись индивидуальные черты, но самый характер усвоения родного языка как бы сквозь призму Гомера показателен для определения эпохи. Ситуация довольно заметно изменяется в средние века.
«Средневековый автор больше делает свое произведение, чем творит его, как современный художник»[339].В «сделанном» же произведении личное, свойственное именно данному автору, а не другому, выделяется с большим трудом. Язык художественных произведений средних веков в сознании современного исследователя почти полностью сливается, с одной стороны, с языком деловых документов той эпохи, а с другой – с общеразговорным языком в той мере, в какой мы можем судить о нем по разнообразным диалогическим вкраплениям в текстах изучаемой эпохи. Один из хорошо известных исследователей средневековой литературы считает, что в те времена внешняя форма художественных произведений была неустойчивой: она менялась, переделывалась переписчиками, продолжалась в другом сочинении и т.д. В новое время, наоборот, форма произведения обычно выступает как форма «окончательная», устойчивая, тогда как содержание произведения в разные времена толкуется различно. Каждая эпоха предлагает свое осмысление Шекспира, Гете, Толстого[340]. Отдавая должное этим интересным наблюдениям, я все же думаю, что процесс развития художественной литературы (и шире – письменности) протекал сложнее. До сих пор идут споры о том, что такое, например, окончательный текст «Мертвых душ» Гоголя. Предлагаются все новые толкования основной идеи «Песни о Роланде» и «Песни о Нибелунгах». Линия водораздела между средневековой литературой и литературой нового времени (в широком смысле) в художественном творчестве определяется прежде всего степенью сознательного отношения автора к идее, к замыслу сочинения, степенью такого же сознательного отношения к форме выражения этого замысла, т.е. к языку (тоже в широком смысле) произведения. Глубоко сознательное отношение к форме выражения своих идей и чувств в художественной литературе рождается сравнительно поздно. Такой крупный медиевист, как Гастон Парис, считал, что в истории французской литературы подобное отношение впервые обнаруживается у поэта XV столетия Франсуа Вийона[341]. Другие исследователи осложняли картину, подчеркивая, что подобное отношение к языку можно обнаружить уже у Кретьена де Труа (XII в.), затем возникает длительный период «безразличия», чтобы вновь возродиться, уже на новой основе, у Франсуа Вийона[342]. И в истории других литератур выявляется непрямая хронология. Уже у Данте (отчасти также у Петрарки и Боккаччо) отношение к форме передачи своих идей и размышлений выступает как весьма активное. Позднее наступает период известного безразличия, а на рубеже XIX столетия и в особенности в его середине проблема вновь горячо обсуждается, получает широкий общественный резонанс[343]. Глубоко сознательное отношение к своему словесному искусству на рубеже XVII в. обнаруживается в истории испанской литературы у Сервантеса[344]. И подобные примеры (возникновение активного отношения к языку своих произведений у отдельных авторов с последующим спадом подобного интереса в более поздние эпохи с тем, чтобы на новой основе вновь возродиться, чаще всего в период конца XVIII – начала XIX столетия, с колебаниями в ту или иную сторону) могут быть приведены и из истории других национальных литератур. В этой связи весьма интересно, что многим крупнейшим писателям двух последних веков всегда казалось, что художественная литература в собственном смысле начинается только тогда, когда ее создатели начинают активно отбирать языковые и стилистические ресурсы из сокровищницы общенародного языка. Так, по свидетельству одного из знатоков творчества Пушкина и его эпохи, поэт считал, что подлинная художественная литература во Франции начинается только с середины XVII столетия, хотя Пушкин знал и ценил Монтеня[345]. В более ранней французской литературе поэт не обнаруживал того активного отношения к средствам языка и стилистического выражения, без которого и нет собственно подлинного художественного творчества. И все же в большинстве европейских литератур (в том числе, разумеется, и в русской) подлинный перелом в этом плане происходит во второй половине XVIII и в начале XIX столетия. Открытие исторической точки зрения на язык (о чем уже шла речь раньше) и на другие общественные категории в первой трети минувшего века значительно ускорили и усилили такой перелом. Уже в 1755 г. в предисловии к своей «Российской грамматике» М.В. Ломоносов подчеркивал:
«И ежели чего точно изобразить не можем, не языку нашему, но недовольному своему в нем искусству приписывать долженствуем»[346].Это означало: если люди не умеют адекватно выражать свои мысли и чувства, то следует работать и над собой, и над родным языком, чтобы справиться с подобной задачей. Владея лишь «недовольным», т.е. недостаточным искусством речи, трудно справиться с адекватной передачей мыслей и чувств. И все же Ломоносов еще ставил акцент не столько на «обработку языка», сколько на самовоспитание, на стремление овладеть языком как бы «до конца» (чего обычно сделать невозможно). Проходит несколько десятилетий и в 1802 г. H.М. Карамзин в статье «О любви к отечеству и народной гордости» уже прямо говорит о необходимости обрабатывать русский язык для того, чтобы уметь свободно и без труда выражать и самые отвлеченные, и самые конкретные мысли и чувства.
«Надо трудиться над обрабатыванием собственного языка»[347].К этим положениям в начале века, в особенности в 20 – 30-е годы, неоднократно возвращались писатели разных стран. Тезис «необходимо обрабатывать свой родной язык» становится одним из центральных и у немецких романтиков той поры[348]. Этот же тезис по-своему, самобытно развивал у нас Н.В. Гоголь. В статье о Пушкине (1832 г.) Гоголь подчеркивал уменье поэта «раздвинуть границы языка и показать все его пространство». Эта особенность пушкинского слова с его «бездной пространства» поражала Гоголя[349]. Он был убежден, что все это – результат не только гениальной интуиции, но и плоды «обработки языка», уменья на него воздействовать. В восьмой главе первого тома «Мертвых душ» Гоголь прямо говорит о том, что только «обработанный как следует» язык в состоянии точно передать мысли и чувства людей. Увы, этого не понимают «читатели высшего сословия». Позднее о важности разумного воздействия на язык со стороны писателей сообщали Тургенев и Достоевский, Чернышевский и Толстой, Маяковский и Горький, как и многие другие выдающиеся авторы. Вместе с тем с начала прошлого столетия постепенно складывается разграничение литературного типа языка и общенародного типа языка. Хотя терминологически подобное разграничение закрепляется только во второй половине минувшего столетия, оно уже началось в эпоху обоснования сравнительно-исторического метода. Если до XIX столетия «обработка языка» воспринималась суммарно и нерасчлененно, то со второй половины прошлого века «обработка языка» стала истолковываться применительно к литературному типу языка и его норме. При этом выдающиеся писатели, как и филологи, обычно рассматривали литературный тип языка в его взаимодействии с общенародной речью: эта последняя является источником первого, хотя именно литературный тип языка подвергается сознательной обработке. Казалось бы, наметившийся процесс вновь осложнился. Как мы уже знаем, именно историческая лингвистика, с одной стороны, показала известную условность нормы (язык постоянно развивается), а с другой – она же установила закономерности формирования литературных языков с их обязательным понятием нормы. Этот противоречивый и вместе с тем вполне жизненный процесс стали понимать не только филологи, но и писатели. Норма необходима, но вместе с тем неизбежны и отступления от нормы не только в силу движения языка, но и по причине стилистического осмысления самого принципа возможных отступлений от нормы. В 1870 г. И.С. Тургенев в письме к П.В. Анненкову заметил о языке сочинений А.И. Герцена:
«Язык его, до безумия неправильный, приводит меня в восторг: живое тело»[350].Этими словами Тургенев хотел подчеркнуть, что отступления от нормы литературного языка у Герцена оказывались не только оправданными, но и способствовали (наряду с другими особенностями его дарования) более сильному и яркому воздействию на читателей. Тургеневское признание тем более интересно, что из четырех самых великих русских прозаиков прошлого века (Гоголя, Тургенева, Достоевского и Льва Толстого) Тургенев в своих сочинениях реже всего отступал от нормы. И все же подобные отступления, если они встречались у большого мастера и служили определенной продуманной цели, одобрительно воспринимались автором «Стихотворений в прозе». Проблема нормы осложняется и по другим причинам. Дело в том, что в XIX – XX столетиях норма в языке художественных произведений становится гораздо шире нормы литературного языка в собственном смысле. И это вполне понятно, если учесть, что писатели обычно широко используют диалектные и просторечные элементы общенародного языка, тем самым расширяя (нередко резко) границы между нормой и ненормой, превращая их в границы еще более гибкие и подвижные, чем границы литературного языка. Вопрос, однако, не сводится только к отмеченным различиям. Обычно не замечают других расхождений, теоретически гораздо более важных.
«Каждое художественное слово, – писал в свое время Лев Толстой, – тем-то и отличается от нехудожественного, что вызывает бесчисленное множество мыслей, представлений и объяснений»[351].Именно этими бесчисленными ассоциациями язык великих писателей XIX – XX вв. отличается от всех других типов языка. Этим объясняется и неповторимость языка больших художников самых различных стран и народов, в особенности, начиная с тех пор, когда сознательное отношение к языку и стилю своих произведений превратилось в важнейший признак подлинного и большого творчества. И хотя Толстой писал лишь об ассоциациях, вызываемых словами, его суждение относится ко многим сферам языка – к лексике и семантике, к словообразованию и фонетике, к синтаксису и стилистике, к построению монолога и диалога, и т.п. Разумеется, при такой многоаспектности функций языка художественной литературы нового времени его нормы оказываются во многом иными (не столько в количественном, сколько в качественном отношении), чем нормы обычного литературного языка. К сожалению, эту важнейшую специфику языка большой художественной литературы, отмеченную Л.Н. Толстым, понимают отнюдь не все современные исследователи. Больше того. С позиции теории информации описанная специфика выступает не как важнейшая особенность, придающая языку великих писателей огромную силу воздействия, а как недостаток «художественного языка». Как я уже отмечал в первой главе, об этом писал, в частности, представитель математической лингвистики С. Маркус и рецензент его книги И.И. Ревзин. По их мнению, полифункциональность языка художественной литературы свидетельствует об его расплывчатости и недостаточно четкой информативности[352]. Вот здесь-то мы и подходим к важнейшему разграничению разных типов информации и информативности. К сожалению, подобное разграничение обычно не проводится. Между тем оно совершенно необходимо. Способность языка художественной литературы (имеются в виду выдающиеся писатели) вызывать «бесчисленное число мыслей» (разумеется, наряду с общим замыслом произведения) как раз и является его информативностью, но информативностью, качественно совсем иной, чем информативность типа «сегодня хорошая погода» или «вчера мы потрудились на славу». Только в результате смешения разных типов информативности может возникнуть невероятное утверждение о том, что язык Пушкина или Льва Толстого, Гете или Флобера, Маяковского или Шолохова «страдает расплывчатостью и неинформативностью»[353]. В плане интересующей меня темы: нормы языка больших писателей не могут тем самым полностью совпадать с нормами литературных языков их эпохи не только по количественным признакам (включение или невключение диалектных, просторечных или арготических элементов), но и по качественным признакам (разные виды и типы информативности). Больше того. У великих поэтов и прозаиков прямо невыраженные мысли и чувства, на фоне выраженных, информативно могут быть более содержательными, чем мысли и чувства, выраженные прямо, непосредственно.
6
Обычно, когда говорят о неустойчивости нормы литературного языка, имеют в виду ее подвижность во времени. Это верно, но этого недостаточно. Сложность нормы определяется прежде всего ее полифункциональностью в каждую историческую эпоху. И дело здесь не только в противопоставлении литературного языка и языка художественной литературы. Сама норма литературного языка оказывается синхронно многоплановой, зависимой от социальной среды, от уровня образованности людей, от их профессии и общей культуры, от привычки относиться к языку сознательно или бессознательно и т.д. Еще в 1939 г. Л.В. Щерба справедливо заметил:«Когда чувство нормы воспитано у человека, тогда-то он начинает чувствовать всю прелесть обоснованных отступлений от нее…»title="">[354]Подобные сознательные отступления могут быть не только у хороших писателей, но и у самых «обыкновенных» людей, вдумчиво относящихся к своему родному языку, понимающих его безграничные выразительные возможности. В ряде случаев отклонения от нормы оказываются социально или профессионально обусловленными. В своих воспоминаниях Ф.И. Шаляпин рассказывает, как в молодости он говорил «по средне-волжски, круто упирая на о».
«Это едва не погубило меня… Публика улыбалась. После этого я решил, что мне необходимо учиться говорить „по-барски“, на а»[355].А вот совсем иная ситуация, о которой уже в наше время сообщил академик И.П. Бардин. Он, разумеется, знал, что в слове километр ударение в литературной норме должно стоять на последнем слоге, но на Новотульском заводе, где ученый постоянно бывал, он произносил это существительное с ударением на втором слоге, как произносили на заводе все, –
«а то подумают, что зазнался Бардин»[356].В этом случае – независимо от того, прав ли был ученый или неправ – говорящему приходится сознательно приспосабливаться к определенной профессиональной среде. Полифункциональность нормы дает возможность (при сознательном отношении к самой норме) использовать ее в тех или иных целях. Часто недооценивают социальный и профессиональный аспекты нормы. В рассказе А.И. Куприна «Штабс-капитан Рыбников» действие происходит в период русско-японской войны 1904 г. Японский шпион, называющий себя Рыбников, прекрасно говорит по-русски. Но вот опытный журналист Щавинский, другой персонаж этого рассказа, начинает догадываться, что Рыбников – японский шпион. Догадка основывается на слишком четкой артикуляции всех звуков русского языка, что, как известно, в норме языка обычно не наблюдается. Ненормативное произношение звуков подводит Рыбникова и выдает его как шпиона. Здесь недостаточное владение нормой и ее вариантами оборачивается трагедией для персонажа рассказа. Отступления от нормы могут быть более заметными, более резкими и менее заметными, менее резкими. В этом втором случае обычно говорят о вариантах в пределах нормы. Социальное значение нормы иллюстрируется различными историческими примерами. В свое время формирование провансальского языка сложилось так, что он не получил литературной нормы. Провансальские трубадуры писали на разных диалектах, а ученые сочинения слагались на латинском языке. В результате, как показывают новейшие исследования, современные провансальцы не знают литературного языка, общего для всего Прованса[357]. Литературный язык стимулирует норму, а норма, в свою очередь, способствует развитию литературного языка. Когда в 1735 г. Тредиаковский в «Новом и кратком способе сложения российских стихов» в главе «О вольности в сложении российских стихов» сформулировал свои знаменитые 14 пунктов вольностей, то это делалось для того, чтобы варианты нормы облегчили поэтам поиски нужных стилистических решений[358]. Если норма разрешает существование вариантов, то она помогает писать. И хотя Тредиаковский еще смутно представлял себе эстетические возможности языка художественной литературы, само обоснование вариантов нормы представлялось знаменательным. И норма, и ее варианты, по убеждению автора, в равной степени необходимы. Учитывая, что существуют различные виды нормы, можно понять и писателей, которые восставали против догматического или слишком узкого истолкования нормы. Известны, в частности, протесты В. Маяковского против такого осмысления нормы. Поэт стремился расширить норму языка художественной литературы, в частности – поэзии:
Пока выкипячивают, рифмами пиликая,
Из любвей и соловьев какое-то варево,
Улица корчится безъязыкая,
Ей нечем кричать и разговаривать.
«Норма, – писала в свое время Е.С. Истрина, – определяется степенью употребления при условии авторитетности источников»[360].Но она тут же уточняла свое определение: индивидуальные особенности языка и стиля великих писателей могут влиять на норму, но не детерминировать ее, в той мере, в какой подобные особенности сохраняют индивидуальный отпечаток. Вместе с тем, нельзя и недооценивать воздействия выдающихся писателей на норму. Достаточно напомнить, что толковые словари всех современных языков составляются с учетом языка и стиля национальных писателей: значения и употребления слов, словосочетаний, устойчивых и идиоматических выражений обычно иллюстрируются примерами, заимствованными из произведений писателей. При всем значении индивидуального начала в языке писателей нашего времени, это индивидуальное, как правило, подчиняется общему. И это закономерно: у подлинно больших мастеров слова, при всей яркой персональной окраске их языка и стиля, сама такая особенность возникает из общих ресурсов литературного языка данной эпохи и на них же опирается. Парадоксальность положения заключается еще и в том, что на фоне сравнительно твердой нормы яснее и рельефнее выделяются индивидуальные отклонения от нее у писателей. Подобные отклонения обычно отмечаются в толковых словарях и в грамматических описаниях. История мировой литературы знает и такие случаи, когда отдельные прозаики и поэты, а иногда и целые творческие направления умышленно прибегают к так называемой темной манере изложения. В подобных ситуациях речь идет уже не об отдельных отступлениях от литературной нормы языка, а о ее последовательном разрушении. Известно, что в «темной манере» (trobar clus) слагали свои сочинения некоторые провансальские трубадуры, у которых «трудный стиль» переходил в «темный стиль». Потребовались специальные разыскания филологов, чтобы как-то расшифровать их творения[361]. Концепцию «трудного стиля», переходящего в «темный стиль», позднее защищал испанский поэт эпохи позднего Возрождения Л. Гонгора (1561 – 1627). В XIX столетии аналогичную доктрину отстаивали некоторые поэты: француз С. Малларме (1842 – 1898), англичанин Р. Браунинг (1812 – 1889) и нек. др. Уже в нашем столетии убежденным сторонником «трудного стиля» всегда выступал ирландский прозаик Джеймс Джойс (1882 – 1941), автор знаменитого романа «Улисс». Обычное обоснование «трудного и темного стилей» (различие между первым и вторым эпитетами здесь всегда представлялось почти неуловимым) во все времена сводилось к тому, что подлинное произведение искусства должно требовать труда не только от его создателя, но и от его созерцателей (читателей). Поэтому пусть читатели расшифровывают язык и стиль художественных творений[362]. К счастью, однако, и для истории европейских языков, и для общей культуры Европы подобная концепция не имела хоть сколько-нибудь широкого распространения ни в старые времена, ни в новые. Как против темного, так и против трудного стилей (если их условно все же разграничить) обычно выступали и выступают выдающиеся писатели самых различных стран. Язык и стиль Шекспира не относятся к числу «легких», но драматург осуждал умышленное и преднамеренное осложнение самой манеры изложения. Его знаменитый 21-й сонет направлен против темного стиля:
«Не соревнуюсь я с творцами од,
Которые раскрашенным богам
В подарок преподносят небосвод…
…
В любви и в слове – правда мой закон»[363].
«лавочники не любят подобного стиля, так как без непонятных слов и головоломных синтаксических конструкций литературное произведение кажется им слишком тривиальным»[364].То же отношение к темному стилю всегда наблюдалось и в истории русской литературы. В повести «Мужики» А.П. Чехов замечает:
«Ольга каждый день читала евангелие…, многого не понимала, но… такие слова, как аще и дондеже, она произносила со сладким замиранием сердца».Непонятные слова кажутся Ольге важными и значительными. Эту же особенность ограниченного ума подметил и М. Горький, заставив своего Сатина («На дне») заявить, что он, Сатин, «любит непонятные слова». Я, разумеется, не сравниваю воздействие темного стиля на Ольгу или Сатина с воздействием темного стиля Малларме или Браунинга на их рафинированных читателей. Дистанция, как в таких случаях говорят, огромная. И все же здесь обнаруживаются и точки соприкосновения: непонятное или малопонятное представляются сознанию, даже высокого уровня, чем-то значительным одной своей непонятностью и некоторой таинственностью. Оказывается, не только лавочники попадают под воздействие подобного литературного приема. В данном случае речь идет действительно об особом приеме. И все же проблема темного стиля, в особенности проблема трудного стиля (в тех ситуациях, когда они все-таки, хотя и нелегко, различаются), относится к сложным проблемам истории языка и стиля художественной литературы разных эпох в связи с тем, что норма языка больших мастеров слова часто действительно существенно отклоняется от нормы литературного языка их эпохи. В свое время Юрий Олеша заметил, что можно написать целую диссертацию об отступлениях от нормы языка у Льва Толстого[365]. Но трудность проблемы в том, что подобные отступления, невозможные вне текста Льва Толстого, оказываются не только возможными, но и по-своему необходимыми в тексте произведений Толстого. Именно поэтому норма языка большого писателя выступает как понятие качественное. Одними подсчетами «правильного и неправильного» здесь ничего нельзя ни понять, ни сделать. И всё же тонкий стилист, писатель Ю. Нагибин безусловно прав, когда он совсем недавно заметил:
«Почти каждого, даже самого сложного писателя с возрастом, если постарению сопутствует не угасание творческих сил, а накопление души и разума, заворачивает к простоте. Ему хочется быть понятным… Это и есть бессмертие, а не памятники и мемориальные доски»[366].Итак, даже в такой «капризной» сфере функционирования языка, как художественная литература, норма языка с определенной исторической эпохи оказывается фактором сложным и многоаспектным, но вполне реальным и очень важным.
7
В первой главе, посвященной понятию точности, уже пришлось коснуться той теории поэтического языка, которая развивалась у нас в 20-е годы «Обществом по изучению теории поэтического языка» (ОПОЯЗʼом). Сейчас я попытаюсь вернуться к этому вопросу с более общих методологических позиций. Дело в том, что в наше время возникающая здесь проблема вновь приобрела острое теоретическое значение. Видные представители упомянутого «Общества» считали, что язык подлинной поэзии лишен коммуникативной функции. Он воздействует на читателей и слушателей лишь своими «колеблющимися признаками», своей «кажущейся семантикой». В 1921 г. об этом писал Р.О. Якобсон[367], но подробно стремился обосновать данный тезис в 1924 г. Ю.Н. Тынянов[368].«Любопытно, – писал Ю.Н. Тынянов, – отношение читательской публики к „бессмыслице“ ранних символистов и ранних футуристов. Использование кажущейся семантики было понято, как загадывание загадок. К словам, важным своими колеблющимися признаками, а не основными, пробовали отнестись с точки зрения именно этих основных признаков. Особая система стиховой семантики при этом сознавалась коммуникативной системой семантики, т.е. подвергалась последовательному разрушению»[369].Ю.Н. Тынянов прямо и резко противопоставляет коммуникативную семантику и поэтическую семантику, которая характеризуется колеблющимися признаками. При этом автор убежден, что поэтическая семантика полностью лишена всякой коммуникативной функции. Подходить к такой семантике с коммуникативной позиции означает, по мнению Ю.Н. Тынянова, «подвергать ее последовательному разрушению». Ю.Н. Тынянов прав в своем стремлении обнаружить колеблющиеся признаки поэтической семантики или то, что мною было названо семантической полифункциональностью языка больших поэтов. Но Ю.Н. Тынянов безусловно неправ, лишая поэтический язык всякой коммуникативности. В действительности, полифункциональность поэтического языка (то, что Ю.Н. Тынянов называет «колеблющимися признаками») нисколько не противоречит его коммуникативности. Дело лишь в том, что это особая коммуникативность, многоплановая коммуникативность великих поэтов разных народов. Разумеется, подобная коммуникативность весьма далека от коммуникативности, констатирующей «хорошую погоду» или «сытный обед». Но почему надо предполагать, что язык способен выполнять коммуникативную функцию лишь на таком уровне? Обращаясь к коммуникативной функции языка выдающихся поэтов, мы вступаем в область весьма сложной коммуникативной функции с ее «колеблющимися признаками», постоянно взаимодействующей с другими функциями языка, в том числе и с познавательной, и с эстетической. Разногласия подобного рода имеют принципиальное методологическое значение: либо надо признать, что язык поэзии не в состоянии передать какой-либо мысли или какого-либо чувства (а что же тогда сама поэзия?), либо язык больших поэтов великолепно справляется и с тем, и с другим, но только делает это по-своему, как правило, во многом иначе, чем в нашей повседневной речи. Тогда возникает проблема не асемантичности поэтического языка, который будто бы держится лишь на «колеблющихся признаках», а об его семантической полифункциональности, включающей наряду с обычными семантическими признаками коммуникации, еще и «колеблющиеся признаки», действительно характерные для поэтического языка. Если бы «колеблющиеся признаки» были бы единственными признаками поэтического языка, как думал Ю.Н. Тынянов, то и само творчество великих поэтов разных народов не могло бы иметь того огромного социального и культурного значения, которое оно в действительности всегда имеет. Именно поэтому разные, диаметрально противоположные истолкования природы поэтического языка приобретают острое методологическое значение. При тыняновском истолковании поэтического языка негативно решается и вопрос о его норме: поэту все дозволено, так как он отрешен от повседневной семантики национального языка[370]. Казалось бы, узкоспециальный вопрос – соотношение семантики литературного языка и семантики поэтического языка – в действительности приобретает острое методологическое значение, обнаруживает совершенно различное понимание самой природы языка в тех или иных сферах его функционирования. Эта же борьба концепций происходит и в наше время, так как сторонников антикоммуникативной функции поэтического языка находится и сейчас немало[371]. Все сказанное, разумеется, не означает, что поэтический язык не имеет своей специфики. Больше того: он не может существовать без подобной специфики. Весь вопрос в том, кáк понимать специфику поэтического языка. Я возражаю лишь против ее сведéния к антикоммуникативности. Что же касается «колеблющихся признаков» поэтического языка, то они объясняются не его антикоммуникативностью, а его полифункциональностью. А это – принципиально различное истолкование поэтического языка. Ю.Н. Тынянов приводит две строки из стихотворения Батюшкова («И гордый ум не победит Любви, холодными словами») и тонкий комментарий к ним Пушкина:
«…смысл выходит: холодными словами любви; запятая не поможет»[372].Тынянову кажется, что неудача Батюшкова в этих строках, отмеченная Пушкиным, объясняется лишь одним фактором – «теснотой связи слов в одном ряду». Между тем этот фактор вторичный. На первом плане оказывается семантическая (коммуникативная в широком смысле) проблема. Батюшков хотел сказать (коммуникация!), что любовь сильнее холодных слов, поэтому холодные слова не в состоянии оказаться сильнее любви. Получилось же нечто совсем иное: будто бы любовь выражается холодными словами. «Теснота ряда» могла лишь усилить неудачу поэта, но в основе оказывается коммуникативная ошибка, в результате которой мысль поэта предстала искаженной. Весьма интересно, что Пушкин совершенно справедливо и очень тонко отмечает именно смысловую ошибку своего друга («смысл выходит…»). Не только теория, но и практика лишний раз убеждают нас в том, что специфику (очень важную!) поэтического языка нельзя искать в его антикоммуникативности. Это – мнимая антикоммуникативность. Подлинная же специфика поэтического языка определяется полифункциональностью всех его ресурсов. Как мы видим, обсуждаемые вопросы тесно связаны с понятием языковой нормы во всех ее разновидностях. Если язык больших поэтов не преследовал бы никаких коммуникативных (в широком смысле) целей, то и понятие нормы оказалось бы ему ненужным. В действительности это не так. Поэтому филологу приходится иметь дело с разными типами нормы и стремиться осмыслить их и типологически, и исторически. В последующих строках я попытаюсь обратить внимание еще на один тип нормы, который до сих пор, насколько мне известно, никогда не привлекал к себе специального внимания исследователей. Имею в виду такие случаи, когда нормативное явление в одном языке оказывается ненормативным явлением в другом или других родственных языках. В принципе подобные отношения возможны и в неродственных языках, хотя в языках родственных корреспонденции в пределах «норма – ненорма» по вполне понятным причинам встречаются гораздо чаще. Подобные соотношения бытуют на всех уровнях языка (в фонетике, в лексике, в словообразовании, в грамматике, в стилистике). Здесь же я коснусь лишь грамматического уровня, чтобы хотя бы в общих чертах обрисовать проблему. Известно, что в современном русском языке с одинаковым правом можно сказать я еду и еду. Обе конструкции (и с местоимением, и без него) выступают как одинаково нормативные. И все же если обратиться к хорошим грамматическим описаниям, то можно узнать, что первая конструкция с местоимением (я еду) для русского языка нашего времени более характерна, чем вторая, без местоимения (еду). В современном чешском языке, как утверждают грамматисты, соотношения между двумя данными конструкциями складываются в пользу первой: jedu (без личного местоимения) является более нормативным построением, чем ja jedu (с личным местоимением). То, что в одном языке предстает как норма, в другом родственном языке – как вариант этой же нормы, и наоборот. Положение осложняется тем, что в каждом из двух названных языков допустимы (в пределах нормы) обе конструкции. Так сравнение помогает выявить движение в пределах понятий «норма – варианты нормы»[373]. Здесь могут быть самые различные, в том числе и гораздо более сложные, соотношения между родственными языками. Например, в одном языке нормативная и живая конструкция, в другом – архаическая и тем самым уже неживая (ненормативная) конструкция. В испанском языке широко встречается построение с так называемым повествовательным инфинитивом. Такой инфинитив как бы выполняет функцию личных форм глагола: los pilluelos a escapar ʽсорванцы принялись убегатьʼ. Сходное построение во французском (знаменитый пример из басни Лафонтена – grenouilles de se plaindre ʽa лягушки принялись жаловатьсяʼ) в наши дни не только стало архаичным, но и приобрело торжественную окраску, совершенно ей несвойственную в испанском. Нормативное (с оттенком «разговорности») в одном языке оказывается ненормативным (с оттенком архаической торжественности) в другом. Только специальные исторические разыскания в состоянии объяснить подобные расхождения между родственными языками. Синхронно же несомненно описанное соотношение: норма в одном случае, ненорма в другом случае. Подобная корреспонденция не всегда, однако, так отчетливо выражена. Часто оказывается, что в одном языке определенная грамматическая конструкция просто встречается чаще, чем в другом. При этом ее частотность не связана с той или иной стилистической окраской. Так, например, причастные предложения (ср. абсолютные аблятивные предложения в латинском) в испанском языке встречаются гораздо чаще, чем во французском, хотя в обоих языках они располагаются в пределах нормы: исп. acabada la tarea, podremos salir = франц. le travail terminé, nous pourrons sortir ʽокончив работы, мы можем выйтиʼ[374]. Подобные соотношения труднее характеризовать в пределах «норма – ненорма», чем, например, построения с повествовательным инфинитивом. В только что приведенном примере движение обнаруживается только в пределах «норма – варианты нормы». Более четкие противопоставления оказываются в морфологии родственных языков. В румынском и молдавском языках существительные так называемого обоюдного рода (мужского рода в единственном числе, женского рода во множественном числе) – явление, типичное для морфологии этих языков, тогда как во французском имеются лишь три имени существительных, которые характеризуются тем же родовым разнобоем (amour ʽлюбовьʼ, délice ʽнаслаждениеʼ, orgue ʽорганʼ, музыкальный инструмент). В этом случае норма для одних языков (она опирается на многие имена существительные) оказывается исключением для другого языка (она опирается лишь на три слова, никак друг с другом не связанные). Даже этих немногочисленных примеров достаточно, чтобы установить еще один вид нормы – межъязыковый тип нормы. Эта проблема имеет и теоретическое, и практическое значение. Первое определяется установлением самого многообразия видов языковой нормы, второе – практическим изучением нормы одного языка с позиции нормы другого конкретного языка. При этом, чем сознательнее отношение людей и к своему, и к изучаемому языкам, тем большее значение приобретают все эти сопоставительные межъязыковые контакты и межъязыковые расхождения.
8
Нередко считают, что проблема языковой нормы настолько «мирная» проблема, что теоретические дебаты здесь либо невозможны, либо не имеют большого значения. В действительности, как я стремился показать, это совсем не так. Осмысление нормы языка, ее различных типов и разновидностей, во многом определяется пониманием самой природы языка и его функций в обществе. И здесь социальные вопросы оказываются в тесном взаимодействии с собственно лингвистическими темами. Насколько языковая норма должна быть жесткой? Хорошо ли, когда язык имеет именно такую норму? Но как в таком случае следует понимать подвижность нормы, ее многочисленные варианты? Как следует расценивать норму языка великих писателей, которые одновременно и соблюдают норму родного языка, и отступают от нее? В чем смысл «разумных отступлений» от нормы, о которых писал выдающийся советский филолог Л.В. Щерба? Вот лишь некоторые из вопросов, осветить которые я стремился в этой главе. Конечно, без определенной нормативности (ср. ранее предложенное разграничение нормативности и нормы) язык функционировать не может. В этом огромное социальное значение и нормативности, и нормы. Последняя обычно формируется на более позднем этапе развития языка. Вместе с тем овладение нормой требует известных усилий со стороны говорящих на данном языке людей. Эти усилия и могут быть названы культурой речи в широком смысле. И чем выше такая культура в обществе, тем выше и его общая культура. Здесь прямая и очень важная для языка зависимость, лишний раз подчеркивающая широкие социальные функции языка. Вместе с тем иногда упрощают проблему. Литературный язык с менее устойчивой нормой часто считается языком менее развитым сравнительно с языком, обладающим более устойчивой нормой. Так, португальский язык по отношению к испанскому оказывается как бы на ступеньке ниже (у него менее устойчивая норма). Но при этом нельзя забывать, что в языке с более устойчивой нормой обычно формируются явления и категории, которые не только осложняют, казалось бы, уже установившуюся норму, но и обогащают ее. В особенности в таких уровнях языка, как лексика, словообразование, синтаксис, стилистика. Диалектика сложных взаимодействий между нормативными тенденциями и тенденциями, осложняющими норму, создающими варианты нормы, постоянно наблюдается в истории разных литературных языков. Когда-то Бернард Шоу подчеркивал, что на каждую тысячу человек в Лондоне 999 человек говорят на своем родном языке плохо[375]. Позднее американский лингвист У. Лабов считал, что эта цифра преувеличена[376]. Но независимо от того, кто из них прав, бесспорным остается другое положение: чтобы овладеть нормой литературного языка во всех ее вариантах и во всем ее многообразии, необходимы разумные усилия со стороны самих носителей языка, независимо от их социального положения, профессии, возраста. Всегда нужно помнить проникновенную мысль М.В. Ломоносова, ранее уже отмеченную: если люди что-то не умеют ясно и убедительно выразить на родном языке, то «не языку нашему, а недовольному своему в нем искусству приписывать долженствуют». И, наконец, современные споры вокруг нормы еще раз обнаруживают две противоположные концепции языка, характерные для лингвистики нашего времени. Одна из них основывается на убеждении, согласно которому коммуникативная и познавательная функции языка являются его основными функциями, от которых зависят все остальные. Другая, противоположная, концепция строится на ином убеждении, согласно которому язык – это прежде всего формальная система отношений, имеющая чисто технический характер и иногда служащая, а иногда и мешающая процессу коммуникации (теория «двусмысленности языка», теория противопоставления «совершенного искусственного кода» будто бы несовершенным и противоречивым национальным языкам). Борьба этих, методологически противоположных, концепций отразилась и в теории языковой нормы.Глава шестая. Взаимодействие конкретных и абстрактных моделей в грамматике
1
Проблема моделей в грамматике стала особенно популярной в грамматических разысканиях последних двух-трех десятилетий. Предложено множество толкований самого понятия модели[377]. В той мере, в какой общее понимание грамматики изложено в предшествующих главах, в настоящих строках моя задача сводится к другому: здесь делается попытка показать (на конкретном материале некоторых литературных языков) взаимодействие разных моделей в грамматике и значение подобного взаимодействия для общей теории языка. За последние четверть века грамматику настолько упорно и настолько постоянно связывают со всевозможного рода абстракциями, что прилагательное конкретный в функции определения к грамматической модели, к тому же и поставленное на первое место, может показаться, по меньшей мере, странным. Между тем если изучать не грамматику «вообще», а грамматику национальных языков народов мира, то именно взаимодействие конкретного грамматического материала и различных видов его обобщения (различных грамматических моделей) и составляет существо явления, которое формирует структуру любого естественного языка. Автор этих строк всегда придерживался именно такого понимания грамматики[378]. В самом деле. Следует строго различать грамматику естественных языков народов мира и грамматику всевозможных искусственных сигнальных систем, которые создаются для тех или иных (нередко практически важных) целей. Разумеется, грамматика сигнальных систем (здесь само существительное грамматика употребляется в переносном смысле) имеет полное право быть предметом пристального изучения, но подобная грамматика, как общее правило, строится совсем иначе, чем грамматика естественных языков, поэтому первая должна изучаться совсем не так, как вторая. Грамматика естественных языков обязана предстать перед читателями не такой, какой она могла бы быть по чисто теоретическим соображениям, а такой, какой она есть в действительности, со всеми ее сложностями и противоречиями, в реально бытующих языках различных систем. Что касается «идеальной грамматики», то задачи ее исследования оказываются принципиально иными сравнительно с задачами, возникающими при анализе грамматики существующих национальных языков. К сожалению, и у нас, и за рубежом имеются специалисты, называющие себя лингвистами, которые рассуждают о языке «вообще», но при этом не умеют исследовать ни одного конкретного языка, ни одной конкретной лингвистической структуры. О таких «лингвистах» не так давно хорошо сказал У. Чейф:«…они сидят в креслах и размышляют о том, что такое предложение»[379].Занятия подобного рода неизбежно становятся схоластическими. Подобные лингвисты всегда казались мне далекими от языкознания в собственном его назначении. Всеми этими соображениями и определяется цель и название настоящей главы, опирающейся на конкретный грамматический материал и стремящейся извлечь из него некоторые общие закономерности.
2
Обращаюсь к материалу романских языков, но при этом буду преследовать общетеоретические цели. Начну с форм выражения рода и числа имен существительных. Разумеется, сами по себе эти формы хорошо известны. Однако здесь будет сделана попытка осветить их изнутри, показать особенности их грамматической семантики, уточнить, что их объединяет и что составляет специфику одного языка в отличие от другого. Опираюсь на материал, прежде всего, французского, испанского, итальянского и румынского языков, спорадически привлекая данные и других языков. Вот простейшая схема передачи форм рода и числа имен существительных в четырех романских языках (сохраняю только что перечисленную их последовательность). Речь идет об именах существительных мужского рода – книга (лат. liber), волк (лат. lupus) и именах существительных женского рода – пёрышко (лат. pluma), перо (лат. penna).| libre | libro | libro | lup |
| livres | libros | libri | lupi |
| plume | pluma | penna | pană |
| plumes | plumas | penne | pene |
С самого начала разграничим лексические и грамматические проблемы. Лат. liber ʽкнигаʼ в румынском не сохранилось (рум. carte ʽкнигаʼ женского рода), поэтому в четвертом ряду фигурирует lup ʽволкʼ мужского рода. Синонимия лат. pluma ʽперо, перышкоʼ и лат. penna ʽпероʼ в романских языках не удержалась. Семантическая синонимия диахронно отразилась в романских языках в лингво-географической дифференциации: в западной и южной зонах фигурирует pluma, в восточной и частично южной (Италия) зонах сохраняется penna. Если в первых двух рядах лексический раскол коснулся лишь румыно-молдавской зоны (здесь liber ʽкнигаʼ не удержалось), то в третьей и четвертой строках лексическая дифференциация прошла иначе: она разделила романский ареал примерно на две части. Но все это диахронные процессы лексического характера, от которых временно следует отвлечься, чтобы разобраться в механизме собственно грамматического характера. Начнем с числа. В первых двух языках (французском и испанском, к которому примыкает португальский) подобный механизм опирается на конечный согласный s, во второй «паре» языков (итальянский, румынский; аналогичная картина в молдавском) этот механизм уже совсем другой: он опирается на мену конечного гласного звука, выдвигая i как признак мн. числа. Казалось бы, все ясно и все достаточно просто. В действительности, однако, это не так. Синхронная система передачи категории числа имен существительных оказывается гораздо сложнее и гораздо менее последовательной, чем это можно было бы предположить на основе чисто диахронных предпосылок. Осложнение первое. В современном французском языке конечное s, как известно, не произносится, а в испанском произносится. Поэтому первая модель образования категории мн. числа с опорой на конечный согласный s предстает перед нами не как общая модель, а как модель с двумя вариантами: с произносимым s и с s, сохраняющимся только в орфографии. Естественно поэтому, что французская модель оказывается в этом случае не живой, а мертвой. Говорящие на этом языке люди теперь вынуждены прибегать к другому средству передачи категории числа, в частности, к артиклю. Француз воспринимает мн. число в противопоставлении le livre – les livres ʽкнига – книгиʼ, где артикль les произносится иначе, чем артикль le. Следовательно, если бы мы поспешили обобщить и объявить модель мн. числа на s общей моделью для современного французского и современного испанского языков, то совершили бы грубую ошибку. Материал анализируемых языков протестует против подобного обобщения. Грамматическая модель только в том случае сохраняет свою объяснительную силу, когда она опирается на материал и обобщает подобный материал. В противном случае модель оказывается пустышкой. Как же следует поступать в анализируемом случае? Материал можно обобщить так: в одной группе романских языков мн. число имен существительных обычно передается с помощью конечного звука s, но в тех ситуациях, которые привели к ослаблению конечного согласного (в частности, во французском), модель на s утрачивает свою силу и в роли дифференциатора числа выступает артикль. Следовательно, модель на s выступает в двух вариантах, качественно отличных друг от друга. Осложнение второе. В испанском (аналогичная картина и в португальском) существительные жен. рода целиком повторяют модель существительных муж. рода при образовании мн. числа (la pluma, las plumas). Но в итальянском и румынском языках отношения складываются совсем иначе: в жен. роде здесь уже нет конечного i во мн. числе, как это наблюдается в муж. роде (libro – libri). В существительных жен. рода модель оказывается гораздо менее обобщенной (мена конечного гласного звука: penna – penne), чем в существительных муж. рода. Объем языкового материала, на который распространяется романская модель мн. числа имен существительных на s, оказывается гораздо более обширным, чем объем аналогичного материала у модели на i, несмотря на то, что первая модель уже ослаблена во французском языке. Таким образом, степень достоверности той или иной грамматической модели находится в прямой зависимости от материала языков, на которые распространяется объяснительная сила модели. Больше того. Сама модель как бы вырастает из этого материала и на него же опирается. Заранее невозможно сказать, какая модель будет более обобщенной моделью и какая – подобного широкого обобщения не достигнет. Здесь все определяется конкретными условиями развития отдельных языков. Хотя синхронное состояние любого языка в известной мере самостоятельно по отношению к его историческому прошлому, однако условия сложения подобного состояния определяются исторически. В этом отношении сравнительно-исторический материал любой группы родственных языков предоставляет исследователю возможность осмыслить процессы сложения различных грамматических моделей. Хорошо известно, что в языке и особенно в грамматике все связано. Важно, однако, чтобы лингвисты понимали эту связь не только теоретически, но и практически. Стоило только конечному s во французском языке «замолкнуть» (в старом языке оно произносилось), как сейчас же увеличилась функциональная нагрузка французского артикля: le livre – les livres. Дифференцирующая сила le – les стала гораздо более ощутимой (ед. число – мн. число), чем аналогичная дифференцирующая сила, например, испанских артиклей el – los (el libro – los libros – здесь число передается не только противопоставлением артиклей, но и конечным согласным звуком). Вот что означает в чисто практическом плане взаимная связь явлений в грамматике, если грамматику анализировать в функциональном плане. Итак, модель грамматической категории числа имен существительных в романских языках распадается на своеобразные «подмодели», подвиды, одни из которых характеризуют лишь отдельные языки, другие – группу языков, третьи – все романские языки в целом (самый общий признак – наличие особой флексии во мн. числе). Теоретически рассуждая, было бы «удобно» иметь одну модель для всех этих языков (она легче бы запомнилась), лишь незначительно варьируя ее от языка к языку. Действительность оказывается гораздо сложнее. Как только грамматическая модель оказывается слишком абстрактной и слишком общей, она перестает «работать» практически: не охватывает разнообразного материала отдельных языков и, тем самым, не помогает овладеть ими реально[380].
3
Присмотримся теперь ближе к соотношению между грамматическими моделями и материалом отдельных языков[381]. Известно, что во всех современных романских языках имеется, казалось бы, единая модель образования степеней сравнения качественных прилагательных. Ее образец: франц. grand ʽбольшойʼ, plus grand ʽбольшийʼ, le plus grand ʽсамый большойʼ. Как видим, аналитическая конструкция, опирающаяся на служебное слово (plus) и артикль (le или la). Дело даже не только в том, что выбор служебного слова разделяет всю Романию на две зоны в зависимости от того, восходит ли в этом случае служебное слово к лат. plus ʽбольшеʼ или к его более распространенному синониму magis ʽв большей степениʼ, ʽбольшеʼ. Здесь в дифференцирующей функции выступает лексика. Вот эти две зоны:| Иберия | Галлия | Италия | Дакия |
| magis | plus | plus | magis |
| исп. | франц. | ит. | рум. |
| más grande | plus grand | piú grande | mai mare |
| ʽбóльшийʼ | ʽбóльшийʼ | ʽбóльшийʼ | ʽбóльшийʼ |
Все остальные романские языки примыкают к одной из этих двух зон. Казалось бы, все решается сразу: одна грамматическая модель с двумя лексическими вариантами, в зависимости от выбора plus или magis. В абстрактном плане действительно все так. В функциональном же плане, если мы хотим увидеть реальную картину всех возможностей передачи степеней сравнения, которыми располагают отдельные романские языки и каждый из них в частности, то описанная грамматическая модель оказывается и недостаточной, и неполной. Материал национальных языков не вмещается в описанную модель-схему. В самом деле. Приведенная модель в каждом романском языке функционирует по-своему. В румынском, например, превосходная степень передается не с помощью определенного артикля и служебного слова (ср. франц. le plus grand ʽсамый большойʼ), а с помощью особого, детерминативного артикля (cel mai mare ʽсамый большойʼ). И это понятно, если учесть, что румынский определенный артикль употребляется постпозитивно. Испанский и особенно португальский языки различают две формы превосходной степени – относительную и абсолютную, при этом последняя обычно выражается не аналитическим путем, а синтетическим, с помощью особых суффиксов. Ср., например, порт. alto ʽвысокийʼ, mais alto ʽболее высокийʼ, о mais alto ʽсамый высокийʼ, altíssimo ʽвысочайшийʼ. Соответствующее образование во французском (altissime ʽвысочайшийʼ) употребляется крайне редко и приобретает особую или ироническую, или торжественную окраску. Следовательно, живая модель в одном языке может оказаться архаичной моделью в другом родственном языке. Нетрудно продолжить перечень и других расхождений внутри, казалось бы, единой грамматической модели. И что особенно существенно: подобные расхождения относятся не только к лексике, к лексическому наполнению модели, как обычно считают, но и к грамматике, к самому типу грамматического построения модели. Без учета подобных расхождений нельзя понять, как функционирует каждая данная модель в каждом данном языке. Можно было бы предположить, что расхождения между родственными языками в употреблении той или иной модели заранее устанавливаются на основе чисто теоретических расчетов. Не следует, однако, при этом забывать, что в национальных языках могут «столкнуться» разные тенденции и теоретически не всегда удается заранее определить, какая из этих тенденций окажется победительницей. Так, например, хотя румынский и молдавский являются наименее аналитическими сравнительно с другими романскими языками, тем не менее именно в их системе аналитические конструкции степеней сравнения функционируют более широко, чем в итальянском, испанском или французском. Румынский и молдавский совсем незнают супплетивных степеней сравнения и употребляют аналитические конструкции во всех случаях. Ср., например, bun, ʽхорошийʼ, mai bun ʽлучшеʼ, cel mai bun ʽсамый лучшийʼ, тогда как во французском здесь сохраняются супплетивные образования в литературной норме: bon, meilleur, le meilleur. Аналитизм «склоняет голову» перед другой тенденцией – ролью книжных традиций в литературном языке. Эта последняя роль во французском или итальянском оказалась сильнее, чем в румынском и молдавском. Именно поэтому румынская аналитическая конструкция mai bun ʽлучшеʼ оказывается вполне литературной, тогда как аналогичное французское построение plus bon – за пределами литературного языка (возможно лишь в диалектной и нелитературной речи). Степень «живучести» той или иной грамматической модели оказывается в зависимости от разнообразных тенденций в самом процессе становления и развития родственных языков. Итак конкретная реализация, казалось бы, одной и той же модели получает разные формы в разных родственных языках.
4
Теперь обратимся к некоторым глагольным моделям. Вот парадигма настоящего времени индикатива от латинского глагола cantare ʽпетьʼ в четырех романских языках (в той же последовательности расположения).| Франц. | Исп. | Ит. | Рум. |
|---|---|---|---|
| je chante | canto | canto | cînt |
| tu chantes | cantas | canti | cînţi |
| il chante | canta | canta | cîntă |
| nous chantons | cantamos | cantiamo | cîntăm |
| vous chantez | cantáis | cantate | cîntaţi |
| ils chantent | cantan | cantano | cîntă |
Вначале обратим внимание на несомненные черты сходства между всеми этими языками. Если учесть, что в 1 – 2-м лицах мн. числа (в дальнейшем – четвертая и пятая формы) ударение перемещается на один слог в сторону конца слова, то ритмическая схема модели во всех языках оказывается единой:
 Этим, собственно, и ограничивается чисто морфологическое сходство между языками. Далее начинаются, казалось бы, внешне незаметные, но внутренне весьма существенные расхождения, без учета которых практически нельзя овладеть ни одним языком. Выделяется прежде всего французский, в котором все личные формы глагола в обязательном порядке сопровождаются атонными местоимениями (как известно, один из признаков большей аналитичности строя языка сравнительно с другими языками). В том же французском первая, третья и шестая флексии фонетически совпадают, в других же романских языках – лишь частично совпадают, чаще же не совпадают, причем, подобные совпадения и несовпадения в каждом отдельном языке складываются различно. В румынском, например, совпадают третья и шестая формы (cîntă – cîntă), но не совпадает первая форма (cînt), а в испанском и итальянском, при внутреннем несовпадении всех этих форм, встречаемся с межъязыковыми контактами: флексии первого и третьего лиц ед. числа в каждом из обоих языков одинаковы (canto – canto, canta – canta).
Как видим, глагольная парадигма настоящего времени, объединяя все непосредственно родственные языки, вместе с тем в каждом отдельном языке приобретает свои особенности, осложняющие эту же парадигму (она выступает здесь как модель). Если не посчитаться с подобными видоизменениями, то практически усвоить любой национальный язык оказывается совершенно невозможно.
Расхождения могут быть и менее заметными. В таких случаях они обычно относятся не столько к морфологии в собственном смысле, сколько к семантике грамматических форм. Так, например, как общее правило, разграничения внутри грамматического рода при спряжении обычно дают о себе знать в третьей и, отчасти, в шестой формах парадигмы (он, она, они), тогда как в испанском подобные различия дополнительно проявляются и в четвертой, и в пятой формах глагольной парадигмы: исп. nosotros ʽмыʼ для муж. рода и исп. nosotras ʽмыʼ для жен. рода (аналогично vosotros и vosotras).
Итак, при наличии общероманской парадигмы спряжения личных форм глагола, парадигмы, выступающей в функции общероманской грамматической модели, исследователь обязан считаться со всеми многочисленными вариантами, которые приобретает эта модель в каждом отдельном языке. И здесь без вполне конкретных моделей не может существовать и абстрактная модель, которая вырастает из них и опирается на них.
Хорошо известна общероманская парадигма аналитических времен с одним из вспомогательных глаголов и причастием прошедшего времени. Вот она уже в принятой последовательности четырех языков (глаголы ʽговоритьʼ и ʽуходитьʼ):
Этим, собственно, и ограничивается чисто морфологическое сходство между языками. Далее начинаются, казалось бы, внешне незаметные, но внутренне весьма существенные расхождения, без учета которых практически нельзя овладеть ни одним языком. Выделяется прежде всего французский, в котором все личные формы глагола в обязательном порядке сопровождаются атонными местоимениями (как известно, один из признаков большей аналитичности строя языка сравнительно с другими языками). В том же французском первая, третья и шестая флексии фонетически совпадают, в других же романских языках – лишь частично совпадают, чаще же не совпадают, причем, подобные совпадения и несовпадения в каждом отдельном языке складываются различно. В румынском, например, совпадают третья и шестая формы (cîntă – cîntă), но не совпадает первая форма (cînt), а в испанском и итальянском, при внутреннем несовпадении всех этих форм, встречаемся с межъязыковыми контактами: флексии первого и третьего лиц ед. числа в каждом из обоих языков одинаковы (canto – canto, canta – canta).
Как видим, глагольная парадигма настоящего времени, объединяя все непосредственно родственные языки, вместе с тем в каждом отдельном языке приобретает свои особенности, осложняющие эту же парадигму (она выступает здесь как модель). Если не посчитаться с подобными видоизменениями, то практически усвоить любой национальный язык оказывается совершенно невозможно.
Расхождения могут быть и менее заметными. В таких случаях они обычно относятся не столько к морфологии в собственном смысле, сколько к семантике грамматических форм. Так, например, как общее правило, разграничения внутри грамматического рода при спряжении обычно дают о себе знать в третьей и, отчасти, в шестой формах парадигмы (он, она, они), тогда как в испанском подобные различия дополнительно проявляются и в четвертой, и в пятой формах глагольной парадигмы: исп. nosotros ʽмыʼ для муж. рода и исп. nosotras ʽмыʼ для жен. рода (аналогично vosotros и vosotras).
Итак, при наличии общероманской парадигмы спряжения личных форм глагола, парадигмы, выступающей в функции общероманской грамматической модели, исследователь обязан считаться со всеми многочисленными вариантами, которые приобретает эта модель в каждом отдельном языке. И здесь без вполне конкретных моделей не может существовать и абстрактная модель, которая вырастает из них и опирается на них.
Хорошо известна общероманская парадигма аналитических времен с одним из вспомогательных глаголов и причастием прошедшего времени. Вот она уже в принятой последовательности четырех языков (глаголы ʽговоритьʼ и ʽуходитьʼ):
| Франц. | Исп. | Ит. | Рум. |
|---|---|---|---|
| jʼai parlé | he hablado | ho parlato | am vorbit |
| je suis parti | he partido | sono partito | am plecat |
Общность парадигмы очевидна: во всех случаях парадигма состоит из вспомогательного глагола и причастия прошедшего времени, и во всех случаях эта конструкция передает семантику прошедшего времени (ʽя сказалʼ, ʽя ушелʼ). Возникает абстрактная модель одного из аналитических времен, обозначающих уже совершившееся действие. Но так описать модель и на этом поставить точку еще не значит понять процесс функционирования данной модели в каждом отдельном языке. И здесь необходимо обратиться к «конкретностям», к материи реально существующих языков. Прежде всего выносим за скобки чисто лексические расхождения (румынские глаголы a vorbi ʽговоритьʼ, a pleca ʽуходитьʼ, испанский глагол hablar ʽговоритьʼ) и сосредоточим внимание на самой модели. При первом приближении она выступает перед нами в двух вариантах. Один из них представлен во французском и итальянском. Здесь разные вспомогательные глаголы (латинские источники – habere и essere) в зависимости от семантики последующего спрягаемого глагола, причем выбор соответствующего вспомогательного глагола строго регламентирован в современной литературной норме обоих языков. Второй вариант модели представлен в испанском и румынском. В каждом из них здесь употребляется только один вспомогательный глагол (исп. hablar ʽиметьʼ, рум. a avea ʽиметьʼ) независимо от семантики последующего причастия. На этом, однако, дробление одной модели на ее варианты (разновидности) не останавливается. Каждый из двух только что описанных вариантов в свою очередь приобретает определенные особенности в каждом языке. Так, испанский глагол haber ʽиметьʼ настолько закрепляется в своей вспомогательной функции (в составе аналитической конструкции), что самостоятельно не употребляется. В других романских языках, в частности во французском и итальянском (фр. avoir, ит. avere), этимологически тот же глагол выступает в обеих функциях – служебной и самостоятельной. Румынский язык предлагает говорящим и пишущим третье решение вопроса: он создает две парадигмы спряжения для одного и того же глагола a avea ʽиметьʼ, одна из которых употребляется в самостоятельном значении (например, avem ʽмы имеемʼ), а другая – лишь в служебном значении (am, как составная часть глагольного аналитического построения). Таким образом, и здесь, как и всегда в грамматике национальных языков, мы встречаемся с уже знакомой нам картиной. Определенная грамматическая модель, характерная для всех близкородственных языков, обнаруживает признаки стать общеграмматической моделью. Однако конкретный языковой материал каждого отдельного языка дробит эту общеграмматическую модель на отдельные варианты, хотя и связанные с общей моделью, но одновременно и во многом отличающиеся от нее. Больше того. В каждом отдельном языке описанная модель имеет свои разновидности: какой вспомогательный глагол выбирается, как «ведет себя» причастие в составе аналитической конструкции и т.д. Сказанное отнюдь не означает, что грамматическая модель совсем разрушается, превращается в миф. Речь идет о другом: о сложности каждой грамматической модели любого развитого национального языка, о взаимодействии конкретных и абстрактных признаков в самой модели. Материал отдельных языков еще в большей степени напоминает о себе, когда морфологические построения рассматриваются с позиции синтаксиса и семантики.
5
Хорошо известно, что по своему грамматическому строю французский является наиболее аналитическим языком сравнительно с другими языками романской группы. Но вот присмотримся к уже знакомой нам аналитической конструкции прошедшего времени. Например, франц. jʼai fini ʽя окончилʼ, в том же значении ит. ho finito и исп. he acabado. Теперь осложним конструкцию, прибавив какое-нибудь наречие, в частности все: jʼai tout fini ʽя все окончилʼ, соответственно ит. ho finito tutto, исп. he acabado todo. Французский легко пропускает в самый строй аналитической конструкции наречие все, как и другие наречия, тогда как итальянский и испанский языки чаще употребляют наречие как бы вслед за самой аналитической конструкцией. Разумеется, и во французском возможно сказать jʼai fini tout, но, как показывают наблюдения, первое построение встречается чаще, чем второе (ср. также il nʼa rien dit ʽон ничего не сказалʼ встречается чаще, чем il nʼa dit rien)[382]. О чем говорят эти факты? Они свидетельствуют о том, что сама по себе грамматическая модель (личная форма служебного глагола плюс причастие прошедшего времени спрягаемого глагола) без учета особенностей ее функционирования в том или ином языке, оказывается лишь абстрактной моделью, не объясняющей или неточно объясняющей реально существующие в языке грамматические закономерности. Рассуждая в абстрактном плане, можно было бы предположить, что в наиболее аналитическом французском языке (сравнительно с другими романскими построениями) анализируемая модель будет максимально жесткой, наименее подверженной всевозможному варьированию. Между тем именно в этом языке интересующая нас модель предстает как наименее жесткая, наиболее подвижная. Так сталкиваются в языке две различные тенденции: абстрактно-грамматическая тенденция и тенденция конкретно-функциональная, обусловленная стремлением литературного языка удержать в своем строе такие средства и ресурсы, которые позволяют людям варьировать свою речь, ставить акценты и подчеркивать оттенки в процессе выражения своих мыслей и чувств. В разных, даже близкородственных языках, соотношение между этими двумя тенденциями обычно складывается неодинаково. Многое зависит от условий исторического сложения нормы того или иного литературного языка. Известно, что во всех романских языках морфологические формы будущего времени исторически сложились одинаково: инфинитив спрягаемого глагола плюс личные формы служебного глагола. Франц. je parlerai ʽя скажуʼ (ʽя буду говоритьʼ) диахронно распадается на инфинитив parler плюс настоящее время 1-го лица служебного глагола ai (avoir). Различие здесь обнаруживается в том, что в одних языках процесс стяжения этих форм уже давно завершился, в других – до сих пор не завершился (румынско-молдавская конструкция oi vorbi ʽя скажуʼ, ʽя буду говоритьʼ с препозицией форм служебного глагола). В уже известной нам последовательности языков имеем (глагол ʽговоритьʼ):| Франц. | Исп. | Ит. | Рум. |
|---|---|---|---|
| je parlerai | hablaré | parlerò | oi vorbi |
| tu parleras | hablarás | parlerai | ei vorbi |
| il parlera | hablará | parlerá | o vorbi |
| nous parlerons | hablaremos | parleremo | om vorbi |
| vous parlerez | hablareis | parlerete | eţi vorbi |
| ils parleront | hablarán | parleranno | or vorbi |
Здесь оставим в стороне чисто исторические различия между языками, бегло уже отмеченные в предшествующих строках. Синхронное единство (несмотря на румынско-молдавский вариант с раздельным вспомогательным глаголом в препозиции) между языками очевидно. Подобное единство, однако, не осложняется лишь до тех пор, пока мы не проследим процесс функционирования анализируемых форм в каждом отдельном языке. Француз скажет: Quand jʼaurai lʼargent, jʼachèterai une auto ʽкогда y меня будут деньги, я куплю машинуʼ (здесь в обоих случаях формы футурума). Испанец, однако, скажет иначе: Cuando tenga el dinero, compraré un automóvil (предложение в том же значении). Первый глагол здесь выступает уже не в форме футурума, как во французском, а в форме конъюнктива настоящего времени (tenga от глагола tener ʽиметьʼ, выступающего в служебном значении). В одном языке модальный план («куплю при условии…») передается с помощью футурума, в другом – с помощью конъюнктива. Может ли модель сама по себе обусловить аналогичные расхождения? Нет, не может. Модель создает лишь средство, которым располагает и пользуется язык. Вопрос же о том, как функционирует подобная модель (в нашем случае – модель футурума) в том или ином языке, определяется уже не самой моделью, а ее назначением в конкретном языке, тем, как люди научились осмыслять эту модель, какую грамматическую семантику стала она передавать в данном языке. Больше того: не только в каждом отдельном языке, но и в каждой отдельной типичной (обобщенной) грамматической ситуации. Могут заметить, что здесь речь идет уже о синтаксическом аспекте морфологической модели. Но именно на синтаксическом уровне раскрываются реальные возможности (или невозможности) той или иной грамматической модели, обнаруживается, как практически «ведет себя» данная модель в живом языке. Разумеется, синтаксис опирается на морфологию, а морфология в свою очередь оживает, становится функционирующей морфологией в системе синтаксиса. Обращение к грамматической семантике модели, хотя и осложняет всю проблему моделей в грамматике, но и приближает ее к живым национальным языкам, к реально существующему языковому материалу. Француз скажет: Ni Paul ni Jean ne sont venus ʽни Павел, ни Иван не пришлиʼ (два одушевленных имени существительных вызывают необходимость употребить глагол приходить во мн. числе, как и в русском языке). Между тем, итальянцы в этом случае обычно употребляют глагол в ед. числе: Né Paolo né Giovanni é venuto, букв. ʽни Павел, ни Иван не пришелʼ. Разумеется, аналогичная конструкция возможна в разговорном стиле и французского, и русского языков, но в итальянском она выступает как норма литературного языка, тогда как во французском и русском нормой она не является. Как объяснить подобные расхождения? Неодинаковой практической реализацией абстрактной грамматической модели в разных языках. Согласование в числе может быть и более строгим в логическом плане (два или много предметов, явлений, существ вызывают мн. число и в глаголе), и менее строгим в том же логическом плане (при множестве явлений согласование проводится с одним ближайшим существительным и, следовательно, с глаголом в ед. числе). Возможно ли заранее определить, какой язык выберет один из вариантов подобной модели? Нет, заранее определить невозможно. Для этого требуется знание условий сложения нормы одного литературного языка в отличие от условий сложения нормы других литературных языков. Приведенный пример показывает, что два варианта, казалось бы, единой грамматической модели иногда распределяются так, что один вариант модели выступает как литературная норма в определенных языках, а в других – этот же вариант может оказаться уже за пределами нормы, характеризуя разговорный или просторечный стили соответствующего языка. И здесь взаимодействие конкретного материала и абстрактной модели оказывается решающим для понимания условий функционирования самой данной модели. Ср. аналогичные соотношения в другой модели: франц. vingt et une maisons ʽдвадцать один домʼ, где существительное дом во мн. числе, но ит. ventuna casa, где дом остается в ед. числе, сохраняя согласование лишь с жен. родом существительного ventuna и не сохраняя согласования в числе.
6
Что же следует из проанализированного и, казалось бы, хорошо известного материала? Прежде всего, необходимы известные разграничения. В наше время понятие модели широко употребляется в самых различных науках. Говорят о «культурных моделях», о «моделях человеческого поведения», о «психологических моделях» и т.д.[383] Как мы видели, грамматические модели имеют свою специфику. Но здесь-то и необходимы дальнейшие разграничения: грамматические модели национальных (естественных) языков принципиально отличаются от грамматических моделей искусственных языков, сооружаемых для тех или иных целей. В первом случае грамматические модели всегда взаимодействуют с конкретным материалом самих языков, видоизменяются, осложняются, обычно выступают во множестве вариантов и разновидностей. Во втором случае грамматические модели должны быть статичны и неподвижны, они не имеют права иметь какие-либо грамматические синонимы, они обязаны употребляться во всех сходных случаях совершенно одинаково. Никакого грамматического многообразия и разнообразия, с помощью которых в национальных языках люди имеют возможность передавать свои мысли и чувства (а нередко и оттенки мыслей и чувств), в искусственных языках быть не может. Такие языки, а следовательно, и их грамматические модели должны быть как можно более широкими, абстрактными, статичными. Проблема, однако, не сводится только к отмеченным разграничениям. Я стремился показать, как следует понимать зависимость грамматических моделей естественных языков от конкретного материала самих языков. Данную проблему обычно сводят к лексическому ограничению модели. Обычно рассуждают так: грамматическая модель распространяется на многие аналогичные ситуации, а вот такие-то и такие-то ситуации не передаются с помощью данной модели, так как их лексическая семантика этому препятствует. Обычно так ставится вопрос во многих новых разысканиях[384]. Об этом же писали и лингвисты прошлого. Совсем в иной связи я уже приводил пример, который подчеркивал, что творительный падеж в предложении он закалывается кинжалом точно передает орудийное значение этого падежа (кинжалом), тогда как в предложении он закалывается пикадором творительный падеж пикадором не очень «идет», ибо слово пикадор неохотно приобретает орудийное значение, которое так характерно для существительных типа кинжал. Лексика ограничивает модель творительного падежа в русском языке, в результате чего второе предложение в устах человека, хорошо владеющего данным языком, стремится перестроиться. Возникает: пикадор его закалывает[385]. При всем значении подобного взаимодействия грамматики и лексики в любом естественном языке, в предшествующих строках я стремился поставить вопрос иначе. Речь шла не только об известной зависимости грамматики от лексики (что само по себе и важно, и бесспорно), но и о более широкой зависимости грамматических моделей от всего конкретного материала любого естественного языка. В самом деле. Если в аналитических языках существует модель «личная форма служебного глагола плюс причастие прошедшего времени спрягаемого глагола», то подобная модель может «раздвигаться» или «не раздвигаться» уже независимо от семантики глагола, а в зависимости от стремления говорящего подчеркнуть тот или иной оттенок мысли или чувства. Ср. франц. jʼai fini tout ʽя окончил всеʼ и jʼai tout fini ʽя все окончилʼ. Подвижность модели оказывается в зависимости от материала языка в более широком смысле, чем только в плане лексики. Сам же материал в свою очередь в известной степени подчиняется говорящим людям, их намерениям и стремлениям. Грамматическая модель еще более осложняется, если ее рассматривать в межъязыковом плане, в плане соотношения между родственными языками. Когда француз говорит je crois que cʼest vrai ʽя думаю, что это правдаʼ, то модальность подобного предложения передается семантикой глагола croire ʽверитьʼ. Когда же он, несколько отступая от литературной нормы, говорит je crois que ce soit vrai, то модальность передается уже не только семантикой глагола croire, но и конъюнктивом глагола être ʽбытьʼ (soit). В подобных случаях проблема не сводится к «лексическим ограничениям» модели. Сама модель оказывается в зависимости от намерений говорящих (пишущих) людей: насколько заметно они хотят подчеркнуть модальность самого предложения («это – правда», «это, должно быть, правда», «это, по-видимому, вероятно, правда» и т.д.). Аналогичная конструкция в итальянском выступает как конструкция более жесткая: credo che sia vero ʽя думаю, что это правдаʼ, где глагол быть (essere) выступает в модально окрашенной форме (sia vero ʽбыла бы правдаʼ, ʽдолжна быть правдойʼ). Я убежден, что 1) теоретические споры о природе языка следует анализировать не только в общем плане, но и на материале конкретных языков; 2) два, теоретически противоположных истолкования грамматической модели (модель как абстракция, будто бы одинаково применимая и к коду, и к национальным языкам, и модель, действительно «работающая», действительно проникающая в материал национальных языков), отчетливо обнаруживаются в современных лингвистических дискуссиях; 3) до сих пор не существует приемлемой классификации типов грамматических моделей в зависимости от того, идет ли речь об охвате материала одного языка, ряда родственных языков или языков генетически несходных (попытка разграничить модели в пределах одного и в пределах ряда родственных языков была предложена в предшествующем изложении); 4) требует дальнейшей разработки и вопрос о соотношении между грамматическими моделями и их многочисленными вариантами или разновидностями. Обычно утверждают, что грамматика не может находиться в зависимости от людей и их намерений. Подобная зависимость будто бы отрицает объективность существования грамматики. Между тем отмеченная зависимость нисколько не ставит под сомнение объективность бытования грамматики любого естественного (национального) языка. Воздействуя на грамматику в процессе функционирования языка, люди обычно способствуют развитию и совершенствованию грамматики, но они нисколько не опровергают и не могут опровергнуть принцип объективности существования самого языка. Как я уже отмечал, независимость и одновременная зависимость языка от намерений людей составляет одну из характернейших особенностей и языка, и его грамматики. Воздействуя на грамматику, люди не «переворачивают» ее по своему усмотрению, а лишь развивают одни ее особенности, уточняют другие, переносят в сферу архаичного фонда третью группу особенностей, если последние по тем или иным причинам становятся ненужными на новом этапе жизни языка и т.д. Следует еще раз подчеркнуть зависимость грамматических моделей естественных языков от самого материала этих языков. Подобная зависимость, нисколько не ставя под сомнение абстрагирующие возможности моделей, силу их обобщений, вместе с тем показывает, как подобные модели реально функционируют в разных языках. Упрощать модели естественных языков нельзя без одновременного упрощения и обеднения грамматических возможностей самих национальных языков. Богатство же и разнообразие грамматических ресурсов языка всегда служат людям в их постоянном стремлении передать свои мысли и чувства полнее, точнее, убедительнее, ярче.«Человеческие понятия, – писал В.И. Ленин, – субъективны в своей абстрактности, оторванности, но объективны в целом, в процессе, в итоге, в тенденции, в источнике»[386].Подобно этому и грамматические модели субъективны и неэффективны в своей крайней абстрактности, но действенны и реальны во взаимодействии с материалом каждого языка, который они же обобщают и организуют. В предшествующих главах речь шла об общих принципах изучения грамматики. Здесь же была сделана попытка показать конкретные приемы подобного изучения.
Заключительные замечания
В работе была сделана попытка показать, что широко распространенное мнение, согласно которому существует будто бы единая современная лингвистика, противопоставленная старой, несовременной лингвистике, совсем не соответствует действительности. Современная лингвистика – весьма неоднородная область знания. Это наука, в которой наблюдается острая борьба разных, нередко противоположных теоретических концепций. То же следует сказать и о лингвистике в ее прошлом состоянии: борьба мнений по кардинальным вопросам самой этой науки всегда наблюдалась и раньше. Все это вполне закономерно, если учесть сложный характер самого объекта изучения – человеческого языка во всем многообразии его функций и его назначения. Вместе с тем исследователь обязан понимать, в чем смысл подобной борьбы и с какими теориями языка он имеет дело в нашу эпоху. Задача предшествующих глав заключалась отнюдь не в том, чтобы проанализировать все современные теории языка (для этого был бы необходим целый ряд публикаций). Задача автора была гораздо скромнее. В книге сделана попытка показать, как весьма различное понимание природы языка сказалось в трактовке отдельных проблем лингвистики. Вместе с тем автор стремился установить зависимость в освещении тех или иных лингвистических и, шире, филологических проблем, от общих философских устремлений разных ученых. Предложен, как предполагает автор, опыт рассмотрения борьбы материалистической концепции языка с иными, весьма пестрыми лингвистическими доктринами нашего времени. Наша эпоха – эпоха взаимодействия разных наук. Это бесспорно. Но – и об этом часто забывают – не только гуманитарные науки многое воспринимают от математических наук, от наук о природе, но и сами гуманитарные науки, с их острыми теоретическими проблемами, оказывают плодотворное влияние на другие, негуманитарные науки. На мой взгляд, только так следует понимать взаимодействие (именно взаимное воздействие) наук в нашу эпоху. Вместе с тем необходимо всегда помнить, что идеологические проблемы гуманитарных дисциплин приобретают особое значение в наше время. При всей важности изучения всевозможных технических средств естественных языков нельзя считать, что анализ подобных средств сам по себе обеспечивает высокий научный уровень соответствующей теории. Следует строго различать теорию естественных языков и теорию искусственных кодов, сооружаемых для тех или иных, нередко весьма важных практических и теоретических целей[387]. В книге была сделана попытка показать несостоятельность обычного противопоставления «точных и неточных наук» и установить функциональный характер самого понятия точности. Большое внимание было уделено социальным проблемам языка и науки о языке. Традиционное сведение социальных аспектов языка лишь к внешним проблемам лингвистики представляется автору концепцией, безжалостно обедняющей науку о языке. В работе отмечено, что такие важнейшие положения материалистического языкознания, как «общественная природа языка», «органическая связь языка и мышления» и некоторые другие, должны не декларироваться, а обосновываться на конкретном материале самых разных языков. Вслед за Ю.Я. Барабашем хотелось обратить внимание еще на одну проблему. Сторонники ортодоксального структурализма часто обвиняют своих противников в непонимании роли абстракции в современной науке. Они напоминают о существовании знаменитых героев Фонвизина, госпожи Простаковой и ее сына Митрофана, которые тоже не уяснили себе значения самых элементарных абстракций. Подобный полемический прием уже справедливо был назван «тактикой упреждающего удара»: вы с нами не согласны, так вы оказываетесь в одной компании с госпожой Простаковой[388]. На подобный полемический выпад, если его рассматривать все же серьезно, можно ответить с помощью разграничения, предложенного еще Гегелем: в науке имеются разумные и неразумные абстракции, разумные и неразумные сравнения. Такого рода угрозами трудно продвинуть какую бы то ни было науку вперед. Автор убежден, что лингвистику наших дней лишь при поверхностном подходе можно изобразить в виде лагеря структуралистов и лагеря антиструктуралистов. В действительности проблема гораздо сложнее. Она определяется тем, кáк в разных концепциях языка осмысляется природа языка и его функции, кáк истолковывается структура (система) языка и какúе выводы и заключения из подобных толкований предлагаются учеными. Именно здесь наблюдается острая борьба между разными теоретическими доктринами, опирающимися на столь же различные методологические постулаты[389]. Современные теоретические споры осложнены тем, что основной философский вопрос (первичность материи или первичность сознания) иногда осмысляется так, что приводит представителей некоторых идеалистических концепций к выступлению против первичности сознания (так поступают, например, иррационалисты). Подобные ученые иной раз готовы признать природу (материю) первичной, но с тем непременным условием, чтобы сама природа истолковывалась как совокупность данных опыта. Вот почему перед исследователем всякий раз возникает необходимость показать, какóе содержание вкладывается в понятие первичного или в понятие вторичного. Все это весьма важно и для теоретических споров о природе языка, как было показано в предшествующих главах книги. Разумеется, лингвистика нашего времени успешно пользуется разными методами исследования языка. И это вполне закономерно. Вместе с тем необходимо понимать, что все эти методы должны служить одной цели – глубокому анализу самой природы языка и его функций. Этим материалистическая наука о языке принципиально отличается от концепции «плюрализма причин и методов», от эклектизма, характерного для представителей различных пестрых направлений в современной лингвистике. Глубокий монизм не исключает многообразия методов изучения языка, но подчиняет эти методы самому принципу монистического осмысления природы языка и его важнейших, имеющих первостепенное социальное значение, функций. Разумеется, никто из филологов не имеет права претендовать на монополию марксистской теории, но сохранить верность знамени этой теории автор книги стремился по мере своего разумения. Свыше ста лет тому назад К. Маркс писал Ф. Энгельсу:«…культура, – если она развивается стихийно, а не направляется сознательно… оставляет после себя пустыню…»[390].Хотелось продемонстрировать, какое значение это справедливое замечание имеет и для теории языка в целом, и для теории литературных языков, в частности и в особенности. Человеческая природа языка всегда и всюду дает о себе знать, даже тогда, когда исследователи анализируют его, казалось бы, чисто технические средства.
Приложение. Заметки о русском языке в современном мире
1
Как это и ни странно, положение русского языка среди языков мира только в самое последнее время стало привлекать к себе специальное внимание исследователей. До этого лишь отдельные ученые, и прежде всего акад. М.П. Алексеев, тщательно и успешно занимались и занимаются изучением этого вопроса, весьма важного во многих отношениях[391]. Гораздо больше анализировалась другая проблема, впрочем тесно связанная с языком, – проблема влияния тех или иных больших русских писателей на мировую литературу, на литературные направления в разных странах. В таком плане возникали исследования о Тургеневе и Достоевском, о Льве Толстом и Горьком, о Чехове и Шолохове и о других писателях. Что касается русского языка и его положения среди языков мира, то до сих пор эта проблема обычно исследовалась в одном направлении: какие слова русского происхождения проникли в тот или иной иностранный язык, насколько прочно они там «обосновались», какими словарями зарегистрированы, в каких текстах и у каких писателей встречаются. Иногда речь идет не только об отдельных словах, но и об отдельных словосочетаниях. Статьи и заметки на эту тему появлялись и появляются в разных изданиях. Спору нет. Подобное изучение слов русского происхождения в языках мира представляет большой интерес, и разыскания в этом направлении следует продолжить. Однако в последующих строках я попытаюсь иначе подойти к проблеме «русский язык в современном мире», обратив внимание прежде всего на некоторые теоретические вопросы, возникающие при контакте языков вообще и при воздействии русского языка на языки мира – в частности и в особенности. В 1896 г. В.И. Ленин, отмечая большой интерес к России у К. Маркса и Ф. Энгельса, подчеркивал, что оба они знали русский язык и читали книги на русском языке[392]. Ленин связывал подлинный интерес к определенной стране со знанием языка ее народа. Другими словами: без знания языка (в первую очередь без уменья читать книги на данном языке) трудно говорить о серьезном изучении истории и культуры (в широком смысле) народа, говорящего на этом языке. Так возникает более общий вопрос: в какой степени интерес к России и к СССР сопровождается интересом к русскому языку как к первому среди других равных языков нашей страны? В такой постановке эта проблема и старая, и новая одновременно. Старая – уже обсуждалась, новая – возникает всякий раз, когда речь идет о культуре и языке русского народа. В эпоху Пушкина, в частности, велись горячие споры о том, можно ли сочинения Байрона (весьма популярные в то время) изучать по переводам или о них можно судить по-настоящему, только читая их в подлиннике?[393]. Этот спор, разумеется, так и не был закончен, но его обсуждение в определенную эпоху весьма знаменательно: как понимать знание культуры народа (художественная литература – одна из важнейших ее частей), в какой степени подобное знание обусловлено или не обусловлено, или лишь частично обусловлено, знанием соответствующего языка? С тех пор как культуру народа научились сознательно связывать с его языком (в Западной Европе и в России – конец XVIII – начало XIX в.), подобные вопросы рождались неоднократно. В 60-х годах прошлого столетия на протяжении ряда лет в мадридском высшем учебном заведении (Ateneo de Madrid) преподавал русский язык испанцам Константин Лукич Кустодиев. Мы не знаем, как он преподавал и какими учебными пособиями пользовался, но Кустодиев был убежден, что нельзя понять современных ему русских писателей без знания русского языка. В одном из писем своему корреспонденту в Москве Кустодиев сообщал в 1869 г.:«Здешнее ученое общество Атеней, где я состою членом, пригласило меня читать лекции, громко говоря, а попросту учить русскому языку с публичной кафедры… Думаю, что не вредно, если наш язык будет знать лишний человек на Западе… Как пойдет дело…, напишу вам. Испанским языком я владею…»[394]Дошедшие до нас письма Кустодиева доказывают, что в Мадриде ему была предоставлена возможность «свободы выбора»: либо читать лекции о русских писателях (в частности, о Пушкине, Гоголе, Тургеневе), либо преподавать русский язык. Весьма знаменательно, что Кустодиев начинает с языка. Даже в сознании мало кому известного скромного чиновника 60-х годов прошлого столетия ясно вырисовывался путь: от знания языка к знакомству с культурой, в частности – к знакомству с великими художественными произведениями, созданными на данном языке. Не говоря даже о том, что перевод (в том числе и отличный) не равен оригиналу, в особенности, если речь идет о больших писателях, следует учитывать и состояние переводческого «дела» в определенной стране и в определенную эпоху. Когда в 1854 г. Э. Шаррьер впервые перевел на французский язык «Записки охотника» Тургенева, то в переводе книга называлась «Воспоминания русского дворянина, или картины современной жизни дворянства и крестьян в русских провинциях»[395]. Произвольные переводы выходили не только в прошлом веке. Они появляются и в нашем столетии. В 20-х годах, в частности, очень вольно переводились на испанский язык многие русские классические произведения. В Испании и Латинской Америке «Отцы и дети» Тургенева долго были известны под названием «Нигилист», а «Бедные люди» Достоевского – под названием «Тайные трагедии» («Tragedias oscuras»)[396]. При сличении подобных «переводов» легко обнаружить, что искажались при этом не только названия произведений, но – это еще серьезнее! – и текст самих сочинений. Переводчиками русских повестей и романов нередко оказывались люди, плохо владевшие русским языком. Разумеется, когда за переводы брались не случайные лица, а подлинные мастера своего дела, результат оказывался совсем иным. Как известно, почти параллельно с Шаррьером русских писателей переводил на французский язык и П. Мериме. Если в первом случае наблюдалось невнимательное отношение к русскому тексту, то во втором – пристальное и глубокое внимание к тексту. Переводя «Пиковую даму» Пушкина, Мериме неточно передал одно из предложений на французский язык. Впоследствии, когда обратили его внимание на ошибку, писатель очень огорчился. У Пушкина: «Томский закурил, затянулся и продолжал». Мериме не понял значения затянулся и передал текст иначе: «Томский закурил, затянул кушак и продолжал»[397]. Таким образом, когда речь идет о том, в каком соотношении находятся два фактора – знание языка подлинника и искусство перевода, – то ответ на этот вопрос находится в прямой зависимости не только от степени знания языка оригинала, как обычно считают, но в еще большей степени от чувства социальной ответственности переводчика. Одного первого условия недостаточно. Можно хорошо знать язык оригинала и переводить все же плохо: если речь идет о переводе художественного произведения, то, как известно, необходимо еще и литературное дарование (переводчик знакомит свою страну с культурой другой страны), если же речь идет о «деловом тексте», то, как минимум, необходимо чувство ответственности (в обоих случаях, разумеется, и хорошее знание языка оригинала). С этой точки зрения история переводов на различные языки, прежде всего на наиболее распространенные языки народов мира, великих русских художественных произведений XIX – XX вв., к сожалению, еще никем не написана. Разумеется, когда укрепляется искусство «точного перевода», тогда знание литературы может «обгонять» знание языка. Так, например, современные переводы сочинений Достоевского, Льва Толстого, Горького на языки мира, конечно, «обгоняют» знание русского языка в соответствующих странах. Но этот вопрос не решается так просто, как кажется с первого взгляда. Многое здесь зависит от взаимодействия культур. Так, например, проблема перевода французских писателей в России в начале XIX в. не стояла так остро, как, например, проблема перевода Гомера: французский язык был достаточно широко распространен среди русской читающей публики того времени, а древнегреческий язык был и остается доступным лишь небольшой группе специалистов. Поэтому проблема «русского текста Вольтера» в эпоху Пушкина не стояла так остро, как проблема «русского текста Гомера»[398]. Следует всегда помнить о большой социальной роли хороших переводов. Л. Брандль, характеризуя давно уже ставший классическим полный перевод на немецкий язык сочинений Шекспира, выполненный в начале прошлого века А. Шлегелем и Л. Тиком, подчеркивал, что переводчики настолько прояснили все темные места Шекспира, что изучать тексты английского драматурга без учета этого перевода теперь невозможно[399]. По-видимому, нечто подобное можно сказать и о некоторых русских переводах Шекспира, выполненных М. Лозинским, М. Кузьминым, Б. Пастернаком, о русском тексте новелл Боккаччо, созданном акад. А.Н. Веселовским[400]. И все же взаимоотношения между художественным переводом, степенью владения языком оригинала и дарованием переводчика остаются и в наше время весьма сложными. В 1949 г. в ГДР был объявлен конкурс на лучший новый перевод знаменитого «письма» Татьяны к Онегину из «романа в стихах» Пушкина. Как отмечалось в оповещении об этом конкурсе, существующие переводы «не достигают крылатой легкости пушкинского стиха, яркости оригинала, своеобразия его ритма, необычной образной силы, выразительной меткости». Итог конкурса оказался все же печальным. Жюри рассмотрело 241 представленный перевод, но не сочло возможным ни один из них отметить первой премией[401]. Как это и ни парадоксально с первого взгляда, удельный вес переводов с одного языка на другой не всегда находится в прямо пропорциональном отношении к степени знания того или иного иностранного языка в данной стране. Подобное отношение может быть и обратно пропорциональным. Так, например, высокая степень знания русского языка в таких странах, как Болгария или Польша, может соответственно уменьшать степень необходимости тех или иных переводов. Лев Толстой и Максим Горький издаются в Болгарии и Польше не только в переводах на болгарский и польский языки, но и в русских оригиналах. Подобно этому и у нас в стране Диккенс или Бальзак, например, публикуются не только в русских переводах, но и в оригинале, соответственно на английском и французском языках. Зависимость между степенью знания языка и широтой распространения переводов с этого же языка может быть разной идалеко не всегда односложной. Если до сих пор переводы с русского языка (не только художественной, но и научной литературы) обычно редко вызывали интерес к изучению самого русского языка, то в последние десятилетия первый процесс стал усиливать второй процесс. Казалось бы хорошие современные переводы должны были уменьшить интерес к русскому языку как таковому («я могу читать Толстого и Горького, Плеханова и Ленина в переводах на мой родной язык»). Между тем в действительности очень часто сейчас наблюдается другое: познакомившись с Толстым или Горьким в переводе, читатели начинают понимать, как важно знать язык того народа, представители которого создают такие произведения. Здесь возникает и другая теоретическая проблема. Справедливо подчеркивая специфику подлинно художественных произведений, отмечая, что она «…отнюдь не сводится к особенностям тех или иных языков, на которых произведения созданы», М.Б. Храпченко делает, на мой взгляд, не вполне правомерный вывод: «Толстой на разных языках остается Толстым»[402]. Между тем русский текст, например, «Войны и мира» все же во многом отличается даже от превосходных переводов этого романа на английской или японский языки. Я уже не говорю о стихах великих поэтов: Пушкин и Маяковский сохраняют огромную силу воздействия прежде всего на русском языке, а переводчики могут лишь стремиться в той или иной степени передать своим читателям часть подобной силы воздействия. Именно поэтому произведения великих русских писателей переводятся не один раз на тот или иной национальный язык, подобно тому, как и у нас появляются все новые и новые переводы на русский язык сочинений Данте или Шекспира, Гюго или Гёте. Этим, в частности, определяется огромная роль хороших переводов в истории культуры разных народов. Нельзя при этом забывать и о роли языка в общении между народами[403]. Валентин Катаев вспоминает о своем знакомстве с И.А. Буниным («Новый мир», 1967, № 3, с. 49):
«Я все время делал попытки сказать Бунину что-нибудь особенно для него приятное. – Иван Алексеевич, Вас, вероятно, много переводили на иностранные языки? – Боже мой! – раздраженно ответил он. – Ну, посудите сами: у меня, например, один рассказ начинается такой фразой: На Фоминой неделе в ясный, чуть розовый вечер, в ту прелестную пору, когда… Попробуйте-ка это сказать по-английски или по-французски, сохранить музыку русского языка, тонкость пейзажа. В ту прелестную пору, когда… Невозможно. А что я стóю без этого?»Таково свидетельство очень большого мастера. Перед исследователями русского языка возникает новая задача. Необходимо показать, как интерес к русской художественной и научной литературе, интерес к нашей стране в целом, повышает и интерес к русскому языку, к его изучению в различных странах мира.
2
Не менее важная проблема может быть сформулирована так: когда, в какие эпохи, интерес к русскому языку за рубежом повышался и в какие эпохи понижался. В наше время интерес к русскому языку как к первому языку Страны Советов велик во многих странах. И это понятно. Но как обстояло дело в прошлом? Почему подобный интерес в истории может быть охарактеризован как бы «волновой теорией»: то он усиливался, то ослаблялся? В Англии, например, стремление изучить русский язык оказалось велико уже в XVI – XVII столетиях. Сама королева Елизавета была не прочь говорить по-русски. Но этот интерес определялся прежде всего коммерческими соображениями: в то время Англия вела выгодную для себя торговлю с Россией[404]. Вместе с тем возникшее в Англии внимание к русскому языку имело важные последствия и для самого русского языка, для его истории. В 1619 – 1620 гг. Р. Джемс создает свой «Русско-английский словарь» («Dictionariolum Russico-Anglicum»), а в 1696 г. была обнародована на латинском языке «Русская грамматика» («Grammatica Russica»), принадлежащая перу Г. Лудольфа. Эта грамматика сыграла важную роль не только в истории изучения русского языка за рубежом, но и в истории различных опытов описания русского языка в ту эпоху[405]. В следующем, в XVIII столетии в Англии наблюдается падение внимания к русскому языку. Вначале XIX в. ситуация немного изменяется. Известную роль в распространении сведений о русском языке и русской литературе не только в Англии, но и в Америке сыграла антология русской поэзии в переводе Д. Боуринга, вышедшая в 1821 г. в Лондоне, а затем, через год, переизданная в Бостоне. Книга содержала переводы из произведений М. Ломоносова, Н. Карамзина, Г. Державина, В. Жуковского, И. Крылова, К. Батюшкова, И. Богдановича и др. В предисловии к своей антологии Д. Боуринг писал о русском языке, как о «языке гармоничном, полном ритма, разнообразном по звучанию и обладающем всеми необходимыми поэтическими достоинствами». Составитель книги называл «русский язык одним из наиболее богатых, если не самым богатым языком Европы»[406]. Затем интерес к русскому языку в Англии вновь уменьшается, а с конца прошлого столетия резко увеличивается. Этому увеличению интереса способствовали английские переводы сочинений Достоевского, Льва Толстого, Горького. Произведения Пушкина, Лермонтова и Гоголя не вызвали процесса, аналогичного тому, который позднее возник в Англии в связи с публикацией английских переводов русских классиков второй половины минувшего столетия. Сочинения этих авторов затрагивали еще более широкий круг «общечеловеческих проблем» даже сравнительно с творчеством Пушкина и Гоголя. Хочу подчеркнуть важность изучения вопроса, условно названного здесь «теорией волн». Необходимо установить социально-исторические причины роста интереса к русскому языку в одну эпоху и в одной стране и причины спада подобного интереса в другую эпоху и в другой стране («теория волн»). Простой ссылкой на торговые или культурные интересы (хотя они, разумеется, тоже существенны) здесь обойтись нельзя. Возникают добавочные вопросы: какие именно практические и культурные интересы вызывали и вызывают внимание к русскому языку, кáк подобные интересы преломляются в обществе, в среде его различных классов в одну эпоху и кáк – в другую эпоху? Здесь же закономерен и иной вопрос – восприятие особенностей русского языка с позиции родного языка. В той же Англии, в минувшем столетии, русский язык воспринимался людьми, его в той или иной степени знавшими, как язык, который будто бы требует особо четкой артикуляции каждого слова. В противном случае, без соблюдения этого условия, русский язык «на слух» понять очень трудно. Так, в частности, думал В. Рольстон (1828 – 1889), автор ряда учебников русского языка и его страстный пропагандист[407]. Любопытно, что совершенно независимо от Рольстона и на 50 лет раньше его, примерно об этом же писала госпожа Сталь в своей книге «Десятилетнее изгнание», впервые посмертно опубликованной в 1821 г. Недолго побывав в России в период своего изгнания из Франции, Сталь, отдавая должное «приятности и звучности русского языка», вместе с тем подчеркивала:«В русском языке есть что-то металлическое, слышатся словно удары по меди».Она же связывала возможность понять звучащую русскую речь с отчетливой артикуляцией каждого отдельного слова[408]. Любопытно, что в сознании представителей двух разных языков, английского и французского, русский язык воспринимался одинаково как язык, будто бы требующий особо четкой артикуляции каждого слова. С этим согласуется и мнение Байрона, который в своем «Дон Жуане» (песнь 7, строфа 15), говоря о трудности усвоения русского языка, подчеркивал специфическое для него (как казалось поэту) скопление согласных. Чтобы преодолеть подобную трудность, четкая артикуляция могла прийти на помощь[409]. Впрочем здесь многое зависело и от того, какие языки между собой сравнивались. Когда композитор Ш. Гуно сопоставлял французский текст либретто своего «Фауста» с итальянским переводом этого текста, то Гуно отдавал предпочтение оригиналу. Композитору казалось, что слишком большое скопление гласных в тексте, звучащем на итальянском языке, сравнительно с гласными текста, звучащего по-французски, мешает восприятию музыки. По мысли Гуно, язык не должен «перехватывать» функцию музыки: музыкальность – свойство прежде всего музыки, а не языка. Итальянский язык своими гласными звуками как бы нарушает подобное распределение функций между языком и музыкой и тем самым осложняет проблему[410]. Как видим, понятие «музыкальности языка» и ассоциация этого понятия с количеством звучащих гласных во многом зависела от того, какие языки между собой сравнивались и кто проводил подобное сравнение. Все это подчеркивает изменчивость критериев оценки сопоставляемых языков, когда подобное сопоставление ведется на основе чисто субъективного восприятия. Любопытно, что если англичане долго воспринимали русский язык как язык, «наполненный согласными» и поэтому требующий особо четкой артикуляции, то многим русским людям английский язык казался «свистящим». Грибоедов («Горе от ума», IV, 4), характеризуя великосветского англомана князя Григория, замечает: «И так же он сквозь зубы говорит». Гоголь в «Мертвых душах» (I, гл. 8), сопоставляя разные языки, сравнивает английское произношение с «присвистыванием по птичьему», а уже в нашем веке поэт О. Мандельштам («Камень». Пг., 1916) вновь возвращается к аналогичной ассоциации: «Когда пронзительнее свиста я слышу английский язык…» Подобные представления о том или ином языке складываются в обществе, где обычно плохо владеют данным языком. Когда им владеют хорошо или сравнительно хорошо, тогда не возникают никакие «птичьи» или подобные им ассоциации. Любопытно, что с французским языком, который был гораздо шире распространен в минувшем столетии среди определенных социальных групп русского общества, никаких «странных» сопоставлений с птицами или животными обычно не возникало. То же нужно сказать и о русском языке в зарубежных странах. Лишь там, где русский язык представлялся языком «экзотическим», его артикуляции казались странными, требующими особых усилий со стороны говорящих. Подобная зависимость между степенью знания языка в обществе и его кажущейся «экзотичностью» («странностью») является общим законом. Для современного исследователя этот вопрос представляет большой интерес: как за пределами науки о языке осмысляется один язык с позиции другого, обычно родного для самих «ценителей» языка? Теперь я попытаюсь подойти к проблеме, которая должна быть центральной в большой теме о русском языке за рубежом, о воздействии русского языка на языки мира. Как только что отмечалось, эту тему нельзя сводить к перечню отдельных русских слов (к тому же часто «экзотических»), проникших в те или иные языки. Хотя сами по себе подобные перечни полезны и любопытны, однако гораздо важнее другое: многие интернациональные слова на русской «почве» получали и получают новое значение и в этом новом значении оказывают обратное воздействие на разные языки. Многие слова и словосочетания, не русские по происхождению, оказываются в дальнейшем как бы русскими по своей семантике, по характеру функционирования в том или ином языке. К сожалению, в этом важнейшем направлении проблема остается все еще малоизученной. Проиллюстрирую сказанное пока только одним примером. Французское слово avant-garde в самом французском языке долгое время имело только специальное, военное значение («часть войск, находящаяся впереди главных сил»). Слово не употреблялось в переносном смысле. Лучшие словари французского языка вплоть до середины нашего столетия никаких переносных значений к слову avant-garde не дают. Между тем в русском языке в 40 – 60-е годы минувшего века слово авангард могло уже иметь не только военное значение, но и переносное осмысление («передовой отряд какой-либо общественной группы»)[411]. Следующий шаг по пути переносного осмысления слово авангард претерпевает в советскую эпоху: «передовая общественная группа», «передовой класс общества»[412]. В переносном осмыслении авангард уже не соприкасается не только с военным значением, но и с понятием ʽотрядаʼ. Под влиянием этих новых осмыслений авангарда в русском языке позднее возникают аналогичные осмысления авангарда и в европейских языках. Так, в первом томе большого толкового словаря французского языка Робера (1957) читаем:
«1) передовой воинский отряд…, 2) в фигуральном смысле – движение, играющее или претендующее на то, чтобы играть ведущую роль в той или иной области, например, авангард литературы»[413].Здесь, хотя еще и не очень охотно («претендующее…»), уже признается переносное осмысление самого слова авангард. Аналогичную картину можно обнаружить и в других европейских языках, в частности, в английском и испанском. Что касается языков стран народной демократии, то переносное осмысление авангарда у них широко представлено. Любопытно, что в одних европейских языках слово авангард в переносном осмыслении дальше «отрывается» от исконного военного значения и приобретает общее значение «чего-то передового» (обычно в общественном смысле). В других же языках, даже в переносном осмыслении, реминисценция «отряда» все еще сохраняется (например, «передовой отряд литературного движения»). Итак, авангард в русском языке – заимствованное имя существительное. Однако это заимствованное слово, по-своему осмысленное в русском языке, в свою очередь оказало и оказывает в наше время семантическое воздействие на функционирование существительного авангард в других, самых разнообразных языках. Роль русского языка в росте переносных осмыслений авангарда оказалось решающей, так как именно в русском языке этот процесс произошел гораздо раньше, чем в западноевропейских языках. Вообще переносное значение авангарда в современном русском языке встречается чаще его первоначального военного значения. Что касается образованных от него прилагательных, то одно из них интерпретируется положительно (авангардный), а другое – обычно отрицательно (авангардистский, ср., например, авангардистские фокусы искусства)[414]. К сожалению, вопрос о том, как заимствованные из других языков слова, словосочетания, идиоматические выражения, пословицы и т.д. начинают жить самостоятельно в русском языке и даже (обычно в переосмысленной функции) оказывать воздействие на другие языки мира, остается все еще почти совсем не исследованным. Имея в виду своеобразную адаптацию иностранных слов и выражений, шире – тем и сюжетов, В.А. Жуковский в 1847 г., подводя итоги своей деятельности, писал Н.В. Гоголю:
«…у меня почти всё чужое… и всё, однако, мое»[415].Жуковский считал, что даже заимствованным из европейских языков словам и выражениям (не говоря уже о темах и сюжетах) он умел придать национальный колорит и своеобразную окраску. То же мог бы о себе сказать и Лев Толстой. Хотя в его «Войне и мире» целые диалоги ведутся на французском языке, тем не менее именно этот роман писателя сыграл выдающуюся роль в развитии языка русской художественной прозы второй половины прошедшего столетия. Поэтому нельзя не удивляться, что проблема заимствованных в русском языке слов и выражений до сих пор изучалась как проблема одностороннего влияния, без раскрытия процесса обратного воздействия переосмысленных в русском языке слов и выражений (в их новой функции) на языки различных народов мира. Постараемся, здесь неизбежно бегло, хотя бы обратить общее внимание именно на этот процесс, неразрывно связанный с самим фактом взаимодействия культур и языков различных народов[416].
3
Зарубежные знатоки русского языка и русской литературы уже в прошлом столетии отмечали, что в центре русской культуры всегда находился человек, и писатели умели изображать окружающий их мир с позиций человека, с позиций гуманизма. Француз Е. Эннекен, хорошо знавший русскую литературу минувшего века, писал, в частности, об И.С. Тургеневе:«Его книги никогда не жестки по отношению к человеку. К сожалению, этого нельзя сказать о лучших французских писателях»[417].Говоря далее о Льве Толстом, Эннекен отмечал любовь писателя не к «природе вообще», а к природе, тесно связанной с самой жизнью людей, с их трудом и отдыхом. Исследователь вспоминает фразу писателя из «Анны Карениной», относящуюся к Левину:
«Константин Левин не любил говорить и слушать про красоту природы. Слова снимали для него красоту с того, что он видел»[418].Подобную человечность русской культуры понимали не только отдельные иностранные исследователи, но прежде всего сами русские, создатели этой культуры. Как мне представляется, подобная человечность обнаруживалась не только в русской литературе, но и в русском языке, прежде всего в его лексике. В «Войне и мире» Толстого имеется такой эпизод. Накануне Бородинской битвы Пьер Безухов спрашивает одного из офицеров русской армии, как называется деревня, которая виднеется впереди. Офицер отвечает Бурдино и тут же поправляется – Бородино. Этим эпизодом Толстой как бы подчеркивает, что не «вещи» сами по себе (деревни, города, «предметы» в широком смысле) красят людей, а люди, их труд, их ум, их вдохновение, их бесстрашие делают «вещи» бессмертными. Бессмертным оказалось и название никому дотоле неизвестной деревни Бородино[419]. Уже семантика слова авангард показала, как именно на русской почве это слово стало «отрываться» от чисто военного значения и приобретать общегражданское (человеческое) значение. То же можно сказать о таких словах, например, как прогресс и регресс. Хотя в 1858 г. Александр Второй пытался наложить запрет на употребление слова прогресс в официальных бумагах, тем не менее это слово продолжало широко употребляться. Как показал В.В. Веселитский, уже с 40-х годов минувшего столетия у представителей передовой русской мысли слово прогресс получило революционное осмысление: движение общества вперед, движении человеческого знания. У Белинского:
«Только в ходе человеческой мысли заключается прогресс»[420].Как ни старались консервативные «ревнители русского языка» изгнать существительное прогресс, как будто бы ненужное иностранное слово из русского языка, оно именно на русской почве быстро стало приобретать передовое общественное значение. В 60-х годах прошлого века прогресс получает исключительно широкое распространение и начинает противопоставляться регрессу. Еще более интересно в этом отношении существительное интеллигенция, иноземное по своему происхождению и чисто русское по своему значению. В русском языке оно появляется в самом конце 60-х годов минувшего столетия, но его еще нет ни у Добролюбова, ни у Писарева, ни даже у Чернышевского[421]. История слова интеллигенция особенно интересна тем, что перипетии его семантического движения на протяжении свыше ста лет (с 1869 г. до наших дней) не только не находились под западным воздействием, но сами оказывали воздействие на слова того же этимологического источника во многих европейских языках. Больше того. Слово интеллигенция настолько оказалось русским по своей семантике, что часто переводится на европейские языки как бы в русской огласовке – intelligentsia. Уже в 1934 г. критик Д.Н. Мирский, хорошо знавший Англию, опубликовал книгу под названием «Интеллидженсиа», в которой сообщал, в частности, какое сильное воздействие оказывало понятие «советская интеллигенция» на развитие европейской социальной терминологии. И уже в наше время об этом же сообщает французский прогрессивный философский журнал «La pensée», повествуя о русском слове intelligentsia и о его влиянии на французскую социальную терминологию[422]. В русском языке слово интеллигенция не сразу, разумеется, получает современное значение. В течение долгого времени оно означало «образованный класс общества», затем «мыслящая часть общества», позднее «работники умственного труда». В настоящее время эти значения могут сосуществовать в самом слове, выступая в разных контекстах с разными значениями, чаще же – с разными оттенками одного значения. Ср., например, передовая русская интеллигенция (в прошлом), советская народная интеллигенция (в настоящем). Особенно широко это слово стало употребляться у нас уже в советскую эпоху и в этом своем значении («работники умственного труда») воздействовать на соответствующие слова в европейских языках. Несомненно, что новое значение интеллигенции укрепилось под воздействием марксистско-ленинского понимания общества, его классов и социальных групп, весьма различных в разные исторические эпохи. Свой путь развития в русском языке проходили и те слова, которые, будучи русскими по своему происхождению, вместе с тем ассоциировались со многими европейскими словами. Слово личность было известно в русском языке уже в XVIII в. Но еще в 1847 г. академический «Словарь церковнославянского и русского языка» определяет это слово так:
«1) Отношение одного лица к другому. Никакая личность не должна быть терпима на службе. 2) Колкий отзыв на чей-либо отчет, оскорбление. Не должно употреблять личности».Как видим, существительное личность было еще далеко от своего современного значения. Поэтому, когда Белинский в эти же годы стал употреблять слово личность в новом значении («индивидуальность»), он связывал это значение с семантикой французского personnalité[423]. Вся последующая история слова личность в русском языке развивалась, однако, независимо от европейских эквивалентов латинского слова persona и его производных. На развитие семантики личности в русском языке повлияли такие события, как оживленные споры во второй половине прошлого столетия о роли личности в истории (работы П.Л. Лаврова и др.), а в конце этого же века – новое, марксистское истолкование подобной же роли личности (в частности, в знаменитой работе Г.В. Плеханова «О роли личности в истории»). Так постепенно складывались условия для новой семантики слова личность – «человек как определенная индивидуальность; человек как член определенного общества». Существительное личность, казалось бы, навеянное иноземными источниками, получило свой путь развития в русском языке. Разумеется, и сейчас можно говорить о взаимодействии различных форм европейского слова persona и русского слова личность, но именно о взаимодействии, а не об одностороннем влиянии западных форм на русскую[424]. То же можно заметить и о многих десятках других слов самого различного происхождения. Политический и социальный, идеология и философия, социализм и коммунизм, планировать и рационализировать – эти, как и подобные им слова, именно на русской почве получили дальнейшее развитие. Впервые получив научное обоснование в работах Маркса и Энгельса, подобные слова уже в их «русском облике» стали воздействовать на лексику языков мира[425]. Я уже не говорю здесь о так называемой безэквивалентной лексике, которая обычно не переводится на другие языки. Вот лишь немногие, самые различные иллюстрации: комсомолец и стахановец, самодеятельность и массовка, субботник и капустник, народный театр и народные таланты, общественная нагрузка и наказ избирателей и т.д. Уже В.И. Ленин отмечал:
«Наше русское слово „Совет“ – одно из самых распространенных, оно даже не переводится на другие языки, а везде произносится по-русски»[426].Таким образом, проблема взаимодействия лексики русского языка и лексики других языков даже в тех случаях, когда отдельные слова оказывались в русском языке этимологически заимствованными, – это действительно проблема взаимного воздействия друг на друга языков мира. При этом своеобразие развития русской культуры в прошлом и особенно после Октябрьской социалистической революции привело и до сих пор приводит к весьма специфическому, гуманистическому влиянию русского языка, и прежде всего его лексики, на лексику различных языков мира. Здесь давались иллюстрации из европейских языков, но сказанное относится и к другим, самым несходным языкам. Мировой язык – термин, теперь ставший неточным. В наше время он все больше и больше ассоциируется с понятием об искусственном языке, об искусственной языковой системе. Участь русского языка – совсем иная. Он существует, как и другие национальные языки, и будет существовать совершенно независимо от опытов построения подобных искусственных «систем». Судьба русского языка всегда связана с людьми, с их культурой, с их прошлой и будущей историей. Изучение процесса возникновения и развития интереса к русскому языку в разных странах мира не имеет, разумеется, ничего общего с «навязыванием» русского языка другим народам мира, как это иногда стали утверждать наши недруги в последние годы. Каждый народ должен беречь и совершенствовать прежде всего свой родной язык – национальное и бесценное достояние. Вместе с тем (и здесь нет никакого противоречия) и в прошлые времена, и особенно в нашу эпоху, в эпоху интенсивного общения между народами, углубляется интерес к различным языкам мирового значения, к языкам-носителям великих культур. В старой России и особенно в СССР всегда наблюдалось и наблюдается стремление изучать такие языки, как французский и английский, немецкий и испанский, китайский и японский, как и мн. др. Итак, проблема русского языка среди языков мира – это не только 1) проблема проникновения иностранных слов в русский язык и русских слов – в другие языки, но и 2) проблема обратного воздействия интернациональных слов, получивших на «русской почве» новое осмысление, на языки народов мира, 3) проблема исторической периодизации интереса к русскому языку в разные эпохи и в разных странах, 4) проблема неодинаковой оценки, неодинакового осмысления особенностей русского языка (не только его лексики, но и его фонетики и грамматики) с позиции носителей других, самых различных языков, 5) проблема сложных и не всегда прямых отношений к русскому языку за рубежом в связи с многочисленными переводами русских художественных и научных произведений на языки народов мира, 6) проблема гуманистической основы той части русской лексики, которая оказалась в самой прямой связи с историей развития русской культуры, с историей советского общества. И это только некоторые из проблем, возникающих при исследовании русского языка среди языков мира[427]. При изучении проблемы взаимодействия языков мира советские лингвисты, тщательно анализируя западноевропейские и американские работы на эту тему, как и другие зарубежные разыскания, вместе с тем во многом идут своим путем в истолковании взаимоотношений между языком и обществом, в осмыслении социальной природы языка.
Сноски
Примечания
1
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20. 2-е изд., с. 88. (обратно)2
Snow С. The two cultures and the scientific revolution. Cambridge, 1959, p. 14. (обратно)3
См., например: Гладкий А.В. Лингвистика и математика. – В кн.: Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания. Тезисы докладов секционных заседаний. М., 1974, с. 28 (здесь так и сказано «математика – гуманитарная наука»). (обратно)4
К сожалению, для достоинства самого человека связь между существительным homo ʽчеловекʼ и прилагательным humanus ʽчеловеческийʼ этимологически до сих пор но установлена, несмотря на многочисленные гипотезы и разыскания (Ernout A., Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. 3 éd., 1951, p. 531). (обратно)5
Можно привести десятки примеров подобного противопоставления. См., в частности: Новое в лингвистике. М., 1962, вып. 2, с. 9. (обратно)6
См., например: Писарев Д.И. Исторические идеи Огюста Конта. – Сочинения Д.И. Писарева в шести томах, т. 5. СПб., 1897, с. 314 – 322. (обратно)7
Spengler О. Der Untergang des Abendlandes. Berlin, Bd 1, 1925, c. 6. (обратно)8
Белый А. Символизм. СПб., 1910, с. 194, 239. (обратно)9
Ярошевский М.Г. Личность и общество. М., 1973, с. 257. (обратно)10
Hockett Ch. The state of the art. The Hague – Paris, 1968, p. 28. – Ср. в этой же связи критические замечания о понятии «точные науки» у известного швейцарского психолога Ж. Пиаже (В кн.: Tendances principales de la recherche dans les sciences sociales et humaines. Paris – La Haye, 1970, p. 60 – 65). (обратно)11
Лотман Ю. Литературоведение должно быть наукой. – Вопросы литературы, 1967, № 1, с. 100. (обратно)12
Benveniste É. Problèmes de linguistique générale. Paris, 1966, c. 7. Аналогичные примеры в кн.: Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. М., 1968, с. 107, 108. (обратно)13
Кожинов В. Возможна ли структурная поэтика? – Вопросы литературы, 1965, № 6, с. 106 и сл. (обратно)14
Памяти академика Александра Николаевича Веселовского. Пг., 1921, с. 112. (обратно)15
Cassirer Е. Philosophie der symbolischen Formen. Bd 1. Die Sprache. Berlin, 1923, c. 99. – Силу внутренней точности мысли понимают далеко не все исследователи. В свое время Г.Г. Шпет, хотя и написал книгу «на темы Гумбольдта», увидел у великого немецкого ученого «спутанное изложение» (Шпет Г. Внутренняя форма слова. Этюды и вариации на темы Гумбольдта. М., 1927, с. 7). (обратно)16
Литературная газета, 1975, 2 апр. (обратно)17
Bartoli М. Das Dalmatische. Wien, 1906, с. 21. (обратно)18
Descartes R. Oeuvres. Paris, 1900, р. VIII. – В коллективном сборнике «У истоков классической науки» (М., «Наука», 1968, с. 159 и 171) утверждается, что Декарт все живые существа полностью приравнивал к простым машинам. При этом не учитывается доктрина мыслителя о «бессмертии человеческих душ». (обратно)19
Bachelard G. La formation de lʼesprit scientifique. Paris, 1938, c. 214. (обратно)20
Encyclopédie. Paris, v. I, 1751 (article air). (обратно)21
Розанов M. Очерки по истории руссоизма на Западе и в России. М., 1910, т. I, гл. 8. (обратно)22
Алексеев М.П. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., 1972, (гл.: «Пушкин и наука его времени»). (обратно)23
Рибо Т. Эволюция общих идей. СПб., 1898, с. 186. (обратно)24
Спекторский Е. Понятие общества в античном мире. Варшава, 1911, с. 4. (обратно)25
Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. М. – Л., 1933, т. I, с. 226. (обратно)26
Couderc P. La relativité. Paris, 1958, с. 25. (обратно)27
Эйнштейн А. Собрание научных трудов, т. IV. М., 1967, с. 530. (обратно)28
Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в математике. М., 1970, с. 121. (обратно)29
Пуанкаре Анри. Ценность науки. М., 1906, с. 17. (обратно)30
«Фантазия есть качество величайшей ценности…»(Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 125);
«Нелепо отрицать роль фантазии и в самой строгой науке»(обратно)(Там же, т. 29, с. 330).
31
Цит. по: Орлов А.С. Язык русских писателей. М. – Л., 1948, с. 185. (обратно)32
Борн Макс. Моя жизнь и взгляды. М., 1973, с. 124. (обратно)33
Винер Норберт. Творец и робот. М., 1966, с. 82. (обратно)34
См. об этом: Барабаш Ю. Вопросы эстетики и поэтики. М., 1973, с. 223 и сл. – Среди «опоязовцев» находились и такие, которые «в свете» культа формы поднимали руку даже на гений В.Г. Белинского, называя критика «неудачным убийцей русской литературы» (Там же, с. 224). (обратно)35
В этом же плане ср. разграничение формального и формалистического у такого выдающегося филолога, как Н.С. Трубецкой (см. гл. о Трубецком в кн.: G. Mounin. La linguistique du XX siècle. Paris, 1972, c. 103). (обратно)36
Иллюстрации можно найти, например, в кн.: Тимофеева В.В. Язык поэта и время. М – Л., 1962, с. 177 и сл. (обратно)37
См., например: Филологические науки, 1963, № 4, с. 173. (обратно)38
См. сб.: Контекст. 1974. М., «Наука», 1975, с. 106. (обратно)39
Там же. (обратно)40
Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975, с. 105. (обратно)41
Попытка показать роль содержательных категорий в грамматике сделана, в частности, в кн.: Будагов Р.А. Человек и его язык. 2-е изд. М., 1976, с. 173 – 195. (обратно)42
См., например: Erlich V. Russian formalism. The Hague, 1955; Pomórska K. Russian formalist theory and its poetic ambiance. The Hague, 1968; Jameson F. The prison-house of language. Princeton, 1972 (в этой последней книге сделана попытка «перенести» идеи формалистов-литературоведов в область лингвистики). См. также многочисленные хрестоматии текстов типа: Théorie de la littérature. Textes de formalistes russes, réunis, présentés et traduits par T. Todorov. Paris, 1965; Readings in russian poetics: formalist and structuralist views. Cambridge, 1971. (обратно)43
Ullmann S. The principles of semantics. Oxford, 1959, c. 318. – Противоположную точку зрения (принцип полной изоляции формы) защищают многие. См., в частности: Gross М. Mathematical models in linguistics. Englewood Cliffs, 1972, c. 4. (обратно)44
Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974, с. 79. (обратно)45
См.: Л.В. Щерба [Рец. на кн.]: Петерсон М.Н. Введение в языкознание. – Русский язык в школе, 1930, № 5, с. 196 – 200. – Перефразируя слова другого известного исследователя, сказанные по другому поводу об исключительной важности «неформалистического объяснения формальных особенностей эпоса» (Лосев А.Ф. Античная философия истории. М., 1977, с. 42), я бы подчеркнул такое же серьезное значение неформалистического изучения формальных особенностей грамматики. (обратно)46
Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933, с. 113. (обратно)47
Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972, с. 17. (обратно)48
Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1974, № 4, с. 330. (обратно)49
См., например: Винокур Т.Г. Синонимия в функционально-стилистическом аспекте. – ВЯ, 1975, № 5, с. 54. (обратно)50
Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном отношении, 6-е изд. М., 1938, с. 132. (обратно)51
Виноградов В.В. Алексей Александрович Шахматов. Пг., 1922, с. 48. (обратно)52
Русско-французский словарь. Под ред. и при участии Л.В. Щербы. М., 1939, с. 3. (обратно)53
Винер Норберт. Указ. соч., с. 82. См. также: Деглин В. Функциональная асимметрия – уникальная особенность человека. – Наука и жизнь, 1975, № 1, с. 112 – 114. (обратно)54
Ковтунова И.И. Порядок слов в русском языке. М., 1969, с. 118. (обратно)55
См. сб.: Русские писатели о языке. Л., «Советский писатель», 1954, с. 210. (обратно)56
Мериме Проспер. Статьи о русских писателях. М., 1958, с. 36. (обратно)57
Подводя итоги «Девятого международного конгресса лингвистов» (США, 1962 г.), Р.О. Якобсон тогда же отмечал интерес многих современных лингвистов к теоретическим проблемам поэтики. Он же предложил названия журналов, посвященных лингвистике, дополнить словами «и по поэтике» (см. об этом: Новое в лингвистике. М., 1965, вып. 4, с. 583). См. также: Bayerdörfer Н. Poetik als sprachtheoretisches Problem. Tübingen, 1966. (обратно)58
Аристотель. Поэтика. Л., 1927, с. 74. (обратно)59
Рифтин Б. Метод в средневековой литературе Востока. – Вопросы литературы, 1969, № 6, с. 93. (обратно)60
Лихачев Д.С. Будущее литературы как предмет изучения. – Новый мир, 1969, № 9, с. 172 – 176. (обратно)61
Федин К. Писатель. Искусство. Время. М., 1961, с. 202. (обратно)62
Эренбург И. О работе писателя. – Звезда, 1953, № 10, с. 172. – А вот свидетельство большого мастера прозы – Валентина Катаева:«У Толстого Левин смотрит на небо и видит Луну как кусок ртути. Ну где Толстой видел именно куски ртути? Вздор! Вздор! А как точно!»(обратно)(Правда, 1977, 6 дек.).
63
Жирмунский В.М. Рифма, ее история и теория. Пг., 1923, с. 101 – А вот еще одно интересное свидетельство совсем иного рода:«Чем более зрелым становится мастерство Шекспира, тем чаще он отказывается от параллелизма и предпочитает ему асимметрию. Это проявляется как в композиции действия, так и во всем остальном, включая диалоги»(обратно)(Аникст А. Шекспир. Ремесло драматурга. М., 1974, с. 220).
64
ВЯ, 1971, № 1, с. 133. (обратно)65
Литературные манифесты французских реалистов. Л., 1935, с. 140. (обратно)66
Моэм Сомерсет. Ожерелье. Рассказы. М., 1969, с. 28. – Смелый новатор, режиссер В.Э. Мейерхольд подчеркивал:«Бойтесь с педантами говорить метафорами. Они все понимают буквально и потом не дают вам покоя»(обратно)(Гладков А. Мейерхольд говорит. – Новый мир, 1961, № 8, с. 238).
67
Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969, с. 132. – «Боковые значения» слова позднее получили различную интерпретацию. Этот вопрос подробно рассматривается в пятой главе, посвященной языковой норме. (обратно)68
Лансон Г. Метод в истории литературы. М., 1911, с. 19. (обратно)69
Sanctis F. de. Saggi critici. Bari, 1952, v. 3, c. 323 – 324. (обратно)70
Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. М., т. I, 1922, с. 315. (обратно)71
Бахтин М. К эстетике слова. – В кн.: Контекст. 1973. М., «Наука», 1974, с. 278. (обратно)72
Литературные манифесты французских реалистов, с. 44. (обратно)73
Оттенки и нюансы здесь употребляются как абсолютные синонимы. (обратно)74
Примеры и иллюстрации см.: Lommatzsch Е. Kleinere Schriften zur romanische Philologie. Berlin, 1954, c. 3 – 50; Dees A. Etude sur lʼévolution des démonstratifs en ancien et en moyen français. Groningen, 1971, c. 150 – 164. (обратно)75
Лосев А.Ф. О пределах применения математических методов в языкознании. – В кн.: Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. М., «Наука», 1970, с. 184 – 194. (обратно)76
Krauss W. Le jeu des chiffres et la naissance de la méthode statistique au XVIII siècle. – Beiträge zur romanischen Philologie. Berlin, 1971, № 2, c. 245 – 252. (обратно)77
См. об этом: Горнфельд А. Муки слова. М. – Л., 1927 (гл. «Художественное слово и научная цифра»). – В 20-е годы споры о применении статистики к категориям языка, в частности, дискуссия между Г. Винокуром и Б. Томашевским по этому вопросу освещена в кн.: Томашевский Б. О стихе. Л., 1929, с. 275 – 276. См. также: Жирмунский В.М. Стихосложение Маяковского. – Русская литература, 1964, № 4, с. 9 и сл. (обратно)78
См. об этом: Language. N.Y., 1957, № 2, с. 180 – 181. – Еще в 1861 г. широко образованные братья Гонкур записали:«Статистика – это самая главная из неточных наук»(обратно)(Гонкур Эдмон и Жюль де. Дневник. Записки о литературной жизни, т. 1, 1964, с. 292).
79
См. сб.: Слово и образ. М., «Просвещение», 1964, с. 100. – См. также заключение математика, акад. А.Н. Колмогорова:«…вообще говоря, автоматическая статистическая обработка данных о ритмике произведений различной структуры по общему шаблону малопродуктивна»(обратно)(К изучению ритмики Маяковского. – ВЯ, 1963, № 4, с. 69).
80
Ленин В.И. Философские тетради. М., 1973, с. 88. (обратно)81
Белинский В.Г. Соч. в 4-х т., т. 3. СПб., 1900, с. 16. – Ср. замечание H.С. Трубецкого о том, что фонолог не может и не имеет права пользоваться методом естественных наук, хотя фонология – очень точная наука (Трубецкой H.С. Основы фонологии. М., 1960, с. 18). (обратно)82
Щерба Л.В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Л., 1958, с. 35 – 36. (обратно)83
Ларин Б.А. Учение о символе в индийской поэтике. – В кн.: Поэтика. Л., 1927, вып. 2, с. 29 – 43. – А вот свидетельство видного современного шведского лингвиста:«Знак. Где проходят его границы? Что это – слово, предложение, целая книга или только идея? В наше время ответы обычно даются разные»Исследователь здесь же отмечает неясность границ между знаком и символом. (обратно)(Malmberg В. Signes et la théorie linguistique. – Semiotica. Mouton, 1976, № 2, c. 154).
84
См. об этом: Koerner Е. de Saussure F. Origin and development of his linguistic thought. Brauschweig. 1973, c. 20 – 45. (обратно)85
Ревзин И.И., Топоров В.Н. Новое исследование по стиховедению. – ВЯ, 1962, № 3, с. 126. – Аналогичные утверждения находим и в работах наших дней:«…однотипные знаковые системы (языки, мифы, ритуалы и т.п.)…»Здесь необходимо подчеркнуть: «однотипные знаковые системы», куда включается и язык наряду с мифами и ритуалами. (обратно)(Иванов В.В. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976, с. 6).
86
Mukařovsky Jan. Studie z estetiky. Praha, 1966, с. 120. – Уже в 1950 г. Ч. Моррис писал:«Семиотика – это наука о знаках, вне зависимости от того, являются ли они знаками животных или людей, языковыми или неязыковыми, истинными или ложными, адекватными или неадекватными, нормальными или патологическими»(обратно)(Morris Ch. Language and behavior. N.Y., 1950, с. 223).
87
См., например: Кожинов В.В. Об изучении «художественной речи». – В кн.: Контекст. Литературно-теоретические исследования. М., 1975, с. 263 – 267. (обратно)88
Эту точку зрения пытался, в частности, защищать автор настоящих строк в разных своих публикациях (см., например: ВЯ, 1974, № 4, с. 3 – 20). А.А. Уфимцева утверждает, что«на понятии знака со времен Бодуэна де Куртенэ и Ф. де Соссюра основываются все сколько-нибудь значимые теории языка в современной лингвистике»,но при этом не учитывается наличие диаметрально противоположных истолкований самой природы языкового знака «в современной лингвистике» (Уфимцева А.А. Типы словесных знаков. М., 1974, с. 7). (обратно)
89
Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970, с. 96 и сл. (обратно)90
См., например: Белецкий А.А. Знаковая теория языка. – В кн.: Теоретические проблемы современного советского языкознания. М., 1964, с. 46. Защитников подобной постановки вопроса много и у нас, и за рубежом. А вот и другая, диаметрально противоположная и совершенно справедливая точка зрения:«Обычные формы замены истины условными знаками, выражающими внутреннее состояние личности или общественной группы… представляются пишущему эти строки литературными подделками, лишенными строгой мысли и не выдерживающими критики. Безразлично, являются ли символы, знаки, шифры выражениями „классовой идеологии“, как писали 40 лет назад, или экзистенциальной травмы, или формализованной психотехники. Все это – только оттенки одной и той же слабой мысли»(обратно)(Лифшиц Мих. Карл Маркс, искусство и общественный идеал. М., 1972, с. 7; Он же. Чего не надо бояться. – Коммунист, 1978, № 2, с. 107 и сл.).
91
Резников Л.О. Гносеологические вопросы семиотики. Л., 1964, с. 9 и сл. (обратно)92
См.: Будагов Р.А. Введение в науку о языке. 2-е изд. М., 1965, с. 13. – Следует при этом помнить и о двусторонности грамматических категорий, об их формах и об их значениях (Там же, с. 219 – 225). (обратно)93
Впрочем, концепция этих ученых и в 60-х годах не была новой. Уже в 1919 г. можно было прочитать:«В понятии содержание при анализе произведения с точки зрения сюжетности надобности не встречается»(обратно)(Поэтика. Сборники по теории поэтической речи. Пг., 1919, вып. 3, с. 144).
94
Benveniste Е. La forme et le sens dans le langage. In: Recherches sur les systèmes significants. The Hague – Paris, 1973, c. 95. (обратно)95
Любопытна трансформация, произошедшая за самые последние годы в определенном направлении зарубежной науки: от полного отрицания категории значения как категории, будто бы не лингвистической, до выдвижения значения на первое место в языкознании. На последнем, 12-м Интернациональном конгрессе лингвистов (Вена, 1977 г.) тема «Основные проблемы семантики» оказалась центральной темой пленарных заседаний (обращаю внимание: семантики, а не семиотики). (обратно)96
Савченко А.Н. Язык и системы знаков. – ВЯ, 1972. № 6, с. 22. (обратно)97
«Под знаком в точном смысле разумеем нечто, что не имеет своего внутреннего значения… и превращается в условного заместителя или же в метку чего-то другого»Совсем иное – слово. Оно всегда с внутренним значением. Даже тогда, когда люди слышат то или иное слово, значение которого они не понимают, обычно всё же стремятся соотнести подобное слово с другими, понятными словами. (обратно)(Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1946, с. 405).
98
K. Jaberg. Mittelfranzösische Studien. – Sache, Ort und Wort. Zürich, 1943, c. 281. (обратно)99
Н. Paul. Deutsches Wörterbuch. Halle, 1956, Bd 2, с. 462. (обратно)100
S. Karcevskij. Du dualisme asymétrique du signe linguistique. – Travaux du cercle linguistique de Prague. Praha, v. 1, 1929, c. 88, 93. (обратно)101
A. Meillet. Aperçu dʼune histoire de la langue grecque, 7 éd. Paris, 1965, c. 235. (обратно)102
F. Paulhan. La duble fonction du langage. Paris, 1929, c. 95 – 105. – Значительно раньше сходные мысли выражал знаменитый лексикограф и философ Е. Литтре (Rey A. Littré. Lʼhumanisme et les mots. Paris, 1970, c. 287). (обратно)103
Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955, с. 146 – 157. (обратно)104
Резников Л.О. Указ. соч., с. 255 – 256. См. также яркую статью польского филолога: Чаплеевич Э. Целостен ли структурный анализ? – Вопросы литературы, 1974, № 7, с. 207 – 236. (обратно)105
Ср. в этой связи интересные наблюдения Р.О. Якобсона в кн.: Семиотика и искусствометрия. М., 1972, с. 82 – 87. (обратно)106
Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 1934, с. 262. (обратно)107
См., например: Шпет Г. Внутренняя форма слова. Л., 1927, с. 14. – Противореча самому себе, автор вместе с тем вслед за В. Гумбольдтом ошибочно утверждал, что«…во всяком языке заключается своеобразное мировоззрение» (с. 16).(обратно)
108
Волков А.Г. Язык как система знаков. М., 1966, с. 49. (обратно)109
Там же, с. 61. (обратно)110
См. об этом: Хэмп Э. Словарь американской лингвистической терминологии. М., 1964, с. 7. (обратно)111
Блумфилд Л. Язык. М., 1968, с. 142 – 164. – Стремление растворить лингвистическую категорию значения в общем процессе познания и отказаться от поисков ее лингвистической специфики наблюдается и среди многих современных американских ученых. Ср., например: Goyvaerts D. Meaning beyond linguistics. – Linguistics. The Hague – Paris, 1972, № 1, c. 17 – 27. (обратно)112
Хомский Н. Синтаксические структуры. – В кн.: Новое в лингвистике. М., 1962, вып. 2, с. 505. (обратно)113
Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972, с. 137 – 138. (обратно)114
Попытку показать специфику грамматического значения в отличие от значения лексического см.: Будагов Р.А. Человек и его язык. 2-е изд. М., 1976, с. 94 – 121, 173 – 194. Иная точка зрения на семантику защищается в кн.: Progress in linguistics: a collection of papers. Ed. by M. Bierwisch and K. Heidolph. The Hague, 1970. (обратно)115
См., например: Абрамян А.А. К вопросу о языковом знаке. – В кн.: Вопросы общего языкознания. М., 1964, с. 8. (обратно)116
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. XVII, с. 113. (обратно)117
Там же, т. 3, с. 29. – Не менее важна мысль В.И. Ленина о том, что история языка должна относиться к тем областям знания, из которых складывается теория познания и диалектика. (Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 314). Дополнительные сведения см.: Соловьева А.К. Материалы для изучения прозвищ по переписке К. Маркса и Ф. Энгельса. – В кн.: Антропонимика. М., 1970, с. 166 – 179. (обратно)118
См.: Шидфар Б.Я. Образная система арабской классической литературы. М., 1974, с. 33 – 34. (обратно)119
См. об этом: Нарский И.С. Гегель и современная логика. – Вопросы философии, 1970, № 8, с. 44 – 45. (обратно)120
Ленин В.И. Философские тетради. М., 1973, с. 74. (обратно)121
Mounin G. La notion de code en linguistique. – Linguistique contemporaine. Hommage à E. Buyssens. Bruxelles, 1970, c. 140 – 149. (обратно)122
Mounin G. Clefs pour la sémantique. Paris, 1972, c. 160. (обратно)123
Овсянико-Куликовский Д.H. Собр. соч., т. VI. СПб., 1909, с. 42 и сл. – Представление о словах как чисто условных знаках возникло задолго до официального оформления семиотики. См., например: Kleinpaul R. Sprache ohne Wort: Idee einer allgemeinen Wissenschaft der Sprache. Leipzig, 1889. (обратно)124
Попов П.С. История логики нового времени. М., 1960, с. 238 – 239, где дан анализ исследования Г. Фреге «О смысле и значении» (1892 г.). (обратно)125
Выготский Л.С. Указ. соч., с. 305; Mauro Т. de. Senso e significo. Bari – Roma, 1971, c. 18. (обратно)126
См., например: Лотман Ю. Структура художественного текста. М., 1970, с. 53 – 54. (обратно)127
Сравнительно-семасиологические исследования. М., 1963, с. 95 – 98. (обратно)128
Guiraud P. La sémantique. Paris, 1955, с. 34. (обратно)129
Еще в 1905 г. в предисловии к своему этимологическому словарю греческого языка Вальтер Прельвиц сетовал, что языковеды чаще всего довольствуются тем, что ставят друг около друга несколько форм, но не объясняют их семантической истории (Prellwitz W. Etymologisches Wörterbuch der griechischen Sprache. 2 Auf. Göttingen, 1905, с. IX). Хотя этот упрек был брошен давно, его можно адресовать и многим современным составителям этимологических словарей разных языков. (обратно)130
См.: Migliorini В. Linguistica. Firenze, 1946, с. 60. (обратно)131
Резников Л.О. Указ. соч., с. 258. См. также: Лосев А.Ф. Специфика языкового знака в связи с пониманием языка как непосредственной действительности мысли. – Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1976. № 5, с. 395 – 407. – Временное отвлечение знаков от их значений возможно для тех или иных целей в процессе изучения «поведения» определенных знаков в определенной сфере их функционирования. Об этом см.: Коршунов A.М., Мантатов В.В. Теория отражения и эвристическая роль знаков. М., 1974 («Творческая роль знаков в науке»). (обратно)132
Кузнецов Б.Г. Эйнштейн. Жизнь. Смерть. Бессмертие. М., 1972, с. 171. (обратно)133
Переписка А. Зоммерфельда с А. Эйнштейном. М., 1973, с. 182. (обратно)134
Зоммерфельд А. Пути познания в физике. М., 1973, с. 179. (обратно)135
Couderc P. La relativité. Paris, 1958, с. 17. (обратно)136
Ландау Л.Д., Румер Ю.Б. Что такое теория относительности. М., 1975, с. 23, 32. (обратно)137
Carnap R. The logical syntax of language. New Jersey, 1959, c. 140. (обратно)138
См. об этом в сб.: Новое в лингвистике. М., 1960, вып. 1, с. 403 и сл. (обратно)139
Реформатский А.А. Что такое структурализм? – ВЯ, 1957, № 7, с. 35. (обратно)140
Steinthal Н. Über den Wandel der Laute und des Begriffs. – Zeitschrift für Völkerpsychologie. Berlin, 1860, N 1. Развитие этих идей: Erdmann K. Die Bedeutung des Wortes. Leipzig, 1925, c. 11 – 15. (обратно)141
О логике отношений: Серрюс Ш. Опыт исследования значения логики. М., 1948, с. 53 – 58. (обратно)142
Acta linguistica. Copenhague, 1951, N 2/3, с. 63. (обратно)143
Там же, с. 64. (обратно)144
Новое в лингвистике, вып. 1, с. 283. (обратно)145
Разумеется, формулы сами по себе не могут иметь предметного характера. Но очень важно, как интерпретируются те или иные формулы. (обратно)146
См. об этом: Барабаш Ю. Вопросы эстетики и поэтики. М., 1973, с. 214 и сл. (обратно)147
Шкловский В. Розанов. Пг., «Опояз», 1921, с. 4. – Это положение еще в 1927 г. защищал Б. Энгельгардт в своей кн.: Формальный метод в истории литературы. Л., 1927, с. 86. (обратно)148
См. сб.: Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. М., 1962, с. 139. (обратно)149
Гуссерль Э. Логические исследования. СПб., 1907, т. 1, с. 52. Пер. с нем. Husserl Е. Logische Untersuchungen. Halle, II, 1922, с. 19 – 25. (обратно)150
Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. М., 1963, т. 2, с. 143. (обратно)151
К сожалению, даже само допущение понятия «грамматическое значение» признается некоторыми лингвистами абсурдным. См. об этом: Новое в лингвистике. М., 1970, вып. V. с. 196 – 197. (обратно)152
См., например, отрицание общих значений в грамматике: Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972, с. 74 – 77; Маслов Ю.С. Основное направление структурализма. – Русский язык в школе, 1966, № 5, с. 8. (обратно)153
Не могу здесь не отметить, что представление о наборе признаков в грамматике широко распространено в некоторых направлениях современной лингвистики. Между тем термин (или просто слово) набор сам по себе термин антиструктурный: он предполагает случайность подбора тех или иных признаков (ср., в частности, выражение набор слов, т.е. пустые речи, не содержащие ясного смысла). (обратно)154
Звегинцев В.А. Семасиология. М., 1957, с. 123. (обратно)155
См., например: Lyons J. An introduction to theoretical linguistics. Cambridge, 1968, c. 427; Geckeler H. Strukturelle Semantik und Wortfeldtheorie. München, 1971, c. 3 и сл. – Критика теории абсолютной относительности значения слов дана в ряде моих публикаций, начиная со статьи «Семантика слова и структуры предложения» (Уч. зап. ЛГУ. Сер. филолог. наук. 1946, вып. 10, с. 153 – 173). См. также: Ахманова О.С., Микаэлян Г.Б. Современные синтаксические теории. М., 1963, с. 92 – 105; Сусов И.П. Конвенциалистическая концепция реальности языковых единиц. – ВЯ, 1971, № 4, с. 66 – 72. (обратно)156
См. материалы, относящиеся к процессу исторического изменения значений слов: Сорокин Ю.С. Развитие словарного состава русского литературного языка. М., 1965; Будагов Р.А. История слов в истории общества. М., 1971. (обратно)157
См.: Bulletin de la société de linguistique de Paris, т. XXI, 1919, c. 176 – 177. (обратно)158
Основная работа Трира вышла еще в 1931 г. (Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirck des Verstandes. Die Geschichte eines sprachliches Feldes. Heidelberg). Последующая история изучения «смыслового поля» освещена в кн.: Hoberg R. Die Lehre vom sprachlichen Feld. Düsseldorf, 1973; Coseriu E. Vers une typologie des champs lexicaux. – Cahiers de lexicologie. Paris, 1975, c. 30 – 51. (обратно)159
См. его специальное исследование, опубликованное в «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», t. 58, 1934, c. 70 и сл. Позднее об этом же: Öhmann S. Theories of linguistic field. – Word, 1953, т. 9, с. 133 – 135. (обратно)160
Zumthor P. Pour une histoire du vocabulaire des idées. Zeitschrift für romanische Philologie, 1956, N 3 – 4, c. 354 и сл. Известно, что слово и понятие – это отнюдь не тождественные категории, но, как однажды точно, просто и справедливо заметил А.Ф. Лосев, слово – это определенным образом выраженное понятие. (обратно)161
Кузнецов Б.Г. Указ. соч., с. 52. (обратно)162
Croce В., Vossler K. Briefwechsel. Berlin – Frankfurt am Main, 1955, с. 5 и сл. (обратно)163
Vossler K. Sprache als Schöpfung und Entwicklung. Eine theoretische Untersuchung mit praktischen Beispielen. Heidelberg, 1905, c. 50 – 52. (обратно)164
Споры о «школе Фосслера» до сих пор продолжаются в филологии многих зарубежных стран. Попытка Р. Холла зло высмеять принципы этой школы (Hall R. Idealism in romance linguistics. N.Y., 1963) вызвала многочисленные протесты. См. об этом: Christmann Н. Idealistische Philologie und moderne Sprachwissenschaft. München, 1974, c. 140 – 155. (обратно)165
Засорина Л.Н. Введение в структурную лингвистику. М., 1974, с. 160. (обратно)166
Wittgenstein L. Philosophical investigations. Oxford, 1953, с. 121. (обратно)167
Kronasser G. Handbuch der Semasiologie. Heidelberg, 1952, c. 82. (обратно)168
Wegener P. Untersuchungen über die Grundfragen der Sprachlebens. Halle, 1885, c. 49. – Критика примера со львом дана в интересной заметке польского лингвиста Л. Завадовского (Comptes rendus de la société des sciences et des lettres de Wroclaw, 1949, N 14, c. 14). (обратно)169
Weinrich Н. Linguistik der Lüge. Heidelberg, 1966, с. 33. (обратно)170
Mounin G. Clefs pour la sémantique. Paris, 1972, c. 166. (обратно)171
Записные книжки Ал. Блока. Л., 1930, с. 63. (обратно)172
Якобсон Р. О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским. М., 1923, с. 107. См. критические замечания по этому поводу: Паперный З. О мастерстве Маяковского. 2-е изд. М., 1957, с. 304 – 309. В защиту «выделенных слов» см.: Винокур Г. Маяковский новатор языка. М., 1943, с. 76 – 96; Тимофеев Л.И. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958 («Интонационная самостоятельность слова в стихе»). – М. Горький в своих воспоминаниях о С. Есенине рассказывает, как проникновенно читал поэт свои стихи, прибегая, в частности, к интонационному выделению отдельных слов и словосочетаний (Горький М. Литературные портреты. М., 1963, с. 408 – 410). (обратно)173
Андроников Ир. Что же такое искусство Яхонтова? – Советская культура, 1967, 18 июля. (обратно)174
См. примеры в кн.: Писатели Франции. М., 1964, с. 674 – 675. (обратно)175
См. подборку текстов: Из литературных записей Юрия Олеши. – Вопросы литературы, 1964, № 5, с. 157. (обратно)176
См.: Будагов Р.А. Человек и его язык. 2-е изд. М., 1976, с. 236 – 245. (обратно)177
Амосова H.Н. Слово и контекст. – Уч. зап. ЛГУ, 1958, № 243, с. 16. (обратно)178
Ольдероге Д.А. Язык хауса. Л., 1954, с. 124 и 143. (обратно)179
См., например: Боас Ф. Ум первобытного человека. М., 1926, с. 83. Более новые данные: Kainz F. Psychologie der Sprache. Stuttgart. II. 1943, c. 90 – 120; Анисимов А.Ф. Исторические особенности первобытного мышления. Л., 1971, с. 13 – 61; Раевский Д.С. Очерки идеологии скифо-сакских племен. М., 1977, особенно с. 119 – 178. (обратно)180
Горский Д.П. О способах обобщения. – Вопросы философии, 1958, № 5. (обратно)181
Sommerfelt A. La langue et la société. Caractères sociaux dʼune langue de type archaïque. Oslo, 1938. (обратно)182
Ср.: Резников Л.О. Гносеологические основы связи мышления и языка. – Уч. зап. ЛГУ, 1958, № 248, с. 162, где приведенная выше схема дается в связи с осмыслением путей перехода от нагляднообразного мышления к мышлению понятийному. (обратно)183
Если не забывать о грамматической знаменательности, то все слова по-своему являются знаменательными. См.: Будагов Р.А. Введение в науку о языке. 2-е изд. М., 1965, с. 281 – 282. (обратно)184
Рассел Бертран. Человеческое познание. Его сфера и границы. М., 1957, с. 140. – Как видим, слову лев повезло в такого рода экспериментах. (обратно)185
Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959, с. 96. (обратно)186
Ср. прекрасную работу Л.В. Щербы – Опыт классификации значений союза и. – В кн.: Словарь русского языка, т. IV. Л. – М., изд-во АН СССР, 1935. (обратно)187
Рассел Бертран. Указ. соч., с. 129. (обратно)188
Балашша Й. Венгерский язык. М., 1951, с. 288. – Примеры из славянских языков см. в докладе А. Белича на IV Международном съезде славянистов в Москве (Белич А. Падежная система и происхождение предлогов. Белград, 1958, с. 4 – 7). История различных взглядов на функцию предлогов освещается в кн.: López М.L. Problemas у métodos en el análisis de preposiciones. Madrid, 1970. (обратно)189
В этом разделе система в лексике рассматривается применительно к «контекстным распределениям». О других аспектах понятия системы в лексике см.: Будагов Р.А. Система языка в связи с разграничением его истории и современного состояния. – ВЯ, 1958, № 4, с. 46 и след. (обратно)190
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 67. (обратно)191
См. об этом: Маньковский Л.А. Категории «вещь» и «отношение» в «Капитале» К. Маркса. – Вопросы философии, 1956, № 5, с. 46 – 49. (обратно)192
Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 139. (обратно)193
Планк Макс. Единство физической картины мира. Сборник статей. М., 1966, с. 48. (обратно)194
См. об этом: Гейзенберг В. Развитие интерпретации квантовой теории. – В кн.: Нильс Бор и развитие физики. М., 1958, с. 39 – 41. (обратно)195
Аристотель. Поэтика. Пер., введ. и примеч. Н.И. Новосадского. М., 1927, с. 13. Ср.: Morpurgo-Tagliabue G. La stilistica di Aristotele e lo strutturalismo, Lingue et stile. Bologna, 1967, N 1, c. 12 – 17. (обратно)196
Барг M.A. Шекспир и история. M., 1976. c. 74. (обратно)197
Кофка К. Основы психического развития. М. – Л., 1934, с. XXI и XLVIII. См. также: Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 1934 (в особенности гл. 1). (обратно)198
Jakobson R., Halle М. Fundamentals of language. Mouton, 1956, c. 15. (обратно)199
Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1947, с. 14. (обратно)200
Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962, с. 246. – В этом плане представляет интерес сравнительно новая область филологии, так называемая лингвистика текста, о задачах которой см.: Dressler W. Einführung in die Textlinguistik. Tübingen, 1972, c. 12 – 20. (обратно)201
Гуревич А.Я. Что такое исторический факт? – В кн.: Источниковедение. М., 1969, с. 77. (обратно)202
Рассел Бертран. Человеческое познание. Его сферы и границы. М., 1957, с. 117. (обратно)203
Travaux du cercle linguistique de Prague. Prague, I, 1929, c. 88. (обратно)204
Нужно признать неправомерными утверждения тех лингвистов, которые рассматривают выделение общего (основного) значения слова как «пережиток доструктурной лингвистики» (см., например: Semiotica. Mouton, 1974, N 1, с. 95). Структурная лингвистика не имеет права не считаться с реальными фактами естественных языков народов мира. (обратно)205
В дальнейшем изложении общественный и социальный употребляются как абсолютные синонимы. Словосочетание социальная лингвистика (ср. социолингвистика) стало приобретать терминологическое значение и употребляться гораздо чаще своего синонима (общественная лингвистика). По общим вопросам социальной лингвистики см.: Швейцер А.Д. Современная социолингвистика. Теория, проблемы, методы. М., 1976; Никольский Л.Б. Синхронная социолингвистика. М., 1976. – В последние годы в западных странах Европы и в Соединенных Штатах Америки публикуются многочисленные сборники (весьма различного достоинства), посвященные социолингвистике. Количество подобных сборников стремительно возрастает. См., в частности: Bibliographie zur Soziolinguistik herausgegeben und bearbeitet von G. Simon. Tübingen, 1974. (обратно)206
Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка. М., 1968, с. 34. (обратно)207
См.: Будагов Р.А. Человек и его язык. 2-е изд. М., 1976, с. 31 и след. (обратно)208
См., например: Weinreich U., Labov М., Herzog М. Empirical foundations for a theory of language change. N.Y., 1968, c. 177 – 179. (обратно)209
Ср., впрочем, концепцию большого ученого, филолога и фонолога H.С. Трубецкого: фонология, – считал он, – общественная наука, поэтому она не может и не должна механически копировать методы естественных наук (Trubetzkoy N.S. Grundzüge der Phonologie. Praha, 1939, c. 14). (обратно)210
Вейзе О. Опыт характеристики латинского языка. М., 1901, с. 14. (обратно)211
Imbs P. Les propositions temporelles en ancien français. Paris, 1956, c. 562. (обратно)212
Социально-лингвистические исследования. Под ред. Л.П. Крысина и Д.Н. Шмелева. М., 1976, с. 2, 3. (обратно)213
Мчедлов М., Руткевич М. Борьба идей в современной социологии. – Коммунист, 1974, № 8, с. 84 – 97. (обратно)214
Ellul J. Propaganda. The formation of menʼs attituds. N.Y., 1972, c. 15 – 16. (обратно)215
См., например: Readings in the sociology of language. The Hague, 1968; Sprache und Gesellschaft. Hrsg, von H. Moser. Düsseldorf, 1971; Simon G. Bibliographie zur Soziallinguistik. Tübingen, 1974. (обратно)216
Основные направления структурализма. М., 1964, с. 210. – Ср. в другой связи замечание литературоведа:«Антисоциология чаще всего выступает в виде структурализма»Любопытно и признание видного зарубежного социолога Люсьена Гольдмана:(Соколов А.Н. Теория стиля, М., 1968, с. 131).
«…структуралисты всегда оперируют внесоциальными категориями»(обратно)(Goldman L. Lukacs et Heidegger. Paris, 1973. c. 167).
217
Mounin G. La linguistique du XX siècle. Paris, 1972, c. 42. – О приоритете A. Мейе в этом вопросе говорит и известный норвежский лингвист А. Соммерфельт (Sommerfelt A. La langue et la société. Paris, 1938, c. 2). (обратно)218
Meillet A. Linguistique historique et linguistique générale. Paris, 1926, c. 17 – 18. (обратно)219
Meillet A. Esquisse dʼune histoire de la langue latine. Paris, 1966, c. 5. (обратно)220
Шор Р. Язык и общество. 2-е изд. М., 1926, с. 3. (обратно)221
В сб.: Уч. зап. РАНИОН, т. 1. М., 1927, с. 5 – 20. (обратно)222
Поливанов Е. За марксистское языкознание. М., 1931. (обратно)223
Иванов А., Якубинский Л. Очерки по языку. М., 1932. (обратно)224
См., в частности: Жирмунский В.М. Национальный язык и социальные диалекты. Л., 1936. (обратно)225
Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933, с. 39 и 207. К истории советской социальной лингвистики: Десницкая А.В. Как создавалась теория национального языка. – В кн.: Современные проблемы литературоведения и языкознания. М., 1974, с. 398 – 415; Брагина А.А. Социологические традиции в русской науке о языке. – Русский язык за рубежом, 1976, № 6, с. 60 – 64. (обратно)226
Jespersen О. Growth and structure of english language. London, 1926, c. 70. (обратно)227
Подробнее см.: Будагов Р.А. Что такое развитие и совершенствование языка? М., 1977 (гл. «Совершенствование языка в области лексики»). (обратно)228
Конрад Н.И. Синтаксис японского языка. М., 1937, с. 77 – 80; Холодович А.А. Очерки по японскому языку. – Уч. зап. ЛГУ. Сер. филолог. наук, 1946, вып. 10, с. 173 – 177. См. также: Долобко М.Г. Русское местоимение принадлежности мой. – В кн.: Советское языкознание. Л., 1935, т. 1, с. 163 – 169; Wienold G. Genus und Semantik. Meisenheim, 1967. – Интересные суждения о формировании некоторых грамматических категорий в связи с развитием культуры были высказаны в свое время Г.В. Плехановым в его знаменитых «Письмах без адреса» (Плеханов Г.В. Искусство и литература. М., 1948, с. 148 – 150). (обратно)229
Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Харьков, 1888, с. 355. (обратно)230
Dobson W. Late archaic chinese. Toronto, 1959, с. 82. (обратно)231
В дальнейшем изложении я не буду рассматривать проблему совершенствования грамматического строя языка, так как опыт его истолкования был предложен мною в другой работе (см.: Будагов Р.А. Что такое развитие и совершенствование языка? гл. 3). В данном же изложении меня интересует прежде всего социальный фон развития и функционирования грамматики. (обратно)232
Из специальных публикаций отмечу здесь замечательную и яркую книгу Л.П. Якубинского (История древнерусского языка. М., 1953), написанную еще в конце 30-х годов и изданную посмертно, и монографию В.З. Панфилова (Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971). Утверждение передовой статьи «Высокое назначение филологии» (Филологические науки, 1976, № 3, с. 6), будто бы «за последние годы лингвисты уделяли пристальное внимание проблеме языка и мышления», к сожалению, не соответствует действительности. (обратно)233
Fries Ch. The structure of english. N.Y., 1952, c. 18. (обратно)234
Firth J. Papers in linguistics. London, 1957, c. 227. (обратно)235
Buyssens E. Le langage et la logique. – In: Le langage. Encyclopédie de la Pléiade. Paris, 1968, c. 87. (обратно)236
Шопенгауэр A. Мир как воля и представление. Пер. А. Фета. 3-е изд. М., 1892, с. 334 и след. (обратно)237
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 85. (обратно)238
См., например: Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. М., 1972, где в самом названии книги вводится понятие «речевое мышление». О различных точках зрения по этому вопросу см.: Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1977, № 1, с. 9 – 26. В ином, более широком плане освещение проблемы см.: Вопросы философии, 1977, № 2, с. 46 – 57 (особенно «Биология и идеологическая борьба»). При всем значении возможной новой проблемы («язык и искусственный интеллект») недопустимо, как это теперь нередко делается, с ее «помощью» вытеснять старую и вместе с тем вечно новую проблему – «язык и естественный интеллект», «язык и естественное человеческое мышление». (обратно)239
Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967, с. 55. (обратно)240
Об «абсолютной несопоставимости с прошлым» можно прочитать в одной из статей 1973 г. (Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1973, № 6, с. 516). (обратно)241
См. об этом: Поршнев Б.Ф. Пограничные проблемы биологических и исторических наук. – Вопросы философии, 1962, № 5, с. 120 – 125; Анисимов А.Ф. Исторические особенности первобытного мышления. Л., 1971. (обратно)242
Боас Ф. Ум первобытного человека. М. – Л., 1926, с. 82 – 85. На рус. яз. Ср. также: Белый В.В. Общелингвистические взгляды Франца Боаса. – Филологические науки, 1973, № 6, с. 86 – 95. (обратно)243
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930, с. XIV – XXVIII. (обратно)244
О работах Клода Леви-Стросса существует большая литература. См., в частности: Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976, в особенности с. 74 – 80. – В конце книги имеется аннотированная библиография (с. 373 – 390). См. также: Структурализм: за и против. М., 1975, с. 361 – 375. (обратно)245
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 125. (обратно)246
Там же, т. 20, с. 545. (обратно)247
Там же, с. 391. (обратно)248
Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 229. (обратно)249
Ленин В.И. Философские тетради. М., 1973, с. 222. (обратно)250
Опыт подробного истолкования этого тезиса см.: Будагов Р.А. Что такое развитие и совершенствование языка? (обратно)251
См., в частности: ГуревичА.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972, с. 192 – 210. – За пределами Европы положение еще более осложняется. Здесь тоже необходим строго исторический подход. См., например: Шидфар Б.Я. Образная система арабской классической литературы (VI – XII века). М., 1974. (обратно)252
См., например, во многих отношениях классический учебник по романистике: Meyer-Lübke W. Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft. Heidelberg, 1920, c. 224 – 225. Из более новых работ: Tagliavini С. Le origini delle lingue neolatine. Bologna, 1964, c. 186 – 187. История вопроса дана: Lerch E. Historische französische Syntax. Leipzig, Bd 3, 1934, c. 264 – 269. (обратно)253
Das altfranzösische Rolandslied. Hrsg. von A. Hilka. Halle, 1948, c. 3. (обратно)254
Aucassin et Nicolette. Chantefable du XIII siècle éditée par Mario Roques. Paris, 1954. – Во всех новых европейских языках соотношение между именами и личными местоимениями становится гораздо более строгим. Отступления от подобного соотношения в индивидуальном стиле больших писателей воспринимаются как резкое отклонение от нормы. Примеры подобных отступлений у Ф.М. Достоевского и их обоснование см.: Ветловская В.Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л., 1977, с. 36 – 39. (обратно)255
См., в частности: История французской литературы. М., 1946, т. I, с. 27 – 56. (обратно)256
В этой связи хочется еще раз сослаться на глубокое 4-х томное исследование А.А. Потебни («Из записок по русской грамматике») и на замечательную книгу Л.П. Якубинского («История древнерусского языка», в особенности ее грамматические главы). (обратно)257
Цит. по кн.: Raoul de Cambrai, chanson de geste, éd. de P. Meyer et A. Longnon. Paris, 1882, стихи 2881 – 2882. (обратно)258
См., например: Kooij J. Ambiguity in natural language. Amsterdam – London, 1971. – Язык всегда выполняет коммуникативные функции и поэтому сам по себе он никогда не бывает двусмысленным. Языком можно плохо владеть (и родным, и неродным). Но в этом случае повинен сам человек, а не его язык. Другой вопрос – степень развития языка, о чем автору этих строк пришлось подробно писать в другой, уже цитированной книге «Что такое развитие и совершенствование языка?» (обратно)259
См.: Ярцева В.Н. Развитие сложноподчиненного предложения в английском языке. Л., 1940; Строева-Сокольская Т.В. Развитие сложноподчиненного предложения в немецком языке. Л., 1940. (обратно)260
Будагов Р.А. Этюды по историческому синтаксису французского языка. – Уч. зап. ЛГУ. Сер. филол. наук, 1949, вып. 14, с. 160 – 190. (обратно)261
Гегель. Соч., т. V. М., 1937, с. 519. (обратно)262
См. в этой связи: Havers W. Handbuch der erklärenden Syntax. Heidelberg, 1931. (обратно)263
Литературные манифесты французских реалистов. Л., 1935, с. 45. (обратно)264
Martinet A. Éléments de linguistique générale. Paris, 1960, c. 9. (обратно)265
См., например: Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. М., 1972, с. 10. (обратно)266
См., в частности: Weinrich Н. Tempus: besprochene und erzählte Welt, Aufl. 2. Stuttgart, 1971. – Первое издание этой книги, вышедшее в 1964 г., вызвало многочисленные рецензии в разных странах, в которых предлагались самые разнообразные концепции категории времени и числа. О категории числа материалы и наблюдения в статье: Панфилов В.З. Типология грамматической категории числа. – ВЯ, 1976, № 4, с. 5 и сл. (обратно)267
Вандриес Ж. Язык. Лингвистическое введение в историю. М., 1937, с. 99. (обратно)268
Новеллы итальянского Возрождения. Сост. и пер. П. Муратов. М., 1912, т. 1, с. 40 – 41 (в другой связи этот пример мне приходилось приводить и раньше).«Рассказ Гоголя о том, как цирюльник Иван Яковлевич ест хлеб с луком, вызывает комический эффект, так как ему уделено слишком много литературного времени»(обратно)(Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Л., 1924, с. 119).
269
Ведерникова H.М. Русская народная сказка. М., 1975, с. 39. (обратно)270
Катаев Валентин. Кубик. Новый мир, 1969, № 2, с. 63. – Как известно, уже шекспировский Гамлет жаловался на капризы времени («распалась связь времен»), но все же это не имеет никакого отношения к объективности самого понятия о времени. См. интересную книгу нашего широкоизвестного геохимика и биохимика акад. В.И. Вернадского «Размышления натуралиста. Пространство и время в неживой и живой природе» (М., 1945). Своеобразной большой хрестоматией, где собраны суждения самых различных ученых – физиков, математиков, биологов, филологов, философов – о категории времени, является: The voices of time. A cooperative survey of manʼs views of time as exspressed by the sciences and by the humanities. N.Y., 1966. – Обзор новейших работ на эту же тему см.: Молчанов Ю.Б. Труды «Международного общества по изучению времени». – Вопросы философии, 1977, № 5, с. 159 – 166. (обратно)271
Зелинский Ф.Ф. Закон хронологической несовместимости и композиция Илиады. – В кн.: Харистерия. Сборник статей. М., 1896. (обратно)272
Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. Л., 1971, с. 85. (обратно)273
См., например: Valeso Р. On reality and unreality of language. – Semiotica. Mouton, 1974, N 1, c. 75 – 91. – К подобным положениям примыкает и так называемая теория отчуждения, согласно которой всякое предложение, однажды произнесенное (например, я люблю тебя), становится определенным фактом, уже не зависящим от человека. Так возникает возможность подмены действительного факта условным символом, подмены, будто бы приводящей к пересмотру основ человеческого бытия (Fromm Е. Das Menschliche in uns. Zürich, 1968). (обратно)274
См., в частности: Иванов А., Якубинский Л. Очерки по языку. М., 1932; Жирмунский В. Национальный язык и социальные диалекты. Л., 1936. (обратно)275
См., например: Meurers J. Das Problem einer Entideologisierung der Naturwissenschaften. – Akten des XIV internationalen Kongresses für Philosophie. Wien, 1968, 1, c. 603 – 608. См. также непериодическое издание сборников: Langue française. Paris, № 7, 1970, c. 82 – 90. (обратно)276
Coquet J. Sémiotiques. – Langages. Paris, 1973, N 31, c. 7 и след. (весь номер посвящен «семиотике текста»). (обратно)277
См., например: Ideologie und Sprache. Jena, 1974. (обратно)278
См., в частности: Крючкова Т.Б. Язык и идеология. Автореф. канд. дис. М., 1976; Соколова Т.Г. Терминология марксистско-ленинской философии на английском языке. Автореф. канд. дис. М, 1976. (обратно)279
Brunot F. La pensée et la langue. Paris, éd. 2. 1926, с. XIX. (обратно)280
В истории советской литературы начала 30-х годов известен спор между так называемыми «вопрекистами» (вопреки идеологии) и «благодаристами» (благодаря идеологии). Сторонники обеих доктрин стояли на вульгарно-социологических позициях, как это убедительно показано в кн.: Метченко А.И. Кровное завоеванное. Из истории советской литературы. 2-е изд. М., 1975, с. 291 – 300. (обратно)281
Последующие строки – дальнейшее развитие положений, попытка обосновать которые была сделана в кн.: Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. М., 1967, в частности, с. 370 – 375. – Здесь же обрисовано соотношение между литературными языками и литературными национальными языками (с. 5 – 39). См. также: Филин Ф.П. О структуре современного русского литературного языка. – ВЯ, 1973, № 2. (обратно)282
Томсон А.И. Общее языкознание, 2-е изд. Одесса, 1910, с. 369. (обратно)283
Vendryes J. Le langage. Paris, 1925, c. 321. (обратно)284
См. критическое изложение первых двух томов «Völkerpsychologie» В. Вундта в статье: Зелинский Ф. Вильгельм Вундт и психология языка. – Вопросы философии и психологии. М., 1902, кн. 61, с. 533 – 567 и кн. 62, с. 635 – 666. (обратно)285
Пешковский А.М. Сборник статей. Л. – М., 1925, с. 111. (обратно)286
Реформатский А.А. Введение в языковедение. 4-е изд. М., 1967, с. 518. (обратно)287
Упоминаются случаи, где в одном языке как бы заключаются два литературных языка (с. 526), где литературный язык выступает как мертвый язык (с. 507). Подобные явления возможны, но не они, разумеется, определяют основное назначение литературных языков в современном мире. (обратно)288
Виноградов В.В. Алексей Александрович Шахматов. Пб., 1922, с. 72 и сл. (обратно)289
Виноградов В.В. Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития. М., 1967, с. 64. (обратно)290
Напомню, что система и структура здесь и в дальнейшем употребляются как абсолютные синонимы. На мой взгляд, все многочисленные попытки их разграничить оказались искусственными и не получили общего признания. (обратно)291
Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1966, с. 473. (обратно)292
См.: Linguaggi nella società e nella tecnica. Milano, 1970, c. 152. См. по этому вопросу справедливые замечания польского философа: Ярошевский Т. Личность и общество. М., 1973, с. 267 – 268. (обратно)293
Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М., 1973, с. 106 – 107. (обратно)294
Arrivé М., Chevalier J. La grammaire, recueil de textes. Paris, 1970, c. 66. (обратно)295
Bopp F. Ueber des Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprachen. Frankfurt am Main, 1816. (обратно)296
Патриот. СПб., 1804, т. 2, № 5, с. 187. (обратно)297
Барабаш Ю. Вопросы эстетики и поэтики. М., 1973, с. 254. (обратно)298
Вопросы философии, 1971, № 1, с. 153. (обратно)299
Дорошевский В. Несколько слов о понятии системы в языке. – В кн.: Проблемы современной филологии. М., 1965, с. 125. (обратно)300
Mounin G. Clefs pour la sémantique. Paris, 1972, c. 52 – 53. (обратно)301
См., в частности: Hudson R. Regularities in the lexicon. – Lingua, Amsterdam, 1976, N 2/3, c. 128 – 130. (обратно)302
Wandruszka М. Sprachen. Vergleichbar und Unvergleichlich. München, 1969, c. 11, 79, 366, 528. – Цитируемая книга получила высокую оценку в разных странах. «Несистемные категории» показаны на конкретном материале разнообразных языков. (обратно)303
Jakobson R. Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre. – Travaux du cercle linguistique de Prague, 1936, N 6, c. 240 и сл. (обратно)304
Стеблин-Каменский М.И. Спорное в лингвистике. Л., 1974, с. 80 – 85. (обратно)305
См., например: Can language be planned? Sociolinguistic theory and practice for developing nations eds. J. Rubin, B. Jernudd. University press of Hawai, 1971. См. также библиографический обзор работ, посвященных языковому планированию: Fishmann J. Language planning. – Linguistics. An international Review. Mouton, 1974, N 1, c. 15 – 33; Hamann H. Soziologie und Politik der Sprachen Europas. Münich, 1975. (обратно)306
См. об этом Базиев A.Т., Исаев М.И. Язык и нация. М., 1973; Исаев М.И. Сто тридцать равноправных (о языках народов СССР), М., 1970. (обратно)307
Якубинский Л. Ф. де Соссюр о невозможности языковой политики. В кн.: Языковедение и материализм. М. – Л., 1931, вып. 2, с. 91 – 104. (обратно)308
См., в частности: Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. М., 1967, с. 283 – 312, 370 – 375. (обратно)309
Ахманова О.С. Отличительные черты советского языкознания. – В кн.: Проблемы современной лингвистики. М., 1968, с. 15. (обратно)310
Мюллер Макс. Чтение по (? – Р.Б.) науке о языке. СПб., 1865, гл. «Наука о языке – одна из естественных наук». Рус. пер. (обратно)311
Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963, с. 216. (обратно)312
Русская речь. Пг., 1923, вып. 1, с. 7 – 12. (обратно)313
См. об этом: Eco U. La struttura assente. Introduzione alla ricerca semiologica. Milano, 1968, c. 10 – 15. (обратно)314
Материалы советско-итальянской писательской встречи. – Иностранная литература, 1973, № 1, с. 207. (обратно)315
Leach Е. Lévi-Strauss. London, 1970, с. 20 – 30. (обратно)316
Касаткин. А.А. Очерки по истории литературного итальянского языка. Л., 1976, с. 3. (обратно)317
См., например, позицию американского лингвиста Р. Холла, описанную в статье: Rey A. Robert Hall et la linguistique américaine. Zeitschrift für romanische Philologie. 1970, N 1/2, с. 211 – 213; Hall R. An essay on language. Philadelphia – New York, 1968, гл. 9. (обратно)318
Шахматов А.А. Очерк современного русского литературного языка, 4-е изд. М., 1941, с. 3. (обратно)319
В дальнейшем изложении речь пойдет прежде всего о норме. (обратно)320
Необходимо считаться с тем, что норма в сфере фонетики и морфологии обычно бывает гораздо строже, чем в сфере синтаксиса и тем более в сфере стилистики, где проблема выбора приобретает очень большое значение (см. об этом: Ахманова О.С., Микаэлян Г.Б. Современные синтаксические теории. М., 1963, с, 52 – 64). (обратно)321
См. сб.: Современное итальянское языкознание. М., 1971, с. 320 – 321. (обратно)322
Coseriu Е. Sistema, norma у habla. Facultad de humanidades у ciencias. Montevideo, № 9, 1952, с. 167. – Позднее во многих своих публикациях автор уточнял соотношение между этими тремя понятиями. (обратно)323
Якубинский Л.П. История древнерусского языка. М., 1952, с. 330. (обратно)324
Koll H. Die französischen Wörter langue und langage. Genève, 1958, c. 112. (обратно)325
Nencioni G. Fra grammatica e retorica. Firenzo, 1955, c. 50 и сл. (обратно)326
Ярцева В.Н. Развитие национального литературного английского языка. М., 1969. (обратно)327
Mauro Tullio de. Storia linguistica dellʼItalia unita. Bari, 1970, с. 1 – 9; Эстулина С.Б. Грамматическая норма и узус в современном итальянском языке. – В кн.: Романское языкознание. – Уч. зап. ЛГУ, 1972, № 350, вып. 75, с. 156 – 166. (обратно)328
Bahner W. Beitrag zum Sprachbewusstsein in der spanischen Literatur des 16 und 17 Jahrhunderts. Berlin, 1956, c. 26. (обратно)329
Виппер Ю.Б. Поэзия Плеяды. М., 1976, с. 95 и след. (обратно)330
Бах А. История немецкого языка. М., 1956, с. 164 – 175. (обратно)331
Otwinowska В. Język, narod, kultura. Wrocław. 1974, c. 16 и след. (обратно)332
О Шарле Бовеле и его филологических рассуждениях см.: Revue des études italiennes. Paris, 1936, N 2, c. 183 – 185. (обратно)333
Копелевич Ю.X. Возникновение научных академий. Л., 1974, с. 63 – 65. (обратно)334
См., например: Brunot F. Observations sur la grammaire de LʼAcadémie française. Paris, 1932. (обратно)335
Vaugelas С. Remarques sur la langue françoise. Paris, éd. Chassang, 1880, т. 1, c. 12, т. 2, c. 415. – В ту эпоху, как и позднее, в XVIII столетии, чаще говорили не о норме языка, а об его обычае (у французов usage). (обратно)336
Buffier С. Cours des sciences. Paris, 1732, c. 4. (обратно)337
«Die Sprache zugleich volkstümlich und gebildet bleiben soll»(обратно)(Humboldt W. von. Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbau. Berlin, II, 1876, c. 207).
338
Тронский И.М. Вопросы языкового развития в античном обществе. М., 1973, с. 105. (обратно)339
Рифтин Б. Метод в средневековой литературе Востока. – Вопросы литературы, 1969, № 6, с. 93. (обратно)340
Лихачев Д.С. Будущее литературы как предмета изучения. – Новый мир, 1969, № 9. (обратно)341
Paris G. Francois Villon. Paris, 1901. Более новые исследования об этом поэте см.: Marche romane. Liège, 1970, № 4, с. 89 – 103. (обратно)342
Guyer F. Chrestien de Troyes: inventor of the modern novel. London, 1960, c. 3. (обратно)343
Будагов Р.А. Язык, история и современность. М., 1971 (Данте о литературном языке). (обратно)344
Hatzfeld Н. Don Quijote als Wortkunstwerk. Leipzig, 1927. (обратно)345
Томашевский Б.В. Пушкин и Франция. Л., 1960, с. 105. (обратно)346
Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. М. – Л., т. 7, 1952. с. 392. (обратно)347
Русские писатели о языке. Под ред. А.М. Докусова. Л., 1954, с. 73. (обратно)348
Fiesel Е. Die Sprachphilosophie der deutschen Romantik. Tübingen, 1927, c. 110 – 119. (обратно)349
Гоголь H.В. Полн. собр. соч. M. – Л., т. 8, 1949, с. 50 – 52, 54 – 55. (обратно)350
Тургенев И.С. Собр. соч. М., изд-во «Правда», т. XI, 1949, с. 267. (обратно)351
Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. (юбилейное издание). М., 1928 – 1958, т. 8, с. 306. (обратно)352
См. рецензию И.И. Ревзина (ВЯ, 1971, № 1, с. 133) на книгу румынского математика С. Маркуса. (обратно)353
Ср. в только что цитированной рецензии антифункциональное противопоставление «расплывчатого смысла поэтического языка и прозрачного смысла научного языка». Ср. иную, более реалистическую постановку вопроса в кн.: Гальперин И.Р. Информативность единиц языка. М., 1974. (обратно)354
Щерба Л.В. Спорные вопросы русской грамматики. – Русский язык в школе, 1939, № 1, с. 10. (обратно)355
Шаляпин Ф.И. Страницы моей жизни. М., 1926, с. 103. (обратно)356
См. об этом статью Б.С. Шварцкопфа в сб. Актуальные проблемы культуры речи. М., 1970. (обратно)357
Lange В. La conscience linguistique des occitans. – Revue de linguistique romane. Montpellier, 1971, № 3, c. 229 – 231. (обратно)358
Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959, с. 127 – 128. (обратно)359
Горький М. О литературе. М., 1953 (в особенности гл.: «По поводу одной дискуссии», «О языке», «О пользе грамотности»). (обратно)360
Истрина Е.С. Нормы русского литературного языка и культура речи. М., 1948, с. 19. (обратно)361
См. об этом: Менендес Пидаль Р. Избранные произведения. М., 1961, с. 763 – 771. (обратно)362
Обзор мнений по этому вопросу: Roncaglia A. Trobar clus: discussione aperta. – Cultura neolatina. Mondena, № 29, 1969, c. 15 – 25. (обратно)363
Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака. М., 1949, с. 29. (обратно)364
См.: Les plus belles pages de Jean Richard Bloch. Paris, 1948, c. 19. (обратно)365
Олеша Юрий. Избр. соч. М., 1956, с. 452. (обратно)366
Нагибин Юрий. Голландия Боба ден Ойля. – Иностранная литература, 1977, № 4, с. 212 (очерк об одном из современных голландских писателей). (обратно)367
Якобсон Р.О. Новейшая русская поэзия. Прага, 1921, с. 10 – 11. (обратно)368
Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. Л., 1924, особенно с. 82 – 91. (обратно)369
Там же, с. 85. (обратно)370
Ср. совсем иное суждение широко образованного мыслителя:«Бетховен глубочайшим образом индивидуален, в то же время это – самый социальный из музыкантов, вообще из художников».(обратно)(А.В. Луначарский. В мире музыки. М., 1971, с. 81).
371
См., например: Cohen J. Structure du langage poétique. Paris, 1966; Levin S. Linguistic structures in poetry. The Hague, 1962. (обратно)372
Тынянов Ю.H. Проблема стихотворного языка. Л., 1924, с. 62. (обратно)373
Ср. в другой связи и по другому поводу: Jakobson R. Signe zéro. – Mélanges Charles Bally. Paris, 1939, c. 150. О вариантах нормы: Степанов Г.В. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. М., 1976. (обратно)374
Bouzet J. Grammaire espagnole. Paris, 1946, c. 235. (обратно)375
Хьюз Э. Бернард Шоу. М., 1968, с. 247. (обратно)376
Новое в лингвистике. М., 1975, вып. VII, с. 114. (обратно)377
В последующем изложении термин модель понимается как определенный тип грамматического обобщения, тогда как термин парадигма – совокупность флективных изменений, служащих образцом формообразования для той или иной части речи. (обратно)378
См., в частности: Введение в науку о языке. 2-е изд. М., 1965, с. 213 – 227. (обратно)379
Parret Н. Discussing language. The Hague – Paris, 1974 (раздел о У. Чейфе). Весьма любопытно, что в новом интернациональном нидерландско-американском журнале «Лингвистика и философия» (Linguistics and Philosophy. An international Journal. Dordrecht – Boston, выходит c 1977 года) в обращении редакторов к авторам и читателям подчеркивается, что в журнале будут публиковаться только те исследования, которые основаны на материале естественных языков человечества. (обратно)380
Категория числа имен существительных в романских языках может подвергаться различным осложнениям. Так, в португальском языке Бразилии мн. число иногда передается с помощью числительных и остается нейтральным в чисто грамматическом плане: dois pāo ʽдва хлебаʼ «вместо» теоретически более закономерного dois pāes (Nascentes А. О idioma national. Rio de Janeiro, 1960, c. 160). (обратно)381
Попытки изучать языковые модели независимо от материала национальных языков неизбежно становятся схоластическими. См. суждения по этому вопросу, приведенные в сборнике: Logic, Methodology and Philosophy of science. Proceedings of the international Congress. California, 1962, c. 563 – 565. – А вот иное, гораздо более верное заключение:«Математическое понятие модели прямо противоположно тому, в каком смысле это понятие употребляется другими науками»А.Ф. Лосев в своей интересной книге (Введение в общую теорию языковых моделей. М., 1968) насчитывает 34 различных истолкования самого термина модель. (обратно)(Клаус Георг. Кибернетика и философия. М., 1963, с. 262).
382
Ср. в несколько ином плане: Le Bidois Georges et Robert. Syntaxe du français moderne. Paris, 1968, v. I, c. 413 – 418 и особенно: Spitzer L. Aufsätze zur romanischen Syntax und Stilistik. Halle, 1918, c. 265 – 273. (обратно)383
См., например: Duclos D. De la notion de modèle culturel. – La pensée. Paris, № 189, 1976, c. 37 – 47. (обратно)384
См., например, хорошо выполненные исследования: Шведова Н.Ю. Активные процессы в современном русском синтаксисе. М., 1966; Шмелев Д.Н. Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке. М., 1976 (гл. «Лексические факторы»). (обратно)385
Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении, 6-е изд. М., 1938, с. 132. (обратно)386
Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 190. (обратно)387
За последние годы опыты «подгонки» естественных языков человечества к искусственным кодам проводились неоднократно. См., например: Ty Pak, Semantics and grammar. A review of recent theories. – Semiotica. Mouton, 1976, № 4, c. 315 – 317. Совсем в другой связи один из наших выдающихся филологов писал о наследии акад. В.М. Жирмунского:«Это философское литературоведение, которое воинственно противостоит попыткам механизировать, шаблонизировать, обезличить нашу науку, кибернетизировать, умертвить ее»В этом плане языкознание несколько отличается от литературоведения, но шаблонизировать богатейшие национальные языки с их безграничными выразительными (в самом широком смысле) возможностями так же неразумно, как и шаблонизировать национальные литературы. Искусственные же языки или коды не только можно, но и необходимо шаблонизировать. (обратно)(А.В. Чичерин. В.М. Жирмунский и легенда о Фаусте. – Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1973, № 2, с. 131).
388
Барабаш Ю.Я. Алгебра и гармония. О методологии литературоведческого анализа. М., 1977, с. 36 и след. – В рассказе Юрия Нагибина (Наш современник, 1977, № 6, с. 101 – 136) его персонаж, физик по специальности, иронизируя над гуманитарными знаниями, считает противников своих идей настоящими Митрофанушками (он так их и называет), не понимающими роли абстракции в науке. При этом обычные национальные языки народов мира им же объявляются «языками обывателей». (обратно)389
Подробно об этом, с анализом конкретного материала см.: Будагов Р.А. Система и антисистема в науке о языке. ВЯ, 1978, № 4. (обратно)390
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 32, с. 45. (обратно)391
Библиографию работ М.П. Алексеева на эту тему см. в библиографическом издании: «Михаил Павлович Алексеев». М., 1972. См. также сб.: Русский язык в современном мире. Под ред. Ф. Филина, В. Костомарова, Л. Скворцова. М., 1974 и «Русский язык за рубежом» (журн. выходит с 1967 г.). Новейшие данные о большом интересе к русскому языку в разных странах мира приводятся в статье Кузьмина Е.Г. Уроки русского языка по московскому радио. – Вестник МГУ. Журналистика, 1976, № 1. с. 45 – 55. – С 1969 г. проводятся международные конгрессы преподавателей русского языка и литературы (в 1969 г. в Москве, в 1973 г. в Варне, в 1976 г. в Варшаве). См. также сб.: Восприятие русской культуры на Западе. Очерки. Л., 1975, с. 278. (обратно)392
Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 13. – Новые данные о книгах на русском языке в библиотеке Карла Маркса и с его пометками см.: Молчанов В. Правда, 1977, 6 мая. (обратно)393
Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэмы. М., 1924, с. 34 и след.; Холмская О. Пушкин и переводческие дискуссии пушкинской поры. – В кн.: Мастерство перевода. 1962. М., 1963, с. 305 – 320. (обратно)394
Алексеев М.П. Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI – XIX вв. Л., 1964, с. 211. О русских «темах» в испанской литературе см.: Балашов Н.И. Испанская классическая драма в сравнительно-литературном и текстологическом аспектах. М., 1975, с. 7 и след. (обратно)395
Мериме Проспер. Статьи о русских писателях. М., 1958, с. 85. (обратно)396
Рахманов В.В. Русская литература в Испании. – В кн.: Язык и литература. Л., 5, 1930, с. 329 и след. (обратно)397
Временник Пушкинской комиссии, 4 – 5. М., 1939, с. 342. (обратно)398
Специально о переводах Гомера: Егунов А.Н. Гомер в русских переводах XVIII – XIX веков. М. – Л., 1964, с. 3 и след. (обратно)399
Brandl A. Shakespeare and Germany. London, 1913, p. 11. (обратно)400
См. об этом: Будагов P.A. Академик A.H. Веселовский как переводчик Боккаччо. – Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1958, № 4, с. 343 – 353. (обратно)401
Алексеев М.П. «Евгений Онегин» на языках мира. – В кн.: Мастерство перевода. М., 1965, с. 283. – Роль хороших переводов в знакомстве с культурой того или иного народа высоко ценили многие выдающиеся писатели. В 1877 г. И.С. Тургенев перевел на русский язык две новеллы своего друга Г. Флобера. В письме к М.М. Стасюлевичу Тургенев так отзывался о своем переводе:«Изо всей моей литературной карьеры я ни на что не гляжу с большей гордостью, как на этот перевод. Это был tour de force заставить русский язык схватиться с французским и не остаться побежденным»(обратно)(см. об этом: Клеман М. И.С. Тургенев – переводчик Г. Флобера – В кн.: Г. Флобер. Собр. соч., в 10-ти т. Т. 5. М. – Л., 1934, с. 143).
402
Храпченко М.Б. Семиотика и художественное творчество. – Вопросы литературы, 1971, № 9, с. 74 – 75. (обратно)403
Чичерин А.В. Идеи и стиль. М., 1968 (особенно гл. «Содержательность поэтической формы»). О трудностях воссоздания «русского текста» Шекспира см., в частности: Смирнов А.А. Из истории западноевропейской литературы. М. – Л., 1965, с. 209 – 218. – Еще в 20-е годы специалисты отмечали, что перевод индийских Вед на любой европейский язык требует от переводчика не только понимания «кусков» текста, но и уменья так или иначе его интерпретировать в целом (Шор Р.О. Ведийские заметки. К вопросу о принципах ведийской интерпретации. – Уч. зап. Российской Ассоциации научно-исследовательских ин-тов общественных наук, т. I. М., 1927, с. 110 – 115). (обратно)404
Алексеев М.П. Английский язык в России и русский язык в Англии. – Уч. зап. ЛГУ. Сер. филолог. наук, 1944, № 9, с. 77 и след. (обратно)405
Лудольф Генрих Вильгельм. Русская грамматика. Оксфорд, 1696. – Переизд., пер., вступ. статья и примеч. Б.А. Ларина. Л., 1937. См. также: Парижский словарь московитов. Париж, 1586. – Пер. исслед. и коммен. Б.А. Ларина. Рига, 1948. (обратно)406
Болховитинов H.Н. Русско-американские отношения 1815 – 1832 годов. М., 1975, с. 625. См. интересную рецензию Б. Марушкина на эту монографию: Новый мир, 1976, № 3, с. 279 – 282. (обратно)407
О В. Рольстоне как популяризаторе русского языка и русской литературы в Англии см.: Фет А.А. Мои воспоминания, II. М., 1899, с. 215 – 216. (обратно)408
Литературное наследство, 33 – 34. М., 1939, с. 271. Ср. также материалы в статье: Долобко М.Г. Юрий Крижанич о русском языке. – В кн.: Советское языкознание. Л., № 3, 1937, с. 7 и след. (обратно)409
«And Tschitsshakoff, and Roguenoff, and Chokenoff, And others of twelve consonants apiece».(обратно)
410
Гюйо M. Искусство с социологической точки зрения. СПб., 1891, с. 125. См. также сб.: Литература и музыка. Под ред. Б.Г. Реизова. Л., 1975. (обратно)411
Бельчиков Ю.А. Интернациональная терминология в русском языке. М., 1959, с. 30. (обратно)412
Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.Н. Ушакова, т. I. М., 1934, с. 6. (обратно)413
Robert P. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, I. Paris, 1957, c. 357. – В однотомном «Petit Larousse», 1974 г. переносное значение авангарда, поясняется –«то, что обгоняет свою эпоху: идеи авангарда (les idées dʼavantgarde)».(обратно)
414
О современных значениях слова avant-garde во французском языке см.: Козлова З.Н. Семантическая структура некоторых слов общего происхождения во французском и русском языках. – Вестник МГУ. Филология, 1967, № 6, с. 89 – 90. (обратно)415
Жуковский В.А. Собр. соч., IV. М. – Л., 1960, с. 544. (обратно)416
Заимствованные слова как проблема культурно-историческая – весьма обширная тема. Фундаментальное исследование немецкого филолога Ф. Зайлера (Seiler F. Die Entwicklung der deutschen Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts. Halle) вышло в конце прошлого века в двух томах, затем, позднее, – в четырех томах, еще позднее – в восьми томах. См. также двухтомную работу: Норе T.Е. Lexical borrowing in the romance languages. Oxford, 1971. (обратно)417
Hennequin E. Ecrivains francisés. Paris, 1889, c. 108. (обратно)418
Hennequin Е. Ecrivains francisés. Paris, 1889, c. 128. (обратно)419
Ср.: Берковский H.Я. О мировом значении русской литературы. Л., 1975, с. 25. (обратно)420
Веселитский В.В. Развитие отвлеченной лексики в русском литературном языке первой трети XIX века. М., 1964, с. 64 – 65. (обратно)421
См. материалы в кн.: Сорокин Ю.С. Развитие словарного состава русского литературного языка 30 – 90-х годов XIX века. М. – Л., 1965, с. 144 – 148. (обратно)422
La pensée. Paris, 1975, № 179, с. 119. (обратно)423
Белинский В.Г. Полн. собр. соч., под ред. С.А. Венгерова, т. IX. СПб., 1915, с. 227; Виноградов В.В. Из истории слова личность в русском языке до середины XIX века. – Докл. и сообщ. филолог. фак-та МГУ, вып. 1, 1946, с. 10 – 12. (обратно)424
В современном русском языке персона имеет либо ироническое значение (ну и персона!), либо специальное (обед на десять персон). (обратно)425
Попытка показать специфику русских осмыслений таких интернациональных слов, как техника, машина, натура, культура, цивилизация, талант, гений, драма, комедия, романтизм, гуманность, ирония и некоторых других, была сделана: Будагов Р.А. История слов в истории общества. М., 1971. (обратно)426
Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 40, с. 204 – 205. – В 1825 г. Пушкин проникновенно заметил:«Чужой язык распространяется не саблею и пожарами, но собственным обилием и превосходством»(обратно)(Пушкин А.С. Полн. собр. соч. М., Изд-во АН СССР, т. XI, 1949. с. 32).
Последние комментарии
9 часов 25 минут назад
10 часов 18 секунд назад
10 часов 53 минут назад
10 часов 57 минут назад
11 часов 9 минут назад
11 часов 22 минут назад