Мариан Брандыс
С ПАНОМ БЕГАНЕКОМ
ПО ЭФИОПИИ
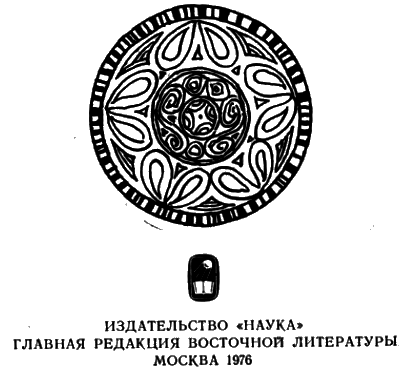

В ЭФИОПИИ С МАРИАНОМ БРАНДЫСОМ
Польский писатель Мариан Брандыс — один из самых популярных писателей у себя на родине. Особенно большую известность ему принесла серия исторических произведений о судьбах знаменитых соотечественников в сложную для Польши эпоху разделов страны и наполеоновских войн. Советский читатель сумел оценить мастерство М. Брандыса по выпущенным в 1974 году издательством «Прогресс» историческим повестям «Племянник короля», «Адъютант Наполеона» и «Мария Валевская». В художественную литературу М. Брандыс пришел из журналистики. Его перу принадлежат великолепные репортажи об Италии, Корее. Большим успехом в Польше пользуются описания его путешествий в Африку. Зарисовки Эфиолии М. Брандыса как бы продолжают его предыдущую книгу, «По следам Стася и Нель», рассказывающую о поездке в Египет и Судан? С первой же страницы настоящей книги читатель будет очарован легкой, непринужденной и остроумной манерой рассказчика. Это не та книга, которая читается долго. От ее страниц трудно оторваться. У всех у нас, наверное, с детства сохранилось желание поездить по свету, повидать мир. Но удается это, к сожалению, не многим. Со временем эта страсть потихоньку затухает, но все равно, мало кто пройдет мимо книги, рассказывающей о дальних странах и о населяющих их людях. Их авторы — это как бы наши глаза и наши уши. Взгляд М. Брандыса особенно зорок, он подмечает буквально все. Перед читателем проходят картины Эфиопии, нарисованные польским путешественником; он становится участником сцен, развернувшихся в Аддис-Абебе, Харэре и вообще увидит все то, что наблюдал автор. Но как бы ни был увлечен читатель, для которого книга М. Брандыса не первое известное ему произведение об Эфиопии, он обязательно отметит и некоторые ее особенности. В самом начале, описывая свое пребывание еще в Хартуме, М. Брандыс роняет фразу о том, что Эфиопия относится к числу стран, о которых написано довольно мало. Это не совсем так. Написано как раз довольно много. Но книга книге рознь. Во многих из них история Эфиопии окутана густым туманом легенд и преданий. И в рассказах пана Беганека, симпатичного, всегда и всем увлекающегося, романтически настроенного спутника писателя, как в капле воды отражаются все эти легенды, которые зачастую подменяют в книгах подлинную историю Эфиопии. Поэтому книга М. Брандыса не всегда исторически достоверна; многие события прошлого, о которых здесь говорится, причем, пожалуй, самые удивительные, есть не что иное, как красивая легенда Это и романтический рассказ об основании столицы Аддис-Абебы, и версии, связанные со строительством железной дороги, и не во всем соответствующие действительности образы эфиопских правителей. Не всегда точны даты. Некоторые ситуации перенесены из одного времени в другое. В ряде мест мы оговариваем эти неточности в примечаниях; нами сделаны также некоторые сокращения в тексте. В одном из своих исторических эссе, «Племянник короля», М. Брандыс пишет, что у него нет ни времени, ни терпения, которые присущи историкам. Наблюдательный читатель наверняка подметит, что все исторические предания в книге исходят от спутника автора пана Беганека. Сам же М. Брандыс говорит лишь о том, что сумел увидеть своими глазами. А в целом это интересная книга об интересной стране. И скорее всего она вызовет у читателя желание еще ближе познакомиться с Эфиопией, с ее богатым историческим прошлым и ее сегодняшним днем. Книга эта выходит в такое время, когда события в Эфиопии привлекают особенное внимание всего мира. И прежде, правда, эта страна не могла сетовать на отсутствие к себе интереса. Эфиопия одно из тех государств Африки, о котором знают уже давно. С чем же ассоциируется название этой страны? С чем издавна связано представление об Эфиопии внешнего мира? Если начинать с глубокой древности, то это и Библия, и произведения древнегреческих и римских историков. Это и хорошо известная легенда о царе Соломоне и царице Савской, чей сын Менелик I основал династию эфиопских царей. Немного найдется на свете легенд, которые дошли бы до нашего времени в качестве официального документа. В существовавшей же до сентября 1974 года конституции Эфиопии, во второй ее статье, как раз и говорилось об этих легендарных персонажах. В более поздние времена в средневековой Европе была распространена легенда о загадочном христианском государстве, расположенном где-то на востоке Африканского континента. Немало смельчаков отправилось в Африку на поиски царства священника Иоанна. Казалось бы, какое отношение к Эфиопии имеет имя прославленного португальца Васко да Гама, отважного мореплавателя и первооткрывателя? Но человек, знакомый с историей этой страны, наверняка по ассоциации вспомнит сына адмирала, Криштофера де Гама, нашедшего свою смерть в Эфиопии. В середине XVI в. он командовал португальским отрядом, который помогал христианской Эфиопии отражать атаки соседних мусульманских государств. А в конце XIX века об этой стране заговорили не только историки, географы или просто любители экзотических легенд. В 1896 году Эфиопия потрясла многих европейцев, разбив итальянский колониальный корпус. Впервые в истории европейская держава должна была расстаться с надеждой завоевать в Африке новую колонию. Битва при Адуа, решившая исход войны, дала возможность Эфиопии, как писали газеты того времени, занять свое место на карте мира. В адрес Менелика II, императора Эфиопии, пришло около трех тысяч поздравлений. Его портреты обошли страницы почти всех европейских газет. А еще несколько десятилетий спустя, когда человечество неотвратимо шло навстречу мировой войне, Муссолини решил осуществить давнюю мечту о создании в Африке итальянской колониальной империи. Выходившие в середине 30-х годов в Италии газеты запестрели призывами «отомстить за шрамы Адуа». Для итальянца преклонных лет слово «Эфиопия» скорее всего напомнит времена Муссолини, его изображения на стенах и надписи «Дуче всегда прав». И, может, зазвучит в его памяти песня «Камича нера, белла абиссина» («Черная рубашка, прекрасная абиссинка»), с которой чернорубашечники отправлялись в Африку. Его ровесник англичанин наверняка вспомнит действия британских солдат по освобождению Эфиопии в 1941 году. Вспомнит он, может быть, и сухонькую фигурку эфиопского монарха на улицах Лондона. Все годы оккупации император Хайле Селассие I пережил в Англии. Ну а какой знают Эфиопию в нашей стране? Пушкин, такой чисто русский поэт, считается в Эфиопии и эфиопским поэтом. Ведь его знаменитый предок, арап Петра Великого, Ибрагим Ганнибал родился в Эфиопии. Установлено как будто даже место, откуда он, еще мальчиком, был вывезен прежде чем после долгих мытарств появиться при дворе российского императора. А вообще в Африке было немного стран, которые интересовали бы так наших соотечественников, как Эфиопия. Пожалуй, лишь об Египте и Южной Африке знали не меньше. Издавна русским людям импонировало то, что в далекой Африке, населенной, по тогдашним представлениям, «дикими народами», есть христианская страна, да к тому же еще и православная. Действительно, еще за четыре столетия до того, как киевляне собрались у Днепра для обряда крещения, цари Эфиопии строили богатые храмы во славу Иисуса Христа. С именами русских офицеров Л. К. Артамонова и прежде всего А. К. Булатовича связаны исследования в конце XIX в. малоизученных областей Эфиопии. Тогда же состоялось и открытие в АддисАбебе первого русского посольства в странах Тропической Африки, и сбор по всей России пожертвований для отправки в Эфиопию медицинского отряда. С тех пор одна из улиц эфиопской столицы носит название «Русская». Ну, а с чем связано название этой страны в еще более позднее время, во времена наших отцов и, сейчас, у нас? Скорее всего вспомнятся газеты 30-х годов, Лига наций, выступления наркома иностранных дел М. М. Литвинова. Тогда много писали о трагедии Эфиопии. Сначала Эфиопии, а потом Испании, двух первых жертв пробовавшего свои силы мирового фашизма. Борьба населения Эфиопии стала близким делом многих народов. Для остальной Африки — это была схватка последней свободной страны континента за право оставаться независимой.Какой же стала Эфиопия в 70-е годы нашего столетия, что представляет собой она в наши дни? Стало уже привычным, говоря об Эфиопии, называть ее страной парадоксов. Действительно, почти трехтысячелетнее независимое развитие — и чудовищная социально-экономическая отсталость. Богатое культурное наследие — и почти поголовная неграмотность и невежество. Разнообразие благоприятных природных условий — и невообразимая бедность. Но эта, кажущаяся на первый взгляд парадоксальность находит свое объяснение, если проследить за развитием этой страны за последние несколько десятилетий. Да, Эфиопия не испытывала, подобно другим африканским странам, колониального порабощения. Но сохранявшаяся там вплоть до недавнего времени феодальная система правления играла роль внутреннего колонизатора, задерживавшего развитие страны. Погруженная в летаргический сон, Эфиопия отставала от остального мира на несколько веков. Ее соседи, в недавнем прошлом колонии, добивались первых успехов, но ничего не менялось в древней империи, которая превратилась в одну из беднейших стран мира. Существовали как бы две Эфиопии. Одна, обращенная к внешнему миру, была парадным фасадом, за которым скрывалась другая Эфиопия. Первая включала в себя богатые исторические традиции страны, видное место, занятое ею на политической карте континента. Частью этого фасада была и личность императора Хайле Селассие I, около 58 лет занимавшего трон страны. За сверкающей витриной скрывались невежество, коррупция, деспотизм властей, невообразимая бедность. Очевидцы рассказывают, что накануне приезда в столицу высоких гостей из-за рубежа кое-где поспешно возводились высокие красивые заборы. Их цель — скрыть полуразрушенные жилища нищенствующего населения. Как здесь не вспомнить потемкинские деревни России правления Екатерины II! Не случайно американский писатель Пирс Пол Рид, стараясь показать как можно больший контраст между богатством и нищетой, помещает героев своего произведения на время в Эфиопию. Дочь американского ученого-миллионера впервые начинает задумываться о социальном неравенстве, наблюдая жизнь эфиопского городка. «Вдоль всех улиц города, у стен домов, в пыли сидели нищие: изможденные люди в язвах протягивали слабые, трясущиеся руки; туберкулезные ребятишки; младенцы на коленях у иссохших матерей, покрытые гнойниками лица и тучи мух над обнаженными телами» (Пирс Пол Рид, Дочь профессора, М., 1974, стр. 105). В стране были неминуемы перемены, назрел социальный взрыв. Это стало ясно многим. Но наступление его предсказывали не раньше, как после смерти императора Хайле Селассие I. Уж очень непоколебимой казалась фигура этого монарха, в глазах внешнего мира он являлся как бы олицетворением всего того, что составляло образ Эфиопии. Но гром грянул раньше. В стране все больше становилось людей, осознающих, что феодальный режим в Эфиопии прогнил. Среди них были и военные. Некоторые из них обучались за границей, где имели возможность сравнивать положение у себя на родине с положением в других странах. Кульминацией нараставших событий было низложение 11 сентября 1974 г., в канун эфиопского Нового года, императора Хайле Селассие I. Несколько позднее, в ходе расследования, выяснилось, что престарелый монарх за годы своего правления постоянно откладывал огромные суммы в швейцарском банке. Судя по всему, правитель одной из самых бедных стран мира оказался одним из богатейших людей своего времени. В конце 1974 года военные обнародовали свою программу по развитию страны, которая поначалу показалась просто неправдоподобной. Было заявлено об избрании Эфиопией социалистической ориентации развития. Эфиопия и социализм. Уже одно сочетание этих двух слов способно поразить воображение. Страна, название которой было в недавнем прошлом чуть ли не синонимом феодализма, и желание использовать опыт развития социалистических стран. Сейчас уже ясно — старому пришел конец. Эфиопия все стремительнее выходит из состояния летаргии, в котором так долго пребывала.
В Польше книга Мариана Брандыса вышла задолго до бурных событий 1974 года. И вызвала она у читателей скорее всего привычные, ставшие уже чуть ли не каноническими ассоциации. Это как раз те увлекательные события из истории Эфиопии, о которых упоминает польский автор. Когда же книга сойдет с печатных машин в нашей стране, слово «Эфиопия» будет ассоциироваться у советских читателей и с теми глубокими переменами, которые переживает сейчас эта древняя страна.
Глава I
В Хартуме без пана Беганека — Отъезд из Судана и разговор с Павлом — Павел — это настоящий Бвана Кубва — Встреча в каирской кофейне Гроппи — Очень странный отпуск моего друга— Мы отправляемся в новое путешествие
Пан Беганек, он же Укротитель леопардов и Великий первооткрыватель, покинул столицу Судана — Хартум — внезапно и в великой спешке, чтобы занять новую должность в Норвегии, о которой ему сообщили телефонным звонком из Каира. Я же и мой старинный школьный товарищ Павел, прозванный Бваной Кубвой (Большой господин), задержались в Хартуме еще на десять дней. Это было скучное, томительное время. Павел совершенно обо мне забыл. Он заканчивал свои дела с суданскими коммерсантами и весь день бегал как одержимый с одних переговоров на другие. Вечерами он возвращался в гостиницу настолько усталый, что тут же засыпал — даже при включенном на предельную мощность вентиляторе. Его общение со мной сделалось прямо-таки невыносимым. Он поминутно хвастался своими подвигами во имя процветания польской торговли, а меня третировал, называя всех журналистов бездельниками. Мало было радости и от моего давнишнего суданского приятеля Идриса. Как на зло, в Хартум приехали на экскурсию американские геологи, несколько десятков человек, и разбитое такси потомка махдистов[1] было нарасхват. Правда, верный старой дружбе, славный суданец сохранил за мной право пользоваться его машиной вне очереди и каждое утро предлагал свои услуги в качестве шофера и гида. Но в Судане плата за такси очень высока, а у меня уже почти совсем не оставалось денег. Ко всему я еще страдал от июльской жары, становившейся все ужаснее и лишавшей не только остатков соли, но и всякого желания жить. Покинутый друзьями, наполовину сварившийся, «обессоленный» и одинокий, я бесцельно бродил по раскаленным хартумским улицам, все время возвращаясь к знакомым местам. Мне казалось, что в эти последние дни все вокруг переменилось — стало уродливым и унылым. Сигнал рожка, сопровождавший смену караула перед правительственным дворцом, утратил свой чистый, веселый тон. В голубых водах Нила притаились крокодилы и бильгарции[2]. Непрерывное треньканье велосипедного звонка в зале ресторана «Гранд-Отель» доводило меня до исступления. Я чувствовал себя отвратительно. Мне явно чего-то не хватало. Вначале я подумал, что заразился какой-то суданской болезнью, и стал глотать двойную дозу солевых таблеток и мыть овощи горячей водой с мылом. Но не болезнь была причиной моего плохого самочувствия. Я понял это во время очередного — в который уже раз! — посещения хартумского зоопарка, стоя перед клеткой с леопардами, которых когда-то укрощал одним только взглядом референт Беганек. И тут вдруг стало ясно, что так угнетает и чего так недостает мне. Не хватает пана Беганека! Вечно чем-нибудь недовольный ворчун, над которым я без конца подшучивал, завладел моим сердцем и сделался неотъемлемой частью всех африканских впечатлений. Без него Судан не был Суданом, Африка — Африкой… Стоя перед клеткой в хартумском зоопарке, я представлял себе Укротителя леопардов в холодной Норвегии, закутанным в шарфы, замерзшим и страдающим от насморка. Слышал его тоненький голосок, жалующийся сослуживцам: — Что там Норвегия! Вот у нас в Судане — там была жизнь. На следующий вечер Бвана Кубва торжественно сообщил, что закончил свою торговую миссию в Судане и что пора собираться в обратный путь. Через два дня мы были уже на пути в Каир. Перед самым отъездом я из-за какого-то пустяка поссорился с Павлом, и мы сели в самолет смертельно обиженные друг на друга. Казалось, что за все время полета ни один из нас не произнесет ни слова. Но случилось иначе. Где-то в середине пути — мы как раз летели над Асуанской плотиной — враждебное молчание начало меня тяготить. Мне стало досадно, что такое прекрасное и увлекательное путешествие заканчивается ссорой. Незаметно взглянув на своего разгневанного друга, я почувствовал приятное тепло, растекающееся по сердцу. «Это ведь мой товарищ, Павел, которого я знаю с детства, — с умилением думал я. — Конечно, он немного взбалмошный и заносчивый, любит умничать и навязывать всем свою волю, зато сколько в нем энергии и инициативы! Еще в школе он всегда умел изобрести что-нибудь такое, от чего жизнь становилась интереснее. И сейчас, когда мы встретились через тридцать лет, он сразу взял меня с собой на Суэцкий канал, а затем в Судан. Если бы не Павел, не участвовать мне в такой замечательной поездке. И чего обижаться из-за какой-то ерунды? До чего же я отвратительный и неблагодарный человек!» И я улыбнулся Павлу как можно сердечнее: — Не будем ссориться, Павлик. Правда, не стоит. Особенно сейчас, когда мы возвращаемся домой. Но Бвана Кубва не принял протянутой руки. Он посмотрел на меня исподлобья и пожал плечами. — Кто — домой, а кто — и нет, — буркнул он загадочно. — У меня, например, есть еще дела в Африке. — В Африке? — спросил я, охваченный тяжелыми предчувствиями. Павел с наслаждением потянулся и зевнул. — Мне нужно съездить на две недели в Эфиопию. Очень некстати, сам понимаешь, старик. — В Эфиопию?!! — ахнул я, оглушенный этим сообщением. — Ты едешь в Эфиопию? Мое восклицание самым благотворным образом повлияло на настроение Павла. — Да, в Эфиопию, — просиял он. — Необходимо найти возможность экспорта товаров на их рынок. Другие страны осуществляют фантастически выгодные операции, связанные с эфиопским лесом, а мы не имеем там даже торгового представительства. Говорят, Эфиопия — удивительная страна. Жаль только, что я уже устал от Африки. Я выслушал эти излияния молча. Недавнее теплое чувство к другу испарилось без следа. «Этот Павел — мой злой гений, — неприязненно думал я. — Минуту назад я был совершенно спокоен и доволен. Я возвращался домой с чувством добросовестно выполненного журналистского долга. А теперь этот дьявол опять меня взбаламутил. Наверняка Эфиопия — необыкновенно интересная страна. Кто знает, может быть, даже интереснее Судана… А этот тип говорит, что устал от Африки. Нет справедливости на свете. Надо было мне заняться торговлей, а не журналистикой. Сейчас только коммерсанты да спортсмены много путешествуют, а журналисту из-за какой-то жалкой поездки приходится «воевать» с редакцией. Любопытно, что было бы, если бы я еще раз попросил своего главного редактора продлить срок командировки. Нет, нет, бесполезно — наверняка главный не согласится…» Мои грустные мысли были прерваны ударом по плечу. — Держу пари, что ты, старик, тоже хотел бы поехать в Эфиопию, да боишься сунуться с этим в свою редакцию. Ну, что скажешь, верно я говорю? — Конечно, хотел бы, — глубоко вздохнул я. — Но ты сам знаешь, Павлик, это совершенно невозможно. — В век покорения космоса ничего невозможного нет. Зато есть робкие недотепы-журналисты. Если у тебя не хватает смелости, я сам договорюсь насчет этой поездки. Жаль упустить такую возможность. Ну и, представьте себе, Павел устроил мне двухнедельную поездку в Эфиопию. Не буду вам рассказывать, как он это сделал, потому что пользоваться протекцией нехорошо и хвастаться этим не следует. Достаточно сказать, что своей поездкой по второй африканской стране я целиком обязан Павлу. Благодаря его знакомствам уже через несколько дней после возвращения в Каир были получены разрешение редакции и необходимая сумма денег. С эфиопской визой все решилось гораздо проще, чем с суданской, потому что эфиопы стараются не создавать иностранцам никаких препятствий при въезде в их страну. Радость, вызванная приготовлениями к новому путешествию, омрачалась только мыслью о пане Беганеке: «Мы тут собираемся в Эфиопию, а он, бедняжка, мерзнет в Норвегии. Как жаль! До чего приятно было бы поехать вместе с нашим милейшим референтом!» Но вскоре я забыл о пане Беганеке. Времени до отъезда оставалось мало, а мне хотелось еще запастись книгами об Эфиопии, потому что мои сведения об этой стране были чрезвычайно скудны. К сожалению, в Каире оказалось нелегко достать нужную литературу. Эфиопия относится к числу стран, о которых написано довольно мало, — а тут, как на зло, кто-то перед самым моим носом скупил все, что было в известных мне книжных магазинах на улицах Адли-паши и Каср-эль-Нил. Всюду говорилось одно и то же: — Книги об Эфиопии? Были, но сейчас уже нет. Последнюю мы продали несколько дней назад какому-то иностранцу. Утомленный бесплодными поисками и доведенный до бешенства этим таинственным любителем книг об Эфиопии, я зашел в кафе, чтобы выпить стаканчик чего-нибудь прохладительного. В саду модной кофейни Гроппи, как обычно в предвечернюю пору, было многолюдно и шумно. За столиками теснились элегантные мужчины и разодетые египетские дамы. Между ними сновали с подносами черные официанты в белых галабиях[3] и красных тарбушах[4]. Я остановился у входа, пытаясь отыскать свободное место. Внезапно меня что-то насторожило. В противоположном дальнем углу кафе стоял один-единственный столик, занятый каким-то погруженным в чте-мне мужчиной. Он сидел спиной ко входу, поэтому Я не видел лица, но весь его облик казался мне настолько знакомым, что ошибки быть не могло. Не веря своим глазам, я постоял еще минуту, а потом быстро подошел к уединенному столику. — Пан Беганек! — закричал я. — Дорогой пан Беганек! Что за чудеса?! К великому изумлению посетителей кафе, мы расцеловались по старопольскому обычаю, после чего референт отодвинул кипу книг и освободил для меня место за столиком. — Никаких чудес, пан редактор. Сижу себе и читаю. — Но вы ведь должны были ехать в Норвегию! Пан Беганек недовольно сморщился: — Никуда не убежит ваша Норвегия. Успею. Сейчас у меня месячный отпуск, и я наслаждаюсь африканским солнцем. Лицо референта приняло мечтательное выражение, и он кивнул в сторону лежавших на столике книг: — А в Африке так много удивительных стран, о которых я ничего не знаю. Вот купил несколько книг об Эфиопии. Если бы вы знали, какая это интересная страна! Какая интересная страна! Это было уж слишком. — Пан Беганек, — строго сказал я, — так нельзя. Вы постоянно создаете настолько неправдоподобные ситуации, что ни один читатель мне не поверит. Вам полагается уже неделю сидеть в Норвегии, а вместо этого вы ходите по каирским магазинам и скупаете у меня из-под носа все книги об Эфиопии. Зачем вам эти книги? Ведь не вы едете в Эфиопию, а я! Пан Беганек побледнел: — Как это вы едете в Эфиопию? Что за странные шутки? — Это не шутки. Павел устроил мне двухнедельную поездку. Мы будем агитировать эфиопов покупать польские товары. Право, мне очень жаль, что вы не можете поехать с нами. За нашим столиком надолго воцарилось молчание. В кофейне по-прежнему стоял гул, черные официанты в красных тарбушах начали зажигать лампы. Нахмурив брови, пан Беганек о чем-то напряженно думал. Вдруг его что-то осенило, в глазах зажегся огонь. — А, собственно говоря, почему бы мне не поехать с вами? — сказал он совсем другим голосом. — Отпуск у меня есть, денег хватит. Можно ехать. Нет, пан редактор, вы еще не знаете Беганека! Вы еще не знаете, на что способен Беганек, когда он что-нибудь решил. Тут Укротитель леопардов с неожиданной силой ударил кулаком по столу и возвестил всему кафе: — Вопрос решен положительно: я еду в Эфиопию!!! На мгновение все вокруг стихло. Перепуганные посетители кофейни вытаращили на нас глаза. А пан Беганек повторил еще громче: — Еду с вами в Эфиопию!!!
Глава II
Разговоры и споры по пути в Аддис-Абебу — Как возник государственный флаг Эфиопии — Прощание с суданским другом — Наша симпатия к Эфиопии — В Аддис-Абебе идет дождь — Первые впечатления — Пан Беганек рассказывает об эфиопском климате
Итак, мои мечты сбылись: мы едем в Эфиопию вместе с паном Беганеком. Поскольку воздушный путь из Каира в столицу Эфиопии Аддис-Абебу проходит через Судан, мы отправлялись с того же аэродрома, с которого два месяца назад я вылетел в Хартум. Разница заключалась лишь в том, что тогда я летел самолетом суданской авиакомпании «Судан Эрвейз», а сейчас — компании «Эфиопией Эрлайнз». В отличие от суданских и египетских самолетов, эфиопский — менее современен. Зато он окрашен в три ярких цвета — зеленый, желтый и красный — и имеет какой-то необычно веселый вид. С этих трех цветов и с названия эфиопских авиалиний начался наш первый разговор и первый спор об Эфиопии. Как только самолет поднялся в воздух, пан Беганек сделал умное лицо и произнес: — Как вы думаете, почему наш самолет выкрашен в зеленый, желтый и красный цвета? Павел, который вообще не терпел поучений, только пожал плечами, а я ответил: — Вероятно, потому, что это национальные цвета Эфиопии. — Это ясно. — Великий первооткрыватель улыбнулся с еще более ученым видом. — Но почему у Эфиопии именно такие цвета? Теперь настал мой черед пожать плечами. Вопрос показался мне странным. Откуда мне знать подобные вещи? Павел же нетерпеливо буркнул: — Ну, валяйте дальше, если знаете, пан Всезнайский. — Конечно, знаю. — Лицо референта стало многозначительным до отвращения. — Дело было так. Когда после библейского потопа появилась первая радуга, господь бог вынул из нее три самых красивых цвета — зеленый, желтый и красный — и отдал их эфиопам для национального флага, потому что любил этот народ больше всех других. — Пан Беганек, — укоризненно прошептал я. — Ну, знаете ли! — взорвался Павел. — Что за байки! Здесь столько же правды, сколько в легенде о ва-вельском драконе. — Это не байки, а предание, в которое верят все эфиопы. Я читал об этом в одной научной книге, — раскипятился референт. — Эфиопия — очень древняя страна, она существует более трех тысяч лет, и уже около тысячи пятисот лет эфиопы исповедуют христианство. Многие библейские сказания они воспринимают как подлинные факты своей истории. Эфиопские монархи до сих пор считают себя прямыми потомками библейского царя Соломона и царицы Савской. Официальный титул императора звучал так: «Лев-победитель из племени Иуды и Божий избранник». Все это черным по белому записано в эфиопской конституции[5]. А вы говорите — байки. — Ну, тут уж вы приврали, пан Беганек, — с раздражением сказал Павел. — Никогда не поверю, чтобы это было записано в конституции. Пан Беганек даже побледнел от обиды: — Пан директор, прошу меня не оскорблять! — Так вы утверждаете, что в эфиопской конституции записано, будто императоры — потомки царя Соломона и царицы Савской? — Безусловно. — Проверим, когда приедем. — И проверять нечего. Я сам об этом читал. После их словесного поединка все замолчали. Только пан Беганек с видом победителя мурлыкал что-то себе под нос. Через несколько минут Великий первооткрыватель вернулся к прерванному разговору: — А знаете ли вы, друзья, почему эфиопские авиалинии называются не «Абиссинией Эрлайнз», а «Эфиопией Эрлайнз»? Я посмотрел на пана Беганека с ужасом. «Ничего себе, — подумал я, — в Судане у меня был один всеведущий ментор — Павел, а теперь их станет два. Пан Беганек, как видно, извлек все эфиопские премудрости из закупленных в Каире книг. Плохи мои дела, однако!» Павел сделал вид, будто не расслышал вопроса. Но наш начитанный спутник не нуждался в поощрении. Он и не ждал ничьих ответов, а говорил сам без умолку: — Сейчас я вам все объясню, друзья мои. Страна, в которую мы летим, имеет два названия: Абиссиния и Эфиопия. Первое — более древнее, оно произошло от названия южноарабского племени «хабашат». Правда, позднее злые языки стали связывать слово «Абиссиния» с арабским «хабаша», что значит «собирать разные вещи». Эфиопы не любят, когда их называют абиссинцами, и стараются не употреблять это слово. Они предпочитают именоваться эфиопами — от греческого aithiopos, что означает «загорелый, обожженный солнцем». Эфиопия — страна людей с обожженными лицами, — так никому не обидно. Впрочем, есть и другое объяснение этому названию, связанное с легендой. Говорят, что слово «эфиоп» произошло от имени основателя их государства Эфиописа, правнука Ноя — ну, того самого, который во время потопа построил ковчег… — И об этом вы прочитали в своих ученых книгах? — мрачно спросил Павел. — Конечно. В настоящее время ее официальное название — Эфиопия. Я считаю, что и мы в наших беседах должны употреблять только это слово. Я в этом совершенно убежден. — Вы преувеличиваете, пан Беганек, — сказал я примирительно, заметив опасный блеск в глазах Павла. — Вовсе не обязательно отказываться от привычного в польском языке слова «Абиссиния». В конце концов, Италию мы тоже иногда по привычке называем Влохы, и это не служит ни поводом к войне, ни причиной дипломатических осложнений. — Не надейтесь, что я откажусь от слова Абиссиния! — рявкнул Павел, испепеляя взглядом бедного референта. — Эфиопис — правнук Ноя… Ничего себе! Пан Беганек гордо выпятил грудь. — Пан директор, — сказал он, — я скромный человек, но не позволю разговаривать со мной в таком тоне!.. Страсти разгорелись настолько, что пришлось прервать лекцию на тему об Эфиопии, или Абиссинии. Безопаснее было заняться суданской пустыней, над которой мы как раз пролетали. Через несколько часов самолет приземлился на хартумском аэродроме. Стоянка должна была продолжаться сорок минут. Все еще раздраженный, Павел отказался выйти из самолета, а мы с референтом решили освежить свои суданские воспоминания. Едва мы очутились на аэродроме, как на нас обрушился сухой суданский зной, а в ушах зазвенело от тишины тропического полдня. Мы восприняли это как встречу со старым другом. Хорошо возвращаться в места, с которыми связано так много приятного. Нам все было знакомо на хартумском аэродроме. Мы даже узнали некоторых носильщиков. Около таможенного барьера стоял тот же любезный молодой служащий, с которым я, впервые приехав в Судан, беседовал об охоте. Я искоса взглянул на референта. Пан Беганек дышал тяжело, пот лил с него ручьями, но он был так же радостно взволнован, как и я. — Пан Беганек, — сказал я, — давайте на минутку выскочим в город или хоть голову высунем на улицу. Вдруг нам повезет, и мы встретим кого-нибудь из знакомых! — Обязательно повезет, — прошептал Укротитель леопардов и лукаво подмигнул: он, дескать, знает, кого бы я хотел встретить! Любезный таможенник не чинил бюрократических препятствий. Как только мы объяснили ему, в чем дело, он без слова поднял деревянный барьерчик и пропустил нас на другую сторону. Мы помчались к выходу. Нам повезло! Предчувствие не обмануло меня! Перед аэровокзалом стояло большое такси с древним клаксоном. В его тени отдыхал симпатичный круглолицый водитель в тюрбане и белой джибе[6]. — Идрис! — закричали мы в один голос. — Здравствуй, Идрис! Суданец широко заулыбался, поднял обе руки и потряс ими в знак приветствия. Было видно, что и он рад нашей нежданной встрече. — Салам алейкум, господа! Хорошо, что вы снова приехали в Судан! А где ваш багаж? — У нас нет багажа, Идрис. Мы выбежали на минутку, чтобы поздороваться с тобой. Мы летим дальше, в Абиссинию. — В Эфиопию, — поправил пан Беганек. — В Эфиопию? — Идрис громко прищелкнул языком от удивления. — Эфиопия — прекрасная страна. Много воды, большие горы, большой лес. Не то что в Судане. Он достал из-под джибы горсть сушеных фиников: — Хорошие финики, сладкие. Ешьте, господа. И все было, как раньше. Я сразу запихнул финики в рот, а пан Беганек, который ни за что не прикоснулся бы к немытым фруктам, тщательно завернул их в платочек и с извиняющейся улыбкой сунул в карман. Потом Идрис спросил: — Помнишь того старого бербера около гробницы Пророка? — Конечно, помню. Как его астма? — Он тебя часто вспоминает. Говорит, что ты дал ему хорошее польское лекарство. Он после него меньше кашлял. Он очень жалеет, — что у нас нет такого лекарства. Я робко улыбнулся. У меня осталось всего два флакона «проастмина». Пан Беганек толкнул меня локтем: — Вы слышали, что говорит Идрис? Тому старику нужно ваше лекарство. Не будьте жадиной, дайте ему один флакон. Браня в душе широкую натуру референта, я достал из кармана флакон спасительного лекарства и вручил его Идрису для хранителя гробницы. Чувства мои в этот момент были противоречивы. С одной стороны, я был зол на пана Беганека за то, что он вмешивается не в свои дела и благодетельствует за чужой счет, а с другой — мне было очень приятно, что у меня в Судане есть друзья, помнящие обо мне, и что я помогаю человеку, так близко связанному с Махди[7] Сенкевича. Еще немного поболтав с Идрисом, мы простились с ним, как с близким человеком, и вернулись к самолету. Дальнейшее путешествие протекало спокойно, без словесных перепалок. Павел — все еще сердитый — отгородился от нас стеной молчания и делал вид, что спит, а может быть, и вправду спал. Мы же с паном Беганеком, предоставленные самим себе, разговорились об итало-эфиопской войне 1935 года. Молодым читателям этой книги может показаться странным, даже смешным, что два поляка, направляющихся в незнакомую страну, вспоминают о военных событиях более чем двадцатилетней давности. Но сейчас, по пути в Эфиопию, мы не могли не говорить об итало-эфиопской войне, потому что именно эта война впервые пробудила во мне горячую симпатию к Эфиопии и эфиопам. До 1935 года в Польше мало кто интересовался Эфиопией. Только люди, увлекавшиеся географией, знали, что где-то в Африке существует древняя империя, до сих пор не завоеванная европейскими колонизаторами. И это все. Но в 1935 году об этой экзотической стране заговорил весь мир. Слово «Эфиопия» оказалось у всех на устах. Такая внезапная популярность была вызвана трагическим обстоятельством — Эфиопия стала первой страной, павшей жертвой вооруженного нападения фашистов. Осенью 1935 года по приказу фашистского диктатора Муссолини экспедиционная армия, при поддержке танковых колонн и бесчисленных эскадрилий самолетов, с земли и воздуха атаковала последнее независимое государство Африки. Эфиопию хотели превратить в итальянскую колонию. Нас, поляков, трагедия этой страны особенно потрясла. В то время мы сами уже находились под угрозой вторжения гитлеровских войск. С волнением изучали мы карту Эфиопии, повторяя экзотические имена ее полководцев, горячо сочувствовали босым, плохо вооруженным солдатам, погибавшим под бомбами и под гусеницами танков. Но европейские государства не пожелали восстанавливать против себя Муссолини и его союзника Гитлера. Они признали захват Эфиопии Италией. Не прошло и трех лет, как гитлеровцы напали на Польшу, а затем в короткий срок захватили половину Европы. Летом 1941 года я находился в Германии, в гитлеровском лагере для военнопленных. Это был один из самых тяжелых моментов войны, когда многие из нас с трудом верили в то, что мы сможем когда-нибудь вернуться в свою освобожденную страну. Тогда-то и дошла до нас весть, что из Эфиопии изгнаны фашистские оккупанты. Как мы радовались! Это вселило в нас уверенность в скором возвращении на родину. Увлекшись воспоминаниями, мы не заметили, что самолет давно летит над Эфиопским нагорьем. Нас вернул к действительности возглас Павла: — Ребята, глядите: горы! Мы бросились к окнам. Пейзаж действительно волшебно изменился. Нигде уже не было видно даже полоски песков. Всюду, куда ни кинешь взгляд, громоздились горы. Высокие и низкие. Крутые и отлогие. Поросшие лесом и обнаженные. Зеленые, коричневые, сине-черные. Эфиопское нагорье протянулось до самой Аддис-Абебы. Столица Эфиопии встретила нас проливным дождем. Вы не представляете себе, дорогие читатели, каким счастьем кажется такой дождь после того, как три месяца жаришься на раскаленной египетско-суданской сковороде! Минут десять стояли мы на аэродроме и, не заботясь об одежде и багаже, наслаждались видом затянутого тучами неба, шумом ливня и потоками стекавшей по лицу холодной воды. Однако десяти минут нам показалось вполне достаточно. Мокрые с головы до ног, окоченевшие, стуча зубами, мы поспешили к таможне. Эфиопские таможенники отличались от суданских тем, что на их лицах, со значительно более светлым цветом кожи, красовались небольшие черные бородки. Бедняги мерзли так же, как и мы, были мрачны и неразговорчивы. Кроме таможенников, которые бесконечно долго вели досмотр, и небольшой кучки приезжих, в маленьком помещении аэровокзала не было ни души. Когда процедура досмотра закончилась, мы снова очутились под дождем и кое-как добрались до такси. Тем временем сделалось совсем темно, и по пути в гостиницу нам не удалось ничего рассмотреть. Вокруг только дождь и тьма, тьма и дождь. В гостинице же, обставленной по-европейски, было светло и тепло. Мы сразу попросили подать нам в номер горячий чай и принялись стаскивать с себя мокрую одежду. Чай принес официант-итальянец. После недавних разговоров в самолете мы были несколько смущены, но официант улыбался так доброжелательно, что заподозрить его в каких-либо дурных побуждениях не было никакой возможности. Между тем тропический ливень бушевал вовсю. Дождь со страшным грохотом бил в стекла. А тут еще пан Беганек надумал щегольнуть своими книжными познаниями относительно климата этой страны. — Типичный эфиопский дождь, — сказал он с таким видом, будто всю жизнь прожил здесь. — Так лить будет каждый день до конца сентября. — Именно до конца сентября! — возмутился Павел, стаскивая через голову мокрую рубашку. — Любопытно, каким образом вы это узнали? А я и не предполагал, что вы синоптик! — Я не синоптик, уважаемый пан директор. Просто я прочитал несколько книг об Эфиопии. В этой стране бывает два сезона дождей — малый и большой. С апреля до конца мая дождь идет только раз в неделю. Зато с мая до конца сентября — ежедневно. Период больших дождей по-эфиопски называется «тыллык зенаб», что значит «большой дождь». Поскольку сейчас середина августа… — А идите вы со своим «тыллык зенаб», — взорвался Бвана Кубва, со злостью оторвав пуговицу на рубашке. — Не могли сказать перед отъездом! Референт скромно улыбнулся: — Я полагал, что вы знаете. Впрочем, меня никто не спрашивал. Между тем дождь барабанил по стеклам все сильнее. Я подошел к окну и, распахнув его настежь, стал вглядываться во мрак. — Льет, как во времена библейского потопа. — Чему удивляться? — простонал Павел, ползая на четвереньках в поисках укатившейся пуговицы. — Ведь Эфиопию основал Эфиопис — внук Ноя. Спросите у Беганека. — Правнук, уважаемый пан директор. — Пан Беганек, — вставил я поспешно, чтобы предотвратить ссору, — неужели Эфиопия не может уступить хотя бы половину своих осадков Египту и Судану? Там бы вода очень пригодилась. Правда? Вместо ответа пан Беганек расхохотался. — Чему вы смеетесь — сердито спросил я. — Как чему? — пан Беганек захохотал еще громче. — В том-то и дело, что Эфиопия отдает половину своей дождевой воды Судану и Египту. Она делает это с помощью Голубого Нила. Хи-хи-хи! Были в Асуане и не знаете таких вещей. Хи-хи-хи! Я с бешенством захлопнул окно. Надо же сморозить такую глупость! В Египте нам без конца рассказывали об эфиопских дождях. Там буквально молятся о том, чтобы в Эфиопии их было как можно больше. Ведь от этого зависит их урожай… Ну, в этом году они, я думаю, будут довольны! — О господи, как глупо устроен мир, — причитал Павел, все еще ползая на четвереньках. — Для того чтобы в одной стране был хороший урожай, в другой должен непрерывно идти дождь.
Глава III
Дождь как шел, так и идет — Идея, из которой ничего не вышло — Разве в Эфиопии нет эфиопов? — Пан Беганек разоряет американских капиталистов — Наконец-то солнце — Город и его жители — Вежливость эфиопов — Амхарский язык совсем нетруден — Болезнь пана Беганека — Эфиопия — это не Судан
На следующий день лило еще сильнее. Вода била по стеклам, как музыканты по барабанам. О том, чтобы выйти на улицу, не могло быть и речи. В самом отвратительном настроении мы вылезли из постели и позавтракали в номере. Посудите сами: люди приехали всего на две недели в незнакомую страну и, вместо того чтобы начать немедленно ее осматривать, из-за какого-то дурацкого дождя второй день не могут выйти из гостиницы! Ко всему еще начали сказываться последствия вчерашнего купания под дождем. У меня болело горло, пан Беганек чихал без перерыва, и только Павла не подвело его лошадиное здоровье. К сожалению, он использовал это обстоятельство отнюдь не по-джентльменски: всякий раз как референт чихал, он ехидно прохаживался насчет Эфиописа, правнука Ноя. Это было самым настоящим издевательством над чужой бедой, и пап Беганек после каждой такой шутки зеленел от злости. Но все это пустяки по сравнению с дождем, бушевавшим за окнами. Я отодвинул штору и занавески, чтобы хоть из окна увидеть кусочек Эфиопии. Куда там! Оно выходило на какой-то неприглядный, залитый водой внутренний дворик. Не было видно ни души, только за высоким зеленым забором стояла мокрая черная коза, такая неподвижная и равнодушная к потокам дождя, что ее можно было принять скорее за изваяние, чем за живое существо. Из-за забора выглядывало дерево, похожее на польский тополь. Его трепал ветер… И это все.Все, что я увидел в Эфиопии. А за моей спиной шумел Павел: — С ума можно сойти от этого дождя! Знали бы вы, сколько у меня дел! Я сегодня обязательно должен встретиться с французским торговым представителем. У меня к нему письма. — Вам-то что, — тонким голосом возразил пан Беганек, — вы в служебной командировке, а у меня отпуск. Понимаете: пропадает мой отпуск! И референт еще раз громко чихнул, а Павел еще раз не преминул съязвить: — Нечего сказать — удружил вам ваш Эфиопис! Я больше не мог выдержать перепалки моих друзей. — Довольно, — сказал я, — так больше не может продолжаться. Надо что-то предпринять, иначе мы и вправду сойдем с ума от этого дождя. Может быть, пан Беганек расскажет нам что-нибудь интересное об Эфиопии? Референт с готовностью кивнул и проглотил слюну. Но Павел решительно запротестовал: — Хватит книжных премудростей и библейских легенд. Подайте мне настоящего, живого эфиопа — я буду слушать его! Тут я ударил себя по лбу. — Идея! — закричал я. — Да здравствует гениальный Бвана Кубва! Пан Беганек, помните, как в Хартуме мы, вместо того чтобы ехать на юг, поговорили с негром-южанином? Предлагаю сделать то же самое. Идти осматривать город мы не можем, но пригласить к себе в номер эфиопа и расспросить его про Аддис-Абебу в наших силах. Надеюсь, не все служащие этого отеля итальянцы. Мое предложение было принято. Бвана Кубва, по своему обыкновению, толкнул меня в плечо, а пан Беганек не упустил случая произнести краткую похвальную речь по поводу этого проекта. — Идея гениальна, — сказал он. — Пожалуйста, не забудьте, что это я придумал. Приняв решение, мы все трое столпились около двери, к которой была прикреплена табличка с кнопками звонков для вызова прислуги. Кнопок было четыре, рядом с каждой помещалась картинка, поясняющая, кого можно вызвать данным звонком. Сверху был изображен официант, затем девушка со щеткой на длинной палке, третьим — служащий, относящий белье в стирку, четвертым — чистильщик обуви. Первая кнопка не принималась в расчет: мы уже спали, что официант — итальянец. Поэтому все стали спорить, кого вызвать сначала— горничную или посыльного из прачечной. Я был за горничную, так как слышал, что эфиопские девушки очень милы и дружелюбно относятся к иностранцам. Павел же настаивал на вызове работника из прачечной, потому что, по его словам, африканские мужчины более интересные собеседники, чем женщины. Спор грозил затянуться надолго. К счастью, пан Беганек чихнул, что было прокомментировано очередным бестактным замечанием Павла, и, таким образом, вопрос был решен: пан Беганек рассердился и назло Павлу проголосовал за горничную, на стороне которой оказалось большинство голосов. При этом референт настолько растерялся, что, услышав стук в дверь, сказал по-польски: — Proszg wejsc![8] В номер вошла очень симпатичная улыбающаяся девушка. Она выглядела точь-в-точь как горничные во всех отелях мира. На ней было черное платье, белый фартучек с оборками и маленькая кружевная наколка на голове. Девушка производила самое приятное впечатление, но мы, увидев ее, пришли в замешательство, граничившее с ужасом. Дело в том, что внешность горничной исключала всякую мысль о наличии у нее хотя бы капли эфиопской крови! С первых же слов стало совершенно ясно, что перед нами настоящая, стопроцентная француженка! Горничная с улыбкой спросила, что нам нужно, но, увидев перед собой трех мужчин, онемевших от смущения и удивления, тоже смутилась и испугалась. Тогда мы, чтобы как-то выйти из дурацкого положения, принялись забрасывать ее нелепыми, беспорядочными и никому не нужными вопросами. Мы спрашивали: давно ли опа работает в гостинице, нравится ли ей в Эфиопии, сеть ли у нее знакомые эфиопы, много ли в отеле иностранцев? А пан Беганек попытался выяснить, каково население Аддис-Абебы. Наша нервозность и странное любопытство окончательно напугали маленькую француженку. Она пролепетала, что им запрещено разговаривать с клиентами гостиницы, и выбежала из номера. Скорее всего она приняла нас за агентов какой-нибудь иностранной разведки, пытавшихся выведать у нее важные государственные тайны. Первая неудавшаяся попытка осуществить гениальную идею несколько охладила наш пыл. Один только Бвана Кубва был вполне удовлетворен и не скрывал этого. Он считал, что, если бы мы сразу послушались его и вызвали служащего из прачечной, все было бы в порядке. Затем, уже не спрашивая нашего согласия, он нажал кнопку третьего звонка. Если бы бедняга Павел знал, какой его ждет удар! Вызванный им «специалист по грязному белью» оказался широкоплечим немцем с угрюмым лицом, напомнившим нам лица «капо» из гитлеровских концентрационных лагерей. Мы даже не попытались завести разговор и отослали его ни с чем, без всяких объяснений. Мрачный парень вышел из номера, бормоча себе под нос, что поляки только для того и существуют, чтобы отравлять жизнь спокойным людям! А мы остались в номере, потерпев очередное поражение. После этого пан Беганек, шмыгая своим простуженным носом, сказал, что нет смысла нажимать на четвертый звонок, потому что в этом отеле наверняка нет ни одного эфиопа и что в Судане такого никогда не могло бы случиться, потому что там совершенно другая жизнь. Павел, как всегда, не согласился с референтом. Он сказал, что только слабые духом приходят в уныние от первых же неудач, и потребовал вызова чистильщика обуви. Я в принципе поддерживал точку зрения пана Беганека, но, поскольку дождь продолжал стучать в стёкла и делать нам все равно было нечего, высказался за продолжение эксперимента. С бьющимися сердцами мы нажали кнопку четвертого звонка. На этот раз нам пришлось подождать. Через пятнадцать минут раздался стук в дверь, и в номер вошел… Вы, конечно, думаете, дорогие читатели, что это был швед, испанец, болгарин или англичанин? Не угадали, мои дорогие! На этот раз — нет. Вопреки нашим опасениям, чистильщик обуви оказался чистокровным эфиопом. Мы это сразу определили по золотистой коже, острому крючковатому носу и небольшой черной бородке — такой же, как у таможенников в аэропорту, это был совсем еще молодой человек, его лицо светилось самой приветливой из всех приветливых эфиопских улыбок, а в руках он держал две обувные щетки, которые со всей сердечностью протягивал в нашу сторону. — Наконец-то настоящий эфиоп! — выдохнул взволнованный пан Беганек. — Не забудьте, что этим вы обязаны мне. Да, цель эксперимента достигнута! У нас в номере находился самый настоящий эфиоп из Аддис-Абебы. Теперь оставалось только узнать у него как можно больше интересного о городе, осмотреть который нам мешал вождь. Поскольку, по нашим сведениям, в Эфиопии многие понимают по-английски, а мы все трое знаем его, мы обратились к вошедшему с приветствием на >том языке. Павел объяснил нашему гостю, с какой целью он приглашен, и попросил уделить нам немного своего драгоценного времени. Эфиоп внимательно выслушал речь Павла, улыбнулся и приветливо сказал: — Molto bene![9] — Он понимает по-английски, но говорит только по-итальянски, — огорчился пан Беганек. — Видимо, в годы оккупации он учился в итальянской школе. Ничего не поделаешь, пан редактор, ваша очередь. Пришлось мне взять на себя роль интервьюера, потому что я несколько месяцев прожил в Италии и мог с грехом пополам объясниться на этом языке. Я попросил нашего гостя рассказать нам об эфиопских дождях. — Неужели и вправду дождь будет лить до конца сентября? Молодой человек улыбнулся еще приветливее и сказал: — Molto bene! Не смущаясь этим, я задал ему еще несколько вопросов. На все мы получили тот же ответ: — Molto bene! Все было ясно. Из неисчерпаемого запаса слов, какими располагают европейские языки, наш гость усвоил всего лишь два итальянских слова. — Конец, — сказал я Павлу, — эксперимент провалился. Парень понимает только по-эфиопски. И тогда случилось нечто неожиданное — на сцену выступил пан Беганек. Грудь вперед, в глазах огонь вдохновения. Он подошел к окну и, указывая пальцем на залитое водой стекло, голосом, охрипшим от волнения, произнес: — Тыллык зенаб! Наш эфиопский гость, все больше входивший во вкус этой странной беседы, встретил слова референта бурным восторгом. Громко смеясь и утвердительно кивая головой, он повторил несколько раз: «тыллык зенаб!» А потом начал длинно и подробно о чем-то рассказывать на своем языке. Несомненно, он говорил об исключительно интересных для нас вещах, но что толку, если даже такой крупный знаток эфиопского языка, как пан Беганек, не понял ни слова. Пришлось признать интервью законченным. При помощи самых любезных и виноватых улыбок мы пытались дать понять эфиопу, что напрасно его побеспокоили. Но парень был иного мнения. Как человек с большой ответственностью относящийся к своим обязанностям, он не желал покидать номера без наших ботинок. Мы не соглашались. Как можно допустить, чтобы первый эфиоп, с которым мы лично познакомились, чистил нам обувь? Таким образом, возник настоящий заколдованный круг: мы не позволяли чистить ботинки, чтобы не оскорбить эфиопа, а тот был обижен, что мы не хотим воспользоваться его услугами. В конце концов нам кое-как удалось успокоить непомерное рвение чистильщика, и мы расстались, вполне довольные друг другом. После ухода эфиопа Павел заявил, что сыт по горло нашими гениальными идеями и идет звонить французскому торговому представителю. Нам не хотелось сидеть без дела в номере, и мы решили пойти вместе с Павлом, а заодно осмотреть отель. Но, как оказалось, осматривать было нечего — он нисколько не отличался от международных отелей в Варшаве, Париже, Москве или Риме. Толстые мягкие ковры, удобные кожаные кресла, а в креслах — иностранцы: европейцы и американцы. Во всем роскошном холле ни одного эфиопа и ничего эфиопского. Павел пошел в контору отеля, чтобы позвонить по телефону, а мы с паном Беганеком остались в холле и взволнованно обсуждали факт полной «дезэфиопизации» отеля. Через некоторое время к нам подошел полный румяный блондин и любезно обратился по-чешски: — Vy to jste Poláci, velice setešim. Jmenui se Maček a vedu ten hotel[10]. Мы сердечно поздоровались с представителем братского народа, а пан Беганек с присущей ему непосредственностью спросил: — Пан администратор, скажите, пожалуйста, что, в Эфиопии совсем нет эфиопов? Приветливо улыбнувшись, пан Мачек ответил, что польский гость, должно быть, «velmi žertovny»[11], но мы можем не беспокоиться — в Эфиопии целых девятнадцать миллионов эфиопов, из них шестьсот тысяч живет в Аддис-Абебе. В отеле же их нет по той простой причине, что он принадлежит американцам и обслуживает только иностранцев. Здесь живут главным образом эксперты различных специальностей, состоящие на службе у правительства Эфиопии. Затем любезный пан Мачек удалился в свою конторку, сказав на прощание, что, если нам потребуется какая-либо информация об Эфиопии, он всегда к нашим услугам. После ухода администратора гостиницы появился Павел. Ему удалось связаться с французским торговым посредником и договориться о встрече во второй половине дня. Поэтому он был в отличном расположении духа. Двинув меня в знак приветствуя в плечо, Павел весело сказал: — Говорите, что хотите, друзья, но эфиопы — самый вежливый народ на свете. — Почему ты так решил? — спросил я, потирая плечо. — Потому, что у них имеются формулы вежливости на все случаи жизни. Например, здесь, в отеле. Телефонная связь отсюда осуществляется через почту, но вас ни в коем случае не соединят ни с одним номером, если вы любезно не поговорите с телефонистом на коммутаторе. Надо сказать: «Добрый день, связист. Как твое самочувствие и что у тебя слышно?» Без этого — никуда. — Чертовски любопытно! — обрадовался референт. — Позвольте, я это запишу. Он вытащил из кармана большой зеленый блокнот и стал быстро писать. — Для чего вы это пишете? — с удивлением спросил я. — Я решил записывать все, что касается интересных эфиопских обычаев. Когда-нибудь мне это обязательно пригодится. — Уж не собираетесь ли вы писать книгу об Эфиопии? — пошутил я. Референт спрятал блокнот и бросил на меня уничтожающе-гордый взгляд. — А что вы думаете, пан журналист, писать книги — это такая уж великая наука? Беганек и не за такие дела брался и, представьте себе, получалось! — Ну, дорогие мои, не ругаться! — призвал нас к порядку Павел. — Пошли обедать — самое время. Мой француз сказал, что около двух часов должно немного проясниться. К сожалению, в тот момент ничто не предвещало перемены погоды. Дождь лил по-прежнему, и казалось, что во время всего нашего пребывания в Эфиопии нам предстоит получать сведения об этой стране только из бесед с любезным паном Мачеком. Ресторан был таким же роскошным, как и весь отель. За прекрасно сервированными, сверкавшими хрусталем и серебром столиками сидели одетые в черное мужчины. Слышался разноязычный говор, у всех посетителей были чрезвычайно серьезные и сосредоточенные лица и весьма презентабельный вид. Сразу можно было догадаться, что это выдающиеся иностранные специалисты, оказывающие помощь Эфиопии. Что касается пана Беганека, то на него атмосфера зала не произвела ни малейшего впечатления. Он сразу проникся недоверием к иностранным специалистам. — Выдающиеся специалисты, — иронически бурчал он. — Хороши специалисты — не могут справиться с этими проклятыми дождями. Чихал я на них! — При этом он действительно громко чихнул, обратив на себя внимание всего зала. К нашему столику подошел уже знакомый официант-итальянец. Он подал длинный список обеденных блюд и сообщил об особой привилегии, которой могут воспользоваться клиенты этого отеля. — Он говорит, — перевел я моим друзьям, — что в этом ресторане каждый заплативший за обед может бесплатно съесть любое количество холодных закусок в буфете. Американские хозяева отеля ввели этот обычай в виде эксперимента. — Бесплатно? — в глазах референта зажегся алчный огонек. — Прекрасный эксперимент! Друзья, пойдемте в буфет, разорим американских капиталистов! Пусть знают, на что способен Беганек! Павел сказал, что никуда не пойдет, потому что ему вполне достаточно обычного обеда, а я отправился с референтом. В соседнем зале мы обнаружили огромный стол, который буквально ломился под тяжестью разнообразнейших закусок. Чего там только не было! Паштеты, окорока, домашняя птица, дичь, рыба, заливная и фаршированная, раки, омары, более десятка различных салатов и еще множество неизвестных нам деликатесов. Мы вооружились вилками и тарелками, и пан Беганек, сопя от волнения, начал великое наступление на американский капитал. Никогда бы не подумал, что в таком щуплом человечке может столько всего поместиться! Мясо, рыба, салаты исчезали с необыкновенной быстротой. Нож и вилка мелькали в руках референта. Его челюсти, перемалывавшие бесплатные закуски, двигались равномерно, как машина. — Пан Беганек, — забеспокоился я наконец, — может быть, хватит? Это плохо кончится. Укротитель леопардов, прервав на минуту свою работу, кинул на меня горящий взгляд: — Для кого плохо кончится? Для меня? Вы смеетесь? Вы не знаете Беганека! В Финляндии я занял первое место на конкурсе «Кто съест больше сосисок?» Вот увидите — я этих американцев по миру пущу! Только появление официанта, объявившего, что наш обед уже десять минут стынет на столе, отвлекло нас ст буфета. Когда мы вернулись в ресторан, Павел уже доедал второе блюдо. Он весь кипел от возмущения. — Вы ведете себя, как два дикаря, которые ни разу в жизни не были в приличном ресторане, — сказал он. Референт, в другое время не потерпевший бы подобного оскорбления, на сей раз не издал ни звука. Съеденные закуски повергли его в сонливое отупение и мрачную апатию. Он с омерзением отодвинул от себя тарелку с супом и, опершись локтями о стол, спрятал лицо в ладонях. Со слезами в голосе он стал жаловаться на то, что «большой дождь» никогда не прекратится, что зря мы уговорили его ехать в Эфиопию, что в Судане и Египте была совсем другая жизнь. После обеда мы вернулись в свой номер, чтобы немного отдохнуть. Павел, как только лег, сразу заснул спокойным сном человека с чистой совестью и неперегруженным желудком. Пан Беганек еще некоторое время бранил Эфиопию, но вскоре и он затих. Послышался громкий храп. Очевидно, мой друг во сне продолжал вкушать бесплатные закуски буфета. Один только я не мог заснуть. Я лежал на спине, с закрытыми глазами, прислушиваясь к шуму дождя и храпу референта и грустно размышляя о нашей неудачной поездке в Эфиопию. «До чего обидно, — думал я. — В Судане наша жизнь так хорошо сложилась с самой первой минуты, а здесь из-за этого несчастного дождя все срывается!» С этими печальными мыслями и я начал засыпать. Вместе со сном на меня снизошло умиротворение. «Ну и пусть идет дождь, — подумал я засыпая. — С утра примусь за чтение книг пана Беганека, буду регулярно беседовать с паном Мачеком, соберу много интересного материала и напишу очерк об Эфиопии, не выходя из гостиницы. Вот будет открытие в журналистике!» Внезапно, словно от резкого толчка, с меня слетел весь сон. Не открывая глаз, я почувствовал, что в комнате произошла какая-то перемена. Я прислушался. Ошибки быть не могло! Храп пана Беганека звучал в полной тишине. Шум дождя прекратился! Я вскочил с постели и, подбежав к окну, так сильно дернул шнур, что едва не сорвал занавески. Нет, это не сон! Французский представитель разбирался в эфиопской погоде. Ливня не было! На небе сияла чудесная семицветная радуга. — Подъем! — закричал я. — Дождь прекратился! Через пять минут выступаем в город! Вместе с переменой погоды изменилось и паше настроение. Сияющие и бодрые, мы через несколько минут выходили из гостиницы, бывшей для нас в течение двух дней местом заточения. На нашу первую прогулку по Аддис-Абебе мы отправились полные жадного и нетерпеливого любопытства, с широко раскрытыми глазами и чутко настороженными ушами. Какие сюрпризы приготовил нам этот незнакомый эфиопский город, так долго прятавшийся за стеной дождя? Будет ли он похож на другие африканские города, которые мы видели в Египте и Судане? Выйдя из гостиницы, мы сразу убедились, что Африка не любит повторяться. Европейцев ждут здесь самые удивительные неожиданности. Столица Эфиопии оказалась не похожей ни на Каир и Александрию, ни на Хартум и Омдурман. В Аддис-Абебе мы впервые оказались в нагорной Африке, во всех отношениях отличающейся от Африки, известной нам по предыдущим поездкам. Прежде всего нас удивил климат. Позавчера на аэродроме лил такой дождь, что определить температуру воздуха не было никакой возможности. Зато сейчас, когда светило солнце, мы не сомневались, что, выйдя из отеля, сразу попадем в жаркие объятия эфиопского зноя. Ничего подобного. Погода совсем как у нас в Польше в начале июня. С высоких гор, окружающих Аддис-Абебу, дул живительный ветерок, солнце припекало не слишком сильно — как в нашем Закопане. Впервые за все время пребывания в Африке можно было спокойно загорать, не опасаясь солнечного удара. Трудно поверить, что мы находимся так близко от экватора. Воздух Аддис-Абебы имел еще одну приятную особенность— он был напоен своеобразным, удивительно знакомым ароматом. Этот запах был так силен, что его уловил даже простуженный пан Беганек. Потянув несколько раз своим красным носом, он с удивлением посмотрел на меня: — Пахнет эвкалиптом, чувствуете? Где-то поблизости должна быть фабрика эвкалиптовых конфет. Услышав это, Бвана Кубва, не очень разбиравшийся в библейских сказаниях, зато основательно знавший все, что касается деревьев, разразился гомерическим смехом: — Фабрика эвкалиптовых конфет в Аддис-Абебе! А может быть, филиал Ведля[12]? Ха-ха-ха! Ну и придумал! И зачем только вы купили книжки об Эфиопии? Неужели вы не вычитали в них, что вся Аддис-Абеба окружена рощами эвкалиптовых деревьев? Это не конфеты пахнут, а самые настоящие эвкалипты! Бедный пан Беганек до того расстроился из-за своей оплошности, что совсем приуныл. К сожалению, мне некогда было его утешать — я занялся осмотром города. Аддис-Абеба раскинулась на обширном холмистом плато, у подножия высоких гор. Почти все улицы либо карабкаются вверх, либо спускаются вниз. Гулять по этим склонам довольно утомительно, зато перед глазами то и дело открывается широкая панорама окрестных гор или серебристая синева окружающих город эвкалиптовых рощ. В розовых лучах послеполуденного солнца весь этот горно-лесо-городской пейзаж выглядит необыкновенно красиво. — Ничего не скажешь, расположен город как надо, — констатировал чувствительный к красотам природы Павел. — Но застройка ни к черту. — Дома совсем как в Швидере, под Варшавой, — брюзгливо добавил пан Беганек. — Ну и столица! Куда вы меня привезли? Столица действительно выглядела не особенно внушительно. Дома преимущественно одно- или двухэтажные, беленые, как в деревне, с деревянными галереями или балкончиками. Наш референт точно подметил — в этих эфиопских домиках было что-то невыразимо знакомое, родное. Может быть, даже не Швидер, а какой-нибудь Нови-Тарг, Мушина или другой город польского Подгалья. Правда, при виде уличной толпы подобные сравнения никак не приходили в голову — жители Аддис-Абебы ничем не напоминали ни наших соотечественников из предместий Варшавы, ни гуралей из Подгалья. — Пан Беганек, — обратился я к опечаленному референту, — скажите, сделайте милость: почему эфиопы так отличаются друг от друга цветом кожи? У одних лица слегка смуглые, как у нашего чистильщика, у других — коричневые, а тот парень, с корзиной на голове, черен, как головешка. Разве возможно, чтобы люди одной нации имели такой разный цвет кожи? Наш любитель эвкалиптовых конфет обожал, когда ему задавали вопросы. Он сразу же перестал хмуриться и перешел на свой обычный тон снисходительного превосходства: — У эфиопов все возможно. Недаром средневековые арабские путешественники называли их «смесь». Эта нация состоит из множества племен и народностей, различающихся между собой не только цветом кожи, но часто языком и религией. Люди с самой светлой кожей — это жители ближайших районов — амхарцы, народность, к которой принадлежали эфиопские императоры, князья — так называемые «расы»[13] — и все высшие чиновники государства. Обладатели более темной кожи — это галла, данакиль и, совсем черные, шанкалла. Я вынужден был признать, что наш референт не зря посвятил несколько дней в Каире чтению книг об Эфиопии. Правда, он проглядел эвкалиптовые рощи вокруг Аддис-Абебы, зато по существенным вопросам трудно было найти более надежный источник информации. После лекции пана Беганека я с еще большим интересом стал разглядывать прохожих. Чаще всего мы встречали оливковых амхарцев. На их надменных лицах было написано, что они прирожденные воины. Лишь небольшая часть прохожих была одета по-европейски, остальные же щеголяли в национальных костюмах. На мужчинах белые брюки, очень узкие от лодыжек до колен, плотно облегающие ноги, и белые хлопчатобумажные шали-накидки, перекинутые на манер туники через плечо. Женщины — в таких же шалях, только иначе повязанных. Из-под накидок выглядывают белые или цветастые платья. В отличие от суданских женщин, эфиопки не прячут головы и лица, благодаря чему я мог сколько угодно любоваться их правильными чертами и замысловатыми прическами. На головах у мужчин красовались шляпы самой невероятной формы, а в руках они держали зонты и длинные трости, напоминавшие копья, что придавало им еще более воинственный вид. Я удивился, увидев много идущих по городу босых эфиопов, и объяснил это бедностью. Но пан Беганек заявил, что таков старинный эфиопский обычай: босиком легче передвигаться по горной местности. Перед войной даже солдаты императорской гвардии, одетые в великолепные мундиры, ходили босиком. Павла встревожили зонты, которые все прохожие-эфиопы держали в руках. — Не нравятся мне эти зонты, пан Беганек, — сказал он. — Боюсь, что ваш Эфиопис, внук Ноя, опять готовит нам душ. В ответ референт снова сослался на свои книжки, из которых он черпал сведения об обычаях эфиопов. — Не волнуйтесь, — сказал он, — уважающий себя эфиоп никогда не выйдет в город без зонта, точно так же как уважающий себя варшавянин — без портфеля. Носят себе и пусть носят. Это вовсе не значит, что будет дождь. Беседуя таким образом, мы шли по направлению к торговому центру города. Движение на улицах становилось все более оживленным. По середине проезжей части мчались мотоциклы, мотороллеры и роскошные автомобили, в которых сидели разодетые по-европейски эфиопы. Между машинами лавировали одетые в белое всадники на мулах, сопровождаемые бегущими за ними слугами. Ближе к тротуару шагали многочисленные пешеходы, вооруженные зонтами и тростями. Перед белеными домиками величаво прогуливались группками громко кудахтавшие куры; на какое-то время путь нам преградило огромное стадо коров, подгоняемых пастухами, ехавшими верхом на лошадях. Рев скота, гортанные выкрики пастухов, квохтанье кур и вой автомобильных сирен сливались в одну мелодию этой удивительной африканской столицы. Центр Аддис-Абебы выглядел гораздо более импозантно, чем остальные районы. Здесь были и европейского типа магазины, и несколько настоящих городских домов — четырех- и даже пятиэтажных. Вдоль улиц стояли ряды высоких фонарей с лампами дневного света, а на перекрестках мигали современные светофоры. 11о больше всего нас поразил огромный и очень красивый памятник на площади перед зданием театра. — Это еще что за зверь? — изумился Павел. — Лев — не лев? На голове корона с крестом… — Да, это памятник эфиопскому Льву, — определил восхищенный пан Беганек. — Лев с короной — это герб Эфиопии[14], как белый орел — герб Польши, — и заявил, что ему необходимо сфотографироваться на фоне эфиопского льва, потому что вернуться в Варшаву без такой памятной фотографии было бы просто преступлением. — Нет, — отрезал Павел. — Пора в банк. Меня ждет французский посредник. Кроме того, нужно обменять чек на эфиопские доллары. У нас нет денег даже на сегодняшний ужин. Фотографироваться будете во время отпуска. — Я как раз в отпуске, — сказал пан Беганек с ангельской улыбкой и, не обращая внимания на гнев нашего друга, поставил на свой фотоаппарат автоспуск. — Но я-то не в отпуске! — рявкнул выведенный из себя Бвана Кубва. — Я приехал сюда работать и никого с собой не приглашал. Спрашиваю в последний раз: идете вы в банк или нет? По мнению пана Беганека, поведение Павла противоречило основным принципам демократии, однако с гяжким вздохом он все-таки отвинтил автоспуск и спрятал его в карман. Понурив головы, мы двинулись за нашим притеснителем. В здание Национального банка Эфиопии Бвана Кубит вошел один, а нам велел ждать на улице. Мы немного отвели душу, поговорив о его деспотических наклонностях, и стали разглядывать прохожих. Я очень люблю смотреть, как ведут себя люди на улицах незнакомых юродов. Наблюдая уличные сценки, можно сделать интересные выводы об образе жизни и обычаях страны. К сожалению, нам очень мешало полное незнание эфиопского, а точнее, амхарского языка. Нас, например, очень заинтересовала странная церемония приветствий, которыми обменивались при встрече прохожие. Вот приближаются друг к другу двое знакомых. Сошлись, поздоровались… Казалось бы, все. Но нет. Каждый продолжает идти в нужную ему сторону, причем оба не перестают оборачиваться, кланяться, посылать друг другу улыбки, о чем-то спрашивать, что-то отвечать. Эта удивительная процедура иногда затягивается так, что ее участники расходятся на добрых двадцать метров. Как жаль, что мы не могли понять, о чем шли разговоры! Нам посчастливилось увидеть еще одну занятную бытовую сценку, понятную и без знания амхарского языка. В центре площади, перед банком, встретились двое старых амхарцев, мужчина и женщина. Судя по внешнему виду — богатые люди. Мужчина ехал на муле, в сопровождении четырех пеших слуг. Это был толстый старик, одетый в традиционные белые шали. На его носу красовались большие черные очки, а на голове — белый тропический шлем. Двое черных слуг трусили впереди, держа в руках зонты, другие подталкивали мула сзади. Женщину, толстую, одетую в традиционный наряд, несли в паланкине четверо кули. Старики были, по-видимому, хорошо знакомы, потому что, увидев друг друга, они подали слугам знак и обе кавалькады остановились. Поддерживаемый слугами, старый амхарец слез с мула и подошел к паланкину. Толстая госпожа протянула ему руку, на которой старик запечатлел почтительный поцелуй. — Гляди-ка, — шепнул изумленный пан Беганек, — а я думал, только в Польше целуют дамам ручки. Однако вслед за этим произошло нечто совершенно поразительное: толстая амхарская дама высунулась из паланкина и, наклонившись к своему знакомому, в свою очередь, тоже поцеловала ему руку. Пан Беганек чуть не лопнул от восторга. — Вот это я понимаю: равноправие! — заливался он, торопливо делая пометки в своем зеленом блокноте. — Я тебя чмок в ручку, но и ты меня тоже. Хорошо бы этот обычай перенести в Варшаву. Пусть теперь кто-нибудь меня упрекнет в том, что я не целую дамам ручки. Тут же и отвечу: весьма охотно, но только взаимно! Признаться, мне начинает нравиться в вашей Эфиопии! Между тем из банка вышел все еще сердитый Павел со своим французом. Он сразу вынул из кармана набитый эфиопской валютой кошелек и стал отсчитывать нам карманные деньги — как щедрый отец детям. При этом нам пришлось выслушать небольшую назидательную речь. — Каждый из вас получает по десять эфиопских долларов. Они равны четырем американским. Помните, это большие деньги. Вам должно хватить на мелкие расходы на все время нашего пребывания в Аддис-Абебе. Поняли? Мы иронически кивнули: мог бы, дескать, оставить при себе свои проповеди. Конечно, поняли. Какие вообще могут быть здесь расходы? Покончив с финансовыми вопросами, Павел познакомил нас с французским торговым посредником. — Это мосье Жан Бернар. Мосье Бернар — француз, а родился в Эфиопии. У нас с ним дела, касающиеся торговли, но и вы можете извлечь пользу из этого знакомства, потому что мосье Бернар прекрасно ориентируется во всех делах своей второй родины. Мосье Бернар любезно поздоровался и сразу же обратил внимание на отсутствие у нас шляп. Мы посмотрели на него, как на сумасшедшего. Зачем они здесь? Достаточно уж прятали головы в Египте и Судане. Надоело. — Как это зачем? — удивился мосье Бернар. — Что-бы не было солнечного удара. Пан Беганек нервно засмеялся, а я просто онемел. Что это с нашим французом, шутит он, что ли? Какое и Аддис-Абебе солнце? Вот послать бы его на недельку и Судан, там он почувствовал бы, что такое солнце! По мосье Бернар не шутил, и наши изумленные физиономии его не обескуражили. — Господа, — сказал он серьезно, — не забудьте, по нас отделяют от экватора всего десять градусов. Город расположен высоко, поэтому вам кажется, будто солнце не греет. Но нельзя забывать об ультрафиолетовых лучах. Нужно обязательно следить за сердцем. Интересно, знаете ли вы, на какой высоте находится Aддис-Абеба? К нашему стыду, мы не знали. — Две тысячи четыреста метров над уровнем моря. Понимаете, господа? Почти два с половиной километра. До неба недалеко! Вот почему я не советую вам выходить в город без шляп. От такой высоты у меня аж голова закружилась, а пан Беганек непроизвольно закрыл себе темя футляром от фотоаппарата. Вот тебе и на! Ходим себе спокойно по городу, видим вокруг горы и уверены, что находимся в долине. Поди догадайся, что здесь мы на пятьсот метров выше, чем если бы мы поднялись на вершину Гевонта! Чтобы не показать французу, какое это произвело на нас впечатление, пан Беганек небрежно буркнул: — Вообще говоря, эта эфиопская столица довольно-таки никудышная. Какая-то маленькая… Совсем как деревня. Мосье Бернар искоса поглядел на референта: — Действительно, Аддис-Абеба застроена пока довольно примитивно. Но, если говорить о занимаемой площади, этот маленький, как вы предполагаете, город больше Парижа. Больше Парижа? Никогда бы не подумал! Но, поскольку об этом говорил не кто-нибудь, а настоящий француз, приходилось верить. Чтобы не скомпрометировать себя окончательно, я перевел разговор на бытовые темы. — Только что мы наблюдали, как здороваются местные жители, — сказал я. — Не объясните ли вы нам, почему эти люди при встрече задают друг другу столько вопросов, что на последние из них приходится отвечать с расстояния в двадцать метров? — А женщины целуют мужчинам руки? — ни к селу, ни к городу вставил пан Беганек. Француз улыбнулся: — Потому что эфиопы — необыкновенно вежливый народ. Встретившись даже мимоходом, они обязательно расспросят друг друга о здоровье и благополучии всех родственников. На каждый вопрос следует дать как можно более радостный ответ — независимо от истинного положения вещей. Выглядит это примерно так: «Каковы ваши успехи в делах и как чувствует себя ваша жена?» — спрашивает первый. «Благодарю, — отвечает второй, — дела мои идут прекрасно, и жена чувствует себя превосходно». — «А как здоровье вашего старшего сына?» — «Благодарю, очень хорошо». И так далее. Количество вопросов зависит от числа членов семьи. — Иными словами, — задумчиво сказал пан Беганек, — если жена этого человека вовсе не чувствует себя хорошо, а дела его идут плохо, он все равно должен Отвечать, что все в порядке? На приветственные вопросы — только так. Об огорчениях и неудачах говорят после окончания церемонии приветствия, в беседе, которая, как правило, возможна только между более близкими знакомыми. — Значит, при торжественном приветствии все хорошо: и в делах везет, и жена чувствует себя прекрасно, а через минуту, в разговоре, все скверно: и жена больна, и с работы его выгнали. Да ведь это смешно! — По нашим представлениям, это, конечно, смешно, — рассмеялся мосье Бернар. — Но вы ведь знаете: в каждой стране свои обычаи. Впрочем, этот эфиопский ритуал, может быть, гораздо лучше, чем привычка сразу же, с первых слов изливать на собеседника жалобы по поводу всех семейных неприятностей и забот. Вынув из кармана свой зеленый блокнот, пан Бега-пек начал с увлечением что-то записывать. Павел воспользовался паузой. — Может быть, оставим в покое эти эфиопские приветствия, — сказал он нежнейшим голосом, бросая убийственные взгляды на меня и референта. — Вы замучаете мосье Бернара, а нам нужно еще немного побеседовать о делах. Я сейчас поеду в его контору, а вам советую возвращаться в отель. Того и гляди, начнется ливень. Павел и мосье Бернар уехали на автомобиле, а мы остались на центральной площади. Солнце уже не светло, небо затянуло тучами, стало мрачно и холодно. — Что будем делать дальше? — спросил я у референта. — Похоже, что Эфиопис готовит нам очередной сюрприз. В ответ пан Беганек состроил страдальческую гримасу и сказал, что чувствует себя «как-то странно». Должна быть, его здоровью повредила прогулка без шляпы. — А что у вас болит? — поинтересовался я. — Голова и сердце. — А где, в каком месте? Референт сделал рукой неопределенное круговое движение. — Пан Беганек, ведь это желудок, а не сердце. — В Африке все болезни начинаются с желудка. И пожалуйста, не обращайтесь ко мне постоянно: «пан Беганек, пан Беганек». Почему все должны знать мою фамилию? — Но здесь нет никого, кто понимал бы по-польски, одни эфиопы… — Ну и что, что эфиопы? Всегда спокойнее — без фамилий. — А как же мне вас называть? — Можете говорить: пан Альбин. Вы ведь видели в паспорте — это мое христианское имя. — Так что же, пан Альбин, мы будем делать дальше? Если вы нездоровы, нужно вернуться в отель. — Нет, походим немного по городу. Как только я вижу что-нибудь интересное, мне сразу становится лучше. По-видимому, недуг пана Альбина не был слишком тяжелым, потому что он довольно резво перебежал на другую сторону площади, увлекая меня за собой. Мы вошли в одну из узких торговых улочек и сразу наткнулись на нечто весьма интересное. Интуиция не подвела референта. Здесь было множество лавчонок и портняжных мастерских, перед которыми стояли сколоченные из досок столы со швейными машинками на них. Работавшие тут же портные подрубали края длинных белых хлопчатобумажных шалей, служащих одеждой как для женщин, так и для мужчин. Над лавками на длинных шестах висели сотни белых брюк с узкими штанинами, точно таких, какие мы видели почти на всех прохожих. Улочка была чем-то вроде ателье готового платья для жителей Аддис-Абебы. — Минутку, друг мой, сейчас мы выясним, как называются эти брюки и шали, — сказал пан Беганек. — Интересно, как вы это сделаете, не зная ни одного амхарского слова? Пан Беганек подмигнул и сделал чертовски хитрую мину: — Сейчас увидите. Беганек не с такими делами справлялся. Подойдя к одной из лавок, референт схватил за штанину висевшие на шесте брюки, тряхнул ими несколько раз и, пристально глядя на продавца, издал какой-то утробный звук, в котором ясно слышалась вопросительная интонация. Продавец-эфиоп, сообразив, чего хочет белый иностранец, произнес с улыбкой одно слово: «сури». Брюки называются «сури», — торжественно возвестил Великий первооткрыватель. — Видите, до чего простой язык, этот амхарский. А сейчас узнаем, как называются шали. Окрыленный успехом, пан Беганек подошел к столу, за которым портной только что закончил работу. Не долго думая, он решительно схватил шаль, но, очевидно, потянул слишком сильно, потому что весь кусок материи длиной в несколько метров внезапно оказался на земле. Рассерженный портной с криком вскочил из-за стола, но, увидев европейца, сразу изменил тон. Подняв ткань с земли, он развернул ее во всю длину перед референтом и стал что-то быстро говорить по-амхарски. В его речи несколько раз прозвучало слово «шамма»[15]. Пан Беганек был страшно напуган тем, что натворил. Он стоял с растерянным видом и покорно поддакивал всему, что говорил красноречивый портной. И вдруг произошло нечто совсем неожиданное: ободренный кротким поведением моего друга, эфиоп внезапно накинул на него поднятую с земли шаль и одним движением задрапировал ее вокруг шеи Беганека на эфиопский манер. Это было великолепно — референт Альбин Беганек, преобразившийся в эфиопа! Но главному действующему ищу такое перевоплощение пришлось не по вкусу. Он начал метаться и вырываться и делал это до тех пор, пока стеснявшая его движения шаль не разорвалась ионолам. Вот тут-то и разверзся настоящий ад! Вокруг нас сгрудилась вся улочка, крик поднялся ужасный, и громче всех вопил пострадавший портной. В потоке непонятных амхарских слов то и дело слышалось уже знакомое нам слово «шамма». Сомнений быть не могло — именно так называлась разорванная моим другом белая шаль. — Ничего не поделаешь, пан Альбий, — сказал я, — надо платить за обучение. Доставайте-ка доллары, а то будет плохо. Референт схватился за живот и со стоном проговорил, что чувствует себя с каждой минутой все хуже. Но на эфиопских портных это не произвело ни малейшего впечатления. Напротив, они закричали еще громче, а сам пострадавший стал дергать фотоаппарат, пытаясь сорвать его с шеи моего несчастного друга. Медлить было нельзя. Пан Беганек со стоном достал свои карманные деньги. При виде банкнотов все на мгновение притихли. Но, когда референт протянул пострадавшему всего лишь один доллар, снова поднялся страшный крик. Пан Беганек быстро добавил еще один. Но и это не удовлетворило владельца испорченной шаммы. Портной успокоился только тогда, когда ему были: вручены четыре доллара. Это довольно крупная сумма, из чего мы заключили, что готовое платье в Аддис-Абебе не принадлежит к числу дешевых товаров. После того как мы заплатили за шамму, настроение портных совершенно изменилось. Вокруг нас засияли приветливые улыбки, а владелец шаммы, сделав из нее аккуратный сверточек, чуть ли не силой затолкнул его под мышку референту. Провожаемые радушными поклонами, мы поспешно удалились с роковой улочки. К сожалению, наши неприятности на этом не кончились. Едва мы вернулись на площадь, как хлынул дождь. Читатели, которым известны только наши европейские дожди, хотя бы и самые сильные, не могут даже приблизительно представить себе, что такое эфиопский ливень. В одну минуту мы промокли до нитки, а центральная площадь столицы превратилась в большой бурлящий водоем. Из огромной дыры в небе, которая разверзлась над нашими головами, с шумом обрушивались, нескончаемые потоки дождя, лившегося такими сплошными струями, что даже самый острый глаз не смог бы-различить отдельных капель. Мы чувствовали себя, как мухи, на которых вылили ведро воды. Насквозь промокшие, оглушенные почти до потери сознания, мы наконец схватили свободное такси. Садясь и машину, пан Беганек попытался незаметно выбросить только что приобретенную шамму, но забыл, бедняга, что эфиопы — самый вежливый народ на свете. Бдительный шофер мгновенно выскочил из такси, поднял оброненный сверток и с приятной улыбкой протянул его рассеянному пассажиру. Получив свою вещь, законный владелец так громко скрипнул зубами, что я невольно рассмеялся. — Чему это вы смеетесь? — огрызнулся референт. — Я совсем не смеюсь, — пробормотал я, с удовольствием опускаясь на мягкое сиденье такси. — Я только не понял, зачем вы хотели выбросить шамму, которая так вам к лицу. Представьте себе, этот зазнайка совершенно не понял шутки. Он принял ее за чистую монету. — Знаете, многие говорят, что у меня очень подходящее лицо для таких экзотических нарядов, — ответил он самым серьезным тоном. — Шамма — пустяк. Жаль, что вы не видели меня в египетском тюрбане! Судите сами, что можно было на это ответить. Разве еще посмеяться. Но наше нынешнее положение не располагало к смеху. Я замерз, промок и не мог подумать без ужаса о том, что будет с Павлом, когда он узнает о покупке этой дурацкой шаммы. Шутка сказать— четыре доллара! Да еще плата за такси… Нет, мне было совсем не до смеха. Вскоре выяснилось, что за проезд до отеля мы должны ровно столько же, сколько стоила разорванная шамма, — четыре доллара. Это показалось мнебаснословно дорого, но водитель был так услужлив, что я счел неудобным торговаться. — В этом городе все стоит четыре доллара. Что за страна! Что за люди! — жаловался измученный референт. — Я должен заплатить половину. Опять придется выбросить два доллара! После этого у меня останется всего четыре. О господи, что скажет Павел! Нам ведь должно было хватить этих денег на все время! И пан Беганек с ужасным стоном схватился за живот. — Зачем только я приехал в эту несчастную Эфиопию? Все из-за вас. Если бы не вы, сидел бы я сейчас на солнышке в кофейне Гроппи, в саду, и изучал Эфиопию по книжкам. И приятнее, и дешевле, и без этого чертова дождя. Ой-ой, мой живот! Скажите этому жулику, пусть едет потише, скользко, не хватало нам еще попасть в аварию… После нескольких минут бешеной гонки автомобиль остановился около отеля. Я помог выйти моему страдающему другу и провел его под руку через ярко освещенный холл. По-видимому, мы представляли чрезвычайно жалкое зрелище, потому что наше появление вызвало настоящую сенсацию среди отдыхавших там иностранных специалистов. Когда мы добрались наконец до своего номера, я стал упрекать пана Беганека за то, что он прикидывается больным и делает из меня посмешище для всего отеля. Но референт, кажется, не притворялся. Только сейчас я увидел, что он действительно выглядит нездоровым. Беганек лежал бледный как смерть, с отсутствующим взглядом, не обращая внимания на мои упреки и не желая слышать о том, что необходимо переодеться. Как пришел, в мокрой одежде, так и повалился на постель и, держась за живот, стонал так жалобно, будто через минуту ему предстояло умереть. Я забеспокоился всерьез. Чего доброго, этот недотепа и вправду умрет! Что с ним такое? Тиф? Желтая лихорадка? Холера? Всем известно, что в Эфиопии встречаются самые страшные болезни. А может быть, это ультрафиолетовые лучи, о которых говорил француз? Такая беда, да еще в самом начале путешествия! Нет, не везет нам в Эфиопии, решительно не везет. И вдруг меня осенило. — Пан Альбин, — спросил я с надеждой, — может быть, вы просто объелись бесплатными закусками в буфете? Пан Беганек на минуту перестал умирать и поглядел на меня глазами погибающей серны: — Пан редактор, зачем вы меня обижаете? Неужели вы думаете, что мне могла бы повредить такая малость? Мне, который на всефинском конкурсе «Кто съест больше сосисок?» в Хельсинки… Он не закончил фразы. Начался новый приступ. Бедняга так застонал, что мороз пробежал у меня по коже. «Он очень болен, — подумал я в панике, — надо поскорее привести врача». Не вступая больше в разговоры с референтом, я бросился к администратору гостиницы. Пана Мачека очень встревожило состояние польского гостя. Он сразу перечислил все опасные эфиопские болезни, угрожающие беспечным иностранцам, и начал меня выспрашивать, не ел ли случайно мой друг любимое лакомство эфиопов — сырое мясо. Когда я его заверил, что, кроме обеда в гостиничном ресторане, мы ничего не брали в рот, пан Мачек немного успокоился и сказал, что сейчас же пришлет к нам врача-австрийца, который, правда, из-за преклонного возраста уже нс практикует, но живет в этом отеле и в срочных случаях охотно посещает пациентов. Когда я вернулся в номер, пан Беганек уже не стонал. Он лежал на кровати с закрытыми глазами и стал еще бледнее, чем прежде. Вид у него был такой ужасный, что у меня сжалось сердце. Не открывая глаз, вялым движением руки референт подозвал меня к себе. — Мне кажется, я уже не встану, — произнес он слабеющим голосом. — Чувствую — мой конец близок. Это не простая европейская болезнь. Ее симптомы известны мне из медицинских книг. Права была моя тетя… — Какая еще тетя? Что за чепуху вы городите? — спросил я, не зная, смеяться мне или плакать. — Я ведь вам рассказывал, что у меня есть две старые тетки. У одной из них бывают пророческие сны, которые всегда сбываются. Еще перед первой мировой войной ей снилось, что в Польше будет социализм. А накануне моей поездки в Финляндию эта тетя видела во сне, что я где-то в горах и на меня напал и сожрал лев. Тогда я только посмеялся, потому что в Финляндии нет ни гор, ни львов, но сейчас… Сами понимаете… — Ничего не понимаю, — рассердился я. — Не представляю себе, как образованный человек может верить в такую ерунду. И вообще не вижу никакой связи между тетиным сном и вашей болезнью. Насколько мне известно, до сих пор на вас не нападал ни один лев. Пан Беганек жалко улыбнулся: — Это правда, лев на меня не нападал. Но вы знаете так же хорошо, как и я, что лев изображен на гербе Эфиопии. И горы здесь тоже есть. Не будем обольщаться — смысл сна моей тети ясен: я умру в Эфиопии. Ее сны всегда сбываются. — Не валяйте дурака! — закричал я, теряя остатки терпения. Как вам не стыдно говорить такие вещи! Нет у нас никакой страшной эфиопской болезни. Сейчас прилет доктор, и все выяснится. Референт скорбно вздохнул: — Криками здесь не поможешь, пан редактор. Я хочу просить вас об одной услуге. Когда… это… произойдет, пожалуйста, не хороните меня в Эфиопии. Этот несносный дождь будет мне мешать и после смерти. Если же перевезти мои останки в Польшу, то это обойдется слишком дорого. Похороните меня в Судане. Лучше всего на той площади… Ну, вы знаете… рядом с гробницей Махди… Ну как? Обещаете? Удивительный человек пан Беганек! Даже в такую минуту ему не изменяли фантазия и высокое самомнение. К счастью, мне не пришлось ему отвечать: в этот момент раздался стук в дверь и в номер вошел врач. Это был действительно глубокий старик, к тому же почти глухой, что сильно затрудняло нашу беседу. Войдя в номер, он неизвестно почему именно меня и счел тем больным, к которому его вызвали. Не обращая внимания на протесты, он схватил мою руку и, вынув из кармана часы, стал считать пульс, а затем при помощи специальной ложечки попытался заглянуть в горло. Но этого я не мог вынести и вскрикнул так громко, что ложечка выпала из рук врача и он наконец понял свою ошибку. Мы подошли к постели умирающего, и доктор принялся энергично возвращать его к жизни. Прежде всего, он велел больному показать язык. Когда пан Беганек сделал это, я ужаснулся: язык был обложен, весь какой-то серо-зеленый. Но доктор не стал из-за этого волноваться. Он покивал головой, потер руки и сказал: — Sehr schön[16]. Затем он принялся прощупывать живот, что оказалось весьма непростым делом, потому что укротитель леопардов очень боялся щекотки. Умирающий извивался в постели, визжал, но это его не спасло. Врач проделал с его животом все, что нашел нужным, после чего снова потер руки и снова сказал свое: «Sehr schön». На этом обследование закончилось. Доктор открыл саквояжик и вынул из него бутылку с какой-то маслянистой желтоватой жидкостью. Только тогда я позвони! себе робко спросить: — Это очень серьезно, доктор? Врач взглянул на меня поверх очков и насмешливо улыбнулся: — Очень ли это серьезно? Ну конечно, mein Lieber Herr[17]. Ваш друг очень серьезно объелся. Но сейчас мы дадим ему две ложки касторового масла, и все будет в порядке. Услышав слово «касторка», чудом спасенный от смерти референт в одну минуту выздоровел и сказал, что боли уже прошли. Касторку же он принимать не будет ни за какие деньги, так как не переносит этого лекарства. Но добродушный врач за время своей долгой практики, как видно, научился справляться и не с такими пациентами. После непродолжительной борьбы Укротитель леопардов капитулировал. Он согласился принять лекарство при непременном условии, чтобы я не присутствовал при этом. Требование пана Беганека меня очень огорчило. Так хотелось посмотреть, как он глотает касторку! По-моему, я заслужил хотя бы небольшое вознаграждение за тот страх, какой он нагнал на меня своей дурацкой болезнью. Однако референт настаивал, и пришлось выйти. Когда через несколько минут я вернулся, врача в номере уже не было, а пан Беганек, хотя и лежал еще на кровати, выглядел значительно лучше и больше не изображал смертельно больного. По его растерянному виду чувствовалось, что ему страшно неловко после этого спектакля. Пан Беганек был чрезвычайно любезен. — Вы знаете, — защебетал он вместо приветствия, — оказывается, эта отвратительная «рицина», касторовое масло, добывается из семян небольшого деревца, растущего в Эфиопии на каждом шагу. Доктор сказал… Я прервал речь референта: — Великолепно. Раз так, вы и дальше можете беспрепятственно пользоваться буфетом. После этого я перешел к более серьезной проблеме: — Скажите лучше, сколько доктор взял за визит? Недавний кандидат в покойники тяжко вздохнул: — Четыре доллара. Я ведь вам говорил — в Эфиопии всё стоит четыре доллара. Теперь у меня нет ни гроша. Я отдал ему последние деньги. О боже, что скажет Павел! Опасения референта оказались более чем обоснованными. Встреча с нашим грозным предводителем была ужасна. Когда мы рассказали ему по порядку о покупке шаммы, о том, сколько с нас содрал шофер такси, и о болезни пана Беганека, Бвана Кубва пришел в бешенство. Как разъяренный тигр, он метался по комнате, выкрикивая в наш адрес такие неприятные слова, которые я совершенно не могу здесь повторить. Успокоившись, он выложил нам жесткие условия дальнейшего сосуществования. Либо мы позволим ему контролировать свои даже самые мелкие расходы, либо он не-. медленно делит общий капитал на три части и выплачивает нам целиком нашу долю. — Тогда вы сможете ежедневно покупать шаммы, разъезжать в такси и вызывать врачей, как только заболит живот и захочется касторки, — сказал он. — Но домой вы пойдете пешком, потому что на самолет денег уже не хватит. Очень вам это рекомендую. Такая пешая прогулка — мечта для настоящего путешественника. К сожалению, ни пан Беганек, ни я не были истинными путешественниками, потому что бесспорной прелести пешей прогулки от Аддис-Абебы до Варшавы мы предпочли позорную капитуляцию и, грустно опустив головы, подчинились финансовой диктатуре Павла. После этого в комнате воцарилась тишина. Павел сел писать отчет для своего главного управления, пан Беганек достал из чемодана толстую книжку и погрузился в чтение, а я тупо уставился в окно, размышляя о том, почему в Эфиопии выпадает столько дождей. Но неугомонный референт не мог долго усидеть на месте. Он вдруг поднял голову от книги, некоторое время к чему-то прислушивался, потом подбежал к окну, послушал еще немного, да как закричит: — Гиены! Слышите? Гиены смеются! Павел не шелохнулся. Да и я уже потерял доверие к нашему взбалмошному другу. Видно, он совсем сошел с ума: гиены в Аддис-Абебе! — Измерьте себе температуру, — сказал я спокойно, — термометр на ночном столике. Но референт не сдавался: — Не делайте из меня сумасшедшего. Это правда гиены. Всем известно, что в окрестностях Аддис-Абебы водится множество гиен. Ночью они часто забегают в город. Я читал об этом в книгах. Вот, слышите? Снова смеются. Он говорил так убежденно, что и я стал прислушиваться. Действительно, откуда-то издалека доносился пронзительный лай, немного напоминавший смех человека. — Павел, слышишь? Но Бвану Кубву не волновали гиены. Он писал свои отчеты. — Не морочьте мне голову своими гиенами, — прикрикнул он на пана Беганека. — Если хотите, я вам скажу, кто это смеется. Смеются типы, которые выманили у вас двенадцать долларов. Им весело, потому что такие простофили, как вы, встречаются не каждый день. После этого неделикатного замечания пан Беганек погас как свечка. О гиенах больше не было разговора. Павел закончил отчет и стал готовиться ко сну. Я последовал его примеру. И только референт продолжал неподвижно стоять у окна, вглядываясь в мокрую тьму и прислушиваясь к далеким голосам эфиопской ночи. Наконец и он устал. Повернувшись к нам, пан Беганек сказал тоном человека, полностью покорившегося судьбе. — Нет, мои дорогие, Эфиопия — это не Судан и не Египет. Там была совсем другая жизнь.
Глава IV
Пан Беганек рассказывает об императорах Эфиопии — Наконец-то мы знакомимся с эфиопом, с которым можно поговорить — Как в Эфиопии производится отсчет времени — Город, который был построен ради женщины — Ужин у француза и деликатесы эфиопской кухни
На третий день снова лило с самого утра. Скверный эфиопский климат до такой степени вывел Павла из себя, что и он вдруг начал во весь голос ругать дождь. Грозя кулаками бушующему за окном ливню, он кричал, что такая погода — это издевательство над человеком, приехавшим сюда не отдыхать или писать очерки, как некоторые его знакомые, а налаживать важные торговые связи, что каждый день пребывания в Аддис-Абебе стоит больших денег в валюте — особенно, когда рядом такие моты и расточители, как мы, что он, Павел, больше этого дождя не выдержит… и т. д. и т. д. Некогда персидский царь Ксеркс, рассердившись на море, приказал бить его железными цепями. Почему бы нашему другу Бване Кубве не покричать? Это его святое право. Жаль только, что дождь не был так послушен, как мы с паном Беганеком. Не обращая ни малейшего внимания на сердитые выкрики Бваны Кубвы, он преспокойно лил дальше. В конце концов нашего шефа утомила бесплодная борьба с дождем, и он с унылым видом стал бриться. Зато пан Беганек спозаранку был весел и щебетал, как щегол. Лечение касторкой, по-видимому, подействовало на него наилучшим образом. Если не считать интересной бледности, ничто уже не напоминало его вчерашнего плачевного состояния. Бог знает, когда он успел встать, побриться и одеться. Во всяком случае, сейчас, свежий, застегнутый на последнюю пуговицу, Беганек радостно носился по комнате и мурлыкал какую-то песенку. Его птичье легкомыслие до такой степени действовало мне на нервы, что я не смог отказать себе в небольшом удовольствии и тихонько спросил: — Пан Беганек, вы все еще мечтаете получить место рядом с гробницей Махди? Надо было видеть, как он на меня посмотрел! Как на раздавленного таракана! С каким презрением! Он, дескать, совсем не понимает, о чем речь. И продолжал кружить по комнате и напевать. Это было непереносимо. Сжав зубы, я стал терпеливо дожидаться того момента, когда наш беззаботный щегленок столкнется с разъяренным Бваной Кубвой. Однако — вопреки моим ожиданиям — до стычки дело не дошло. Павел совершенно нал духом из-за дождя. Вместо того чтобы устроить грандиозный скандал, он вдруг предложил пану Беганеку рассказать нам что-нибудь интересное об Эфиопии. Это было так не похоже на Павла, что референт в первую минуту даже испугался и заподозрил подвох. Но желание порисоваться своими познаниями было так сильно, что он колебался недолго. — А что бы вы хотели услышать? — спросил референт недоверчиво. — Прежде всего покажите эту книжку с конституцией Эфиопии. Проверим, есть ли там что-нибудь о царе Соломоне и царице Савской. — Сию минуту — радостно воскликнул позабывший об осторожности и недоверчивости референт. — Сейчас вы увидите собственными глазами. Пан Беганек порылся в чемодане, довольно быстро нашел английскую книжку, о которой шла речь, и, открыв ее на нужной странице, подсунул под нос Бване Кубве. — Пожалуйста, взгляните, — вот текст конституции Эфиопии, а вот соответствующая статья. Может быть, вы соблаговолите перевести вслух, чтобы пан редактор тоже послушал? И Павел торжественно прочитал статью II эфиопской конституции: …Титул императора во все времена должен принадлежать членам династии, которая происходит по прямой и непрерывающейся линии от Менелика I — сына царицы Савской, владычицы Эфиопии, и царя Соломона из Иерусалима. — И правда, — удивился наш шеф. — Черным по белому: царица Савская и царь Соломон, ничего не скажешь. А я был уверен, что все это ваши выдумки. — Я никогда ничего не выдумываю, пан директор, — обиделся Великий первооткрыватель. — Если хотите, я могу рассказать, как все было, так как читал об этом легенду. — Давайте! Давненько мы не слышали ваших библейских легенд. — Только прошу потом не насмехаться, как тогда, из-за Эфиописа. Настроение нашего вождя понемножку исправлялось. — Что будет потом — увидим. Я никогда не покупаю кота в мешке. — Дело было так, — начал свой рассказ пан Беганек. — Три тысячи лет назад в Эфиопии жила прекрасная царица Македа, правительница древней провинции Сава. Прекрасная царица Савская, или, как ее называют в Эфиопии, ныгыст Азэб, пожелала непременно познакомиться с иудейским царем Соломоном, о мудрости которого она много слышала от купцов, побывавших на противоположном берегу Красного моря. Царь Соломон слыл в то время самым мудрым человеком на земле. Со всего света приезжали к нему люди, чтобы он разрешил их споры или дал совет. Не было загадки, которую царь Соломон не мог бы разгадать. — А воду толочь в ступе он умел? — ядовито заметил Павел. — Ну вот, вы опять… — Ну ладно, ладно, валяйте дальше! — Итак… На чем я остановился?.. Да!.. Так вот, однажды царица Савская со всем своим двором отправилась в Иерусалим, чтобы собственными глазами увидеть мудрого царя. Соломон принял царицу с большими почестями. А затем они стали обмениваться разными мудреными загадками. И случилось то, что должно было случиться: прекрасная царица Савская полюбила мудрого царя Соломона, а мудрый царь Соломон полюбил прекрасную царицу Савскую. Не забудьте, что царь Соломон был не только мудрецом, но и величайшим поэтом. В честь своей любимой он сложил восхитительную любовную поэму, прославлявшую ее красоту. Эта поэма, известная под названием «Песнь песней», сохранилась до наших дней и до сих пор считается самым прекрасным произведением о любви всех времен и народов[18]. Но царица Савская была так горда и вместе с тем так скромна, что под разными предлогами избегала встреч наедине с влюбленным царем. И он не мог пропеть ей «Песнь песней». Доведенный до отчаяния Соломон решил добиться любви прекрасной царицы, прибегнув к хитрости. Что же он сделал? Он пригласил царицу на ужин, состоявший из одних селедок… — Ну, это уж извините! — возмутился Павел. — Никогда не поверю, что царский ужин состоял из одних селедок! — Ну, возможно и нет, — уступил референт, — во всяком случае, из большого количества селедок и других соленых блюд, потому что Соломону надо было, чтобы его гостье ночью захотелось пить. — Интересно, — недоверчиво буркнул Павел, — а зачем это ему? — Не беспокойтесь, — многозначительно улыбнулся пан Беганек, — Соломон знал, что делал. Единственный путь к дворцовому колодцу шел через его личные апартаменты. Поэтому царица, когда ей захочется пить, должна будет пройти через спальню Соломона. Павлу это не понравилось: — Джентльменом вашего Соломона никак не назовешь. Женщина приезжает в гости, а он сначала кормит ее селедками, а потом блокирует дорогу к колодцу… Но пан Беганек горячо вступился за честь царя Соломона: — Когда человек по-настоящему любит, он не останавливается ни перед чем! Референт произнес эти слова с видом такого тонкого знатока предмета, что мы не решились спорить. — Таким образом, царица Савская вынуждена была пройти ночью через покои царя Соломона. А царь ждал ее, притаившись за портьерой. Увидев любимую, он упал перед ней на колени и одним духом пропел свою «Песнь песней». Царица была покорена силой чувства, о котором рассказывалось в поэме. С этого момента ничто уже не мешало счастью двух влюбленных. А позднее от союза мудрого царя Соломона с прекрасной царицей Савской родился маленький мальчик… — Маленький мальчик, — захохотал Павел. — Вы, наверное, хотели чтобы сразу родился старичок! Увлекшись своим рассказом, пан Беганек не обратил внимания на колкость. — … родился мальчик, которого назвали Менеликом. Ребенок воспитывался при дворе матери, в Эфиопии, а достигнув совершеннолетия, отправился в Иерусалим навестить своего могущественного отца. Старый царь Соломон очень обрадовался приезду сына. Он решил помочь ему приобрести власть над всей Эфиопией. Старик щедро одарил Менелика всякими сокровищами и приставил к нему в качестве помощников большую группу мудрых иудейских советников. Юноша Менелик был очень алчен. Покидая Иерусалим, он прихватил с собой величайшую реликвию иудейского культа — Ковчег завета[19]. С ковчегом, отцовскими сокровищами и целым штабом опытных советников Менелик вернулся в Эфиопию и за короткое время завоевал всю страну. После этого он стал именоваться Менеликом I, Львом-победителем из племени Иуды, а также Божьим избранником. Менелик и положил начало династии эфиопских императоров. Закончив рассказ, пан Беганек обвел своих слушателей гордым взглядом. — А что было дальше? — с деланным равнодушием спросил Павел. — Как что дальше? Это все. На этом легенда кончается. — Очень короткая легенда, — недовольно пробурчал наш шеф, встав с кресла и широко зевнув. — Льет и льет, — грустно добавил он, подойдя к окну. — Что делать? Я договорился с мосье Бернаром на двенадцать, а тут даже такси не достать. — Если хотите, я расскажу историю подлиннее. Например, об императоре Федоре II. Павел быстро взглянул на пана Беганека. Казалось, он вот-вот взорвется. Но нет, покорившийся судьбе вождь тяжело опустился на стул: — Рассказывайте, куда деваться. — Об императоре Федоре? — Все равно. Надо же как-то переждать дождь. Референт просиял. Он устроился поудобнее и откашлялся: — Это уже не легенда, а самая правдивая история. Император Федор царствовал в Эфиопии сто с лишним лет назад. Его путь к престолу был весьма необычным… В этот момент в дверь постучали, и рассыльный сообщил Павлу, что его ждут в холле два господина. Наш шеф вмиг переродился. — Наверняка это мосье Бернар! — радостно воскликнул он. — Догадался, что я не могу выйти из гостиницы, и сам приехал. Ну, братцы, закрываем университет. На радостях он хорошенько двинул меня в плечо и как на крыльях вылетел из комнаты. — Всегда с ним так, — пожаловался пан Беганек. — Прервет на полуслове, поднимет на смех, а потом целую неделю будет делать из тебя дурака. Мне стало жаль бедного референта. Но чем было его порадовать? Я сказал, что охотно послушаю историю про императора Федора, которую так грубо прервал Павел. Однако уязвленный пан Беганек заупрямился и ни за что не захотел рассказывать дальше. Впрочем, ему бы это все равно не удалось, потому что через пять минут вернулся Павел в сопровождении двух гостей. Одним из них был уже известный нам мосье Бернар, зато другой, к нашей великой радости, оказался самым настоящим эфиопом. — Вам повезло, ребята! — загремел наш шеф. — Со мной не пропадешь! Вместо того чтобы брать интервью у чистильщика сапог, покупать разорванные шаммы и рассказывать библейские легенды, я занимаюсь делом. Вот вам эфиопский джентльмен, который говорит по-английски и по-французски гораздо лучше вас и знает Эфиопию лучше, чем об этом написано во всех книгах пана Беганека. Это господин ато Касса Амануэль, служащий здешнего банка и друг мосье Бернара. После этого Павел церемонно представил нас по-английски: — My polish friends[20] — мистер это Касса Амануэль. Эфиоп пожал нам руки и с милой улыбкой объяснил на прекрасном английском языке: — Меня зовут Касса Амануэль. Слово «ато» не относится к имени. Эфиопское «ато» соответствует английскому «мистер». — Ну конечно, прошу прощения за lapsus linguae[21]. Я оговорился, — Павел шутил, но мы прекрасно понимали, что ему чертовски неприятно. — Итак, друзья, запомните хорошенько: эфиопское «ато» соответствует польскому «пан». И тут же отыгрался на нас: — А теперь вам придется на часок «отбыть» из номера. У нас будет совещание. Зато попозже мы прокатимся на автомобиле мосье Бернара по городу. Господин Касса, который прекрасно разбирается в здешнем климате, говорит, что вскоре будет хорошая погода. После этого он обратился по-английски к эфиопу: — Так вы полагаете, позднее погода улучшится? Ато Касса Амануэль снова улыбнулся, но ответил очень серьезно; — Около семи дождь должен прекратиться. — Около семи? — ужаснулся пан Беганек. — О господи, но ведь сейчас только двенадцать! Что мы будем делать до семи? — Господа, это недоразумение, — вмешался мосье Бернар. — Ато Касса считает время по-эфиопски. Семь часов по эфиопскому времени соответствует нашему часу пополудни. Так вот оно что? Значит, время в Эфиопии отсчитывается иначе, чем в Европе! Не обращая внимания на протесты нашего шефа, мы уговорили господина Кассу Амануэля рассказать об этом интересном факте. И вот что оказалось. Отсчет времени в Эфиопии основывается на том, что солнце здесь — независимо от времени года — неизменно восходит в шесть утра, а заходит в шесть вечера. Время между восходом и закатом отсчитывается следующим образом: первый час после восхода солнца, то есть семь часов утра по европейскому времени, здесь называют один час, а дальше счет идет по порядку. Таким образом, когда наши часы показываю десять, в Эфиопии четыре часа пополудни, нашим четырем часам дня соответствуют эфиопские десять, двенадцатый час — последний час эфиопского дня — соответствует нашим шести вечера. После захода солнца начинаются ночные часы. Наши семь вечера — по-эфиопски час ночи, наши восемь часов — два часа и т. д. Но сейчас все больше эфиопов пользуются европейским временем. — Чертовски интересно! — захлебывался пан Беганек, торопливо записывая все это в свой зеленый блокнот. Но здесь Бвана Кубва решительно выступил против продолжения нашей беседы. Он сказал, что, если мы немедленно не уйдем из комнаты, прогулка сорвется. Нам пришлось поскорее убраться. Однако пан Беганек успел прихватить с собой книжки об Эфиопии. — Вы можете прогнать меня из комнаты, — сказал пи, выходя из номера, — но читать мне не запретите! Мы отправились в холл и удобно расположились там в кожаных креслах. Пан Беганек, как человек с критическим складом ума, немедленно стал проверять по своим книжкам, не спутал ли чего-нибудь Касса Амануэль. Но книги полностью подтвердили объяснения нашего нового знакомого. Кроме того, мы нашли и них чрезвычайно интересные сведения об эфиопском календаре, который, как оказалось, тоже отличается от нашего. Эфиопский год складывается из двенадцати месяцев по тридцати дней в каждом и еще одного, тринадцатого, состоящего из пяти дней, а в високосный юл — из шести. Новый год, который считается в Эфиопии одним из самых больших праздников, приходится на 11 сентября. Его первый месяц — мэскэрэм — продолжается до 10 октября. Второй месяц — тыкымт — начинается 11 октября и кончается 9 ноября. Дальше идут: хыдар, тахсас, тыр, екатит, мэгабнт, миязья, гынбот, сание, хамлие, нэхасе и, наконец, — пятидневный довесок — пагуэмен. Пан Беганек с большим удовольствием, громко и по нескольку раз произнес название каждого из эфиопских месяцев, потому что таким образом, как он объяснил, наши уши быстрее привыкнут к звучанию местной речи. После окончания декламации референт, с присущей ему скромностью, спросил: — Вам не кажется, пан редактор, что я хорошо произношу эти амхарские слова? Я без колебания ответил: — Как прирожденный амхарец. Референт зарделся от удовольствия: — Вы знаете, мне легко даются иностранные языки. Очень приятно, что и вы это заметили. И хотя ни пан Беганек, ни я не имели ни малейшего представления о том, как должна звучать амхарская речь, мы оба остались весьма довольны друг другом. В размышлениях об эфиопском календаре незаметно пролетел час. Ато Касса Амануэль, по-видимому, был могущественным волшебником и опытным заклинателем дождя, потому что ровно в час дня — в семь часов по эфиопскому времени — из-за туч выглянуло бледное солнце. А вскоре закончилось и совещание в нашем номере; должно быть, деловым людям тоже не терпелось прогуляться по городу. Перед отелем нас ждала машина мосье Бернара, роскошный шестиместный «пежо». Мы удобно расположились на мягких сиденьях, мосье Бернар запустил двигатель, фонтаны грязи взлетели по обеим сторонам машины… Началась наша вторая экскурсия по столице Эфиопии. Насколько она была приятнее первой! Не нужно было карабкаться вверх и вниз по улицам, торопиться и выслушивать бесконечные понукания Павла. А главное — мы уже не брели наугад, без плана. В нашем распоряжении был автомобиль и прекрасные экскурсоводы. Аддис-Абеба лежала перед нами, как огромный пирог, от которого наши гиды отламывали для нас особенно лакомые кусочки. Вначале мы немного поездили по торговому центру, осмотрели оживленную площадь, новое здание почты, восьмистенный кафедральный собор святого Георгия. Когда мы проезжали мимо улочки, на которой пан Беганек приобрел свою разорванную шамму, я сказал сидевшему рядом со мной мосье Бернару, что здесь мой друг берет уроки амхарского языка. Француз с похвалой отозвался об усердии референта и стал расспрашивать о подробностях. Тогда Укротитель леопардов, позабыв о правилах хорошего тона, ущипнул меня так, что я едва не перевернул автомобиль. Осмотрев центр города, мы отправились на окраины, в район коттеджей, где увидели очаровательные розовые домики в итальянском стиле и большой современный отель. Этот прекрасный район, резко отличающийся от остальных частей города, построили для себя победители — фашистские захватчики. В прелестных домиках жили оккупационные чиновники и офицеры, а отель служил казармой для жандармерии. Завоеватели выбрали для себя прекрасное место. Воздух здесь напоен сильным ароматом эвкалиптов. Повсюду, куда ни кинешь взгляд, переливается серебристо-синяя листва эвкалиптовых рощ. Местность заметно поднимается вверх, рощи взбираются все выше и выше, долина постепенно переходит в склон высокого холма. Мосье Бернар остановил машину. Задрав головы, мы смотрели на вершину холма. Там возвышалось какое-то строение — очень величественное, хотя и деревянное. Над крышей поднимался небольшой серебристый купол. В глубоком молчании мы с наслаждением вдыхали аромат эвкалиптов. Было так хорошо, что мы совсем забыли о необходимости пополнять запас сведений об Эфиопии. — Вы видите перед собой Дворцовую гору, — прервал наконец молчание Касса Амануэль. — Там находится древняя резиденция императоров. Серебряный купол — это мавзолей императора Менелика. О боже, как чудовищно скомпрометировал себя в этот момент наш глубокоуважаемый шеф! Бвана Кубва, несомненно, был замечательным специалистом в области торговли, но историческая хронология для него как бы вовсе не существовала. Услышав знакомое слово «Менелик», он тут же не задумываясь выпалил: — Как же, как же, знаю! Тот самый — сын царя Соломона и царицы Савской! В ответ на эту неслыханную чушь ато Касса Амануэль и мосье Бернар лишь деликатно улыбнулись. Но пан Беганек, не простивший Павлу его недавние насмешки, не упустил случая отыграться: — Господи, что вы говорите! Слушать стыдно! Библейский Менелик — это Менелик I, и царствовал он три тысячи лет назад — я ведь вам ясно говорил. А это император Менелик II, который умер недавно, каких-нибудь пятьдесят лет назад![22] Бедный Павел! Его ли это вина, что всех императоров Менеликов, какими располагает история Эфиопии, ему представили в течение одного дня? Вполне понятно, что он не успел достаточно хорошо освоиться с ними и перепутал номера! Из затруднительного положения нам помог выбраться обходительный ато Касса Амануэль. Он стал рассказывать о правителе, останки которого покоятся под серебряным куполом мавзолея. Рассказ о Менелике II был не менее интересен, чем легенда о его библейском предке. — Это был величайший из наших императоров, — рассказывал Касса Амануэль. — Правитель, заложивший основы современного эфиопского государства, и победоносный полководец, заставивший Европу уважать его страну. По мнению нашего эфиопского знакомого, самым замечательным подвигом Менелика II была знаменитая победа под Адуа в 1896 году. В битве под Адуа был наголову разбит итальянский экспедиционный корпус, посланный для завоевания Эфиопии. Эта победа прославила имя императора Менелика во всем мире и стала грозным предостережением для всех европейских колонизаторов. С тех пор долгое время никто не осмеливался нападать на Эфиопию — вплоть до второго итальянского вторжения в 1935 году. — Не буду утомлять вас историей наших войн, — сказал Касса Амануэль. — Гораздо больше должен заинтересовать вас тот факт, что император Менелик II был основателем Аддис-Абебы. — Неужели? — удивился пан Беганек. — Значит, до Менелика Эфиопия не имела столицы? — Можно сказать, что так, — согласился Касса Амануэль. — Хотя император Менелик давно уже стал могущественным правителем объединенной Эфиопии и принимал у себя послов и полномочных представителей из всех стран мира, его двор выглядел невероятно убого. Резиденция императора находилась в горах, в Энтото. Там не было даже приличных жилых домов. Двор и императорская семья жили в палатках. В сущности, столица представляла собой временный военный лагерь, кочевавший из одного княжества в другое. Большую часть времени Менелик проводил в разъездах. Он переезжал из одной провинции в другую, устанавливал новые порядки, решал споры, выслушивал жалобы и просьбы населения. — Совсем как наши послы в сейме[23], — неожиданно вставил пан Беганек. — Не дурачьтесь, — резко оборвал его Павел. Касса Амануэль, оставивший без внимания мелкую стычку моих друзей, продолжал рассказ о возникновении столицы Эфиопии. С немалым удивлением мы узнали, что Аддис-Абеба обязана своим возникновением весьма романтическому обстоятельству. Этот город был просто-напросто подарком любимой женщине. Сам император Менелик, если бы это зависело только от него, по-видимому, до конца жизни не отказался бы от своей кочующей столицы. Но бесконечные разъезды и отсутствие постоянного жилья очень не нравились любимой жене Менелика, прекрасной императрице Таиту. Молодая женщина чувствовала себя плохо в холодном Энтото. Она мечтала поселиться в солнечной долине, близ горячих серных источников, которые, как говорили, благотворно влияют на кожу. Императрице пришлось приложить некоторые усилия, но в конце концов она настояла на своем. Император был решителен и бесстрашен на войне, дома же предпочитал сохранять мир. Он уступил просьбам жены. Гак началось строительство новой столицы. — А то место, на котором мы сейчас находимся, напивается Фыльвуха? Касса Амануэль утвердительно кивнул. — Ну, что же, — обрадовался Великий первооткрыватель. — Я уверен, что императрицу Таиту привлек сюда дивный аромат эвкалиптов. — Вы ошибаетесь, — улыбнулся Касса Амануэль, — и то время здесь еще не было эвкалиптов. Выжженная солнцем долина скорее напоминала пустыню: ни деревца, ни кустика. Намерение построить новую столицу. посреди голой, лишенной растительности пустыни показалось окружающим безумным, что вызвало немало шума. Но влюбленный в императрицу Таиту Менелик решил исполнить ее желание во что бы то ни стало. По совету французского ученого-натуралиста он приказал привезти из Австралии несколько тысяч саженцев эвкалиптов, самых быстрорастущих деревьев на земле. Они были посажены вблизи строящегося города. Это стоило больших денег, зато через несколько лет голая равнина преобразилась в огромную эвкалиптовую рощу. Желая; подчеркнуть, что новая столица — подарок для любимой жены, Менелик назвал город Аддис-Абебой, что в переводе с амхарского означает «Новый Цветок». — Вот это любовь! — растрогался пан Беганек. — На такое чувство способны только великие люди! — Если они располагают соответствующими фондами за счет налоговых поступлений, — заметил я, желая несколько остудить пыл нашего романтичного референта. А Бвана Кубва насмешливо добавил: — Любовь любовью, а у меня предчувствие, что мы снова изрядно вымокнем — тучи уже собираются над головой. Это прозаическое замечание отрезвило всех. По приглашению мосье Бернара мы заняли места в машине и поехали обратно по направлению к центру города. — Опять в этот скучный отель! — вздохнул пан Беганек. — Все начинается отелем и кончается отелем. Мосье Бернар уловил в этой польской фразе повторившееся несколько раз слово «отель» и отрицательно покачал головой. — Мосье, мы не едем в отель. Я позволил себе пригласить вас на ужин. Мы уже договорились с мосье директором. Надеюсь, вы не откажетесь. Мы, разумеется, не отказались. Пан Беганек, правда, тихонько шепнул мне, что предпочел бы получить приглашение от ато Кассы Амануэля — у него, мол, было бы интереснее, но не стоило обращать внимания на капризного, как императрица Таиту, референта. Я принял приглашение от имени нас обоих, а пану Беганеку на всякий случай сказал: — Пожалуйста, не берите слишком быстрого темпа за ужином. Очень вас об этом прошу. Французский посредник жил в самом центре торговой части города в двухэтажном каменном доме. Его квартира была обставлена очень приятно, но совершенно по-европейски. В ней полностью отсутствовал местный колорит — ничего эфиопского, кроме открывшего нам дверь черного слуги, которого пан Беганек сразу окрестил «человеком из племени шанкалла». Мосье Бернар ввел нас в небольшой салон и, извинившись, оставил одних, а сам ушел распорядиться насчет ужина. Вскоре вошел «человек из племени шанкалла». Он принес кувшин лимонада, полный поднос печенья и других сластей. Поставив все это на столик около окна, слуга молча удалился. Нас не соблазнило сладкое — не хотелось портить аппетит перед ужином. Но пан Беганек был не из тех людей, которые в подобной ситуации в состоянии усидеть на месте. Он быстро подошел к столику, взял с подноса самую большую пачку печенья, внимательно осмотрел ее и вдруг бросил обратно, да так, словно в его руках оказался кусок раскаленного угля. — Ну и ну! — воскликнул он с неподдельным возмущением. — Польское печенье! Вот, написано: «Е. Wedel — made in Poland». Мы с Павлом тут же очутились у столика, и я начал хвастаться перед Кассой Амануэлем польскими кондитерскими изделиями, которые попадают даже в Эфиопию. Павел же, как специалист, полностью раскритиковал упаковку, якобы совершенно не соответствующую африканским условиям, и заявил, что наших экспортеров надо бить за такие дела. А пан Беганек подвел грустный итог: — Стоило тащиться в Эфиопию, ломать язык при общении с иностранцами, три дня мокнуть под дождем, чтобы в конце концов получить на ужин польское печенье Ведля, которое можно купить в любом варшавском магазине! Наше разочарование было велико, но преждевременно — мы еще не знали, что нас ждет приятный сюрприз: мосье Бернар приготовил в нашу честь настоящий эфиопский ужин! Когда хозяин дома сообщил эту замечательную новость, пан Беганек выразил такую бурную радость, что «человек из племени шанкалла», убиравший стаканы и тарелки со столика под окном вздрогнул и странно взглянул на него. Видимо, поведение референта напомнило ему родные джунгли. В столовой, куда мы перешли по приглашению мосье Бернара, нас ожидал накрытый белой скатертью стол, заставленный деликатесами эфиопской кухни. К великому неудовольствию пана Беганека, ужин оказался очень скромным. Он состоял из местного хлеба ынджеры[24] и большой миски коричневого мясного соуса под названием вот[25]. Кроме того, на столе стояли всевозможные салаты: из бананов, дыни и других фруктов и овощей. Эфиопское пиво тэлля[26] и вино из меда тедж[27] нам наливали из круглых глиняных кувшинов с длинными, узкими горлышками. Эфиопский хлеб ынджера похож на испеченные на поду лепешки. По виду он напоминает большие, очень тонко нарезанные ломти пористой губки. Но по вкусу мало отличается от нашего ржаного хлеба. Зато соус вот… Но о соусе необходимо рассказать особо. Ато Касса Амануэль, перечислив названия основных блюд, объяснил, как их едят. Оказывается, эфиопы не пользуются ложками, вилками и ножами. Куски ынджеры они отрывают пальцами от ломтя и окунают в общую миску с соусом вот. Такой метод показался нам несколько непривычным и неудобным, поэтому мы с Павлом не спешили приступать к ужину, ожидая, пока хозяин подаст нам пример. Иное дело пан Беганек. Для нашего друга за столом вообще не существовало никаких трудностей. Не долго думая, он оторвал довольно большой кусок ынджеры, обмакнул его в густой соус, стараясь захватить побольше мяса, свернул все это в аппетитный комочек и отправил в рот. До этого момента все шло гладко и прекрасно. Но тут… Проглотив ынджеру и вот, референт страшно покраснел, закашлялся, глаза его наполнились слезами, рот широко открылся, и он начал спазматически хватать воздух, как человек, который вот-вот умрет от удушья. У него был до того несчастный вид, что мы с Павлом не на шутку испугались. Но Касса Амануэль не шелохнулся, а мосье Бернар лишь сочувственно улыбнулся и сказал: — Простите, пожалуйста, я забыл предупредить, что соус острый. Для непривычного человека… Пан Беганек был слишком горд, чтобы потерпеть чье-либо сочувствие. Гигантским усилием воли он овладел собой, вытер слезы и, словно Муций Сцевола[28], держащий руку над огнем, произнес: — Острый? Пустяки. Мне случалось есть гораздо более острые блюда. В подтверждение своих слов он отломил новый кусок ынджеры и еще более тщательно искупал его в коричневом соусе. Тогда и мы решились отведать этот деликатес. Как ни осторожно это было сделано, эффект получился такой же, как у пана Беганека, — мы сидели и плакали. Когда немного полегчало, Павел сказал, что, съев миску вота, можно смело выступать в цирке фокусником-глотателем огня. Однако третий кусок ынджеры с вотом прошел в наши желудки вполне спокойно. Каким невероятно вкусным было это блюдо! А пан Беганек так набросился на огнедышащее содержимое миски, что пришлось дважды одернуть его. С немалым удивлением мы узнали, что основными компонентами этого великолепного соуса являются эфиопский красный перец и… старое масло. Услышав про старое масло, пан Беганек тут же схватился за живот и сообщил, что чувствует себя «не слишком хорошо». Но Касса Амануэль успокоил его, заверив, что старое масло ему ни в коем случае не повредит. Позднее нам говорили, чтоэфиопы уже тысячу лет пользуются старым маслом как лечебным средством. Чем старше масло, тем лучше оно действует. Двухлетним маслом кормят даже грудных младенцев, чтобы предохранить их от различных заболеваний. Очень возможно, что читателям этот эфиопский обычай покажется чуть ли не жестоким. Но не спешите, друзья! Если эфиопы на протяжении тысячи лет лечат своих детей старым маслом, наверняка за этим что-то скрывается. Путешествия по дальним странам убедили меня, что в любом древнем народном обычае есть крупица мудрости. И я бы ничуть не удивился, если бы в один прекрасный день европейские ученые вдруг нашли, что старое масло содержит в себе бактерицидные элементы. Ведь и чудодейственный пенициллин обнаружили в плесени и других неаппетитных вещах. Покончив с ынджерой и потом. мы перешли к напиткам. И сразу узнали удивительную вещь — оказывается, эфиопское пиво тэлля готовят только женщины, тогда как производство вина — дело исключительно мужское. Наш референт, как всегда, показал себя джентльменом. — Из уважения к прекрасному полу, — сказал пан Беганек, — я начинаю с пива. Преисполненный чувства собственного достоинства, он налил себе целый стакан очень темной жидкости. Однако после первого глотка поморщился и быстро отодвинул стакан: — Чуть не забыл: врач запретил мне пиво. Вино, кажется, более полезно. На всякий случай и мы не стали пить пиво, а сразу принялись за тедж. Он был великолепен. Это — обычный мед, растворенный в воде и перебродивший с добавлением листьев какого-то дерева. Тедж по вкусу напоминает легкое белое вино и чудесно поднимает настроение. Ужин пробудил у нас интерес к эфиопской кухне. Мы начали расспрашивать Кассу Амануэля о том, что охотнее всего едят его сородичи. Но наш собеседник не проявил особого желания распространяться на эту тему. — Мои дорогие, — сказал он, — иностранцам в незнакомой стране все кажется или странным, или смешным. Когда я учился в Париже, первое время меня тоже многие вещи удивляли или смешили. Я вас понимаю: вам хочется побольше поудивляться и посмеяться. Но должен предупредить: эфиопы — гордый народ и очень не любят, когда европейцы высмеивают древние обычаи их страны. В конце концов Касса Амануэль все-таки поддался на наши уговоры и рассказал о любимом традиционном блюде эфиопов. Им оказалось сырое мясо. Пристрастие к нему вполне естественно для кочующих народов, но вот беда: частое его употребление вызывает очень неприятное заболевание — солитер, которое носит в Эфиопии массовый характер. Чуть ли не каждый житель страны время от времени заболевает этим тяжелым недугом. Единственное лекарство против него— отвар из листьев дерева коссо, очень сильное слабительное средство. На время лечения больному приходится бросать работу, в результате чего массовые заболевания солитером и лечение листьями коссо создают огромные трудности и тормозят работу всего государственного аппарата. Нередко случается, что, придя в какую-нибудь контору или учреждение, клиент находит на запертых дверях листок с лаконичной надписью: «Не работаем в связи с лечением коссо». Это задерживает решение многих частных и государственных вопросов, поэтому правительство все более решительно борется против употребления сырого мяса. Гурманы горюют по этому поводу, но интересы государства должны быть поставлены выше старых привычек. Мы с большим интересом выслушали этот рассказ, а пан Беганек, со времени недавнего недомогания считавший себя специалистом по желудочно-кишечным заболеваниям, долго расспрашивал Кассу Амануэля о дереве коссо и приготовлении из него лечебного отвара. Напоследок, желая утешить своего собеседника, он сказал: — У нас не едят сырого мяса, но дела в учреждениях тоже решаются очень медленно. В конце ужина, после того как было выпито по нескольку стаканов теджа, пан Беганек пришел в отличное расположение духа и повел себя совсем непринужденно. Он постучал ножом по стакану и возвестил по-польски: — А теперь я расскажу вам об императоре Федоре II! Директор помешал мне утром, поэтому сделаю это сейчас! Услышав такое, Бвана Кубва, тоже изрядно выпивший, посмотрел на пана Беганека испепеляющим взглядом и сказал: — Не согласен ни на какие рассказы об императоре Федоре! Хватит с меня вашего древнего вздора! На сей раз и я поддержал Павла. — Пан Альбин, — сказал я мягко, но решительно, — оставьте вашего Федора. Что вам вдруг взбрело на ум? Пан Беганек укоризненно взглянул на меня. Такой вид, должно быть, имел Юлий Цезарь, когда, окруженный заговорщиками, увидел среди них Брута. Да, сейчас я тоже был против пана Альбина. Тедж придал мне твердости и прояснил мысли. Я понял, что больше не хочу ничего слышать об императорах, и не просто так, а по принципиальным соображениям. Когда мосье Бернар поинтересовался содержанием нашего спора, я перешел на английский язык и четко изложил свои аргументы. — Наш друг собирается рассказывать об императоре Федоре II, а я не хочу слушать. Все время императоры и императоры. Как будто в Эфиопии, кроме императоров, нет никого и ничего. На завтрак — Менелик I, сын царя Соломона и царицы Савской, на обед — Менелик II, муж прекрасной и капризной Таиту, а теперь, на ужин, этот злосчастный Федор II, о котором говорят, что он взошел на престол каким-то странным образом. Надоело до крайности! Мне нужно написать очерк об Эфиопии, не буду же я писать об одних императорах! Совершенно неожиданно я нашел союзника в лице Кассы Амануэля, который согласился со мной, что очерк об Эфиопии не может состоять из одних историй об императорах. В его стране, сказал он, есть много других интересных вещей, и он обязательно меня с ними ознакомит. — Однако и от императоров не следует совсем отказываться, — прибавил он в заключение. — Судьбы некоторых правителей Эфиопии очень любопытны и многое объясняют в истории и обычаях нашего народа. После ужина мы снова перешли в гостиную; «человек из племени шанкалла» принес прекрасный кофе и подал его по-эфиопски — в маленьких чашечках с двумя ушками. Быстро опорожнив свою чашку, Касса Амануэль встал и поклонился хозяину. — Когда в Эфиопии подают кофе, — объяснил он, — это знак того, что гостям пора заканчивать визит. Пан Беганек изумился и быстро сделал пометки в своем зеленом блокноте. — До чего удивительная страна Эфиопия! В Польше все начинается с кофе, а здесь, наоборот, — все им заканчивается, — сказал он на прощание. Покинув гостеприимный дом мосье Бернара, мы вскоре расстались и с Кассой Амануэлем, еще раз повторившим обещание и впредь по мере сил посвящать нас в тайны своей родины. Когда мы остались одни, пан Беганек вдруг утратил хорошее настроение. Он начал охать и жаловаться на плохое самочувствие — видимо, старое масло в соусе все-таки повредило. — Не огорчайтесь, — утешил я его, — в Эфиопии много деревьев, из которых добывают касторовое масло, а кроме того, у вас ведь есть рецепт отвара из листьев коссо. Референт ничего не ответил и лишь тяжело вздохнул. Этим и закончился третий день нашего пребывания в стране Льва-победителя из племени Иуды.
Глава V
Два безнадежных дня — Трагическая история императора Федора — Касса Амануэль спасает нас от скуки — Ссора с Павлом — Мы выезжаем из Аддис-Абебы — Наши спутники — Как возникла железная дорога Аддис-Абеба — Джибути — Конфликт с французом — Почему в Эфиопии так много иностранных специалистов — Посещение вагона третьего класса — Станция А ваш — Ночные происшествия
Следующие два дня прошли в томительной скуке. Почти все время шел дождь, и нам приходилось как прикованным сидеть в отеле. Когда дождь ненадолго прекращался, мы с паном Беганеком выходили в город. Но краткие прогулки без денег и провожатых нисколько не обогащали наших представлений о городе императрицы Таиту. Целыми часами мы бесцельно слонялись по одним и тем же улицам, разглядывали одни и те же, давно примелькавшиеся предметы и без конца спорили о том, кому принадлежит идея этой дурацкой и нелепой поездки в Эфиопию. Вконец измученные, а часто и промокшие до нитки — после того как Павел отменил карманные деньги, о такси уже не могло быть и речи, — мы возвращались в отель скучать в четырех стенах нашего номера. Бвана Кубва совершенно от нас обособился и бросил на произвол судьбы. Мосье Бернар с утра заезжал за ним на машине, и весь день они ездили к разным коммерсантам и торговым представителям. Милейший мосье Бернар предложил было брать и нас в эти поездки, но Павел не согласился, сказав, что пан Беганек своими бесконечными расспросами не даст ему сосредоточиться. Наш гид и покровитель Касса Амануэль, видимо, забыл о своих обещаниях — он исчез, как и наши карманные деньги, и не подавал признаков жизни. Мы стали заходить к пану Мачеку. Но у любезного администратора отеля было слишком мало свободного времени, да он и не годился в экскурсоводы. Вместо того чтобы рассказывать о достопримечательностях Эфиопии, пан Мачек изводил нас воспоминаниями о своей родной Праге, которую покинул тридцать лет назад, и подробно объяснял, как надо готовить жаркое с кнедликами и другие блюда чешской кухни. Людям, интересующимся Эфиопией, нечего было делать в кабинете пана Мачека. Таким образом, мы остались совсем одни в залитой дождем Аддис-Абебе и умирали от скуки совершенно так же, как некогда прекрасная императрица Таиту в Энтото. Пан Беганек, разумеется, воспользовался обстановкой и в первый же день рассказал знаменитую трагическую историю о несчастном императоре Федоре II. Памятуя совет Кассы Амануэля, я особенно не сопротивлялся. И хорошо сделал, так как она оказалась действительно очень интересной. А кроме того, для меня многое прояснилось в характере и образе жизни эфиопов. Рассказ пана Беганека об императоре Федоре 11 заслуживает того, чтобы быть приведенным в этой книге. Но должен предупредить вас, дорогие читатели, что повествование будет длинным и очень печальным. Император Федор II жил сто лет назад[29]. Он был предшественником Менелика II. Эфиопия в то время находилась в состоянии полного хаоса. Могущественные правители отдельных провинций, расы, вели между собой жестокую борьбу, стремясь посадить на императорский трон своих послушных ставленников. По всей стране шла религиозная война между христианами и мусульманами. Мало того, на Эфиопию зарились внешние враги — европейские колонизаторы. Император Федор II — до восшествия на престол он, как и наш эфиопский друг, именовался просто Касса — принадлежал к беднейшей ветви императорской династии Соломонидов. Его отец был правителем небольшого округа. После смерти отца семья оказалась в такой нужде, что мать будущего императора вынуждена была зарабатывать на жизнь продажей лекарства коссо на базаре. Касса воспитывался в монастыре на берегу озера Тана. Бедная мать готовила его к духовному званию, но юный Соломонид, с детства отличавшийся незаурядными способностями и непомерным честолюбием, не имел ни малейшего желания стать священником. Достигнув совершеннолетия, Касса убежал из монастыря, подобрал компанию таких же, как он сам, отчаянных ребят и занялся разбоем на оживленных дорогах. В короткий срок Касса приобрел славу великого борца и защитника христовой веры. А поскольку он был талантливым вождем и щедрым начальником, к нему потянулись со всех концов страны бедные крестьяне. Небольшой поначалу отряд со временем разросся в сильную армию, захватившую несколько больших провинций. Авторитет «сына торговки коссо» — так пренебрежительно называли Кассу при императорском дворе — очень беспокоил монарха и преданных ему расов, и они решили покончить с опасным соперником из рода Соломонидов. Против «бунтовщика и разбойника» послали сильную императорскую армию. Но дело приняло совершенно неожиданный оборот. Одержав решающую победу над императорскими войсками, «бунтовщик и разбойник» превратился в самого могущественного феодала во всей Эфиопии. Вскоре император умер. Придворные расы выбрали из своего числа преемника, для коронации которого был вызван старейший из эфиопских епископов — абуна. Между тем рас Касса, узнавший благодаря своим связям в среде духовенства, по какой дороге абуна поедет на коронацию, устроил засаду. В результате глава эфиопской христианской церкви с императорскими регалиями, которые он вез с собой, оказался в его руках. Касса потребовал, чтобы короновали его самого. Абуна не стал противиться возвышению прославленного «защитника христовой веры». Так несостоявшийся священник, бывший разбойник с большой дороги был провозглашен царем царей — негусэ-негестом. Честолюбивый рас Касса короновался под именем Федора II. Дело в том, что, согласно древней эфиопской легенде, «справедливый и доблестный правитель Эфиопии по имени Федор победит всех приверженцев ислама, освободит от неверных Иерусалим и воссядет на престоле царя Соломона». Сын торговки коссо решил убедить всех, что именно он и есть тот Федор, которому суждено завоевать трон библейского предка. Начало царствования Федора II было благоприятным. Это первый правитель Эфиопии, стремившийся вывести страну из мрака феодального средневековья и превратить ее в современное государство. Он заставил повиноваться распоясавшихся расов, пригласил европейских советников, запретил работорговлю, ввел прогрессивные законы, назначил на важные государственные посты способных людей недворянского происхождения. К сожалению, у этого прогрессивного и разумного правителя через несколько лет появились признаки психического заболевания. При малейшем неповиновении Федор впадал в бешенство. Он мог убить ударом кулака любого из подчиненных. Нередко случалось, что из-за своих нелепых распоряжений император попадал в смешное положение. Он шокировал окружающих неприличными выходками: Федор мог, например, предстать перед министрами совершенно голым. Странные и дикие поступки императора привели к тому, что он лишился доверия подданных и возбудил к себе всеобщую ненависть. Положение Федора было тем более тяжелым, что стране грозила опасность извне. Великобритания откровенно готовилась к нападению на Эфиопию и захвату истоков Голубого Нила, который берет начало в озере Тана. Но англичане никогда не начинали колониальных войн без подходящего предлога. В Судане, например, поводом к войне послужило убийство махдистами генерала Гордона. В Эфиопии же таким предлогом стало безумие императора Федора. Когда болезнь временно отступала, Федор II, смелый политик, мечтал превратить Эфиопию в мировую державу. Но прогрессирующая болезнь придавала этой мечте бредовый характер. Полубезумный негус внушил себе, что легче всего достигнет своей цели… породнившись с королевской семьей Великобритании. Не долго думая, он обратился к вдовствующей английской королеве Виктории с письмом, в котором предлагал ей ру-; ку и сердце. Англичане отнеслись к сватовству африканского монарха пренебрежительно, и «жених» попросту не получил ответа. Вне себя от гнева и унижения, Федор приказал заковать в цепи английского консула и выслать из Эфиопии всех иностранцев. Англичанам только того и надо было. Сорокатысячная карательная экспедиция под командованием генерала сэра Роберта Нэпира двинулась на завоевание истоков Голубого Нила. Федор стойко сопротивлялся, но, не поддержанный народом, который он восстановил против себя своими безумствами, вынужден был отступить в горную крепость Магдала. Под ураганным артиллерийским огнем англичан император приказал всем, кому не хватает мужества, покинуть крепость, а сам с ближайшими родственниками и наиболее преданными придворными остался в Магдалу. Видя, что дальнейшее сопротивление невозможно, Федор послал осаждавшим крепость англичанам тысячу волов, чтобы они могли отпраздновать победу, а сам застрелился. Перед смертью император написал письмо английскому главнокомандующему. Вот заключительные строки этого письма, до сих пор хранящегося в британских архивах: «Все зло, которое я причинил моему народу, пусть господь обратит в добро. Я хотел с божьей помощью завоевать весь мир и решил умереть, если не сумею достичь этой цели». После смерти Федора, как это часто случается, от-ношение к нему совершенно изменилось: благодаря своему мужественному поступку он вернул утраченную популярность и доверие народа. В роковой крепости родилась и полетела по Эфиопии песнь славы и отмщения: «Там, в Магдале, раздался крик. Умер лев, для которого позором было бы пасть от руки человека…» До сих пор неизвестны причины, заставившие Нэпира, которому было присвоено звание лорда Магдалы, уйти из Эфиопии. Правда, английский полководец увел войска, уверенный, что возвратится при первом удоб-ном случае, который так и не представился. Император Менелик II, занявший трон Федора, несколько лег спустя, в битве под Адуа, преподал такой урок итальянским захватчикам, что надолго отбил у европейских колонизаторов охоту покушаться на свободу Эфиопии. Рассказ пана Беганека об императоре Федоре был единственным интересным эпизодом за все время наше-|о двухдневного заточения. Когда закончилась эта печальная повесть, мы вновь погрузились в уныние. Так и прошли эти два кошмарных, дождливых дня. Но на третий — все изменилось. Впервые после нашего приезда в Эфиопию нас с утра разбудило солнце. Если вы не бывали в Эфиопии в период «больших дождей», вы не сможете себе представить, какая это огромная радость — проснувшись, не услышать стука дождя по стеклам, а вместо этого почувствовать тепло солнечных лучей. С наступлением хорошей погоды произошло еще одно, не менее радостное событие: мосье Бернар привез к нам в отель пропавшего Кассу Амануэля, который приветствовал нас с самым невинным видом, не обращая никакого внимания на укоризненные взгляды. — Не сердитесь на меня, господа, — сказал он весело. — Я не забыл свои обещания, просто было очень много дел. Зато сегодня у меня есть такое предложение, которое искупит мое двухдневное отсутствие. При этом он так загадочно и многообещающе улыбнулся, что меня охватило приятное волнение. — Я знаю, в чем дело, — догадался пан Беганек. — Вы хотите пригласить нас к себе на сырое мясо. Я не согласен. Но ато Касса лишь покачал головой и заговорщически поглядел на француза. Ему явно хотелось, чтобы суть его предложения изложил мосье Бернар, который был с нами лучше знаком. Когда же мосье Бернар рассказал о проекте Кассы Амануэля, я даже присвистнул от изумления, а у пана Беганека на нервной почве выступили красные пятна. Это было великолепно! Ничего лучшего нельзя было придумать. Так вот, по поручению своего банка Касса Амануэль собирался съездить на несколько дней в Харэр, столицу провинции, славящейся кофейными плантациями, не говоря уже о других достопримечательностях. Зная, что мы мечтаем увидеть как можно больше интересного, наш друг предложил нам сопровождать его в этой поездке. Относилось это, конечно, только ко мне и пану Беганеку, потому что у Павла и мосье Бернара были дела в Аддис-Абебе. Мы с тревогой посмотрели на Павла. Что скажет наш деспотичный шеф? В первый момент Бвана Кубва опешил и покраснел, как свекла. Подумать только — вдруг, ни с того, ни с сего, все переворачивается вверх ногами: он остается, а мы едем! С этим нелегко примириться! Павел задумался так глубоко, что на лбу его выступили жилы. Наконец, он с трудом промолвил: — Признаться, я обескуражен. Поездка в Харэр будет стоить очень дорого, а мы должны экономить. — Павлик, — прошептал я умоляюще, — ведь это единственная возможность написать хороший очерк. Ато Касса обещал… — Павлик! Павлик! — рассердился наш шеф. — Павлик, дай на шамму! Павлик — на такси, на врача! А теперь еще, эта поездка в Харэр! А что потом? Павлик должен ломать себе голову, где взять деньги на обратный билет. И угораздило же меня встретить тебя в Египте! Похоже, что за те несколько лет, которые мы вместе проучились в школе, я должен буду расплачиваться всю жизнь! Нет, не согласен! Не желаю слышать ни о каком Харэре. Не дам ни гроша! Тогда возвысил голос пан Беганек. — Пан директор, — сказал он с ледяным спокойствием, — это недоразумение. Мы не на вашем иждивении. Я лично провожу в Эфиопии свой отпуск, который оплачиваю собственными заработанными тяжелым трудом деньгами. А пан редактор, насколько мне известно, в командировке от редакции. Нам показалось, что из багровых щек Павла сию минуту брызнет кровь. Он заклокотал, как разъяренный индюк: — Ах так! Это — благодарность за то, что я взял вас в Эфиопию? За мою доброту и заботу? За то, что я терпеливо выслушиваю ваши дурацкие легенды? Ну хорошо! Сейчас же отдаю вам вашу долю и слышать о вас больше не хочу! С этими словами он вынул кошелек и стал торопливо доставать из него зеленые бумажки. Мосье Бернар, ничего не понявший из этой сцены, решил, что Павел дает нам деньги на поездку в Харэр. — Это очень хорошая мысль, насчет Харэра, — вмешался он в наш разговор. — Жаль, что мосье директор не может уехать из Аддис-Абебы. Но вашим друзьям представляется прекрасный случай осмотреть одну из самых интересных провинций Эфиопии. Харэр — важный торговый центр. Там есть оптовики, торгующие кофе, и другие крупные коммерсанты. Ато Касса Амануэль поможет вашим друзьям завязать с ними деловые отношения. Как знать, может быть, в будущем удастся договориться о поставках для вашей страны. Павел перестал считать деньги. Кровь отхлынула от его лица, на лбу прорезалась вертикальная складка — он думал. — Конечно, мы все уладим, Павлик, — вставил и я свое словцо. — Вот увидишь, ты будешь доволен нами. Есть ведь и у нас торговая жилка! Разве нет? Помнишь, как я рекламировал польские лекарства в Судане? Павел не соблаговолил ответить, он лишь пренебрежительно махнул рукой и сказал французу: — Не верьте им, мосье Бернар. Никогда они ни о чем не договорятся. Они только и умеют бросать деньги на ветер. И все же слова мосье Бернара сделали свое дело — Бвана Кубва перестал злиться, спрятал кошелек и обратился к Кассе Амануэлю: — Сколько же потребуется денег на эту поездку? — Дороже всего обойдется проезд по железной дороге от Аддис-Абебы до Дыре-Дауа. На нашей единственной железнодорожной ветке билеты очень дороги. Зато автобус Дыре-Дауа — Харэр — это уже пустяки. Поездку по кофейным плантациям оплачивает банк, нам она почти ничего не будет стоить, деревенские жители очень хлебосольны… Короче говоря, мы занялись составлением подробной сметы. Павел упрекал нас в черной неблагодарности, торговался, как опытный ростовщик, твердил, что мы будем возвращаться в Польшу пешком… Но все это было уже не страшно. Буря миновала. Вопрос о поездке в Харэр был решен. На следующий день в девять утра мы заняли места в поезде, курсирующем между столицей Эфиопии и портом Джибути. Нас провожали Павел и мосье Бернар. Погода была туманная, ветреная, но дождь как будто не предвиделся. Над крышей вокзала трепетали два трехцветных флага: зелено-желто-красный — эфиопский — и сине-бело-красный — французский. Это нас не удивило: мы уже знали, что железнодорожная линия Аддис-Абеба — Джибути является собственностью смешанного франко-эфиопского акционерного общества. Перед отходом поезда Павел успел засыпать нас целым ворохом поручений, советов и предостережений: — Экономьте деньги! Не делайте идиотских покупок! Не разъезжайте на такси! Не ешьте что попало! Остерегайтесь болезней — и т. д. и т. д. Кроме того, он велел нам ходить по разным магазинам, разговаривать с торговцами и, как он выразился, «разнюхать», какие польские товары можно было бы экспортировать в Харэр. Мосье Бернар не давал нам никаких советов. Очевидно, он понимал, что из всего сказанного в предотъездной суматохе мало что остается в памяти. Он только попросил купить ему два фунта настоящего кофе «ха-рари», который трудно достать в Аддис-Абебе. Вскоре раздался свисток, в толпе провожающих замахали платочками, и Аддис-Абеба стала медленно удаляться. Местный локомотив удивительно напоминал варшавский паровичок «чухчу»; во всяком случае, он двигался ничуть не быстрее. Расстояние от Аддис-Абебы до Дыре-Дауа — всего пятьсот километров — поезд проходит за тридцать с лишним часов. Первые полчаса мы с паном Беганеком болтали в коридоре, наблюдая через окно эфиопский пейзаж, который не представлял собой ничего интересного. Сначала— горы и эвкалиптовые рощи, потом — горы и степь, кое-где поросшая колючим кустарником. Все это нам скоро надоело, и мы вернулись в купе. Кроме Кассы Амануэля мы застали здесь еще двух пассажиров. Высокий худой господин, с виду военный, был так поглощен чтением газеты, что не заметил нашего появления. Пан Беганек сразу же шепнул мне, что газета шведская, и очень заинтересовался ее обладателем, потому что Швеция, как известно, граничит с Норвегией. Другой пассажир, красивый брюнет с маленькими усиками, наверняка француз, спал, слегка посапывая носом. Возвращение в купе оказалось очень своевременным— наш покровитель и гид как раз собрался вздремнуть, и мы успели еще его отговорить. Ничего себе! Люди буквально умирают от желания узнать что-нибудь интересное об Эфиопии, а он преспокойно укладывается спать! Ни в коем случае! Короче говоря, мы так энергично взялись за него, что с нашего друга быстро слетел сон, и пан Беганек забросал его вопросами о железной дороге Аддис-Абеба — Джибути: как обстоят здесь дела, каким образом возникло объединенное франко-эфиопское акционерное общество? — Кое-что об этом я уже читал, — сказал референт, — но давно, в самом начале моего увлечения Эфиопией. Помню только, что со строительством железной дороги связана какая-то занятная история. Расскажите, пожалуйста, Касса Амануэль. — Железная дорога Аддис-Абеба — Джибути построена при императоре Менелике II, которого в Эфиопии называют Великим, — начал Касса Амануэль, с трудом подавляя зевоту. Я толкнул в бок пана Альбина. Опять император! Никак нам не избавиться от этих императоров! — Все началось вскоре после победы под Адуа. Имя Менелика прогремело тогда на весь мир. Повсюду распространилась весть, что победитель намерен цивилизовать свою отсталую страну. К нам толпами съезжались различные «ференджи» — так в Эфиопии называют европейцев и вообще чужеземцев, иностранцев, — предлагавшие императору свои услуги и изобретения. Ко двору Менелика, в числе других, прибыли два инженера: швейцарец Ильг и его французский компаньон Шефно. Инженеры заявили о своем намерении построить железную дорогу между новой столицей и французским портом Джибути. У них уже был готов проект и имелся гарантированный капитал, обеспеченный группой крупных французских финансистов. Оставалось только получить у императора концессию. Строительство дороги для Ильга и Шефно, как и для их французских патронов, — это прежде всего выгодное помещение капитала. Эфиопии же эта железная дорога была крайне необходима. В нашей обширной стране единственными средствами передвижения в то время служили лошадь, мул, вол, осел и верблюд. Торговые караваны, направлявшиеся из Аддис-Абебы в Джибути, шли месяцами. В периоды дождей, когда большинство наших дорог превращается в труднопроходимые болота, связь между отдельными провинциями совершенно прерывается. Железная дорога должна была стать окном в мир, без нее немыслимо дальнейшее развитие страны. Император Менелик прекрасно отдавал себе в этом отчет, однако с концессией не спешил. Он понимал, что благословенная дорога таит в себе серьезную опасность— воспользовавшись ею, в один прекрасный день в недоступную до тех пор Эфиопию могут вторгнуться войска европейских колонизаторов. Вот почему он решил предоставить концессию на строительство лишь тогда, когда обезопасил страну от возможности иностранного вторжения. В этом месте Касса Амануэль прервал рассказ и улыбнулся своим мыслям: — Мне вспомнился забавный анекдот, который в Эфиопии рассказывают в связи со строительством железной дороги. Прежде чем подписать концессию, Менелик решил подшутить над европейскими инженерами, относившимися к нему как к темному и дикому туземному царьку. — А в чем выражалось такое отношение? — заинтересовался я. — Ильг и Шефно считали, что проволочка с концессией — это результат страха суеверного дикаря перед всем новым. Чтобы поскорее добиться своего, они старались поразить негуса всевозможными плодами европейской цивилизации. Каждый день инженеры приносили во дворец новое «чудо»: электрическую лампочку, музыкальную шкатулку, граммофон. В конце переговоров они даже установили во дворце внутренний телефон. Менелик же, чтобы досадить самонадеянным ференджам, делал вид, будто все эти диковинки не производят на него никакого впечатления. Он равнодушно взирал на горящую электрическую лампочку, скучая слушал музыкальную шкатулку и граммофон и даже к телефону отнесся как к самой обыкновенной вещи. Наконец у инженеров лопнуло терпение, и они прямо задали императору вопрос: неужели его действительно не интересуют псе эти замечательные вещи, изобретенные европейцами? «Отчего же? — ответил Менелик. — Я вижу, что вы мастера на все руки. Но больше всего мне нравятся ботинки, которые у вас на ногах. Раз уж вы все умеете, сшейте мне к утру такие же. Я хочу их надеть в торжественный день подписания концессии». И он приказал выдать ошеломленным инженерам кожу и весь сапожный инструмент, после чего дал знак, что аудиенция окончена. — Вот так номер! — рассмеялся пан Беганек. — Ну и шутник ваш Менелик! — Да, у императора было чувство юмора, — согласился Касса Амануэль. — Но Ильгу и Шефно его шутка вовсе не показалась забавной. Ведь от этого испытания зависело получение долгожданной концессии, а они не имели никакого представления о сапожном деле. Инженеры промучились всю ночь — распороли свои ботинки, чтобы сделать по ним лекало, искололи пальцы — ив конце концов сшили нечто такое, что лишь на большом расстоянии можно было принять за обувь. Когда наутро они вручили императору свое изделие, Менелик ничего не сказал, только насмешливо улыбнулся и кивнул головой. На следующий день была подписана концессия. Трассу строительства император определил лично. Дорога должна была проходить через наиболее дикие и пустынные районы страны. «Я не допущу, чтобы железная дорога стала лестницей, которую враг мог бы приставить к моим горам, — сказал он протестовавшим инженерам. — Поэтому я выбираю самый трудный для врага путь». Вот и вся история. Так началось строительство эфиопско-французской железнодорожной ветки Аддис-Абеба — Джибути. Касса Амануэль закончил рассказ и глубоко вздохнул, подавляя зевоту. Было видно, что у него огромное желание устроить себе небольшой отдых и соснуть. — Не позволите ли вмешаться в ваш разговор? — вдруг спросил француз с усиками, уже давно бодрствовавший и внимательно прислушивавшийся к рассказу Кассы Амануэля. — Я служащий франко-эфиопского акционерного общества, которому принадлежит железная дорога Аддис-Абеба — Джибути. Моя семья на протяжении трех поколений трудится на этой дороге. Дед был одним из ее строителей. Если вы не возражаете, я расскажу об оборотной стороне медали. Мы, конечно, согласились: пан Беганек и я — с энтузиазмом, Касса Амануэль — сухо и сдержанно. — Благодарю вас, — француз любезно поклонился, не спуская внимательного взгляда с лица Кассы Амануэля. — Вы выслушали забавную историю о том, что предшествовало подписанию концессии, а я хотел бы поговорить о самом строительстве. По приказу Менелика дорога должна была проходить через самую дикую эфиопскую пустыню. Мне неизвестно, то ли это была причуда императора, то ли у него имелись действительно серьезные соображения — знаю только, что строительство дороги оказалось для французов подлинным адом. Лишь укладка семисот километров рельсов продолжалась почти двадцать лет, с тысяча восемьсот девяносто седьмого по тысяча девятьсот шестнадцатый год. С одной стороны дороги кочевали итту и сомалийцы, с другой— данакиль. Вожди этих племен, охранявших движение караванов, получали от них изрядную мзду. Новая дорога лишала их дохода, и они делали все, чтобы помешать строительству. Почти каждый день совершались убийства наших инженеров и рабочих. На только что проложенные рельсы ручьями лилась французская кровь. Каждый километр путей приходилось прокладывать по многу раз, потому что ночью туземцы разрушали все построенное за день. Итту и данакиль уносили рельсы и делали из них мечи и браслеты, шпалы сжигали на кострах, а провода для сигнализации использовали как постромки для животных. Можете мне поверить, строительство дороги потребовало нечеловеческих усилий. И то, что французы взяли на себя такой труд, следует рассматривать как огромный вклад в дело цивилизации Эфиопии. — Вклад? — громко и пренебрежительно рассмеялся Касса Амануэль. — Да это было для вас прежде всего прибыльное дело! И ничего больше! Просто-напросто выгодное предприятие, которое и по сей день приносит огромный доход. Вы с величайшим удовольствием еще раз прошли бы через подобный ад — дай вам только еще одну концессию. Но больше этого не будет. Следующую железную дорогу мы построим на собственные деньги и сами будем получать прибыль. Внезапная вспышка нашего всегда сдержанного и благовоспитанного друга всех озадачила. Даже увлеченный чтением швед удивленно поднял глаза от своей газеты и неодобрительно поглядел на Кассу Амануэля. Обиженный француз замолчал и больше уже не произнес ни слова. В купе воцарилось тягостное молчание. Пан Беганек начал беспокойно ерзать на своем месте и вскоре предложил Кассе Амануэлю: — Давайте пройдемся по коридору. В купе невыносимо душно. Мы вышли. Дорога теперь все время шла под уклон, и поезд прибавил скорость. За окнами один унылый пейзаж сменялся другим. Снова собирался дождь. Сплошные, почти черные тучи низко нависали над серой каменистой пустыней. Нигде не было видно ни деревца, ни кустика, ни самого маленького зеленого побега — никаких признаков жизни. Мрачно, голо, безотрадно! Истинный ад! Прижавшись носом к стеклу, я глядел во все глаза — не видно ли где; итту или данакиль. Но эти племена, по-видимому, кочевали где-то в более низменных районах, ближе к Дыре-Дауа. А здесь не было ни души. — Простите мне эту вспышку, господа, — прервал молчание Касса Амануэль. — Эти заносчивые иностранные специалисты способны вывести из себя даже ангела. Хотя бы этот француз со своим вкладом в нашу цивилизацию за наши деньги! А вы обратили внимание, как посмотрел на меня лысый швед? Я его уже видел прежде. Это полковник, инструктор офицерской школы под Харэром. Куда ни повернись — всюду иностранцы. Хозяйничают, как в собственной стране. Иногда бывает трудно сдержаться. — А я до сих пор не понимаю, почему у вас так много иностранных специалистов, — удивленно сказал пан Беганек, — Недавно мы были в Судане. Там тоже много иностранцев, но не столько. Неужели в Эфиопии так мало своей интеллигенции? Касса Амануэль не сразу ответил на этот вопрос. Несколько мгновений он нервно стучал пальцами по стеклу, вглядываясь в унылый пейзаж за окном. Когда эфиоп поднял к нам лицо, мы заметили грусть в его глазах. — Это не так просто, — сказал он тихо. — Эфиопия — необычная страна. Мы пытаемся одним рывком перенестись из средневековья в двадцатый век. Вы ведь видели в Аддис-Абебе: внизу одноэтажные домики из глины, как тысячу лет назад, а над ними самые современные лампы дневного света. Это в столице. А что говорить о провинции? Какой-то журналист написал, что эфиопы получили радио и телевидение раньше, чем успели привыкнуть к телеграфу и телефону. И это действительно так, господа. Но легче установить лампы дневного света и внедрить телевидение, чем вырастить необходимые кадры специалистов. Мы придаем огромное значение воспитанию собственной национальной интеллигенции. Эфиопия — пока еще полуфеодальная страна, но наши школы абсолютно демократичны. Сын бедного пастуха сидит за одной партой с сыном могущественного раса. Оба учатся бесплатно и получают всевозможную помощь. И если молодой пастух успевает лучше, чем юный князь, то именно его, а не князя, посылаю: на учебу за границу. Ежегодно сотни наших студентов выезжают в университеты за рубеж. И несмотря на это, специалистов все еще очень мало. Не так легко восполнить ущерб, нанесенный оккупантами. Известно ли вам, что сделали итальянцы в Аддис-Абебе семнадцатого февраля тысяча девятьсот тридцать седьмого года? С тяжелым чувством выслушали мы рассказ о страшном злодеянии фашистских оккупантов в Эфиопии. Этот эпизод напомнил нам преступления гитлеровцев. 17 февраля 1937 года, после неудавшегося покушения на итальянского губернатора Грациани, фашистская жандармерия арестовала почти всю с таким трудом выращенную молодую эфиопскую интеллигенцию: врачей, инженеров, юристов — всего около тридцати тысяч— и расстреляла как соучастников заговора. 17 февраля отмечается в Эфиопии как День Мучеников. Пана Беганека эта история потрясла: — Трудно поверить, что итальянцы могли совершить такое преступление. Эти чудесные, симпатичные, спокойные люди, которые поют такие красивые песни и снимают такие прекрасные фильмы… — В Эфиопии они не пели песен и не показывали фильмов, — сухо заметил Касса Амануэль. — Здесь это были оккупанты, а оккупанты всегда жестоки и всегда вызывают ненависть. На этом беседа оборвалась, потому что хлынул ливень и тонны воды с грохотом обрушились на стекла и крышу вагона. В коридоре сразу сделалось холодно и неуютно. Но возвращаться в купе не хотелось. Мы решили пройти в соседний вагон третьего класса и посмотреть, что там делается. Наш эфиопский друг не отговаривал нас от этой экскурсии, но сам идти отказался: он ездил этим поездом бесчисленное множество раз и всеми классами. Мы пошли вдвоем. В нашем вагоне было тихо, чинно и почти пусто. Вагон же третьего класса, переполненный до отказа, буквально сотрясался от шума и толчеи. В нем ехали одни только эфиопы: бородатые мужчины в фетровых шляпах и шаммах, женщины в накинутых поверх белых платьев традиционных шалях, множество стариков и детей. Это были главным образом крестьяне, севшие в поезд на первых станциях после Аддис-Абебы. Мы так решили потому, что весь коридор и проходы между скамьями были завалены огромными тюками и корзинами, выглядевшими по-деревенски, а в одном купе я даже заметил под лавкой двух притаившихся коз. Все громко разговаривали, кричали, смеялись, а из дальнего конца вагона доносилась музыка. Когда мы вошли, в лицо нам ударила волна плотного, спертого воздуха, пропитанного странным и не слишком приятным запахом. Пан Беганек сразу нашел этому объяснение. Он сказал, что источник запаха — прогоркшее масло, которым эфиопские крестьяне смазывают себе волосы для защиты от солнца. Я же был иного мнения. По-моему, эта вонь происходила от законспирированных коз, наверняка в вагоне их было не две, а гораздо больше. Наше вторжение в вагон третьего класса пассажиры встретили настороженно. Как только мы вошли, шум, разговоры, смех, крики — все сразу оборвалось, и в нас впилась сотня подозрительных глаз. Казалось, даже коты смотрят на нас из-под лавок. Так вот как относятся к иностранцам пассажиры третьего класса! Видно, Касса Амануэль — не единственный эфиоп, которого раздражают привилегированные ференджи. Несколько секунд мы стояли, как пригвожденные к позорному столбу. Потом, не сговариваясь, одновременно повернули назад и быстро отступили в свой вагон. Такой прием показался нам незаслуженным и обидным, потому что мы с большой симпатией относились к Эфиопии и эфиопам. Высказывания же пана Беганека в минуты раздражения о том, что в Судане нам было гораздо лучше, не имеют ровно никакого значения. Касса Амануэль не удивился нашему быстрому возвращению. Мне даже показалось, что по его губам скользнула легкая усмешка. В ответ на жалобы он попытался нас утешить тем, что настороженность пассажиров третьего класса, безусловно, не относилась к нам лично. По его словам, эфиопские крестьяне очень редко сталкиваются с европейцами и любой белый человек ассоциируется в их сознании с войной, оккупацией и другими бедами, причиненными на протяжении нескольких последних столетий европейцами. Все это звучало очень убедительно, но нашего настроения не улучшило. Чтобы развеять неприятный осадок, пан Беганек стал рассказывать Кассе Амануэлю о своих дружеских отношениях с семейством Махди и о том, как его любило местное население в Судане и Египте. А я в это время стоял у окна, прижав нос к стеклу, и грустно размышлял о сложных отношениях между людьми на земле. Между тем пейзаж за окнами менялся на глазах. На голой каменистой почве стали изредка попадаться деревца и кое-какая зелень, плоская равнина местами взгорбилась холмами. Затем деревьев, вначале единичных, стало больше, и, наконец, поднялась сплошная черная стена леса. Теперь уже мы видели только зеленые холмы, поросшие низкими, густо переплетавшимися деревьями. По земле неслись вздувшиеся потоки ржаво-коричневой воды, смешанной с землей, — дождь лил не переставая. Касса Амануэль сказал, что в этом лесу очень много разных зверей, в том числе газелей и лисиц, после чего пан Беганек сразу же увидел своим соколиным взором скрывшееся в чаще леса стадо газелей. Он даже точно подсчитал их число: три крупных животных и четыре поменьше. Спустя некоторое время он заметил двух рыжих лисиц, а потом ему показалось, что между деревьями мелькнула пятнистая шея жирафа. Но в этом он не был вполне уверен. Поскольку я ничего такого не видел, пан Беганек подсмеивался надо мной, говоря, что для журналиста у меня не слишком острый глаз. При лом он держался так уверенно, что я до сих пор не знаю, как в действительности обстояло дело с этими таинственными зверями и в чем тут секрет: мое ли зрение оказалось слабее, чем у пана Беганека, или его фантазия — богаче… В шесть часов вечера — в двенадцать по эфиопскому времени — мы прибыли на станцию Аваш, где нам предстояло заночевать. От всех других поездов на свете поезд Аддис-Абеба — Джибути отличается одной интересной особенностью: он двигается только днем, а ночью отдыхает, как человек. Почему это так, не мог объяснить даже Касса Амануэль. Может быть, французская железнодорожная прислуга все еще опасается ночных нападений итту и данакиль? Залитая потоками дождя станция Аваш имела чрезвычайно жалкий вид: несколько маленьких деревянных едва освещенных строений, а вокруг — отвратительная хлюпающая грязь и кромешная тьма. Выйдя из вагона, мы прежде всего пошли перекусить в буфет. Он оказался довольно скверным, но ужин нам подали сносный: жаркое из говядины с макаронами и сырые бананы на десерт. Молниеносно управившись с жарким, пан Беганек заявил, что после соуса вот любое европейское блюдо кажется ему пресным и безвкусным. Зато бананы понравились всем. Они в Эфиопии очень мелкие, не больше пальца, но кто их не пробовал, тот не знает, что такое настоящие бананы. Соседи по купе — француз с усиками и швед-полковник — тоже ужинали в буфете, но за другим столиком. Они то и дело поглядывали в нашу сторону, и мне казалось, что разговор у них идет исключительно о нас. После ужина буфетчик вручил всем ключи от Спальных комнат. Пассажиров третьего класса не было видно. Когда я поинтересовался, где они проведут ночь, Касса Амануэль коротко и с явной неохотой объяснил, что только немногочисленные пассажиры первого и второго классов обеспечиваются комнатами для ночлега, тогда как пассажиры третьего класса — а их гораздо больше — вынуждены спать в вагонах. Я вспомнил тесный, душный вагон третьего класса, и мне стало не по себе. Становилась понятна неприязнь эфиопских крестьян к привилегированным ференджам. Мне даже пришло в голову, что Касса Амануэль не пошел с на ми в вагон третьего класса, просто не желая показываться своим соотечественникам в обществе европейцев. В двухместной спальной комнате, где мы ночевали вместе с паном Беганеком, было душно и очень сыро. I Я сразу почувствовал приближение приступа астмы, — хорошо, что у меня остался еще один флакон проастмина, который удалось спасти в Хартуме от легкомысленной щедрости пана Беганека. Проглотив сразу две таблетки, я начал готовиться ко сну. Но, как оказав лось, зря. Сквозь шум дождя вдруг послышался протяжный жуткий вой, похожий на сатанинский смех. Сомнений быть не могло: гиены! Я сам читал в одной из книг об Эфиопии, что в окрестностях Аваша бродяг целые стаи этих неприятных животных. Мы уселись на своих кроватях и стали напряженно вглядываться а черный прямоугольник окна. — Что же теперь будет? — спросил пап Беганек. — Как это: что? Будем спать, — мне не хотелось придавать особого значения лаю. — Но… да… В принципе вы совершенно правы, но… Под влиянием какого-то импульса пан Беганек вдруг вскочил, подбежал к окну, распахнул его и, не обращая внимания на дождь, высунулся в темноту. — Пан Альбии, что вы делаете? Референт осторожно закрыл окно и обернулся ко мне. Несмотря на серьезное, даже озабоченное выражение лица, он выглядел презабавно в своей длинной белой ночной рубашке. — Совсем низкий первый этаж, черт меня побери! — сердито проворчал он. — Могли бы более серьезно отнестись к безопасности пассажиров. Как вы думаете, пан редактор, гиена может пробить стекло? — Паи Альбин, я вас не узнаю! — рассердился я. В Аддис-Абебе вы сохли от тоски по гиенам, а теперь боитесь? Укротитель леопардов пожал плечами и недовольно поморщился: — Я боюсь гиен?! Вы с ума сошли! Просто я спрашиваю, потому что… люблю все знать. Потом мы пытались заснуть, но ничего не получалось. Я страдал от духоты, а референту мешал вой гиен. Чтобы немного переключиться, я стал рассказывать моему другу разные интересные истории об астме. Эта болезнь, в сущности, очень забавна: у человека вдруг возникает повышенная чувствительность — аллергия — к какому-либо предмету или атмосферному явлению, и при каждом соприкосновении с ними он начинает задыхаться. Аллергия может быть самой различной. Один не переносит запаха кошки, другой — перьев в подушке. Третий — избыток влаги в воздухе, а четвертый и вовсе не знает, отчего ему становится плохо. Например, я. Я страдаю астмой уже двадцать лет, время от времени меня мучают приступы удушья, а отчего — не знаю. Пана Беганека, всегда проявлявшего повышенный интерес к медицинским проблемам, очень взволновал мой рассказ. Ему было непонятно, как это интеллигентный человек, журналист, за двадцать лет не сумел обнаружить причину своей болезни. И он решил прийти мне на помощь, высказав множество различных предположений насчет того, на что у меня может быть аллергия. Референт приставал ко мне с этим добрых полчаса и чуть не замучил насмерть. Между тем таблетки проастмина начали действовать, мучительный спазм в бронхах постепенно проходил, я все больше погружался в приятное оцепенение, болтовня пана Беганека перестала доходить до сознания, и, не заметив, как и когда, я сладко заснул. Среди ночи я неожиданно проснулся. Надо мной в ночной рубашке стоял пан Беганек. Он тормошил меня и дергал за руку. Перепуганный и дрожащий, я сел на кровати. — Что? Что случилось? На нас напали? Итту? Данакилъ? Великий первооткрыватель добродушно улыбнулся: — Ничего не случилось, дорогой пан редактор. Ну и нервы у вас! Просто я размышлял насчет вашей аллергии, и мне пришла в голову интересная мысль. Вы говорили, что некоторые люди реагируют на кошек и собак, вот я и подумал — очень может быть, что у вас аллергия… Ну отгадайте, на кого?.. На гиен! И для этого он меня разбудил! Чтобы поведать свое открытие! Нет, мои дорогие, вы не представляете себе, что такое быть вырванным из глубокого сна после тяжелого приступа астмы! Меня охватило бешенство. Я вскочил на ноги и, захлебываясь от ярости, стал кричать. Во все горло! На весь дом! — Как вы могли разбудить меня ради такой глупости! Вы, негодный, бессердечный человек! Нет у моим аллергии на гиен! У меня аллергия на вас! Вы слышите, на вас! Сыт вами по горло! Дальше я с вами не еду! Мои вопли разбудили весь спальный павильон. Прибежал испуганный Касса Амануэль, а за ним швед-полковник, в нижнем белье и с револьвером. Объяснения по поводу этого скандала заняли еще полчаса. Когда мы снова улеглись, уже светало. Так прошла ночь на станции Аваш.
Глава VI
Дорога до Дыре-Дауа — Хитрость императора Менелика — Данакильский караван — Дыре-Дауа — Таинственный дворец — Еще один император — Любовь и политика — Поездка в Харэр — Львиное рыканье — Город из восточной сказки — Женщины из племени харари — У пана Беганека появляется аппетит на салат из помидоров — Плоды кактуса и трава кат — Во всем виноваты шведы
В девять утра — в три часа по местному времени — мы тронулись из Аваша в дальнейший путь до Дыре-Дауа. К счастью, дождь прекратился. Чертовски хотелось спать, но солнце светило так ярко, а пан Беганек так раскаивался, что я великодушно простил ему дурацкую ночную выходку. Сразу за Авашем поезд въехал на мост, перекинувшийся через огромную, глубокую пропасть, по дну которой бежала вздувшаяся река. Мост, который мы приветствовали восторженными возгласами, был настоящим шедевром инженерного искусства. Вот какую интересную историю рассказал нам об этом мосте Касса Амануэль. Император Менелик, предоставив концессию на строительство железной дороги, слишком поздно сообразил, что французская акционерная компания надула его: Эфиопия получила очень незначительную долю участия во владении железной дорогой. Очевидно, французы воспользовались тем, что эфиопский правитель не был силен в бухгалтерии. Менелик очень рассердился и решил при первом же удобном случае рассчитаться с компанией. Вскоре случай представился. Строительство железной дороги началось со стороны Джибути и шло по направлению к Аддис-Абебе. Около Аваша возникла необходимость соорудить мост над пропастью. И тут Менелик сказал: «Стоп! Концессия предусматривает только строительство железной дороги. Мост — другое дело. Нужна еще одна концессия. Или стройте железную дорогу без моста, или покупайте новую концессию на его строительство». Французам не оставалось ничего иного, как выложить огромную сумму за разрешение построить мост. Так Менелик с избытком возместил недавний ущерб, а доля участия Эфиопии во владении железной дорогой значительно возросла. Касса Амануэль был в восторге от ловкости императора. У нас же возникли сомнения в правильности его поступка. Пан Беганек справедливо заметил, что великие государственные деятели не должны позволять себе подобные трюки. Но Касса Амануэль не захотел дискутировать на эту тему, он сказал, что мораль — одно, а политика — другое. Менелик отплатил французам обманом за обман, что на языке дипломатов именуется реторсией. И если бы Менелик не воспользовался этим приемом, Эфиопия сейчас вообще не имела бы голоса в делах железной дороги Аддис-Абеба — Джибути. По мере удаления от Аванта в пейзаже происходили все более заметные перемены. Мокрый лес уступил место сухой, поросшей травой равнине с островками кактусов. Из-под порыжевшей зелени тут и там проглядывали желтые пятна песка. На маленьких деревенских станциях стали появляться люди в мусульманских тюрбанах и верблюды. Все говорило о близости пустыни. Погода стояла чудесная. Пан Беганек радостно изрек, что чувствует себя «почти как в Египте». Солнце пригревало, стало очень тепло, гораздо теплее, чем в Аддис-Абебе. Это и не удивительно: мы оказались на тысячу метров ниже столицы. Это была уже провинция Харэр, главный город которой — также Харэр — конечная цель нашего путешествия. Касса Амануэль пообещал, что дожди здесь будут реже, потому что Харэр относится к числу самых сухих районов Эфиопии. Во время остановки на одной из небольших станций мы наконец увидели жителей пустыни — данакиль. Небольшой их караван состоял из десятка верблюдов, на которых были навьючены целые горы узлов и мешков. Оказалось, что данакиль совсем не похожи на эфиопов, которых мы видели до сих пор: необыкновенно стройные, красивые, с шоколадного цвета лоснящейся кожей — по утверждению Кассы Амануэля, они ежедневно смазывают лица сливочным или оливковым маслом, — даже при таком ярком солнце они облачались в легкие и свободные одежды, оставлявшие тело кое-где неприкрытым. На женщинах — только пестрые куски материи, задрапированные в виде юбочек, и множество различных украшений: браслетов и ожерелий; на мужчинах— короткие брючки и нечто вроде легких жилетов из полосатой бязи. Тюрбаны на головах свидетельствовали об их принадлежности к исламу. Нас очень удивило, что вся эта живописная компания, пройдя в нескольких десятках шагов от нас, казалось, даже не заметила стоявшего на станции поезда и толпившихся у окон пассажиров. Они вели себя так, будто ни поезда, ни людей вовсе не существовало. Как пассажир привилегированного класса, пан Беганек почувствовал себя лично задетым таким пренебрежением. Он попытался убедить меня, будто кочевники не поднимают глаз на поезд, потому что им стыдно за своих предков, которые грабили и убивали строителей дороги. Мне это показалось сомнительным: слишком мало эти люди походили на кающихся грешников, а их поведение скорее смахивало на нарочитую демонстрацию — нам, дескать, глубоко безразличны и вы, и ваша железная дорога. Касса Амануэль рассказал нам много интересного об этих жителях пустыни. Кочевники-данакиль фактически не подчиняются никакой власти. Чиновники из Аддис-Абебы не осмеливаются появляться на их территории без охраны. Самое удивительное состоит в том, что эти непокорные кочевники, не признающие ничьей власти, играют весьма существенную роль в экономике страны. Они — (Основные поставщики соли. В данакильской пустыне имеются огромные запасы этого ценного продукта. Соль лежит там прямо на поверхности. Данакиль остается только грузить ее на верблюдов и везти в ближайшие города, откуда она идет во все концы страны. На станции мы видели как раз такой караван с солью. После этой встречи до самой Дыре-Дауа не произошло ничего интересного. На эту последнюю на нашем пути железнодорожную станцию мы прибыли в пять часов вечера — в одиннадцать по эфиопскому времени. В Дыре-Дауа была сильнейшая жара, и мы, впервые после отъезда из Каира, основательно вспотели. По словам Кассы Амануэля, нам исключительно повезло — такие знойные дни в период больших дождей даже в Харэре выдаются крайне редко. Задумчиво покачав головой, пан Беганек сообщил, что его это не удивляет: во-первых, ему всегда везет на жару, а во-вторых, его старые тетки предсказали, что он будет жить в жарких странах. Что касается теток, то пан Беганек с удовольствием расскажет о них Кассе Амануэлю… Но этого я уже не позволил! Не для того я приехал в Дыре-Дауа, чтобы выслушивать истории о тетушках пана Беганека. Хорошо знакомый с городом, Касса Амануэль объ явил, что до отеля не более пятнадцати минут ходьбы Мы пошли пешком, тем более что, кроме портфелей никакого багажа у нас не было, да и Павел просил не роскошествовать на такси. Дыре-Дауа нисколько не похож на Аддис-Абебу. Здесь уже чувствуется близость пустыни. Улицы в городе широкие, песчаные, в основном без тротуаров. Высокие акации с похожими на балдахин плоскими раскидистыми кронами бросают на них — свою тень. Дома — как обычно на юге — обращены к улицам глухими стенами. Недалеко от вокзала расположился шумный восточный базар с отдыхающими между при лавками верблюдами. На довольно оживленных улицах нам встречались бородатые, с резкими чертами лица амхарцы, поджарые сомалийцы и представители племени галла, которых мы легко распознавали по кудрявым шевелюрам, мускулистым телам и удивительно маленьким носам. Машин на улицах почти не было. Лишь время от времени громыхала повозка, запряженная волами или ослами. Дойдя до центра, мы обратили внимание на здание, которое возвышалось над городом и его окрестности ми и резко отличалось от прочих домов. Это был прекрасный дворец — ничуть не менее величественный, чем дворцовые сооружения в Аддис-Абебе. Он стоял на холме и был обнесен массивной стеной. Я потянул за рукав пана Беганека и шепотом попросил его не задавать вопросов насчет этого дворца. У меня не вызывало сомнения, что он построен каким-нибудь монархом, а выслушивать еще одну историю об императорах не было никакого желания. Но любопытный как дитя референт не внял моей просьбе. Он достал из кармана зеленый блокнот и преспокойно попросил Кассу Амануэля рассказать что-нибудь о дворце. Наш эфиопский друг, обычно так охотно все объяснявший, на этот раз повел себя весьма странно. Он сначала огляделся вокруг, как будто хотел убедиться, что нас никто не подслушивает, потом произнес коротко и с явной неохотой: — Обыкновенный дворец. Вы сами видите. Дворец… императора. Но от пана Беганека не так-то просто отделаться. Он пустил в ход самую приятную из своих улыбок и сказал нежным голосом: — Ясно, что это императорский дворец. Это сразу видно. Но хотелось бы знать, какой император его построил. Ведь императоров было много… И тут Касса Амануэль, казалось без всякой причины, ужасно разволновался. — Перестаньте мучить меня бесконечными расспросами! — воскликнул он. — Только что вы говорили, что императоры вас не интересуют, а теперь опять об императорах! О чем тут говорить? Это одна из императорских резиденций, каких много. А кто ее построил — в конце концов не так важно. Мы больше не возвращались к разговору о дворце, но считать вопрос исчерпанным, разумеется, не могли. Странное поведение Кассы Амануэля лишь разожгло наше любопытство. Мы чувствовали, что здесь скрывается какая-то тайна, и решили раскрыть ее во что бы то ни стало. Отель в Дыре-Дауа принадлежал итальянцам. В смысле комфорта ему было далеко до царства пана Мачека. Зато мы увидели там то, чего не было нигде в Аддис-Абебе — белые муслиновые москитные сетки над кроватями. Оказывается, во время сезона дождей в Дыре-Дауа появляются москиты. Москитные сетки — непременная деталь любой приключенческой повести для молодежи— пробудили в нас жажду великих приключений, поисков и открытий. Мы решили немедленно приступить к разгадке тайны императорского дворца. Поскольку Касса Амануэль отказался дать какую-либо информацию по этому вопросу, мы решили обратиться к шведскому полковнику, с которым пан Беганек подружился со времени ночного инцидента в Аваше. Пока я отвлекал разговорами Кассу Амануэля, референт выскользнул из номера и помчался в комнату шведа. Через десять минут он вернулся и вызвал меня в коридор. Его щеки пылали. — Я все выяснил, — сказал пан Беганек возбужденно. — Это дворец императора Лидж Ияссу, который натворил каких-то ужасных дел, и теперь в Эфиопии даже имя его запрещено произносить. Полковник уверен, что Касса Амануэль знает подробности этой истории. Надо на него нажать. Я согласился с ним и, забыв о своем предубеждении против императоров, уже готов был слушать любой, самый что ни на есть длинный рассказ. К чему откладывать? Мы немедленно отправились к Кассе Амануэлю и без всяких дипломатических уловок изложили свою, просьбу. — Нам уже известна история императора Лидж Ияссу, — заявили мы? — Только не хватает подробностей. Нет смысла играть в прятки. Расскажите нам все. Наш эфиопский друг очень смутился и сделал еще одну попытку уйти от разговора. Но поняв, что от нас не отделаться, махнул рукой и сдался. — Теперь я вижу, что Павел не напрасно предостерегал меня от вашего любопытства, — сказал он. — Но делать нечего. Раз уж мы поехали вместе, буду откровенен. Не забудьте только, что вы меня принудили. В Эфиопии запрещено даже упоминать имя злополучного Лидж Ияссу. После этого предисловия все поудобнее устроились в креслах, и Касса Амануэль начал свой рассказ. Этобыла, несомненно, самая интересная из всех историй об императорах, какие мне приходилось слышать. Трудно было поверить, что все события произошли каких-нибудь пятьдесят лет назад. — В тысяча девятьсот восьмом году великий император Менелик II упал с коня, да так неудачно, что тяжело заболел и не мог управлять страной. Полупарализованный монарх уже больше никогда не выходил из своего дворца, а во главе государства стала императрица Таиту. Любимая жена Менелика в ту пору уже не была молодой, прекрасной и капризной Таиту времен строительства Аддис-Абебы. Годы превратили ее в старую, одержимую жаждой власти интриганку. По наущению своих советников — духовенства и наиболее консервативно настроенных расов — императрица одно за другим отменила все прогрессивные нововведения Менелика и восстановила старые, феодальные порядки. Узнав об этом, Менелик впал в страшный гнев. Парализованный узник дворцовых подземелий решил напомнить эфиопам, что он — император и единственный правитель страны. По приказу монарха к его постели были призваны все расы Эфиопии. Преданные Менелику придворные ввели в подземелье внука императора от первого брака, четырнадцатилетнего Лидж Ияссу. Коснувшись руки мальчика, умирающий негус в присутствии всех расов торжественно произнес: «Этот человек будет моим преемником, и кто откажется ему повиноваться, пусть будет проклят, пусть его сыном будет черный шелудивый пес». Следующая часть се была обращена к юному наследнику престола: «Если же мой внук изменит вам, пусть он сам будет проклят и пусть его сыном будет черный шелудивый пес». Никто из расов не посмел воспротивиться воле Менелика и тем самым навлечь на свою голову страшное проклятие. Так четырнадцатилетний Лидж Ияссу стал императором. Двор и духовенство приняли нового правителя весьма недоброжелательно. Императрица Таиту сразу смертельно возненавидела его за то, что он занял трон, который, как она считала, принадлежал ее дочери — Заудиту. Духовенство и расы-христиане не могли примириться с тем, что отец нового негуса рас Микаэль — обращенный мусульманин, недавно именовавшийся Мохаммедом Али. Ссылаясь на юный возраст Лидж Ияссу, Таиту не допускала его к власти. Она назначила временного опекуна — раса Тасамму. Но умный и энергичный Лидж Ияссу быстро нашел выход из положения. В один прекрасный день он совершил дворцовый переворот, заточил в подземелье гебби императрицу Таиту вместе с дочерью и преданны ми ей расами и взял в свои руки государственную власть. Во время этих событий произошел эпизод, сильно подорвавший авторитет молодого правителя в глазах его народа. Рас Тасамма, особенно ненавистный Лидж Ияссу, спасаясь от гнева императора, спрятался в доме абуны Матеоса. Дом главы эфиопской христианской церкви предоставлял свято чтимое в Эфиопии право убежища. Однако, охваченный жаждой мести, молодой и горячий Лидж Ияссу не пожелал с этим считаться. Он ворвался в дом, оттолкнул абуну, который золотым крестом преграждал ему путь, и приказал арестовать беглеца. Абуна не простил императору святотатства. С этого момента восемьдесят тысяч эфиопских священников стали непримиримыми врагами нового правителя. В последующие годы, краткого, но бурного правления Лидж Ияссу число его врагов возросло. Из рассказа Кассы Амануэля можно было сделать вывод, что Лидж Ияссу, при всех его недостатках, несомненно, имел и много достоинств. Он был отважен, умен, отличался необычайно веселым и добродушным нравом. Однако юноша не терпел около себя постояв пых советников и с откровенным пренебрежением относился к надменным расам. Кроме того, он совершенно не считался с дворцовым этикетом, что часто приводило к недоразумениям. Однажды, например, он отправился с официальным визитом во Французское Сомали. На вокзале в Джибути была подготовлена торжественная встреча. Собрались губернаторы, высшие чиновники, члены консульских представительств. Взвод почетного караула уже принял команду «смирно», оркестр готов был грянуть гимн, все ждут появления царя царей и Льва-победителя из племени Иуды. Но императора нет. Перепуганные министры ищут его по всему поезду и наконец находят… на паровозе — в грязном комбинезоне он ведет задушевный разговор с машинистом, потягивая из бутылки тедж. Подобные истории происходили довольно часто. Молодой император не обращал внимания на укоры и смеялся до слез над возмущенными и негодующими придворными. Но все это были только цветочки. А ягодки ожидали его еще впереди. Когда Лидж Ияссу исполнилось двадцать лет, он посетил завоеванный Менеликом мусульманский Харэр и там без памяти влюбился в дочь богатого купца Абудaкера, мусульманку из племени данакиль. Девушка, которую он полюбил, была необычайно красива. Для того, кто увидел ее однажды, переставали существовать все женщины на земле. Лидж Ияссу не посмотрел на то, что он — правитель христианской страны, и решил жениться на мусульманке, приняв ее веру. Эфиопия была возмущена. Восемьдесят тысяч христианских священников объявили императора вероотступником и предателем. Но Лидж Ияссу не испугался священников. Ведь он был внуком великого Менелика, и его отец, рас Микаэль, стоял во главе сильной армии. Запальчивый юноша вступил в борьбу с эфиопской церковью. Он отнял у христианского духовенства подаренные Менеликом после завоевания Харэра поместья и передал их мусульманским монастырям. И это еще не все. Принимая в Харэре парад сомалийских войск, он подарил им двенадцать эфиопских знамен, на которых по приказу императора было вышито: «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его». Лидж Ияссу, конечно, преследовал при этом вполне определенную цель: сделавшись правителем мусульманских провинций Эфиопии, стать со временем императором всей мусульманской Африки. Одержимый этой идеей, император отрекся даже от своего библейского предка — царя Соломона и надел тюрбан с изображенной на нем новой генеалогией, согласно которой он вел родословную от пророка Мухаммеда. Чаша терпения христианских расов Эфиопии переполнилась. Они объявили о низложении императора-вероотступника и возвели на престол дочь Менелика Заудиту. Один из расов, Тафари, член императорского рода Соломонидов, вступил в вооруженную борьбу с Лидж Ияссу. Впоследствии он стал императором Хайле Селассие I. Перевес сил был на стороне Лидж Ияссу — в его руках находилась железная дорога Аддис-Абеба — Джибути и хорошо вооруженная армия. Он двинулся навстречу своему противнику на паровозе, который тянул за собой вагоны с войсками. Император намеревался дать бой под Мехессо и, вероятно, выиграл бы его, если бы… не спирт. Солдаты Лидж Ияссу в ожидании войск раса Тафари от нечего делать ограбили товарный состав, груженный бочками спирта. Когда появился) рас Тафари, пьяные до бесчувствия солдаты негуса сдались без единого выстрела. Бывший император, закованный в золотые цепи, оказался в заточении. Но этим дело не кончилось. Могущественные приверженцы Лидж Ияссу, из числа старых друзей императора Менелика, дважды устраивали ему побег in тюрьмы. В итоге внук великого Менелика больше десяти лет продолжал угрожать трону Хайле Селассие I. Он погиб только во время итало-эфиопской войны, при чем обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены Ходят слухи, что сын низложенного императора и по сей день укрывается в лесах, дожидаясь подходящего момента, чтобы заявить о своих правах на трон. Вот почему даже имя Лидж Ияссу в Эфиопии находится под запретом. Рассказ о злоключениях императора Лидж Ияссу сильно поразил пана Беганека. Укротитель леопардов имел весьма чувствительное и склонное к романтическим порывам сердце. Больше всего его взволновало то обстоятельство, что причиной всех бед была любовь юноши-императора к прекрасной женщине из Харэра. Кассу Амануэля очень позабавила сентиментальность референта. — Не надо преувеличивать, — сказал он. — Тогда все выглядело не так романтично, как вам кажется. Политика всегда остается политикой. Сведущие люди говорят, что падение Лидж Ияссу произошло вовсе не из-за любви, а из-за политического союза с Турцией, который молодой император заключил в начале первой мировой войны. Этот договор очень не понравился Великобритании — его расценили как угрозу британским колониальным владениям в Африке. Английское правительство незамедлительно послало в Эфиопию одного из агентов Интеллидженс Сервис, знаменитого полковника Т. Э. Лоуренса, с заданием свергнуть неугодного монарха. Лоуренс вкрался в доверие Лидж Ияссу, стал его закадычным другом и советчиком. Он сделал все, чтобы подорвать авторитет императора. Существует предположение, что это Лоуренс посоветовал Лидж Ияссу создать всеафриканскую мусульманскую империю, уговорил жениться на мусульманке и принять ее веру. И тюрбан с новой генеалогией императора, как говорят, был подарком англичанина. Любопытно, что накануне низложения Лидж Ияссу полковник Лоуренс таинственным образом исчез из Эфиопии: очевидно, порученное ему дело было доведено до конца. Как видите, здесь не обошлось без политических махинаций. Но Кассе Амануэлю не удалось убедить пана Беганека. Скептически выслушав рассказ об интригах английского полковника, референт продолжал восхищаться влюбленным Лидж Ияссу и его прекрасной женой. После нашего возвращения в отель он еще добрых полчаса морочил мне голову. Только москиты избавили меня наконец от его романтических восторгов. В самый разгар беседы о влюбленном императоре референт вдруг вскрикнул и изо всех сил ударил себя по шее, после чего сунул мне под нос раздавленного москита: — Смотрите, какой крупный! Но я убил его, негодника! — Что вам сделало бедное насекомое? — сказал я сердито, потому что он никак не давал мне заснуть. — Вам не нравилась Эфиопия без москитов — пожалуйста, вот вам москиты. Вы должны радоваться и чувствовать себя, как в любимом Египте. Референт укоризненно взглянул на меня: — Ну, знаете ли, сравнили! — А что, египетские москиты лучше? Пап Беганек несколько минут обдумывал ответ. — Нет, эти насекомые везде одинаковы, — смиренно вздохнул он, — но в Египте… В Египте были ящерицы, которые поедали москитов. А здесь нет ящериц! Вот что! Я оглядел комнату. Ящериц, как на зло, не было. — Вот видите, — сказал обрадованный пан Беганек, — Эфиопия-это не Египет. Что и говорить: Египет — это Египет. На этот раз он меня убедил. Истинность его слов не подлежала сомнению: Эфиопия действительно не была Египтом, зато Египет был Египтом. На следующее утро нас разбудил монотонный стук по стеклу. Дождь лил не хуже, чем в Аддис-Абебг Мысль о том, что Харэр относится к числу наиболее сухих районов Эфиопии, ничего не меняла. До автобусной остановки пришлось добираться n.i такси. Чтобы Павел не очень сердился, мы, с трудом уговорив Кассу Амануэля, пригласили в компании шведского полковника и француза. Автобус уже стоял на залитой дождем торговой площади. Кроме нас пятерых в нем ехало еще несколько эфиопских чиновников в черных костюмах и с зонтами, два греческих купца, два седобородых старца и тюрбанах, с длинными четками в руках, и довольно большая группа торговцев из племени галла, загородивших все проходы своими корзинами и узлами. Трехчасовая поездка в Харэр проходила невероятно скучно. Дождь лил не переставая, ландшафт за мутны ми от влаги стеклами был до тошноты однообразен: серая, пустынная равнина, огромные, как озера, лужи, кое-где островки колючих кактусов или развесистая акация. В автобусе тоже было неинтересно. Касса Амануэль вступил в спор с французом по поводу железной дороги Аддис-Абеба — Джибути, шведский полковник посвящал пас в детали эфиопского воинского устава, чиновники спали, старцы-мусульмане перебирали четки и шептали молитвы, греки беседовали о делах, торговцы-галла ожесточенно спорили между собой. Интересным, пожалуй, было только то, что и водителя и кондуктора автобуса звали Касса, как нашего эфиопского друга. Находясь в разных концах автобуса, они то и дело громко обращались друг к другу по имени, что очень раздражало Кассу Амануэля, так как отвлекало его от беседы с французом. Пан Беганек сразу сделал вывод, что имя Касса широко распространено в Эфиопии. Касса Амануэль подтвердил это. — В принципе вы правы, — сказал он, — но это не имя. — Не имя? — изумился Великий первооткрыватель. — Что же это такое? — «Касса» по-амхарски означает «замена». Теперь настала моя очередь удивляться. Действительно, разве может человек иметь имя «замена»? — Все очень просто, — разъяснил Касса Амануэль, — Когда в эфиопской семье умирает ребенок, следующему новорожденному дают имя Касса. Это означает, что он появился на свет, заменив умершего. Поскольку в Эфиопии умирает и рождается много детей, имя Касса встречается часто. Объяснение Кассы Амануэля было очень интересным, и я не удивился тому, что пан Беганек старательно записал все в свой зеленый блокнот. Позднее, где-то на половине пути в Харэр, с нами случился еще один занятный эпизод. Это произошло во время стоянки на одной из станций. Ну и станция это была! Не приведи господь! Жалкая лачуга, крытая рифленым железом, вверху реклама пепси-колы, под выступающей крышей двое промокших галла — вот и все. А вокруг мгла и дождь. Никому паже не хотелось выходить из автобуса. Но мотор забарахлил, и пришлось сделать небольшую остановку. Пока мы стояли, издалека вдруг донеслось какое-то глухое рычание. Пассажиров охватило беспокойство: эфиопские чиновники проснулись, мусульманские старцы прервали свои молитвы, все принялись обсуждать непонятный звук. Греки и француз считали, что это ревел обыкновенный голодный осел. Большинство же пассажиров, в том числе швед-полковник, твердо стояли на том, что мы слышали рев самого настоящего льва. Того же мнения придерживались и чиновники-эфиопы, которые прочитали в газетах, что в последние дни в Харэре появились два льва. Под влиянием этих разговоров пан Беганек стал проявлять признаки беспокойства. Он крутился, вертелся, хлопал главами и наконец, не выдержав, тронул за рукав Кассу Амануэля: — А что будет, если львы нападут на наш автобус? — Не бойтесь, — успокоил его наш опекун, — если даже это лев, он не отважится напасть на автобус. Львы никогда не ищут встреч с людьми. Пан Беганек вздохнул с облегчением. И тут же обрел утраченную было самоуверенность. Через несколько минут я слышал, как он уже говорил шведу-полковнику: — Простить себе не могу, что не захватил охотничье ружье! Так славно было бы немного поохотиться. Когда мы были в Судане… Но мне не пришлось дослушать до конца историю охотничьих подвигов пана Беганека в Судане, потому что кондуктор Касса дал сигнал к отправлению, водитель Касса запустил двигатель, и автобус двинулся в дальнейший путь, прежде чем удалось установить окончательно, что же было причиной переполоха: рев льва или голодного вислоухого осла. В последний час путешествия пейзаж резко изменился. Автобус выехал наконец из пустынной долины и, перевалив через довольно высокие холмы, помчался вдоль возделанных полей. По обеим сторонам дороги проплывали плантации, фруктовые сады и прекрасные рощи, расположившиеся на склонах гор. Касса Амануэль объяснил, что мы находимся в наиболее плодородной части провинции Харэр — основной житнице Эфиопии. К сожалению, атмосферные условия не давали возможности толком все рассмотреть. Дождь, правда, прекратился, но над полями висел такой густой туман, что трудно было отличить кофейную плантацию от хлопковой. Только апельсиновые рощи с желтыми шарами плодов, светившимися сквозь туман, как фонарики на рождественской елке, ни с чем нельзя спутать. Было уже далеко за полдень, когда Касса-водитель прокричал Кассе-кондуктору, что виден Харэр. Харэр, когда на него смотришь издали, выглядит изумительно. Город окружен высокими красными стенами с грозными башнями и сводчатыми воротами. Из-за стен хорошо видны устремленные ввысь стройные белые башенки минаретов. Постепенно возникающий из тумана город кажется волшебным. Настоящий Багдад Гаруна аль-Рашида из «Сказок 1001 ночи». Автобус остановился перед одними из пяти городских ворот. Дальше предстояло идти пешком, потому и что средневековые ворота не приспособлены для современного транспорта. В город мы вошли не сразу — у ворот скопилось множество караванов ослов и верблюдов. Протолкаться сквозь пеструю толпу сомалийцев, данакиль и галла было не так-то просто. Шум стоял невообразимый. Гортанные выкрики погонщиков, кашель верблюдов и рев ослов сливались в какую-то сплошную какофонию, от которой лопались барабанные перепонки. Здесь же собралось больше десятка нищих-прокаженных, встреча с которыми была для пас тяжелым испытанием. Одни из них грозили нам руками без пальцев, другие строили гримасы, искажавшие и без того изуродованные болезнью лица. Стук деревянных колотушек, при помощи которых эти несчастные оповещали о своей беде, мрачным аккомпанементом сопровождал оглушительный шум толпы. Наконец мы пробились через «адские врата» и вошли в город. Здесь он был еще более похож на город из «Сказок 1001 ночи». Харэр — очень старый город с ярко выраженным арабским колоритом. По его узким, крутым и немощеным улицам приходилось пробираться чуть ли не гуськом. Впереди величественно шествовал верблюд, который время от времени терся спиной о глухие стены домов, чтобы отогнать докучливых насекомых. Домики, в основном сложенные из той же красноватой глины, что и городская стена, тесно лепились друг к другу. Улочки были до такой степени забиты различными ларьками, лавочками и палатками, что весь город выглядел как один большой арабский базар. Движение транспорта внутри городских стен почти невозможно-слишком узки улицы. Зато повсюду снует множество навьюченных ослов, с трудом прокладывающих себе путь в шумной и яркой толпе людей. Большую часть прохожих составляли женщины. У нас создалось впечатление, что это в основном домашние хозяйки, воспользовавшиеся кратковременным прекращением дождя, чтобы сходить в город за покупками. Почти все они несли большие мешки из разноцветной кожи, набитые различной провизией. Харэрские женщины произвели на нас сильное впечатление. Они решительно отличались от других африканских женщин. Их внешний вид и манера поведения совсем не говорили о смирении, которое так присуще жительницам Востока и Юга. Весь их облик выражал гордость, энергию и чувство собственного достоинства. Одеты они были ярко и со вкусом, а многие лица поражали классически правильными чертами. Харэрские красавицы очаровали пана Беганека. Референт то и дело дергал меня за рукав и чуть не в полный голос выражал свой восторг: — Вы только посмотрите! О боже, что за красотка! Теперь я понимаю беднягу Лидж Ияссу, парень просто не мог здесь не влюбиться! Видели бы вы, как мой друг улыбался и строил глазки проходившим мимо женщинам! Все это было необыкновенно забавно, но, к сожалению, не безопасно, потому что по улицам кроме харэрских женщин ходили и мужчины, причем последние отнюдь не производили впечатление людей, слишком горячо любящих белых ференджей. Взгляды, которые они бросали на нас, и в особенности на моего экспансивного друга, были далеко не благожелательными. К счастью, пан Беганек не обладает способностью долгое время удерживать внимание на одном и том же предмете. Довольно скоро он перестал интересоваться красотой харэрских женщин и переключился на фрукты, которых здесь невероятное множество. Провинция Харэр — это не только главная житница Эфиопии, но и ее главный фруктовый сад. Куда ни кинешь взгляд, повсюду громоздятся пирамиды бледно-желтых апельсинов, маленьких зеленых лимонов, огромные кисти бананов и горы плодов, которые мы видели впервые в жизни. Все это лежит на лотках или циновках из травы, расстеленных прямо на земле. Вдруг пан Беганек издал радостный вопль: — Провалиться мне на этом месте, если это не помидоры! Наконец-то! Я уже целую неделю мечтаю о настоящем салате из помидоров с перцем и лучком. Обернувшись к шедшему позади нас шведскому полковнику и показав на кучку красных плодов, он сказал по-английски: — I am fond of tomatoes![30] Но швед, уже освоившийся в Эфиопии, развеял, иллюзии референта. — Это не помидоры, — сказал он, — а плоды кактуса. Их называют также индийскими фигами. Они очень вкусны, но чистить их надо с осторожностью, чтобы не наколоть пальцы ядовитыми ворсинками кожуры. Пан Беганек был очень разочарован, однако записал слова шведа в блокнот. Ну что ж — вместо салата из помидоров он получил информацию о том, что кактусы дают вкусные и сочные плоды. Около отеля мы попрощались с нашими соседями по купе. Французу была приготовлена квартира у знакомого купца, а шведу предстояло ехать дальше, в свою военную академию. Харэрский «отель» был гостиницей только в представлении исключительно непритязательных путешественников. В действительности же это необычайно противный и грязный постоялый двор. «Отель» содержал какой-то грек или некто выдававший себя за грека отнюдь не к чести этого благородного народа. По распоряжению хозяина черный слуга шанкалла проводил нас в так называемые парадные покои, которые, как уверял нас хозяин, сдавались только особо важным господам. Слуга отпирал дверь с таким видом, как будто перед нами сейчас откроются сокровища Сезама. Между тем вся «роскошь» номера состояла в рваных плюшевых портьерах, не мытых несколько месяцев окнах и роях черных отвратительных мух. Пи электричества, ни водопровода. Было душно и пахло гнилью. Но настоящая трагедия разыгралась после ухода слуги, когда Касса Амануэль преспокойно сообщил, что идет в город по делам, а нам велел ждать его в отеле. Свое жестокое) решение он объяснил подозрительными отношениями харэрцев к белым туристам и неприятными столкновениями, которые могут произойти у нас с ними. Мы, естественно, стали возмущаться и протестовать, ссылаясь на свое обещание Павлу походить по харэрским магазинам. Тогда наш опекун рассердился и повелительным тоном, совсем как Бвана Кубва, заявил, что он несет ответственность за нашу безопасность и не может нарываться на уличные скандалы, а сведения для Павла раздобудет сам, без нашего участия. После этого Касса Амануэль взял шляпу, портфель и зонт и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. А мы, негодующие и злые, остались в «парадных покоях» одни. Между тем снова пошел дождь. Наше настроение чуть-чуть улучшилось. Пусть Касса Амануэль по крайней мере как следует вымокнет. Так ему и надо. Это будет возмездием за несправедливое к нам отношение. Но в то же время ливень окончательно лишил нас возможности выйти в город, и мы были обречены всю вторую половину дня провести в этой отвратительной комнате. Надо было чем-нибудь заняться. Охотник по призванию, пан Беганек занялся делом. Сняв с ноги ботинок, он начал гоняться за самыми жирными мухами. Из-за его воинственных возгласов хозяин дважды присылал слугу спросить, не нужно ли нам чего-нибудь. Через час вся «парадная» комната была усеяна трупами павших в бою насекомых. К этому времени наш доблестный охотник устал и предложил перейти к более интеллектуальным развлечениям. Он достал из портфеля самую толстую из своих книг об Эфиопии и поручил мне найти все, что написано о Харэре. А сам, пресыщенный охотничьими подвигами, улегся на кровать и любезно согласился послушать. Поскольку Харэр находится в стороне от основных туристских маршрутов, немецкие авторы уделили ему мало внимания в своей книге. И все же мне удалось отыскать несколько интересных сведений. Прежде всего мы узнали, что Харэр на протяжении почти тысячи лет был вольным городом мусульманского племени харари и управлялся собственными эмирами. Только при императоре Менелике II он лишился независимости. Великий Менелик завоевал город и присоединил его к Эфиопии. В связи с этими событиями в книге приводился забавный анекдот, еще раз подтвердивший уже известный нам факт, что негус Менелик был наделен большим чувством юмора. В 1887 году, когда эфиопская армия окружила Харэр, надменный эмир города, желая унизить амхарца, послал Менелику пестрый тюрбан и письмо следующего содержания: «Пусть император наденет этот тюрбан, чтобы я мог распознать его среди осаждающих и взять в плен живым». Менелик только посмеялся и ответил эмиру, что наденет тюрбан немедленно и не снимет его до тех пор, пока… не помочится на Харэр с самой высокой башни его мечетей. Несколько дней спустя император, в присутствии семи тысяч потрясенных жителей города, исполнил свое обещание. Позднее, во время войны и оккупации, итальянцы, стремившиеся поссорить эфиопских мусульман с христианами, охотно вспоминали эту единственную в своем роде политическую демонстрацию. Пану Беганеку очень понравился оригинальный анекдот о великом императоре, но потом он заявил, чтопрошлое Харэра его мало занимает, гораздо интереснее узнать что-нибудь о современных харэрских женщинах, если об этом написано в книге. Мне удалось найти две любопытные информации на волнующую пана Беганека тему. Во-первых, выяснилось, что существует старинный харэрский закон, строго запрещающий мужьям бить жен. Авторы книги утверждали, что по этой причине эфиопские мужчины из других провинций очень неохотно женятся на харэрских девушках, несмотря на их красоту. — Однако Лидж Ияссу женился, — с удовлетворением отметил референт. — Впрочем, он в любом случае не бил бы жену. Я сразу почувствовал в нем хорошего человека. Это полковник Лоуренс сбил его с пути. Вторая информация касалась исключительной предприимчивости харэрских женщин. Они прекрасно ведут свое хозяйство и дажё руководят собственными предприятиями. Кроме того» охотно работают в саду, где выращивают кат. — Что значит «кат»?[31] — удивился пан Беганек. — Говорится «кат», а пишется «khat», — объяснил я. — Это растение, которое эфиопы в большом количестве вывозят в арабские страны. Молодые побеги ката действуют как наркотик. Арабы жуют их, как другие пароды курят опиум. — Подождите, пан редактор, — Великий первооткрыватель в волнении сел на кровати. — Это, наверное, те самые зеленые веточки, которые мы видели на всех лотках с фруктами. Так вы говорите, их жуют и от этого возникают разные красивые галлюцинации, как после опиума? — Не знаю. Так написано в книге. Пан Беганек поднялся с кровати и подошел к окну: — Знаете что, пан редактор? Дождь почти прошел, а здесь напротив есть лавочка с фруктами. Выскочу-ка я за этим катом. А вы, на всякий случай, постойте у окна. Если что-нибудь случится, кричите на весь отель. И прежде чем я успел ответить, референт выбежал из комнаты. В соответствии с приказом я занял наблюдательную позицию около окна. Лоток с фруктами был хорошо виден. Пан Беганек беспрепятственно подошел к нему и, бурно жестикулируя, стал делать покупки. Он приобрел порядочный пучок веточек ката, большую кисть бананов и красные плоды кактуса, против которых нас предостерегал швед-полковник. Кактусовые фиги ему насыпали прямо в шляпу. Через минуту референт был уже в комнате. Он бросил покупки на кровать и со вздохом облегчения вытер пот со лба. — Вы видели двух мрачных типов, пытавшихся затеять со мной ссору? — спросил он хвастливо. — Но я только взглянул на них, и они тут же успокоились. Я вообще никого не заметил. Наоборот, улочка показалась мне совсем безлюдной. Но не хотелось спорить из-за такого пустяка. Поэтому я только сказал референту, что он зря купил плоды кактуса — полковник ведь предупреждал насчет колючей кожуры. Зачем же калечить руки? В ответ Великий первооткрыватель громко расхохотался: — Вы верите этим иностранным специалистам, наивный вы человек? Да это же круглые невежды, которые слышали звон, да не знают, где он. Сейчас вы в этом убедитесь. С этими словами он взял с кровати один из плодов и подошел ко мне: — Ну потрогайте, пан редактор. Разве колется? Я осторожно протянул палец и легонько погладил красный плод. Он был гладкий и скользкий, как помидор. Никаких колючек, никаких ядовитых волосков. Шведский попутчик, видно, и вправду подшутил над нами. Но зачем ему это понадобилось? — А для того, чтобы поважничать и показать, что он все знает, — решительно заявил референт. — Мало ли людей рассказывают всякие небылицы, чтобы убедить других в своей значительности? Я невольно усмехнулся. Ничего не скажешь, пан Беганек разбирался в людях. Мы сразу принялись очищать и есть кактусовые фиги. Это было необыкновенно вкусно. По виду красные плоды напоминали помидоры, а на вкус были похожи на виноград. С наслаждением уничтожая сочные фиги, мы обменивались ироническими замечаниями относительно невежества шведских полковников. Увлекавшийся историческими аналогиями пан Беганек вспомнил знаменитую победу поляков над шведами под Оливой в 1627 году. Однако кактусовые фиги оказались немного приторными. После того как их было съедено около килограмма, нас затошнило и мы взялись за кат. Пан Беганек старательно оборвал с нескольких веточек все молодые побеги и сложил их в две одинаковые кучки. Одну из них он сразу отправил себе в рот, а другую пододвинул ко мне, предлагая сделать то же самое. Но я в последний момент испугался. Мне было уже достаточно скверно после плодов кактуса, а тут еще предстояло отравить себя катом. Очень хотелось как-нибудь увильнуть от этого эксперимента. — Паи Альбин, — сказал я робко, — не знаю, хорошо ли это будет, если мы оба одновременно окажемся в состоянии наркотического опьянения. А если кто-нибудь войдет и что-нибудь украдет? Этот грек, наш хозяин, мне очень не понравился. Будет лучше, если вы пожуете кат, а я покараулю. Но референт не захотел принять столь разумное предложение. Он посмотрел на меня с таким негодованием и презрением, что я больше ничего не сказал и сразу же запихнул себе в рот зеленую мерзость. О боже, какая это была горечь! Никогда в жизни я не держал во рту ничего подобного. Я взглянул на пана Беганека. Видимо, ему кат тоже не пришелся по вкусу, потому что референт корчился, как в камере пыток. Но не спускал с меня глаз! Пришлось жевать дальше. Это длилось уже минут десять. Меня тошнило все сильнее, да еще началась головная боль. — Пан Альбин, — с трудом выговорил я, потому что рот был набит, — вы уже видите что-нибудь? Референт грустно покачал головой. А лицо у него было такое — страшно посмотреть. — Еще нет. Но мне кажется… что-то начинается. Да, да, точно. Начинается! Эксперимент продолжался Мы жевали. Нас тошнило. Было горько. Болела голова. Видения не появлялись. И вдруг началось!.. Пан Беганек издал какой-то странный звук, закрыл обеими руками рот и пулей вылетел из комнаты. Я немедленно выплюнул зеленую гадость. Стало чуть полегче, но тошнота и головная боль не проходили. Через десять минут вернулся пан Беганек. Он был смертельно бледен и совершенно подавлен. — Все из-за этого шведского полковника, — простонал он. — Если бы он не хвастался своими познаниями, я ни за что не купил бы молодые плоды кактуса. Из-за него пропали наши прекрасные видения. Оставшиеся веточки ката и индийские фиги мы завернули в газету и выбросили на помойку, чтобы Касса Амануэль случайно не наткнулся на следы нашего преступления. Нетронутую кисть бананов положили на стол. Мы знали, что эфиопские бананы необыкновенно вкусны, но пробовать их даже не пытались — так нам было плохо. Касса Амануэль вернулся поздним вечером. Он застал нас лежащими на кроватях. К счастью, этот деликатный человек не стал особенно к нам приглядываться. Но лежавшие на столе бананы его заинтересовали. Не спросив, как они здесь оказались, он отломил себе несколько штук и с большим удовольствием съел. Мы глядели на его пиршество с завистью. Собственно говоря, ведь это Касса Амануэль виноват, что мы себя так отвратительно чувствуем. Он велел нам остаться в отеле. Из-за него мы объелись молодыми плодами кактуса. Из-за него жевали эту горькую мерзость — кат. А теперь он возвращается и как ни в чем не бывало объедается нашими замечательными бананами, на которые мы даже смотреть не можем. Скажите сами, есть ли справедливость на этом свете?! Заморив червячка, Касса Амануэль отчитался о результатах своего похода в город. Как и следовало ожидать, он сделал все, что запланировал: побывал в местном отделении банка и в других учреждениях, записал для Павла адреса наиболее крупных харэрских купцов, а кроме того, договорился с проводниками каравана, который на следующее утро отвезет нас на кофейные плантации. Экзотическое слово «караван» пробилось сквозь ту-май нашего сознания и зазвенело в ушах, Словно колокол. Мы думали, что поедем в обыкновенном автомобиле, и вдруг — караван! Что за караван? Откуда? А может быть, это просто слуховая галлюцинация, вызванная катом? — Деревня, где возделывают кофе, недалеко отсюда, немногим больше десяти километров. Поедем на ослах, — объяснил Касса Амануэль. — Я договорился: у нас будут три хороших осла и два проводника. Здесь это называется караван. При любой другой ситуации перспектива поездки караваном в деревню, где выращивают кофе, привела бы нас в бурный восторг. Но этот чертов кат сделал нас безразличными ко всему. Даже такую приятную новость мы выслушали молча, не проронив ни слова. Так должен чувствовать себя медведь, который за минуту до того, как впасть в зимнюю спячку, до отвращения объелся засахаренным медом. Касса Амануэль, по-видимому, объяснил наше мрачное настроение усталостью после дороги. Он оторвал еще несколько бананов и, пожелав спокойной ночи, удалился в свой номер. К сожалению, доброе пожелание любезного опекуна не исполнилось. Ночь была ужасна! Я помню каирские ночи, когда я до утра сражался с москитами, асуанские — когда задыхался под москитной сеткой, суданские, с их убийственным зноем и шумом вентиляторов, и ночь в Аваше, закончившуюся скандалом с паном Беганеком. Но эта ночь — в Харэре — была самой ужасной из всех. Этого кошмара я не забуду до конца дней своих! Первые несколько часов меня мучили тошнота и головная боль. Время от времени я впадал в короткий горячечный сон. Но тогда возникали такие жуткие видения, что я пробуждался со страшным криком. Пан Беганек на соседней кровати мучился совершенно так же. Видимо, мы слишком энергично жевали этот кат А может быть, сведения в книге были неверны? Посреди ночи к прежним мучениям прибавилось новое: начали чесаться руки. Сначала слегка, а потом так, что можно было сойти с ума. С паном Беганеком творилось то же самое. Причина была ясна. Теперь уже можно было в этом не сомневаться. Пан Беганек, — сказал я, — кажется мне, что шведский полковник все-таки был прав. Еще бы, — сказал, чуть не плача, референт, — я с самого начала говорил, что все из-за этого лысого умника. Какой дьявол толкнул его в наше купе? Нет, мало, определенно мало мы били их под Оливой! Я заснул только под утро, и то благодаря большой дозе снотворного, которое дал мне пан Беганек.
Глава VII
Наш караван — В эфиопской больнице — Деревенька прокаженных — Симпатяга, Резвая и… «потеря лица» — Первая встреча с жителями деревни. Пахнущее дымом молоко и девицы, которые умыкают женихов — Староста Уольде Бирру — Прогулка по деревеньке — Колдовство и суеверия — Экскурсия на кофейную плантацию и все о кофе — В доме умирающего плантатора — Куда эфиопы девают свои деньги
На следующее утро я проснулся с адской головной болью. Зуд тоже не прошел. Руки распухли и покрылись красной сыпью. Мой друг был не в лучшем состоянии. И что хуже всего — скрывать это дальше от нашего опекуна было невозможно. За завтраком мы показали Кассе Амануэлю, что делается с нашими руками. Наш покровитель побелел от испуга и стал лихорадочно допытываться, не ели ли мы что-нибудь в его отсутствие и не подавали ли руки неизвестным людям; потом спросил, не беспокоит ли нас еще что-нибудь, кроме зуда. Мы ответили, что еще ужасно болит голова. Но всю историю с плодами кактуса и катом деликатно опустили. Не хотелось об этом говорить. Тогда Касса Амануэль испугался еще больше. Заикаясь от волнения, он сказал, что сыпь в сочетании с головной болью очень его тревожит. Необходимо немедленно пойти в больницу и показаться врачу. Когда мы вышли из отеля, на улице уже дожидался заказанный Кассой Амануэлем караван. Он выглядел весьма эффектно и состоял из двух полицейских-амхарцев, которые должны были сопровождать нас в качестве охраны, двух проводников из племени галла, ехавших на ослах и ведших на поводу еще трех великолепно откормленных, холеных и красиво оседланных ослов, предназначавшихся для нас. Сообщение о том, что время отправления несколько отодвигается, из-за того что два ференджа заболели и должны зайти в больницу, было встречено громкими возгласами неудовольствия. Нас самих не радовала перспектива посещения больницы, тем более что при виде каравана наше самочувствие улучшилось и даже распухшие руки почти перестали зудеть. Но как я ни старался отговорить Кассу Амануэля от его затеи с больницей, все было напрасно. Он сказал, что в Харэре шутить с болезнями опасно, сыпь и головная боль ему очень не нравятся, а он отвечает за наше здоровье перед Павлом и мосье Бернаром и т. д., и т. д., и т. д. Словом, дело приняло серьезный оборот, и деваться было некуда. Мы двинулись по направлению к городской больнице, а караван, чертыхаясь и проклиная все на свете, потянулся за нами. Несмотря на ранний час, около больницы имени раса Маконнена уже собралась толпа ожидающих приема. Это были больные из самых отдаленных уголков провинции Харэр. Они притащились сюда вместе с семьями и домашними животными. Больничный двор, забитый людьми, верблюдами, ослами и телегами с впряженными в них круторогими волами, производил впечатление стоянки кочевников степей или пустынь. В сущности, это было близко к истине, потому что большинство пациентов составляли представители кочевых сомалийских племен. Об этом свидетельствовали и складные тукули[32] — хижины, притороченные к спинам верблюдов. При помощи двух полицейских нашего каравана мы кое-как пробились к дверям. Касса Амануэль оставил нас в прихожей под присмотром привратника в белом халате, а сам пошел искать врача. Пан Беганек — у него, как видно, язык чесался больше, чем руки, — после ухода Кассы Амануэля тут же стал рассказывать мне, кто такой рас Маконнен, именем которого названа больница. Оставьте вы меня в покое с расом Маконненом и со всеми остальными расами! У нас сейчас есть более серьезные проблемы. Я думаю, как выпутаться из этой дурацкой истории, в которую вы меня втравили. Но мне так и не удалось остановить поток красноречия пана Беганека. Во-первых, он с негодованием отверг обвинение в том, что это он, а не шведский полковник — главный виновник нашей болезни. Во-вторых, независимо от ситуации он должен сообщить мне, кто такой рас Маконнен. На это имеются две причины: первая — рас Маконнен был крупнейшим полководцем при Менелике II; вторая — рас Маконнен в течение двадцати лет являлся губернатором провинции Харэр и управлял ею как своим собственным поместьем. В тот момент, когда референт закончил перечисление заслуг раса Маконнена, я увидел в коридоре нечто настолько страшное, что невольно оперся о стену. Два больничных служителя несли короткие носилки, на которых полусидел-полулежал молодой сомалиец, страдающий элефантизмом, или слоновой болезнью. Юноша был почти нагой, и его больные ноги ничем не были прикрыты. От головы до бедер он выглядел более или менее нормально — только что был худ до крайности. Но его ноги, чудовищно распухшие, действительно напоминали ноги слона. Еще в Аддис-Абебе я слышал об этой, самой страшной после проказы болезни. Управляющий гостиницей пан Мачек говорил нам, что в провинции Харэр слоновой болезнью ежегодно заболевает больше тысячи человек. Возбудитель болезни — неразличимый простым глазом паразит «филария» — обитает в воде и с водой попадает в человеческий организм. Но одно дело — слушать рассказы о болезнях, а другое— видеть все собственными глазами. Больной сомалиец произвел на нас такое ужасное впечатление, что пан Беганек поклялся до конца нашего пребывания в провинции Харэр не брать в рот ни капли воды. А я решил как можно скорее прекратить глупую возню с нашей «болезнью» и немедленно убраться из этой жуткой больницы. Между тем вернулся огорченный Касса Амануэль. Он сказал, что придется подождать еще час, потому что врач занят на тяжелой операции, и, словно оправдываясь, добавил, что больных очень много, а врач один на всю больницу. Тогда я решился и выложил нашему покровителю всю правду — и о плодах кактуса, и о веточках ката. Прошу вас извинить меня, дорогие читатели, — все происшедшее после я стыдливо обхожу молчанием. Достаточно сказать, что нам пришлось выслушать много неприятного на собственный счет. Но в конце концов все обошлось — Касса Амануэль был просто счастлив, убедившись, что мы не заразились никакой страшной харэрской болезнью. Под радостные крики нашего верного каравана мы покинули больницу. Судя по всему, проводники и полицейские поставили на нас крест и не надеялись увидеть так скоро. Дело в том, что в Эфиопии в больницу обращаются только очень тяжело больные люди. Покидая госпиталь, мы не предполагали, что вскоре нам предстоит еще одна встреча с эфиопскими больными. Отъехав всего несколько сот метров от города, который наш караван покинул через южные ворота, мы увидели высокий забор, где, как нам сначала показалось, находилась обыкновенная деревня. Вокруг приземистого строения с железной крышей и деревянной колокольней расположилось несколько десятков круглых тукулей. Но это была не обычная деревня, а лепрозорий— больница и место изоляции прокаженных. Несчастные, неизлечимо больные люди проводят здесь всю свою жизнь под опекой монахов, также больных проказой. Врачебный надзор над харэрским лепрозорием много лет осуществляет самоотверженный французский врач, доктор Ферон. Ускорив шаги и низко опустив головы, мы прошли мимо страшной деревни. Пан Беганек, чтобы поднять. мое настроение, стал рассказывать кошмарнейшую историю о прокаженных и безумном императоре Федоре II. Вы, наверное, помните, что у душевнобольного негуса благороднейшие поступки и стремление к реформам чередовались с приступами помешательства. Так было и в том случае, о котором рассказал пан Беганек. Федор был первым правителем Эфиопии, которому пришла в голову мысль организовать места изоляции для прокаженных. Он поручил одному из своих приближенных собрать на улицах столицы всех нищих-прокаженных и поместить их в один большой тукуль. Привыкший к всевозможным чудачествам негуса, его слуга неправильно понял приказ. Он решил, что Федор хочет избавиться от неизлечимо больных людей, и, стремясь угодить своему императору, велел облить соломенную крышу тукуля маслом, смешанным с медом, и… поджечь. Узнав об этом, Федор пришел в ярость. Своими руками он втолкнул не в меру усердного слугу в горящий тукуль, но несчастным больным людям это уже не помогло. Сожжение больных вызвало всеобщую ненависть к императору и послужило одной из причин его непопулярности в народе. Дело в том, что прокаженных в Эфиопии считают святыми. Рассказ пана Беганека прозвучал как заключительный мрачный аккорд. Если не считать мелких эксцессов с ослами, дальше все шло гладко. Желая оказать особое уважение белым ференджам, проводники каравана предоставили в наше распоряжение двух прекрасных верховых ослов, отличавшихся не только внушительным ростом и бравым видом, но и весьма многообещающими именами. Моего осла называли «Деста», что значит «удовольствие»; я переименовал его в «Симпатягу». Пан Беганек получил ослицу по имени «Феттенеч», то есть «быстрая», «резвая». К сожалению, вскоре обнаружилось, что исключительным внешним достоинствам наших «скакунов» соответствовала столь же исключительная независимость их характеров. Симпатяга и Резвая были самыми строптивыми и капризными животными из всех, каких мне пришлось когда-либо видеть. Как только я решал ехать побыстрее, мой милый Симпатяга останавливался и никакими увещеваниями невозможно было сдвинуть его с места. Когда же я хотел остановиться, он немедленно переходил с шага на рысь. Кроме того, у моего Россинанта, по-видимому, были какие-то давние счеты с Резвой папа Беганека, потому что он то и дело порывался укусить ее в бок, рядом с ногой седока. Каждая такая попытка сопровождалась воплем отчаяния и ужаса, исторгавшегося из груди референта. И не удивительно. Я, окончивший «курсы водителей» ослов и верблюдов в Египте, кое-как переносил проделки ослов, но пану Беганеку, совершенному новичку в этом деле, его Резвая вместе с моим Симпатягой полностью отравили поездку. Кончилось все тем, что я по его просьбе предложил проводникам обменяться ослами. Сначала галла даже слышать об этом не хотели. Они расценили мое намерение как проявление какого-то непостижимого великодушия. И только когда Касса Амануэль объяснил им истинное положение вещей, согласились. Громко смеясь, они с большим удовольствием пересели на Симпатягу и Резвую, а к нам перешли две послушные серые скотинки с невыразительными именами. Это событие долго еще комментировалось проводниками и полицейскими. Их смех и озорные взгляды свидетельствовали о том, что в результате нашего поступка мы совершенно «потеряли лицо». Но нас это не слишком огорчало. Серые ослики вели себя безупречно, и ничто уже не портило удовольствия от интересной поездки. Через полчаса мы добрались до первой деревни галла. Пану Беганеку захотелось пить, и мы остановились перед одним из тукулей. Вокруг нас тотчас собралось чуть ли не все население деревни: мужчины, женщины, дети. Приковыляли даже почтенные старейшины. Касса Амануэль предупредил нас, что эти старцы — их называют акакаю — пользуются у галла особым почетом, поэтому с ними надо поздороваться прежде всего. Торжественная встреча с жителями деревеньки была необыкновенно шумной. Женщины орали и голосили, как на похоронах. Здороваясь с нами, старцы прикоснулись пальцами к земле, а потом приложили их к губам. Касса Амануэль ответил им точно таким жестом. Мы с паном Беганеком попробовали проделать то же, но у нас это вышло не очень удачно. После приветствия Касса Амануэль сказал старейшему акакаю, что двое белых ференджей — то есть мы — хотели бы напиться молока. Акакаю пересказал это младшим, и все пришло в движение. Пан Беганек потянул Кассу Амануэля за рукав, настоятельно потребовав, чтобы молоко было непременно кипяченым. Ато Касса рассмеялся и объяснил, что здешнее молоко не содержит никаких микробов, потому что галла во время дойки обкуривают его каким-то специальным дымом. Вскоре нам принесли молоко в сосудах из дыни. Я поднес посудину к губам, сделал большой глоток и тут же поперхнулся: у молока был отвратительный привкус. — Что за страна, эта Эфиопия! — рассердился пан Беганек. — Молоко сырое, а на вкус совершенно подгоревшее. Ну и чудеса! На самом деле не молоко было подгорелым, а сосуды из дыни обкурены изнутри каким-то дезинфицирующим составом. Ну что ж, лучше пить пахнущее дымом молоко, чем схватить слоновую болезнь или еще какую-нибудь хворобу. Справившись с этим «деликатесом», пан Беганек тоном посетителя первоклассного ресторана спросил, сколько мы должны за молоко. Касса Амануэль усмехнулся в усы, но перевел вопрос референта акакаю. Толпа заволновалась. Сначала старики, а потом и все остальные начали бешено размахивать руками и трясти головами. Лица их выражали возмущение и страх. — Они не возьмут никакой платы, — сказал Касса Амануэль. — По местному поверью, если взять деньги, у всех коров сразу же пропадет молоко. Эта примета нам очень понравилась. Пан Беганек даже сказал, что было бы неплохо, если бы она была принята и в наших деревнях. Церемонно попрощавшись с местными жителями, мы двинулись в дальнейший путь. Когда мы выезжали из деревни, наше внимание привлек тукуль, выделявшийся среди других своей величиной и высокой изгородью из веток. Им же заинтересовались и остальные члены нашего каравана. Полицейские-амхарцы показывали пальцами и громко смеялись, а проводников-галла это очень сердило. Я спросил Кассу Амануэля, в чем дело. Наш гид улыбнулся и рассказал еще об одном интересном обычае племени галла, связанном с заключением браков. У галла существует древняя традиция — вступать в брак посредством умыкания, так называемая «ассена». Своеобразие этого обычая заключается в том, что здесь не юноша похищает девушку — как у других народов, — а девушка — жениха. Какая-нибудь бедная невеста, присмотрев себе богатого парня в мужья, перелезает ночью через изгородь, окружающую дом его родителей. Этого достаточно, чтобы молодых людей считали женихом и невестой. Поэтому состоятельные родители единственных сыновей «на выданье», опасаясь похищения, огораживают свои тукули высокими заборами, через которые невозможно перелезть. Касса Амануэль уверял, однако, что влюбленные девицы из племени галла ухитряются преодолевать самые высокие изгороди. Референт выслушал этот рассказ с необыкновенным интересом, задумчиво покачал головой и пожалел об отсутствии такого обычая в Польше, иначе он, Альбин Беганек, не был бы сейчас старым холостяком. Внимательные читатели, вероятно, удивлены тем, что, рассказывая о поездке, я ни словом не упомянул о наших головах и руках. Нет, это не упущение. Просто-напросто все пришло в норму. Голова на свежем воздухе перестала болеть, опухоль на руках спала, а о зуде мы и не вспоминали. В итоге вся авантюра с плодами кактуса и катом пошла на пользу — нам удалось ближе познакомиться с санитарными условиями и здравоохранением в Эфиопии. Около полудня караван достиг конечной цели нашего путешествия — селения, обитатели которого выращивают кофе. Здесь тоже жили галла, но деревня была больше и богаче той, в которой мы пили молоко. Она состояла из таких же круглых тукулей, крытых травой и ветками, но в центре находился двухэтажный дом с галереей под белой крышей из рифленого железа. Кроме того, около всех тукулей были разбиты довольно большие садики, а на деревенской дороге и в крестьянских дворах копошилось множество всевозможной домашней птицы. В деревне заранее знали о нашем приезде и подготовили вполне организованную встречу. К нам вышел староста, чика, в сопровождении старцев. Остальные жители гурьбой высыпали на улицу, но держались на почтительном расстоянии. Чика, старый знакомый Кассы Амануэля, сердечно с нами расцеловался. Со старцами же мы поздоровались по уже известному стандарту: «палец к земле — палец к губам». Старостой деревни галла был амхарец. Это соответствовало тому, о чем мы читали в книгах: руководящие посты в Эфиопии чаще всего занимали амхарцы. Чику звали Уольде Бирру, и, хотя в то время как мы с ним познакомились, ему было всего сорок лет. Уольде участвовал в итало-эфиопской войне в чине офицера. Чика носил полувоенный костюм, напоминавший форму американских летчиков: длинные тиковые брюки и тиковую куртку с меховым воротником. Он — постоянный житель провинции Харэр уже в третьем поколении. Дед его, солдат раса Маконнена, участвовал в завоевании Харэра и, возможно, был очевидцем не вполне приличной демонстрации, устроенной императором Менеликом II на башне мечети. После войны дед Уольде Бнрру получил участок земли на завоеванной при его участии территории. Староста заявил Кассе Амануэлю, что во время нашего пребывания в деревне мы будем его личными гостями, и сразу провел в свой двухэтажный дом. Впервые мы оказались в настоящем эфиопском жилище. Дом, построенный из стволов и ветвей деревьев, был покрыт цементом и производил впечатление каменного. Он был окружен чем-то вроде галереи — выступающая крыша опиралась на врытые в землю деревянные столбы. Касса Амануэль сказал, что такая галерея по-амхарски называется гебела. Внутри дом чики ничем не походил на европейские. Он делился на отдельные помещения так, как у нас делят торт или рождественский кулич. В результате комнаты приобрели треугольную форму. Внутренние стены, отделявшие их друг от друга, были сделаны из дерева. В наружных стенах имелись высокие окна. Каждый из нас получил отдельную комнату. У себя я нашел алгу — нечто подобное тахте, обитой кожаной плетеной циновкой, с маленькой подушкой, грубой простыней и верблюжьими покрывалами вместо одеял. В стене над кроватью торчало множество гвоздей и крюков для развешивания одежды и прочих вещей. Кроме того, было еще два столика; на одном из них стоял погнутый жестяной таз, а рядом — ведро из большой дыни, наполненное водой. Стены украшали византийская икона, изображавшая какого-то святого с мечом, и вырезанные из итальянского журнала большие цветные фотографии Джины Лоллобриджиды. Комнатки пана Беганека и Кассы Амануэля были похожи на мою. Наш опекун заявил, что в харэрской деревне не часто встретишь так хорошо обставленный дом. На наше счастье, Уольде Бирру — человек состоятельный и известный — привык к гостям из города. Завтракали мы в Специальном помещении для приема гостей — аддерашу, — которое было значительно больше остальных. Из радиоприемника лились звуки какой-то похожей на рыдание арабской песни, перс даваемой из Джибути. На наш аппетит завтрак был чрезвычайно скромным Слуги-шанкалла подали нам жареную кукурузную кашу и вареный черный горох со звучным названием тембера. На десерт принесли ароматный мед диких пчел — тазму, — который, как нам объяснили, является отличным средством против простуды. Проголодавшийся пап Беганек запихнул в рот такое количество меда, что, надо думать, застраховал себя от простуды до конца жизни. Уольде Бирру не принимал участия в завтраке. Он стоял возле нас и на ломаном английском языке извинялся за отсутствие на столе мяса. Был день поста, когда жир, мясо, яйца и молочные продукты есть не разрешается. После того как Касса Амануэль рассказал нам, что наиболее богобоязненные эфиопы постятся таким образом двести пятьдесят дней в году, обеспокоенный пан Беганек спросил, не принадлежит ли и наш хозяин к их числу. Но Касса Амануэль успокоил нас, сказав, что Уольде Бирру соблюдает только важнейшие посты, то есть отказывается от мяса не более ста пятидесяти дней в году. После завтрака наш покровитель завел длинный разговор с чикой, а мы с паном Беганеком, в сопровождении двух полицейских и проводника, пошли прогуляться. Очень — скоро к нам присоединилась большая группа жителей деревни, главным образом молодежь, также несколько коз и собак, так что наша скромная прогулка вылилась в некую стихийную демонстрацию. Было бы совсем замечательно, если бы1 мы могли еще и побеседовать с нашими деревенскими спутниками. К сожалению, единственный наш переводчик — старший из полицейских-амхарцев — знал немногим более десятка английских слов. Впрочем, нам все равно было очень интересно. Прежде всего мы заглянули в один из самых маленьких тукулей. Хотелось посмотреть, как живут беднейшие жители деревни. Тукуль был тесный, темный, дымный, совсем без окон, с одной только низкой дверью; стены залеплены глиной, смешанной с пеплом; вдоль стен — заменяющие кровати земляные возвышения, покрытые шкурами; вместо печи — выкопанная в земле яма, в которой тлело сырое дерево. В этом нездоровом, совершенно лишенном какой-либо мебели и утвари помещении ютились люди вместе с животными. Когда мы вышли из тукуля, на другом конце деревни вдруг раздались два выстрела. Наши спутники пришли в сильнейшее возбуждение. Несколько подростков, что-то крича, опрометью кинулись в том направлении, откуда стреляли. Остальные не бросили нас, но было видно, что они чем-то чрезвычайно взволнованы. Наверное, мы имели очень растерянный вид, потому что наш переводчик громко засмеялся. — Нет бояться, — сказал он. — Там новый ребенок. Very good[33]. Эфиоп имеет новая девочка — бум! Эфиоп имеет новый мальчик — бум-бум! Так мы узнали еще об одном обычае эфиопских крестьян. О рождении ребенка они оповещают выстрелами: одним — если родилась девочка, двумя — если на свет появился мальчик. Потом мы пошли на поля за тукулями. Здесь росли и пшеница, и кукуруза, и какие-то неизвестные нам злаки. Было много банановых деревьев, но ни одного банана. На мой вопрос относительно кофе полицейский показал рукой в направлении недалеких горных склонов, где находились кофейные плантации. Во время прогулки по полям наша свита вдруг снова заволновалась. Галла что-то показывали друг другу и возмущенно качали головами. Потом поднялся громкий крик. Наш полицейский кое-как объяснил, что крестьяне заметили бегущее по полю стадо обезьян. — Обезьяны очень плохо, — взволнованно говорил амхарец, — Very bad! Very bad![34] Он обернулся к группе галла и что-то сказал на их языке. Крестьяне как по команде начали кричать и лязгать зубами — они показывали, какие ненасытные и вредные животные эти обезьяны. — Теперь ясно, почему банановые деревья стоят голые, — сказал я референту. — Это обезьяны все съели. Но пан Беганек знал из книг, что дело обстоит иначе. Он объяснил мне, что в местах, где водятся обезьяны, бананы совершенно незрелыми срывают с деревьев и закапывают в землю, чтобы спасти их от этих прожорливых животных. Может быть, поэтому эфиопские бананы так мелки и вкуснее обычных. Прогулка по деревне и по полям продолжалась больше часа. Что касается нас с паном Беганеком, то мы могли бы еще ходить и ходить, но сопровождающие нас жители стали проявлять нетерпение. Видимо, им надоело. Молодые галла что-то возбужденно объясняли полицейскому и показывали в сторону деревни. — Мы уже возвращаться, — сказал амхарец, — Люди спешить. Сегодня чикичик. — Что такое чикичик? — спросил я пана Беганека. К сожалению, референт не знал, а полицейский не сумел ничего объяснить. Из потока английских и ам-харских слов, которые он обрушил на нас, мы ничего не поняли. Единственным, кто мог нам все растолковать, был Касса Амануэль. Его мы нашли в аддерашу увлеченного беседой с Уольде Бирру. Кратко отчитавшись о прогулке, мы перешли к интересующему нас вопросу. — Объясните нам, пожалуйста, что такое чикичик, — попросил я. — Люди говорят, что сегодня в деревне должен быть какой-то чикичик. Касса Амануэль ответил не сразу. Сначала он спросил о чем-то по-амхарски Уольде Бирру. Староста поморщился, пожал плечами и проворчал несколько слов в высшей степени пренебрежительным тоном. — Вообще слово «чикичик» означает «распря», «судебное разбирательство», — объяснил Касса Амануэль. — Но в данном случае речь идет о другом. Сегодня при помощи колдовства будут искать вора, который не хочет сознаваться. Жители этой деревни очень суеверны. — Очень темные люди! — подтвердил по-английски Уольде Бирру. Как мы ни уговаривали Кассу Амануэля и Уольде Бирру, они не хотели разрешить нам присутствовать на чикичике. Особенно возражал староста. Он отрицательно качал головой, что-то восклицал по-амхарски и даже ударил кулаком по столу. — Он говорит, что вы об этом напишете в газете и в Польше будут считать Эфиопию страной настоящих дикарей, — объяснил наш опекун. — Ну что интересного в этих суевериях? Если вы хотите увидеть, как у нас ведутся судебные дела, я свожу вас в Аддис-Абебе в настоящий государственный суд. — Но мы хотим посмотреть чикичик. Нам не нужен настоящий суд. Они везде одинаковы. Мы хотим увидеть эфиопское колдовство. Не писать же потом об одних императорах и достижениях цивилизации. Никто в Польше не будет смеяться над чикичиком. У нас в деревнях тоже полно суеверий, и мы этого не скрываем. Касса Амануэль понемногу склонялся на нашу сторону. Но Уольде Бирру не сдавался и продолжал отрицательно качать головой. Мы упорно стояли на своем. В конце концов староста засмеялся, махнул рукой и, кивнув на нас, сказал что-то Кассе Амануэлю. Было ясно, что он согласился. — Чика не возражает, чтобы вы посмотрели чикичик, — с удовлетворением сообщил наш опекун. — Он говорит, что никогда еще не встречал таких любопытных людей, как поляки. — Ну и чудак ваш чика, — буркнул себе под нос пан Беганек. — Если бы поляки не были любопытны, Коперник не доказал бы, что земля вращается вокруг солнца. Через полчаса мы все пошли на чикичик. По дороге Уольде Бирру рассказал, что у одного из жителей деревни украли припрятанное в земле зерно на посев. Крестьянин подозревает нескольких своих соседей, знавших, где находится тайник. Чикичик должен показать, кто из них вор. Магическое следствие происходило на небольшой деревенской площади между тукулями. В центре стояло два горшка. В одном была вода, в другом — грубого помола мука из дурры[35]. Около горшков хлопотал необыкновенно тощий старик в грязном тюрбане. На земле правильным кружком сидело человек двадцать подследственных. За их спинами столпилась вся деревня, напряженно ожидавшая начала разбирательства. Вел «следствие» старик в тюрбане. Это был — как нам объяснил Уольде Бирру — знаменитый «колдун», специально приглашенный из довольно отдаленной деревни. И вот по приказу колдуна молодой галла поднял над головой копье с прикрепленной к нему белой шам-мой. Это был знак, что следствие началось. На площади воцарилась мертвая тишина. Колдун наклонилсй над горшками и стал лепить из дурры, смешанной с водой, твердые шарики, а потом дал по одному каждому из подозреваемых. Было видно, что получившие магический предмет люди очень взволнованы. Раздав шарики, старик надсаженным, хриплым голосом обратился к подследственным. Касса Амануэль шепотом пересказал нам смысл слов колдуна: — Сейчас он будет петь магическую песню. За это время люди должны проглотить заколдованные шарики. Он говорит, что невинному нечего бояться, а виновный сам себя выдаст. Уольде Бирру тихонько смеялся: — Они совершенно темные, эти крестьяне! Между тем колдун затянул свою магическую песню. Это было, собственно говоря, не пение, а монотонное, похожее на плач завывание. Люди на площади затаили дыхание. Подозреваемые медленно жевали шарики. Их лбы покрылись крупными каплями пота. Так продолжалось несколько минут. Причитания колдуна становились все громче, он пел все быстрее. В мертвой тишине это производило жуткое впечатление. Пот лил ручьями по лицам подследственных, их обнаженные бронзовые торсы блестели, будто смазанные маслом. Взволнованный пан Беганек наклонился к моему уху и шепнул: — Если этот тип не перестанет выть, я не выдержу и сознаюсь, что я украл зерно. Внезапно пение оборвалось, раздался отчаянный, пронзительный крик. Это кричал вор. Тот единственный из всех подозреваемых, кому не удалось проглотить заколдованный шарик. На площади поднялись невообразимый шум и суматоха. Возбужденные деревенские жители с криками кинулись к вору и колдуну. Нам с трудом удалось выбраться из толпы. — Какая темнота! Какой примитивизм! — смеялся Уольде Бирру. Я был совершенно ошеломлен всем виденным и никак не мог понять, почему один из подозреваемых не проглотил шарик и таким образом сам себя разоблачил. — Это совсем несложно, — объяснил нам Касса Амануэль. — Здесь нет ничего сверхъестественного. В большинстве случаев колдовство и ворожба основаны на знании человеческой психологии. Вор во время магического следствия очень волнуется. Его слюнные железы перестают работать, слюна не выделяется, и он не может проглотить шарик. Конечно, это удается только в том случае, если испытуемые верят в колдовство. Вернувшись в дом старосты, мы долго беседовали об эфиопских колдунах и суевериях. Касса Амануэль рассказал нам еще об одном способе обнаружения преступников при помощи «колдовства», так называемом лебашай, гораздо более опасном, чем глотание шариков. Его практиковали преимущественно в христианских провинциях Эфиопии. Роль колдунов в лебашай играют дабтара, недоучившиеся семинаристы или церковные певчие, занимающиеся также магией и медициной. Когда в какой-либо деревне случается кража, дабтара выбирают молодого парня, никогда не пробовавшего алкоголя, и спаивают его до потери сознания; затем такого «вынюхивателя кражи» водят по деревне. На кого укажет сопровождаемый дабтара пьяный молодой человек, того и считают вором. Приговор полностью зависит от человека, ведущего пьяного, и редко бывает справедливым. Этот вредный обычай использовался для того, чтобы свести личные счеты или избавиться от неугодных людей. В последние годы, по словам Кассы Амануэля, лебашай уже не практикуется. Несколько лет назад он был искоренен… Пришел к концу первый день нашего пребывания в деревне галла. Я скоротал ночь на жесткой алге в маленькой треугольной комнатке, наполненной мухами и различными запахами: молока, кожи и скотного двора. В аддерашу старосты допоздна гремел радиоприемник, включенный на полную мощность; в деревне еще долго расправлялись с похитителем зерна; откуда-то издалека доносился пронзительный лай шакалов и гиен. Несмотря на все это, я спал великолепно — куда лучше, чем в роскошном отеле Аддис-Абебы, — и проснулся утром свежим и отдохнувший и томимый жаждой новых впечатлений. Весь следующий день был посвящен кофе. Ранним утром мы с нашим караваном отправились осматривать близлежащие кофейные плантации. Теперь у нас на всю компанию появилось одно механическое транспортное средство — Уольде Бирру сопровождал нас на мотоцикле. Начало путешествия, как и в первый раз, ознаменовалось инцидентом с ослами. Проводники-галла, заботясь о возвращении нам «утраченного лица», уговорили нас ехать на Симпатяге и Резвой. Стараясь завоевать расположение строптивых животных, мы во время пребывания в деревне тайком подкармливали их сахаром. Поэтому сейчас, думая, что у нас есть для этого все основания, мы приняли абсолютно независимый вид и спокойно взгромоздились на их спины. Но не тут-то было! Эти негодные существа не выразили никакой благодарности, а повели себя еще хуже, чем прежде. Симпатяга точно так же не слушался и точно так же старался укусить Резвую за то место, где была нога пана Беганека. Более того, свою старую программу они пополнили новым номером — бегом наперегонки с мотоциклом Уольде Бирру. Резвая понеслась так, что едва не сделала референта калекой. Нам не оставалось ничего другого, как пойти на вторичную, теперь уже окончательную, «потерю лица». Под громкий хохот двух галла и трех амхарцев — только Касса Амануэль, добрая душа, не смеялся — мы снова перебрались на спины безопасных серых осликов «второго класса». После этого прискорбного и губительного для нашей чести эксцесса ничего особенного не произошло. Мы осматривали обширные владения харэрских плантаторов и беседовали о кофе. Откровенно говоря, это не было так интересно, как мы ожидали, скорее просто скучно. Только первую встречу с кофе в естественном виде я вспоминаю как своего рода событие. Мы трусили на наших осликах по степи. Неожиданно впереди, на небольшом расстоянии от нас, на склоне горы показался порядочный лесок — не то деревья, не то кустарники. Ветерок, подувший с той стороны, принес с собой удивительно знакомый запах. Сразу вспомнились детство и пасхальные праздники вродительском доме. — Чувствуете запах ванили? — спросил Касса Амануэль. — Это пахнут кофейные деревья. Подъехав ближе, мы спешились и углубились в рощу. Здесь росли кусты высотой больше чем в два человеческих роста. Отодвигая длинные зеленые листья, мы с удивлением разглядывали гроздья круглых, красных, похожих на вишню плодов. Трудно было поверить, что эти аппетитные вишенки и есть кофе. Касса Амануэль сорвал один плод, тщательно очистил его от мякоти и протянул нам на ладони белое, круглое, похожее на горошину зернышко. — Это зерно кофе «харари», лучшего на свете, — сказал он. Выдающийся специалист по Эфиопии, референт Альбин Беганек, засомневался. — Прошу прощения, — сказал он, — но я читал, да и сам не раз видел кофе в зернах, и оно всегда состояло из двух долей, а не из одного, и имело овальную форму, а не круглую. Пан Беганек произнес это таким тоном, словно кофейная рощица была специально создана для того, чтобы вводить в заблуждение путешествующих по Эфиопии поляков. — Вы совершенно правы, — ответил с улыбкой Касса Амануэль. — Зерно обычного кофе действительно состоит из двух долей и имеет овальную форму. Но «харари» — это особый сорт, с круглыми и цельными зернами. Поэтому его называют еще «жемчужным». Это убедило пана Беганека. Взяв с ладони у Кассы Амануэля белое круглое зернышко, он долго его разглядывал, потом передал мне. Я тоже осмотрел зерно со всех сторон. Для людей, привыкших видеть кофе только в чашках или в фабричной упаковке, зернышки свежих плодов казались диковинками. Но это и все. Дальше не было ничего нового. Все те же высокие зеленые кусты, такие же, похожие на вишню плоды и белые зерна. К сожалению, последующие плантации мы осматривали без Кассы Амануэля и его объяснений. Дело в том, что он разъезжал по плантациям не только ради нас. У него были здесь свои дела. Пересев с осла на мотоцикл, наш опекун вместе с чикой ездил по домам плантаторов и заключал с ними какие-то таинственные сделки. А я оказался в полной зависимости от пана Беганека, который, сделавшись единственным источником информации, забрасывал меня настолько противоречивыми сведениями, что в голове все перемешалось. Наши беседы на плантациях выглядели приблизительно так: — Интересно, что вы знаете о происхождении слова «кофе»? Естественно, что ничего, да и где я мог бы об этом прочитать, если пан Беганек в Каире скупил у меня из-под носа все книги об Эфиопии? — На юго-западе Эфиопии имеется провинция Каффа, которая считается родиной кофе, — просвещал меня Великий первооткрыватель. — Там и сейчас есть дикорастущие кофейные деревья. От названия этой провинции произошло слово «кофе». Понимаете: Каффа — кофе? — Хм, любопытно… — Но в другой книге я читал, — неожиданно вспомнил мой собеседник, — что все это неправда и что слово «кофе» произошло от арабского «kahua», это означает и кофе и вино. На следующей плантации пан Беганек рассказал мне, каким образом люди научились пить кофе: — Это произошло в весьма отдаленные времена: может быть, при Менелике Первом, сыне царя Соломона, а может, немного позднее. Однажды каффские пастухи заметили, что их козы необычно возбуждены. Стали искать причину и обнаружили, что животные объелись листьями какого-то неизвестного кустарника. И так по ниточке добрались до клубка. Догадались? Этот неизвестный кустарник и был кофейным деревом. Но едва я усвоил эту информацию и представил себе древних эфиопских пастухов и их возбужденных коз, как пан Беганек вдруг выступил с новой версией: — Правда, в другой книге написано, что кофе был открыт при совершенно иных обстоятельствах: в костер случайно упало несколько кофейных плодов, и запах жареного кофе привлек внимание людей. Понимаете? Я почувствовал, что скоро ошалею от потока противоречивой информации. — Пан Альбин, — взмолился я, — оставьте свои истории. Главное, что кофе открыли, а как это произошло — в конце концов не важно. Пан Беганек рассердился и сказал, что я не способен научно подойти к вопросу. Тогда я прекратил с ним все разговоры и вступил в беседу с полицейским, который довольно успешно дополнял свой скудный запас английских слов весьма выразительной жестикуляцией. К моему великому удивлению, на родине кофе слово «кофе» неизвестно. Амхарцы говорят — «буна». На четвертой плантации я уже не говорил о кофе и не желал о нем слышать. Мне смертельно надоели темно-зеленые кустарники, красные плоды, белые зерна и разговоры о кофе. Я был голоден и устал от всего этого путешествия на осле. Зато таинственные вылазки Кассы Амануэля и Уольде Бирру в дома плантаторов интересовали меня все больше. Я ломал себе голову над тем, какие дела могут быть у чиновника Главного управления банками в Аддис-Абебе с богатыми крестьянами из провинции Харэр. Поскольку для меня самого эта загадка была неразрешимой, я спросил Кассу Амануэля. Но тот отделался ничего не значащим объяснением. Я почувствовал, что он чем-то удручен и раздосадован. Как видно, таинственные переговоры с плантаторами не дали ожидаемых результатов. Настаивать было неудобно, и я отложил решение мучившей меня загадки до более подходящего момента. Благодаря дождю он наступил очень скоро. Ливень захватил нас на очередной — не знаю уж, которой по счету, — плантации. Касса Амануэль и Уольде Бирру как раз собирались по своему обыкновению ехать к плантатору. Поскольку они не могли бросить нас под дождем, мы двинулись к его дому всем караваном. Плантация была небольшая. Она принадлежала богатому амхарскому крестьянину, поместье которого очень напоминало одноэтажные домики с колоннами, какие нам приходилось видеть в предместьях Аддис-Абебы. Прибыв на место, проводники отвели в конюшню ослов и мулов, полицейские занялись мотоциклом чики, а мы с Кассой Амануэлем и Уольде Бирру вошли в дом. Касса Амануэль оставил нас под покровительством чики в первой комнате, а сам надолго исчез. Мы сразу почувствовали, что в доме царит какая-то тревожная атмосфера. То и дело мимо нас пробегали люди в белых шаммах. Они были так взволнованы и озабочены, что не обращали на нас никакого внимания и даже не отвечали на приветствия Уольде Бирру. Из отдаленных комнат до нас доносился шум возбужденных голосов. Мне показалось, что среди других я слышу голос Кассы Амануэля. Как ни мало мы разбирались В особенностях быта эфиопских крестьян, даже нам стало ясно, что в доме происходит что-то необычайное. Я спросил Уольде Бирру о причинах переполоха. — Старый человек очень болен, — ответил чика на своем не совсем правильном английском языке. — Он скоро умрет. Касса Амануэль хочет с ним говорить. У старого человека много сыновей, много дочерей. Ответ получился не вполне вразумительный, но ясно было одно: Касса Амануэль и Уольде Бирру давно знали о болезни плантатора, и их приезд сюда каким-то образом с ней связан. Все это вместе взятое показалось мне очень странным. Между тем шум голосов в глубине дома нарастал. Теперь я уже четко различал сердитые выкрики Кассы Амануэля. Видимо, там ссорились. Уольде Бирру несколько минут внимательно прислушивался, после чего принял решение: — Идем туда. С этими словами он провел нас в следующее помещение. Там находилось несколько одетых в белое женщин и детей. Бурная ссора происходила в третьей комнате, где лежал больной плантатор. Уольде Бирру, не спросив ни у кого разрешения, вошел туда, а нам велел подождать. К счастью, он оставил дверь приоткрытой, и нам все было видно. В небольшой, переполненной людьми комнате на алге около стены лежал накрытый одеялами и шкурами старый плантатор. Было видно, что жить ему осталось недолго — его кожа приобрела желто-восковой цвет, а черты лица заострились, как у покойника. Около постели сидел босой бородатый монах в высокой белой шапке и белой монашеской рясе, перепоясанной шнурком. Время от времени монах наклонялся к больному и что-то шептал ему на ухо, показывая глазами на Кассу Амануэля. Кроме этих трех человек в комнате было еще несколько широкоплечих амхарцев в белых шаммах. Они-то и спорили так ожесточенно с Кассой Амануэлем. Я догадался, что это сыновья умирающего, пытающиеся помешать беседе своего отца с представителем столичного банка. Вскоре Уольде Бирру с очень недовольным видом вышел из комнаты и проводил нас обратно в прихожую. Я пытался что-нибудь у него узнать, но чика только отрицательно качал головой, повторяя свое любимое изречение: «темные люди, очень темные люди…»— и не проявляя ни малейшего желания разговаривать с нами. Кассу Амануэля нам пришлось прождать еще полчаса. Наконец он вышел, измученный, в плохом настроении, и тоже не стал ничего объяснять, сказал только, что сыновья плантатора пригласили нас всех на обед. После этого он и чика долго разговаривали по-амхарски, совершенно забыв о нашем существовании. Обед проходил в центральном помещении, прилегавшем к комнате больного. За столом кроме нас собралось человек двадцать: сыновья плантатора, их жены, сестры, зятья и дети. Обязанности хозяина выполнял старший сын — сорокалетний тучный амхарец в черных очках. Он с первой минуты почувствовал особую симпатию к пану Беганеку и посадил его на почетное место справа от себя. Я пристроился между Беганеком и Уольде Бирру. Прислуживали за столом, как обычно, слуги шанкалла. Блюда были те же, что на ужине у мосье Бернара: ынджера и соус вот. Но и тут не обошлось без эксцессов. Первой жертвой оказался пан Беганек. Как только на столе появились миски с вотом, референт — большой любитель этого вкусного блюда — немедленно отломил порядочный кусок ынджеры и уже собирался окунуть его в миску с благоухающим соусом, как произошло нечто странное. Старший сын плантатора с молниеносной быстротой схватил своего почетного гостя за руку, в которой тот держал ынджеру, и отвел ее от соуса. Пан Беганек покраснел как кумач и, разинув рот, буквально окаменел от смущения и удивления. Между тем хозяин отломил кусок ынджеры, ловко окунул его в соус и столь же проворно впихнул аппетитный кусок в открытый рот почетного гостя. Все это произошло так быстро, что пан Альбин только чудом не подавился. ОдНако он быстро пришел в себя и шепнул мне, что знает этот эфиопский обычай и только в первую минуту не сообразил, в чем дело. Затем референт скромно отметил, что в Эфиопии считается особенно почетным для гостя, если хозяин подает ему таким образом первый кусок. Вскоре мне пришлось удивиться еще раз. Когда общество приступило к еде, я вдруг заметил, что все амхарцы обоего пола громко чавкают, как будто нарочно стараются показать, что обед им очень нравится. В этот концерт хорового чавканья включился даже воспитанный и светский Касса Амануэль. Но больше всего поразил меня тот факт, что чавкал и пан Беганек. Я толкнул его под столом коленом: — Вы что? Ошалели? Референт с наслаждением проглотил большой кусок ынджеры с вотом. — Как, разве вы не знаете? Это эфиопский обычай. Если мы не будем громко чавкать, хозяин обидится и спросит: «Почему вы едите так тихо, как воры?» Надо доставить удовольствие хозяину. И чавкнул так, что старший сын плантатора, посмотрев на него сквозь черные очки, ласково улыбнулся. Надо отдать справедливость пану Беганеку: он был отлично подготовлен к деревенскому обеду. После первого эфиопского ужина у мосье Бернара референт два часа просидел над книгами, изучил и подробно записал в зеленый блокнот все, что касалось эфиопских гастрономических традиций, и за кофе еще раз блеснул своими познаниями. Кофе подали так же, как у мосье Бернара, — в чашках с двумя ушками. После острого соуса страшно хотелось пить, и я одним духом перелил себе в рот половину содержимого чашки. Но проглотить его оказалось не так-то просто. — Что такое? Это ошибка или шутка? — сердито зашептал я на ухо референту. — Они всыпали мне в чашку соль вместо сахара! — Это не ошибка, — засмеялся наш всезнайка. — Эфиопы пьют кофе с солью. Иногда они добавляют туда масло или мед и коренья. Они бы лопнули от смеха, если бы им предложили, например, кофе с молоком. Ничего не поделаешь — такой народ. Кстати, кофе с солью очень хорош. Соль подчеркивает аромат и вкус. — Если кофе с солью так хорош, почему же вы его не пьете? — К сожалению, я не могу! Кофе мне противопоказан. При этих словах референт лукаво прищурил один глаз — дескать, ловко я тебя провел? Вы, наверное, удивлены, дорогие читатели, что мы могли так свободно разговаривать между собой в присутствии многочисленных амхарских сотрапезников? Не удивляйтесь — никто не обращал на нас ни малейшего внимания. Спор, начавшийся у постели больного, продолжался и во время обеда. Касса Амануэль настойчиво чего-то требовал от сыновей плантатора, и хотя Уольде Бирру его поддерживал, они упорно сопротивлялись. Остальные члены — семьи с огромным интересом прислушивались к разговору. Все это продолжалось до конца обеда. После кофе Касса Амануэль окончательно отказался от мысли убедить упрямцев. Дождь прекратился, можно было отправляться восвояси. Перед отъездом мы пошли с — сыном плантатора в помещение, где жарят кофе, и купили для мосье Бернара килограмм «харари», так сказать, «прямо из-под коровы». На обратном пути Касса Амануэль был угрюм и мрачен. Мне сделалось искренне жаль его, но вместе с тем я счел момент подходящим, чтобы выяснить мучившие нас вопросы. — Скажите, Касса Амануэль, — попросил я, — о чем вы так спорили с плантаторами. Наш друг печально улыбнулся, но на этот раз не стал уклоняться от ответа: — О чем мы могли спорить? Конечно, о деньгах. Я ведь служащий банка, и уговаривал их положить свои сбережения в наш банк под проценты. — У вас приходится просить, чтобы клали деньги в банк? — удивился пан Беганек. — Странный народ! У нас почти все держат деньги в сберегательных кассах. — А здесь иначе, — мрачно ответил Касса Амануэль. — Наши крестьяне предпочитают зарывать деньги в землю. Так же, как тысячу лет назад. — В землю? — изумились мы оба. — Как это? И тогда Касса Амануэль рассказал нам об одной своеобразнейшей особенности экономической жизни Эфиопии. Богатые эфиопские крестьяне — владельцы кофейных и хлопковых плантаций, скотоводы и жители районов, расположенных вблизи от дикорастущих кофейных рощ в провинциях Каффа, Уаллега, Илубабор и Гэму-Гофа, — зарабатывают очень много, но тратить деньги им негде. Поэтому они просто-напросто зарывают их в землю. Такой деревенский богач — в великой тайне даже от ближайших членов семьи — закапывает примитивный маленький сейф, сконструированный из старой жестяной банки из-под керосина и ржавой трубы. После этого он регулярно, каждые несколько дней, опускает туда все деньги, вырученные от продажи кофе, хлопка или скота. Делается это ночью, с соблюдением всяческих предосторожностей, чтобы кто-нибудь из домашних случайно не нашел дорогу к «индивидуальной сберегательной кассе». Через несколько месяцев крестьянин, который не ведет никакого учета спрятанных денег, теряет контроль над своими сбережениями и даже приблизительно не знает размеров закопанного сбережения. Между тем капитал растет. Касса Амануэль убежден, что на деньги, зарытые в крестьянских палисадниках в окрестностях Аддис-Абебы, можно купить всю столицу вместе с железной дорогой Аддис-Абеба — Джибути. — Ну хорошо, а что происходит с этими деньгами после смерти владельца? — спросил пан Беганек. — Ведь никто в семье о них не знает. — Одну минутку, господа, — Касса Амануэль немного придержал своего осла, потому что наши «рысаки» никак за ним не поспевали, — Сейчас я расскажу вам самое интересное. Помните монаха в комнате больного? Да, мы помнили его, но только сейчас узнали, какую роль играл этот человек у постели умирающего плантатора. — Когда обладатель зарытого сокровища почувствует себя плохо, он призывает странствующего монаха, исполняющего функции врача, аптекаря и нотариуса. Умирающий диктует ему завещание, в котором делит между наследниками свое состояние, сам не зная его размеров. Место, где зарыты деньги, он пока не открывает. Это — главное — признание делается перед самой смертью. Монах терпеливо ждет, проводя порой целые недели около алги умирающего. Наконец больной, безошибочно почувствовав близость смерти, открывает монаху тайну. Накопленное в течение всей жизни богатство отдано в чужие руки… — А что, если владельца обманет предчувствие и он выздоровеет? — поинтересовался пан Беганек. — Человек, указавший место, где закопаны деньги, не может выздороветь. Об этом позаботится монах — ведь он к тому же и аптекарь, знающий всевозможные яды, а за услугу заплатят нетерпеливые наследники. Сразу же после смерти владельца деньги откапывают и делят. Не забывают и участливого монаха. В ту же ночь наследники покойного, прячась друг от друга, зарывают свои доли обратно в землю. — Невероятно! — воскликнули мы с паном Беганеком в один голос. — Значит, тот больной плантатор, у которого мы были, и его сыновья поступят так же? Касса Амануэль мрачно кивнул: — Конечно. Поэтому я и убеждал их отдать деньги в банк. Для них это было бы и безопаснее и выгоднее— они получали бы еще и проценты. А банк мог бы пустить деньги в оборот и помочь правительству в строительстве новых фабрик и школ. Но крестьяне упрямы и предпочитают зарывать деньги в землю, как это делали их деды, прадеды и предки, жившие тысячу лет назад. — Очень темные люди, — добавил сидевший на своем мотоцикле Уольде Бирру. — Поразительно, до чего темные. До деревни мы добрались поздним вечером, смертельно усталые и мечтающие только о том, чтобы как можно скорее улечься на свои алги. Но хлебосольный чика не позволил нам лечь спать без традиционного ужина, состоящего из ынджеры и вота, но без чествования гостей и чавканья. Уольде Бирру, человек прогрессивный, не признавал «примитивных» традиций. После ужина наш опекун Касса Амануэль сообщил, что на следующий день утром мы возращаемся в Харэр. Старосту эта весть очень огорчила, и он уговаривал нас остаться еще на несколько дней. Но Касса Амануэль сказал ему что-то по-амхарски, и оба рассмеялись. Сильно заинтригованный, я попросил перевести. — Я вспомнил старую амхарскую пословицу, — ответил Касса Амануэль, — «гость вначале кажется золотом, потом — серебром, а еще позднее — железом». Я сказал, что мы хотим остаться в его памяти золотом и поэтому завтра уезжаем. На следующий день мы уже были в Харэре, а оттуда, через Дыре-Дауа, тем же маршрутом, каким ехали в Харэр, вернулись в Аддис-Абебу.
Глава VIII
Возвращаемся в столицу — Последние два дня в Эфиопии — Прогулка по Аддис-Абебе — За нами следят — Шанкалла в синем тиковом костюме — Посещение домика с колоннами — Пан Горн — Приступ болезни — Человек с клеймом раба — Мы осматриваем комнату-музей — Пистолет раса Хайлю и портсигар итальянского князя — Рыцарь Великих Приключений — Прощай, Эфиопия!
Итак, на тринадцатый день нашего пребывания в Эфиопии мы снова оказались в Аддис-Абебе. Если вы думаете, что, увидев нас, Павел очень обрадовался, прижал нас к своей истерзанной груди и осыпал цветами, то вы жестоко ошибаетесь. Ничего подобного не произошло. Бвана Кубва, как ему и положено, отнесся к нам со свойственной ему грубостью. Для начала он устроил страшный разнос из-за того, что поездка, по его мнению, слишком затянулась; потом не без злорадства сообщил, что через два дня мы покидаем Эфиопию и его мучениям с нами, слава богу, придет конец; а напоследок выразил уверенность, что мы, конечно, ничего для него в Харэре не сделали и что, конечно, все деньги потратили на пустяки. Такая встреча после недельного отсутствия вывела бы из себя даже святого. Только не референта Альбина Беганека. С величайшим спокойствием выслушав обвинительную речь нашего шефа, он протянул ему написанный каллиграфическим почерком Кассы Амануэля список харэрских торговцев с указанием адресов, а также оригинальный данакильский кинжал, купленный нами для Павла на обратном пути в Харэре. — Единственный пустяк, на который мы позволили себе потратить деньги, — любезно сказал он, показывая на кинжал, — это подарок для вас. Какой сладкой была месть! Как растерялся и смутился Павел! Как пытался он все ранее высказанное обратить в шутку! Каким сделался веселым и как рвался непременно ударить пана Беганека по плечу! Но референт гордо уклонился от такой фамильярности. Совсем по-другому приветствовал нас мосье Бернар. Сразу было видно, что этот милейший человек по-настоящему рад нашему возвращению. Приехав встречать нас на вокзал, он принес коробку швейцарских шоколадных конфет, был бесконечно благодарен за кофе «харари», а на пути с вокзала в отель терпеливо слушал длиннющий рассказ пана Беганека о больном плантаторе, хотя от диковинного французского языка референта даже у меня болели уши. В Аддис-Абебе за время нашего семидневного отсутствия никаких перемен не произошло. В отеле было так же уныло, как и прежде, пан Мачек все так же вспоминал родную Прагу, а с неба по-прежнему лились потоки дождя — как будто основателем Эфиопии был не Эфиопис, правнук Ноя, а сам библейский Ной. Попрощавшись с Кассой Амануэлем и мосье Бернаром, мы с паном Альбином стали совещаться, как провести наши последние два дня в Эфиопии. Перспективы были самые плачевные. На Бвану Кубву рассчитывать не приходилось — ему необходимо закончить свои дела. Мосье Бернар работал вместе с ним и тоже был занят. Кассе Амануэлю предстояло писать отчет о харэрской поездке своему директору, какому-то малосимпатичному греку. Короче говоря, нам снова угрожали дождь, скука и одиночество. В лучшем случае я мог рассчитывать только на то, что пан Беганек расскажет еще несколько историй об эфиопских императорах. Но и этот последний якорь спасения был ненадежен — заполнив заключительную страницу в своем зеленом блокноте, референт перестал интересоваться Эфиопией. Он заявил, что собрал уже достаточно сведений об этой стране и оставшиеся два дня охотнее всего поспит в своем номере. Пан Альбин сказал это так решительно, что и я призадумался-не лучший ли это выход из нашего положения. Но, мои дорогие читатели, в жизни не бывает безвыходных положений. Какой-нибудь пустяк — и отчаяние переходит в радость, а скука уступает место увлекательным и захватывающим впечатлениям. Интересное событие произошло в самый последний день нашего пребывания в Эфиопии, который начался весьма заурядно. Ничто не обещало необыкновенных происшествии. С утра, как обычно, шел дождь; Павел уехал к мосье Бернару, сказав, что вернется только к вечеру; нам ничего другого не оставалось, как скучать в отеле и убивать время. К счастью, после обеда дождь прекратился, и мы вышли в город, чтобы в последний раз пройтись по улицам Аддис-Абебы. Но прогулка без всякой цели не доставила нам никакого удовольствия. Погода была пасмурная, туманная, отвратительная. Вот-вот опять должен был начаться дождь, и мы не хотели слишком удаляться от отеля, а поблизости не видели ничего достойного внимания. Некуда было идти, не о чем разговаривать. Мы были возбуждены и взволнованы — как обычно перед отъездом — и страдали от пронизывающего холода. — Знаете, что? — вдруг сказал пан Беганек. — Зайдем в тедж-бет, выпьем теджа. Это наверняка благотворно на нас подействует. Предложение было замечательное, и я принял его без колебаний. Мы вошли в одну из непритязательных эфиопских пивных, каких было много на той улице, и заказали душистый напиток из меда. В маленьком помещении кроме обслуживающего персонала сидел только старый негр в темно-синем тиковом костюме. Появление двух белых ференджей, очевидно, сильно, поразило его, потому что старик широко разинул рот и с удивлением уставился на нас. Наше настроение после бутылки теджа заметно улучшилось, и мы вышли из пивной гораздо более бодрым шагом, чем вошли, и даже погода уже не казалась такой унылой. Сразу нашлись и темы для разговоров. Я стал набрасывать планы моих будущих очерков, а пан Беганек, чтобы оживить беседу, жаловался на Эфиопию. — Не понимаю, что вы нашли в этой Эфиопии, — брюзжал он по своему обыкновению. — Для меня это просто испорченный отпуск. В книгах столько всего понаписано, представляешь себе бог знает что, а приезжаешь — и ничего: никаких необыкновенных приключений, никаких достойных мужчины переживаний, даже льва не встретишь! Я решил призвать референта к порядку. — Пан Альбин, — сказал я, — оставьте, пожалуйста, в покое львов. Ведь вы сами рассказывали о пророческом сне вашей тети. Но пан Альбин лишь пренебрежительно пожал плечами: — Ну, знаете ли, верить каким-то бабьим сказкам… При этих словах мой друг оглянулся, словно боясь, как бы тетя случайно не услышала его слова. Как видно, наш референт был любящим племянником. — Пан редактор, — вдруг изменившимся голосом произнес он и судорожно схватил меня за плечо. — Оглянитесь назад, только постарайтесь не привлекать к себе внимания. Мне кажется, за нами следят. — Простите, я уже стар для таких мальчишеских выходок, — рассмеялся я. — Видно, тедж пробудил в вас чувство юмора. — Пан редактор, я не шучу. Оглянитесь. За нами идет тот человек из тедж-бета, негр-шанкалла… Лучше сразу обратиться к полицейскому. Эфиопия — опасная страна. Я осторожно оглянулся. Улица была почти пуста, лишь на некотором расстоянии за нами шел старый негр в синем тиковом костюме. Я встретился с его внимательным, сосредоточенным взглядом. Действительно, похоже на то, что он специально шел за нами. Мне сделалось неприятно. Что ему понадобилось? Дурацкая история. Но я старался не придавать этому наблюдению серьезного значения. — Зачем беспокоить полицейского? — сказал я. Но пан Беганек был обеспокоен: — Пан редактор, давайте немного ускорим шаг. Хуже всего, что он отрезал нам путь в отель… Главное, нигде не сворачивать в сторону, потому что шанкалла любят носить с собой кинжалы. Если мы будем идти все время прямо, то в конце концов дойдем до вокзала. — Только бы он не загнал нас обратно в Дыре-Дауа! Я пытался острить, хотя ощущение становилось все более неприятным. А пана Беганека моя шутка окончательно вывела из себя. — Простите, пан редактор, — с возмущением проговорил он, — но ваша веселость сейчас совершенно неуместна! Если бы вы знали об Эфиопии столько, сколько я, вы бы не смеялись! Вот, например, знаете ли вы, что у эфиопок есть амулеты с ядом? Этот яд высыпают в кофе, человек выпивает его и через педелю умирает от инфаркта. И ни один врач не обнаружит признаков отравления. — Но мне кажется, у этого типа нет при себе термоса с кофе! — Зато может оказаться отравленный кинжал! Тут уж я рассердился и принял решение, достойное настоящего мужчины: — Хватит молоть вздор! Мы ведем себя, как двое сумасшедших. Наплевать на вашего шанкаллу. Если у него есть к нам какое-нибудь дело, пусть подойдет и скажет. Кончаем панику! Поворачиваем назад и шагаем в отель! Сказано это было так решительно, что пан Беганек подчинился, как солдат приказу. Таким образом, мы встретились лицом к лицу с нашим преследователем. В первый момент негр испугался и сделал такое движение, как будто собирался бежать, но тут же овладел собой и открыл в широкой улыбке два ряда великолепных зубов. — Извините, господа, — сказал он хриплым голосом, — у меня к вам дело. Эфиопия — необычная страна, я лично в этом никогда не сомневался. Здесь много по-настоящему поразительного. Но первая фраза негра в синем тиковом костюме — это было самое удивительное из всего, с чем нам пришлось столкнуться до сих пор. Его слова повергли нас в изумление, мы остолбенели, лишились дара речи, превратились в каменные изваяния. Вы не догадываетесь, дорогие читатели, что могло так поразить нас в этой простой короткой фразе? А то, мои дорогие, что шанкалла произнес их… по-польски! Когда мы оправились от потрясения, пан Беганек перевел дух и выпалил: — Так… так вы из Польши? — Нет, я не поляк, — ответил шанкалла, с трудом подбирая слова. — Мой господин из Польши, пан Горн… Он хочет вас видеть… Я вас искал. Три раза был в отеле. Вас нет. Я сижу в тедж-бете — вы есть… У пана Горна я видел много панов из Польши. Я вас узнал… Очень хорошо! Негр радостно засмеялся: — Вы идете со мной к пану Горн. Пан Горн очень рад. — А где живет ваш хозяин? — решил я наконец спросить. — Пан Горн живет недалеко. Пан Горн больной. Не может ходить. Он очень хочет вас видеть. Идете? Синим рукавом шанкалла вытер со лба пот. Он правильно говорил по-польски, но, видимо, давалось ему это нелегко. Пан Беганек поднялся на цыпочки и шепнул мне на ухо: — Пан редактор, будьте бдительны. Возможно, это ловушка. Я постучал себе пальцем по лбу. В самом деле! Мафия отравителей-шанкалла специально изучила польский язык, чтобы устроить ловушку референту Альбину Беганеку! Ни слова не сказав, я взял под руку моего фантазера-друга, и мы пошли за африканцем. Пан Горн действительно жил неподалеку, на маленькой тихой улочке, сразу за центральной площадью. Его небольшой деревянный дом с колоннами и галереей, весь закрытый буйно разросшимися вьюнками, стоял в саду, обнесенном зеленым дощатым забором. Калитку отворила молодая служанка, такая же темнокожая, как наш провожатый. Сразу нас окружила свора дворняжек, удивительно похожих на польских. Все здесь больше напоминало окраину какого-нибудь Плоньска или Белхатова, чем резиденцию таинственного незнакомца в столице Эфиопии. Двое темнокожих слуг ввели нас в старосветское жилье, пахнущее травами и лекарствами. Наш провожатый попросил подождать в первой комнате, ничем особенно не примечательной, а сам прошел в глубь дома. Оттуда послышался его хриплый голос, что-то говоривший по-амхарски. Ему ответили на том же языке. Вскоре шанкалла вернулся. — Пан Горн просит вас войти, — сказал он, радушно улыбаясь. Мы прошли через полутемную комнату с закрытыми ставнями и остановились на пороге третьей, в которой горела лампа. Эта комната представляла собой довольно большой кабинет, производивший впечатление домашнего музея. Там лежало и стояло множество удивительных и странных предметов; стены были обвешаны старым африканским оружием, шкурами диких зверей, эфиопскими картинами на пергаменте и сотнями фотографий. Все это я увидел лишь краем глаза, потому что главное внимание с первой минуты привлекал сам хозяин. Сидевший в мягком кожаном кресле мужчина могучего телосложения, лет шестидесяти с небольшим, выглядел слабым и беззащитным, как птенец в гнезде. На его измученном болезнью лице жили одни глаза — живые, удивительно спокойные, полные сосредоточенной силы и скорбной мудрости. Пан Горн протянул нам навстречу обе руки. Я обратил внимание на то, что они, да и его голова, трясутся какой-то страшной, ни на минуту не прекращающейся дрожью. Так же, по-видимому, дрожал и язык, потому что он выговаривал слова с трудом, тихо, немного невнятно. — Благодарю вас за то, что вы пришли, — сказал хозяин. — Я так давно не видел никого из Варшавы. Как только мне сказали, что вы в Аддис-Абебе, я велел Мухаммеду повсюду искать вас. Поверьте, я очень рад. Будьте любезны, садитесь, пожалуйста. Сказав $то, пан Горн откинулся на спинку кресла. Было видно, что он очень болен и измучен. Мы расположились на удобном диванчике напротив хозяина дома. Пан Беганек, достав из кармана носовой платок, нервно вытирал пот со лба и шеи. Я тоже очень волновался. Это был самый странный визит в моей жизни. Пан Горн некоторое время молча рассматривал нас. Потом мы разговорились. Правда, говорил только он, а мы с паном Беганеком лишь время от времени вставляли какой-нибудь вопрос или издавали возгласы удивления. Преодолевая сопротивление непослушного языка, пан Горн рассказал нам историю своей жизни. Он приехал в Эфиопию тридцать с лишним лет назад из Варшавы, где служил в какой-то торговой конторе. Но ему не сиделось на месте, так как он — прирожденный искатель приключений — с юных лет мечтал о путешествиях в далекие, экзотические страны. Однажды в варшавской публичной библиотеке нашему хозяину случайно попала в руки книга об Эфиопии, написанная чиновником русского посольства в Аддис-Абебе. Одержимого жаждой приключений конторского служащего околдовала полная тайн африканская империя Соломонидов. Молодой человек почувствовал, что эта страна предназначена ему судьбой. Не долго думая, он оставил службу, обратил в деньги все свое имущество и с образовавшимся таким образом капиталом отправился в путь, в Аддис-Абебу… Аддис-Абеба в те времена сильно отличалась от нынешней. Не было еще высоких каменных домов торгового центра, а в том месте, где сейчас находится роскошный «Pac-Отель», устраивалась конная охота на шакалов. В старом императорском дворце восседала на троне окруженная толпой дочь Менелика II, толстая императрица Заудиту. В нескольких сотнях километров от столицы в неприступной крепости Керауа, в горах, влачил жизнь узника прикованный золотой цепью к стене темницы низложенный император Лидж Ияссу. В феодальной Эфиопии тех лет пан Горн пережил все те необычайные приключения, какие он только мог вообразить в своей варшавской конторе. Это была замечательная, бурная жизнь. Он объехал Эфиопию верхом вдоль и поперек, побывал в местах, не обозначенных на картах, охотился на львов и слонов, торговал с дикими племенами оружием, золотом и слоновой костью, повидал много удивительного. Нет, он не жалеет, что приехал в Эфиопию, не жалеет о тех годах. Не жалеет… нет… Голос рассказчика стал слабее, глуше, перешел в бессвязное бормотание. Больного уже не слушался его дрожащий язык. Крик о спасении прозвучал, как писк полузадохшегося птенца: — Айелеч! Айелеч! Испуганные, мы вскочили с диванчика, но хозяин движением трясущейся руки заставил нас снова сесть. Темнокожая служанка бесшумно подошла и подала лекарство. В течение нескольких минут мы были свидетелями агонии, которая длилась до тех пор, пока спасительная таблетка нитроглицерина не растаяла под языком больного. С ужасом смотрели мы на страдания несчастного. У пана Беганека на щеках выступили пятна. Никогда еще я не видел моего друга таким взволнованным. Мне кажется, в истории пана Горна его больше всего поразило то обстоятельство, что этот искатель приключений начал свою жизнь в качестве простого конторского служащего. Романтически настроенный референт, видимо, отождествлял себя с паном Горном, поэтому и переживал так глубоко и искренне. Страшные приступы болезни были в этом доме повседневным явлением. Черные слуги уже привыкли к ним. В то самое время как Айелеч давала больному лекарство, знакомый нам Мухаммед принес на подносе две чашки кофе и с полнейшим спокойствием поставил их на маленьком низком столике. При этом он наклонился, и я заметил на его темных висках два глубоких шрама в форме правильных кружочков. Меня это заинтересовало, но в тот момент было не до вопросов. Мы не посмели прикоснуться к чашкам — как можно пить кофе, когда хозяину так плохо, что кажется, он вот-вот умрет? Но пан Горн никому не позволял жалеть себя. Еще не владея языком, он движением руки и глазами велел нам выпить кофе. От его внимания не ускользнуло и то, что я заинтересовался шрамами на висках Мухаммеда. Как только к нему вернулся голос, он сказал: — Вы заметили круглые шрамы? Это клеймо раба, мои дорогие. Детям, родившимся в неволе, такие знаки на висках выжигали раскаленной докрасна гильзой от патрона. Мухаммеда я купил на невольничьем рынке сразу после приезда в Аддис-Абебу. Через два года после этого был издан указ об отмене рабства. Мухаммед стал свободным человеком в моем доме. Но клеймо осталось. Это верный и разумный слуга. А как прекрасно он научился говорить по-польски! О своей болезни пан Горн говорил мало и неохотно. Уже год, как он прикован к креслу и умирает по нескольку раз в день. Жизнь возвращается лишь благодаря таблеткам нитроглицерина, поданным всегда вовремя заботливой Айелеч. Тяжелое сердечное заболевание— грудная жаба — это обычный удел европейцев, слишком долго проживших в Аддис-Абебе. Люди, родившиеся в низинных районах, не могут безнаказанно жить на высоте двух тысяч пятисот метров. Но в болезни сердца по крайней мере нет ничего унижающего человека. Гораздо страшнее это непрекращающееся дрожание рук, ног, головы, языка. Когда-то, во время охоты в данакильской пустыне, его укусила муха цеце. Возникла сонная болезнь, после нее воспаление мозга и страшная, неизлечимая болезнь Паркинсона. К этому страданию, превращающему человека в дрожащий комок, привыкнуть невозможно. Однако пан Горн пригласил нас к себе не для того, чтобы жаловаться на недуги. Ему хотелось рассказать о прекрасных далеких годах, когда он был еще здоров и полон энергии, о своих необыкновенных приключениях, чудесах и тайнах экзотической страны. Хозяин дома пригласил нас осмотреть комнату, в которой находились интереснейшие сувениры, собранные за тридцать с лишним лет, прожитых им в Эфиопии. Поднявшись с диванчика, мы принялись разглядывать предметы, висевшие по стенам и разложенные на столиках. Пан Горн, не поднимаясь с кресла, давал необходимые пояснения. Только теперь мне удалось оценить необыкновенное богатство этого домашнего музея. На стенах висели шкуры убитых хозяином львов, леопардов и антилоп, черные ожерелья и браслеты, сплетенные из волос Жирафа, дротики, копья и кривые данакильские ножи, устрашающего вида тотемы и старинные эфиопские картины, выполненные на коже или пергаменте. По канонам эфиопского искусства, плохие люди изображались на картинах в профиль и темнокожими, а хорошие— анфас и более светлыми. В углах комнаты, небрежно прислоненные к стене, в большом количестве стояли огромные необработанные слоновьи бивни. Пан Горн объяснил, что на протяжении многих лет он выменивал их у вождей лесных племен на оружие и патроны. Сейчас у него было их больше, чем у любого африканского вождя. Тонны слоновой кости лежали в подвалах его дома, но что толку, если сейчас вывоз слоновой кости из Эфиопии запрещен. Негромким голосом, с трудом выговаривая слова, хозяин сопровождал нас в путешествии по комнате. То, что он говорил, звучало, как волшебная сказка. К сожалению, описать все, что мы видели и слышали во время двухчасового осмотра музея пана Горна, невозможно. Придется ограничиться рассказом о двух самых интересных экспонатах, которые много говорят и об истории страны, и о прошлом нашего хозяина. Первый старинный, великолепно инкрустированный арабский пистолет. Пап Гори получил его в подарок от раса Хайлю из Годжама, одного из последних эфиопских удельных правителей. Имя человека, подарившего пану Горну пистолет, я слышал не впервые. Я знал его по рассказам Кассы Амануэля и из книг об Эфиопии. Это он, рас Хайлю, освободил из темницы свергнутого с престола Лидж Ияссу. В 1932 году он был приговорен к пожизненной ссылке. Закованного в цепи, Хайлю вывезли на один из необитаемых островков на озере Тана. Но в годы юности пана Горна рас Хайлю из Годжама представлял собой большую силу. Этот удельный правитель плодороднейшей амхарской провинции содержал собственную многотысячную армию, а при дворе держал пятьсот слуг, каждый из которых выполнял какую-то одну порученную ему обязанность. Могущество раса Хайлю в феодальной Эфиопии того времени не представляло собой ничего необычного. Эфиопские императоры щедро раздавали своим расам провинции в личную собственность. Интересно, что процедура пожалования сопровождалась следующими словами: «Даю тебе эти земли на съедение». Рас Хайлю в своем Год-жаме так и поступал. Все, что только было возможно, он выжимал из своих подданных, а малейшие признаки недовольства подавлял при помощи оружия. Это был один из самых жестоких феодалов старой Эфиопии. Но по отношению к иноземным гостям он всегда вел себя предупредительно. Пан Горн многие годы пользовался расположением раса Хайлю и часто бывал в его дворце в Дэбрэ-Май. Однажды он даже видел там «смерть в муслине»… Слышали ли вы, дорогие читатели, что такое «смерть в муслине»? Конечно нет. Откуда вам знать такие вещи? Не знал этого даже знаменитый специалист по Эфиопии референт Альбин Беганек. О «смерти в муслине» не упоминалось ни в одной из книг об Эфиопии, которые он купил в Каире. Лишь пан Горн объяснил нам, что скрывается за этими тревожащими душу словами. «Смерть в муслине» — одна из самых жестоких пыток в1 старой Эфиопии. Рас Хайлю из Годжама был последним эфиопским властителем, применявшим ее, а пан Горн — последним европейцем, который это видел. Это было жуткое зрелище. Приговоренного плотно заворачивали в муслин, который перед этим погружался в горячий мед, смешанный с воском, а затем поджигали. Окруженный со всех сторон отрядами стражи человек-факел подпрыгивал от боли все выше и выше… И сгорал… Картина эта была настолько страшной, что при виде ее мужчины теряли сознание. Паи Горн выдержал до конца, потому что ему хотелось постичь все тайны Эфиопии. Рас Хайлю поздравил его, похвалил за крепкие нервы и подарил на память пистолет. Вторая реликвия, о которой я хочу рассказать, это портсигар из кедрового дерева с золотой монограммой в виде буквы «А» и королевской короной. Эту великолепную вещь пан Горн в 1937 году получил- на память от вице-короля Эфиопии, итальянского князя д’Аоста. Князь, по словам пана Горна, не имел ни малейшего представления о том, как вести себя с местными жителями. Однажды он в присутствии пана Горна предложил одному эфиопу закурить и протянул открытый портсигар с папиросами. Пап Горн удержал князя, объяснив, что подобная фамильярность по отношению к местному жителю грозит европейцу «потерей лица». Пан Горн хорошо знал Эфиопию, и князь д’Аоста послушался его совета. В знак признательности он подарил поляку свой портсигар. Выслушав рассказ о происхождении портсигара, пан Беганек покраснел от негодования, а я невольно отпрянул от кедровой коробочки. Мы многозначительно переглянулись. Трудно было спокойно слушать такие вещи. Слишком жива еще у нас в памяти история фашистского нападения на Эфиопию. Портсигар князя д’Аоста испортил нам все настроение от визита. Сидевший в кресле больной человек заметил наши взгляды и неприязненную реакцию. Его дрожащий голос зазвучал громче и стал более прерывистым. Пан Горн хотел оправдаться перед нами, объяснив, что эта история с портсигаром вовсе не означает, что в итало-эфиопском конфликте он был на стороне оккупантов. Наоборот, во время войныпан Горн всей душой сочувствовал героической борьбе эфиопов. Некоторые эфиопские генералы, судьбой которых он живо интересовался, — его близкие друзья. Пан Гори человек справедливый, он всегда любил эфиопов. Но забыть о том, что он белый, не мог никогда. Для него, европейца, местные жители всего лишь яркая деталь в увлекательной, полной приключений жизни в экзотической стране. Сейчас он по-иному смотрит на все это. Но тогда… Измученный долгим разговором, пан Горн замолчал и прикрыл глаза. А мы, закончив осмотр наиболее интересных предметов, перешли к стене с фотографиями. Их было множество. Прежде всего мое внимание привлекла висевшая на почетном месте фотография пана Горна в охотничьей одежде. Этот старый снимок сделан в первые годы его пребывания в Эфиопии. В группе смеющихся темнокожих охотников со штуцером в руках стоял наш хозяин. На нем была небрежно надетая спортивная рубашка, тропический шлем, брюки для верховой езды и высокие запыленные сапоги. Он выглядел здоровым, сильным, молодым, излучающим энергию и радость жизни. Пан Горн тех далеких времен, когда он охотился на львов и слонов, торговал с африканскими царьками, был другом могущественного раса из Годжама и приятелем вице-короля, со снисходительной симпатией относился к местному населению — коричневым своенравным детям — и старался избегать фамильярности, чтобы не «потерять лицо»! Я не мог отвести глаз от этого снимка. Пан Горн на фотографии ничем не отличался от героев книг, которыми мы зачитывались в детстве! Разве не такими представляли мы себе героев приключенческих повестей Мая[36], Купера и других писателей? Разве не мечтали быть такими, как пан Горн, — прекрасными рыцарями необыкновенных экзотических приключений? Такими, как пан Горн?! Внезапно за нашими спинами заскрипело кресло и в уши ворвался душераздирающий стон больного — страшный крик, от которого хотелось бежать на другой конец света: — Айелеч! Айелеч!.. Черная служанка опять принесла лекарство, и снова мы несколько минут ждали, пока растворится белая таблетка. Печален, невыразимо печален заключительный акт эфиопских приключений пана Горна! После второго приступа мы больше не возвращались к эфиопским темам, а заговорили о Варшаве. Старый пан Горн жаждал что-нибудь услышать о городе своей юности. Он спрашивал о домах, которых уже не было, о людях, давно умерших, просил подробно рассказать, как сейчас выглядит Варшава, и очень огорчался, что у нас нет фотографий города. Когда наш визит подходил к концу, я спросил, почему пан Горн не возвращается в Польшу или хотя бы в Европу. Ведь он богат, мог бы лечиться у лучших врачей, получше распорядиться теми несколькими годами жизни, которые ему еще остались… Вместо этого он одиноко живет в своем доме с молчаливыми черными слугами, каждый день обрекая себя на новые муки в убийственном для него климате Аддис-Абебы. Вопрос взволновал пана Горна. Руки его задрожали сильнее. Мы должны ему поверить — он тоскует по своей родине так же, как некогда тосковал по Африке, — все эти годы ни на минуту не оборвалась его внутренняя связь с Польшей. Когда ему пришлось одному несколько месяцев прожить в дикой провинции Гимирра, то, чтобы не забыть родной язык, он разговаривал по-польски с собакой. А потом, вернувшись в Аддис-Абебу, пан Горн много лет учил польскому языку шанкаллу Мухаммеда. Да, он хотел бы вернуться в Польшу! Но поздно. Разве он может ехать в таком состоянии? К тому же у него нет там никого, ни одной живой души. Родные и знакомые умерли. А имущество, нажитое им за всю жизнь? Все собранные за десятки лет памятные вещи? Несколько тысяч килограммов слоновой кости? Нет, для него нет возврата. Его эфиопское приключение должно быть доведено до конца. Поздним вечером мы покинули домик с колоннами. Пан Горн, поддерживаемый Айелеч и Мухаммедом, проводил нас до крыльца. Между двумя черными слугами белый, беспомощный… Рыцарь Великих Приключений… Мы возвращались понурые и молчаливые. Лишь подойдя к отелю, пан Беганек заговорил: — Я давно вам говорил, что великие приключения в Эфиопии кончились. Все, точка, аминь. — Кончились, но не для всех, — ответил я. — Кончились великие приключения европейцев в Эфиопии. Но великие приключения эфиопов только начинаются. Хотите знать, как это будет выглядеть? Пожалуйста. Наш друг Касса Амануэль со временем займет место своего директора-грека и, кто знает, может быть, станет членом парламента. Уольде Бирру заменит свой мотоцикл и радиоприемник на автомобиль и телевизор. Сыновья харэрских землевладельцев отдадут свои деньги в банк, и правительство построит на них новые фабрики и школы. Этих новых приключений будет становиться все больше, и все большее число эфиопов примет в них участие… Понимаете? Утром следующего дня мы отправились в обратный путь на свою родину.
INFO
91 (И6) Б87 Брандыс М. Б87 С паном Беганеком по Эфиопии. Пер. с польск., М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1975. 160 с. с карт. («Путешествия по странам Востока»),
Б 20901-114/013(02)-76 117-76
МАРИАН БРАНДЫС С ПАНОМ БЕГАНЕКОМ ПО ЭФИОПИИ
Утверждено к печати Редколлегией серии «Путешествия по странам Востока»
Редактор Л. З. Шварц. Младший редактор М. В. Ходакова. Художник А. В. Озеревская. Художественный редактор Э. Л. Эрман. Технический редактор М. В. Погоскина. Корректор Л. М. Кальцина
Сдано в набор 15/III 1976 г. Подписано к печати 7/VI 1976 г. Формат 84 x 108 1/32. Бум. № 1. Печ. л. 5,0. Усл. п. л. 8,4. Уч. изд. л. 8,52. Тираж 15 000 экз. Изд. № 3663. Зак. 195. Цена 51 коп.
Главная редакция восточной литературы издательства «Наука». Москва, Центр, Армянский пер., 2
3-я типография издательства «Наука» Москва Б-143, Открытое шоссе, 28
Последние комментарии
3 часов 11 секунд назад
5 часов 17 минут назад
19 часов 58 минут назад
19 часов 59 минут назад
1 день 1 час назад
1 день 4 часов назад