Наталия Ломовская В объятиях XX-го века. Воспоминания
Посвящаю свои воспоминания моей дорогой внучке Анне Ломовской, неожиданно, в возрасте 39 лет, в полном расцвете творческих сил ушедшей из жизни.
«Ушедшие нам оставляют часть себя, чтобы мы её хранили, и нужно продолжать жить, чтобы и они продолжались. К чему, в конце концов, и сводится жизнь, осознаём мы это или нет.»Иосиф Бродский (Из речи на вечере памяти Карла Проффера)
«Бессмертие существует. Это непрерывный ряд репликации генов и память людская.»Сергей Инге — Вечтомов
Благодарности
Выражаю глубокую благодарность моей дочери Ольге Ломовской за её очень серьёзный и объемный вклад в разные аспекты подготовки этой рукописи к печати. Выражаю также глубокую благодарность моему покойному мужу Л. М. Фонштейну. Эта книга писалась мной, когда он был ещё жив и многие эпизоды, в ней описанные, мы вспоминали вместе. Но его несомненная заслуга в том, что многие события нашей совместной жизни он помнил гораздо лучше меня, имея прекрасную память. Особую благодарность выражаю редактору рукописи Лине Марковой за её высокий профессионализм, советы и предложения, которые внесли ценный вклад в окончательный текст книги.Н. Д. Ломовская
От редакции
Воспоминания Н. Д. Ломовской представят несомненный интерес как для широкого читателя, так и для учёных, работающих в разных областях биологии. Как и ее книга «Биолог Леонид Фонштейн», эти воспоминания являются свидетельством, зачастую документированным, о жизни и деятельности представителей российской научной интеллигенции в области генетики. Данная книга охватывает длительный исторический период — от начала XX-го века до 1980 гг.От автора
Своим прошлым я стала интересоваться, будучи уже в преклонном возрасте. Трудность этих воспоминаний заключается в том, что большинство свидетелей минувших дней уже скончались и почти не у кого было спросить о том, что я сама уже вспомнить не могла или, скорей всего, просто не знала. Сейчас уже ушел из жизни и мой муж, Леонид Максович Фонштейн, обладавший прекрасной памятью, которая не ухудшилась и в его пожилом возрасте. Но, конечно, он не был свидетелем детских и юношеских лет моей жизни, а тем более значительного периода жизни моих родителей. Трудность этих воспоминаний усугублялась ещё двумя обстоятельствами. Мои бабушка, мама и папа, с которыми я прожила значительный отрезок моей жизни, следовали тогдашним негласным правилам не упоминать детям о своём прошлом. К тому же, некоторые вещи, которые упоминались, могли стереться из моей памяти. А главное состояло в том, что я в течение значительного периода своей жизни сама совершенно не интересовалась своим прошлым. Тут уж вина полностью лежит на мне. Многое из своего прошлого я ещё могла узнать у мамы, своей тёти Вали, папы, когда ослабли цепи советского периода нашей жизни. Единственное, что я сообразила сделать, так это попросить маму подписать старые фотографии семьи Ломовских. Сохранившиеся фотографии семьи Шаскольских были, главным образом, подписаны. Но и папу, Дмитрия Владимировича Шаскольского, в его последние годы жизни я тоже не расспрашивала о его прошлом и прошлом его выдающейся семьи. А он тоже не выражал никакого желания говорить об этом. Казалось, что старая привычка молчать о прошлом стала очень устойчивой чертой его характера. Однако главную вину я должна взять на себя, так как я уверена, что он бы всё-таки мне что-то рассказал, увидев мою заинтересованность. Но и он, и я в последние годы его жизни были целиком заняты наукой, его пошатнувшимся здоровьем и решением тяжёлых бытовых проблем. Эти воспоминания я начала писать урывками и, практически, закончила ещё при жизни моего мужа, с которым мы прожили вместе несколько жизней в течение более полувека. Конечно, его вклад в написание этих воспоминаний очень велик. Он много рассказывал о своей жизни и жизни его семьи до нашей женитьбы, а также помогал мне вспомнить очень многое из нашей с ним совместной жизни. Когда я читала ему написанные мной куски текста он, к моему большому удивлению, не делал замечаний и говорил, что ему нравится то, что я пишу. Я относила это за счёт того, что ему уже просто не хотелось трудиться на ниве воспоминаний, несмотря на то, что он был очень опытным редактором. Однако в это же время, когда я написала большую статью о своей многолетней научной работе, он в одночасье сократил её на десять страниц, при том, что я не могла выбросить из неё ни единой строчки. Леонид Максович Фонштейн скончался в конце 2014 года, оставив безутешными его жену, дочь, внучку, сестру и других его родственников. Он также остался в памяти своих друзей и коллег. Прервав работу над этими воспоминаниями, я написала книгу воспоминаний о моём муже. Она называется «Биолог Леонид Фонштейн», Биографический очерк, Калифорния, США. 2015–2016. В неё вошли и воспоминания его родственников, друзей и коллег. При написании окончательного варианта этих моих воспоминаний я, конечно, столкнулась с ожидаемой трудностью, как избежать повторений в обеих книгах. Пока этот вопрос остаётся нерешённым. Никак не избежать! Сейчас у меня практически остался только один помощник, моя дочь Олечка, которая в ряде случаев помнит больше меня, хотя тоже жалуется на плохую память, унаследованную от своей мамы. Учитывая то обстоятельство, что она занята выше головы, приходится часто прорываться самостоятельно, оставляя нерешенными многие важные проблемы. В этих воспоминаниях мне хотелось особо оставить память о моих родителях Эмме Григорьевне Ломовской и Дмитрии Владимировиче Шаскольском, перед которыми я испытываю чувство вины в том, что не уделяла им достаточно внимания, будучи занята заботами уже о своей семье и очень напряженной работой после окончания Московского университета. После длительных размышлений я решилась включить в мои воспоминания отрывки из писем моей мамы своим родителям с Дальнего Востока. Кроме того, в них включены большие отрывки из маминых писем к моему папе, охватывающих период 1948–1949 годов. Последние являются практически подробным дневником событий, происходящих после известной сессии ВАСХНИЛ, окончательно определившей на долгие годы замену классической генетики и других биологических дисциплин на лженауку, затормозившую в большой стране поступательное движение важнейших научных направлений. Моя мама волею судьбы оказалась свидетелем и против её воли участником событий, происходивших в главном учебном и научном учреждении нашей страны — Московском государственном университете. Моя роль как писателя воспоминаний кончается с окончанием этого труда. Оценивать его предстоит читателям, которые, я уверена, будут иметь свои собственные и, я думаю, самые различные мнения по поводу прочитанного. Ещё, конечно, хочу упомянуть о своём праве писать только о том, что считаю нужным. Вот и все мои краткие размышления, попавшие в раздел книги «От автора». Невозможно недооценить волшебную силу интернета и помощь людей, сохраняющих память о тех, с кем их сталкивала жизнь, и помещающих свои воспоминания в интернете. Низкий им поклон! Посвящаю все мои воспоминания моей единственной дорогой внучке Анне Ломовской, неожиданно в возрасте 39 лет в полном расцвете своих творческих сил ушедшей из жизни. Легла спать и не проснулась.Часть первая
Глава 1 Краткая родословная семьи Ломовских, эпизоды жизни моих близких после революции
Как это ни прискорбно, своим прошлым я стала интересоваться, главным образом, уже в преклонном возрасте. Я считаю это своей виной, так как уверена, что будь я настойчивей, мои родители рассказали бы мне многое из того, о чем в нашей стране (бывшем Советском Союзе) принято было умалчивать. Я не сообразила сделать это тогда, когда времена стали меняться и страх перестал быть определяющим фактором обоюдного молчания. Я даже не удосужилась узнать некоторые вещи из нашей семейной жизни, которые совсем не были обусловлены перечисленными выше причинами. Родилась я в Москве в 1935 году у Грауэрмана. Так все называли родильный дом на Арбате, который сейчас уже давно закрыт. Такое впечатление, что там родились все дети жителей Москвы в 1930-ые годы, живущих в пределах Садового кольца. Моя мама, Эмма Григорьевна Ломовская (1910–1985) родилась в Харькове. Мой биологический отец — Николай Иванович Рябов (1908–1968). Моя мама вышла за него замуж, когда они вместе работали в начале 1930-х годов в Хабаровском государственном педагогическом институте. Мой приёмный отец (папа) с конца 30-х годов — Дмитрий Владимирович Шаскольский (1908–1990), родился в Москве. От меня с самого моего раннего детства не скрывали, что мой папа — не мой родной отец. Мой прадедушка по материнской линии — Петр Борисович Книгер (1862–1938). По упоминаниям, он был управляющим угольными шахтами на Украине. Моя прабабушка — жена Петра Борисовича, Софья Григорьевна Книгер. Им удалось в начале 30-х годов приехать к своей единственной дочери в Москву, как я понимаю (это проскальзывало в разговорах взрослых), спасаясь от голода на Украине. Я помню, как я, совсем ещё маленькая девочка, приносила чай старенькому дедушке (так я его называла), когда он уже не вставал с постели, в конце 30-х годов. Моя прабабушка Софья Григорьевна скончалась незадолго до моего рождения. Мой второй прадедушка по материнской линии — Иосиф (Еселев) Ломовский был учителем в еврейской школе в Мариуполе, на Украине. Они с его женой Эсфирь имели двенадцать своих собственных детей и еще воспитывали приемных. Дедушкины братья, их жёны и сестра, которых я помню: дядя Соломон (бухгалтер) и его жена Лина, дядя Саул и его жена тётя Ганя, дядя Миша и дядя Илья, оба инженеры, сестра Анна. Сведения, прямо скажем, в духе того времени. Мой дедушка Григорий Иосифович (Гирш Еселев) Ломовский (1886–1942), отец моей мамы, окончил в 1910 году юридический факультет Харьковского Императорского университета (диплом первой степени об окончании университета, выданный декабря 8 дня 1911 года хранится в моем архиве). Поступил он в этот университет, по-видимому, благодаря тому, что существовала квота для принятия в студенты из числа евреев, детей школьных учителей. Способностями, наверное, его бог тоже не обидел. Сумел ли он реализовать в последующие годы его короткой жизни все преимущества прекрасного образования, которое он получил, я не знаю. Думаю, что нет. Моя бабушка, Любовь Петровна Ломовская (1889–1969), урожденная Книгер, окончила гимназию. Поженились они с дедушкой в 1909 году, а в 1910 году у них родилась дочка, назвали Эммой по имени героини не помню какого-то очень известного в те времена английского или французского романа. До первой мировой войны бабушка ездила в Европу, Швейцарию и Германию, на воды вместе с дочкой. На обратной стороне одной из бабушкиных фотографий, сделанной в Женеве в 1912 году, слово «Женева» выскоблено бритвой. А на лицевой стороне фотографии слово «Женева» (Geneva) осталось, не усмотрели. Люди боялись упоминаний о своем прошлом. Относительно мамы в детстве. Сохранилась годовая ведомость об успехах ученицы среднего приготовительного класса Ломовской Эммы в 1917–1918 учебном году (Полтава) в частной, с правами мужских казенных гимназий, еврейской гимназии С. М. Гуревич. «Успевает: русский и арифметика, еврейский. Задание на лето: необходимо записаться в библиотеку. Переводится в старший приготовительный класс (младшую группу)». В 1919 г. у моей мамы появилась родная сестра, моя тетя Валентина Гиршевна (Григорьевна) Ломовская (1919–2005). По паспорту она осталась Гиршевной (отчество в паспортном столе менять отказались), хотя все ее называли Валентиной Григорьевной. По ее короткому замечанию, которое она обронила только во время нашего отъезда в Америку в 1992 г., ее родители, мои бабушка и дедушка, в начале 20-х годов собирались эмигрировать в Америку, но остались в Москве, т. к. она, их младшая дочь, неожиданно тяжело заболела. В двадцатых годах во время НЭПА. Григорию Иосифовичу и Любовь Петровне удалось купить кооперативную квартиру в Москве на Малой Бронной в новом доме, построенном напротив Патриарших прудов, как будто бы на месте дома патриарха. Как вскользь упоминалось дома, на уплату квартиры ушли чудом сохранившиеся бабушкины личные украшения. То немногое, что осталось, было продано во время войны. У меня сохранилась лишь одна единственная брошка, серебряная с черным камешком, которую подарила мне моя бабушка Любовь Петровна. Наш дом был построен для сотрудников рабоче-строительного кооперативного товарищества «Работник льноторга» в 1926 году (архитекторы И. П. Машков и Б. М. Великовский). Балкон в большой комнате (20 кв. м) нашей квартиры выходил на Малую Бронную с видом на Патриаршие пруды, окна двух остальных комнат (13 и 10 кв. м.) и кухни (10 кв. м) выходили во двор. В глубине двора до самого нашего отъезда из квартиры в 1963 году сохранились людские — двухэтажный многокомнатный старый дом. В одной из комнат этого дома жила моя одноклассница. Во дворе нашего дома были и другие выходившие на улицу старые дома со старинной мебелью и следами прошлого уклада, в которых мне случалось бывать. Как я понимаю, до войны моя семья жила очень скромно. Бабушка и дедушка проводили со мной много времени. Мои довоенные воспоминания совершенно скудные: помню говорящую куклу, запах флоксов на даче у Шаскольских. Совершенно отчетливо помню, как началась война. Мы с дедушкой подошли к саду Аквариум на Садовой и услышали из репродуктора речь Молотова. Моя мама после окончания естественного отделения физико-математического факультета 2-ого МГУ (наверное, В 1931 году) была направлена работать вместе со своими однокурсницами и закадычными подружками Лёлей Мукосеевой, Леной Фишер и Любой (фамилию не знаю) в Хабаровск в качестве педагогов. Сохранились мамины фотографии того периода. На обратной стороне одной из них надпись рукой ее подруги: «будем хорошими коммунистами». В. Хабаровске она и познакомилась с Николаем Ивановичем Рябовым и вышла за него замуж. Судя по нескольким сохранившимся письмам мамы из Хабаровска ее родителям в Москву и по ее мимолетным высказываниям мне, они с моим отцом очень любили друг друга. Привожу выдержки из письма мамы с Дальнего Востока, написанного в период с 13 февраля по 13 апреля 1934 г., и полностью письмо от 2-го декабря 1934 г.«Последнее письмо от Коли (Н. И. Рябова — Н. Л.) получила ужасно хорошее. Он пишет, что к 1-му мая уже наверняка будет в Хабаровске. Вы все интересуетесь перспективами, но, честное слово, поверьте, что решить все одна я сейчас не могу, да, откровенно говоря, и не хочу. Ведь ясно, что без Коли я в Москве не останусь совсем, разве уже будет что-нибудь экстраординарное (например, меня отпустят на учебу и дадут путевку в аспирантуру) ну, тут уже меня, конечно, ничто и никто удержать не сможет, или мы разругаемся. Но не предвидится ни того, ни, особенно, другого, а поэтому решить вопрос самостоятельно я сейчас не смогу. У меня нагрузка большущая. Дали еще подготовительное отделение, читаю там начатки естествознания, так что в общем хватает. Вы все просите, чтобы я прислала фотографии, но вся беда в том, что я никак не могла удосужиться сняться, а Колины фотографии все коллективные. Одна только карточка, где он снят один, но мне жалко ее отсылать, пришлось исковеркать одну, паршивую правда, карточку (образца 1931) и Вам послать, но надо сказать, что все-таки он в жизни не такой, во-первых, очень большущий, потом без очков (он их надевает в особо торжественные дни), потом сейчас немножко года на 3 постарше. А вот у вашей «красавицы» дочки на одной карточке вид довольно скорбный, не отражающий действительности, ну а другая более или менее попадает в точку. Чувствую я себя очень хорошо. На дворе весна, дивная погодка, я уже даже перекочевала в осеннее пальто. Да, у нас жуткое событие. Горелышев уехал на практику, Нюська осталась и вдруг поздно вечером к ней вкатывается старая жена Горелышева с мальчишкой (приехала из Ленинграда) — семейная драма в полном разгаре. Горелышева нет, она живет здесь, а Нюська обретает пока у меня — благо кровать пустая. В общем, прямо беда. Вот и все хабаровские события. Хабаровск разрастается довольно интенсивно. Челюскинцы пока сидят на своей льдине, а газетные трепачи пользуются случаем похвастать знаниями дальневосточной экзотики, повисшими облаками над Амурскими сопками и слиянием двух великих водных магистралей ДВК (Дальневосточного края — Н. Л.) Амура и Уссури — картина величественная, но довольно грязно на барахолке, которая стоит как раз в месте слияния Амура и Уссури. Ну, целую крепко, заболталась, Муся. Привет бабушке и дедушке[1]
Хабаровск 26 декабря 34 г. Дорогие мои мамочка и папочка!И так я и не знаю, почему моя мама и мой отец так неожиданно расстались в середине 1935 года. Наверное, если бы я спросила маму или ее подруг, которых я тоже очень хорошо знала в течение моей уже взрослой жизни, они бы мне рассказали. Могла спросить и у бабушки Любовь Петровны, и у моего приёмного отца (папы) Дмитрия Владимировича Шаскольского, и у тети Вали. Но теперь спросить не у кого, хоть бейся головой о стенку! Помню, как мама рассказывала о Хабаровске, об огромной реке Амур, о рыбной путине, об общении там с корейцами, которых было много и они считали, что все русские на одно лицо. У нас сейчас дома в Америке есть старая статуэтка корейского божка с мешком, которую маме подарил пожилой кореец, и она привезла её из Хабаровска в Москву. Когда я проездом из Японии была в Хабаровске в 1968 г.(в возрасте 33 лет) ни города, ни реки я практически не видела. У поезда, прибывшего из Находки, меня встретила Лена Фишер, мамина ближайшая подруга, с некрологом в руках. За два месяца до моего приезда умер Н. И. Рябов, мой отец, с которым я всегда мечтала увидеться. Ему было всего 60 лет. Успели только сходить на кладбище. Больше ничего не помню, так я была расстроена его внезапной кончиной и неосуществлением мечты всей моей предыдущей жизни увидеть моего родного отца. Привожу полный текст короткого некролога, опубликованного в газете «Тихоокеанская Звезда» от 6 июля 1968 г. по поводу кончины Н. И. Рябова:
Получила от Вас телеграмму и в общем страшно забеспокоилась. Неужели же вы не получили моих писем. Одно писала когда-то в Хабаровске после Октябрьских праздников. А другое во Владивостоке не так давно, примерно числа 13 декабря. От Вас за это время получила только одно письмо. Я ведь почти целый месяц была во Владивостоке в командировке по набору студентов, да и кое-что делала в университетской лаборатории. Дело втом, что я курс закончила 20 ноября и занятия теперь начнутся с 1 января 35 г. Потом 8 дней жила в доме отдыха партактива под Владивостоком. Там замечательный дом отдыха, отдохнула прекрасно. Во Владивостоке просто бабье лето или такая хорошая золотая осень. Снега совсем нет. Коля тоже был там в командировке, но мы с ним жили вместе только две недели. А потом он уехал в Хабаровск, а я еще осталась в доме отдыха. Он уже поправился очень хорошо. А в Хабаровске меня ожидали 2 новости. Во первых, сняли моего биолога и мне отдают мою родную биологию со всеми потрохами, т. е. с заведованием кабинетом (последнее не улыбается, анатомия, к сожалению, тоже). Так что я теперь выросла до небес. Во-вторых, в меньших масштабах, но, пожалуй, не менее приятное событие — Колюшка мне купил часы, ужасно хорошие, между прочим, очень похожие на мои старые СУМА. Сейчас готовлюсь во всю К биологии, преподаю в кабинете и привожу его в божеский вид. У нас сейчас краевой съезд Советов, и Коля тоже целый день, иногда до 12 ночи пропадает там. Он руководит краевой выставкой съезда и окончательно избегался, так что вижу я его только тогда, когда сама попадаю на съезд, да поздно ночью. Мамочка, ты все беспокоишься о кофте. У меня уже давным давно есть очень хорошая синяя шерстяная, такая теплая, что я в своей шубке и в ней как в печке. Коля ее привез из Владивостока еще в Октябрьские дни. Во Владивостоке такой шикарный ГУМ, прямо как в Москве, 3-этажный и всего полно, да и в Хабаровске в этом году есть почти все. Я еще кое-что поднакупила. Интересно, что это за материя мне на платье, которую ты купила. Я купила шелковое полотно, но пока еще не сшила. Хочу выслать Вам на днях рублей 150, чтобы Вальке обязательно из них были куплены ботинки с коньками. А мы уже катались на коньках. С лыжами в этом году пролетели, так как снега, как это ни странно, нет. Мы снимали друг друга, получилось очень жутко, особенно старый иезуит Колька. Единственное, что его утешает, это мой галстук. Он носит его без конца и рубашку тоже, страшно нравится и то и другое и говорит, что редкое сочетание приятного с полезным. Боюсь посылать эти рожи, потому что уж больно жуткий вид, но, с другой стороны, если вы не лишены фантазии, то умножьте положительные стороны, и это будем мы. Ну, расписалась жутко. Целую крепко. Всего хорошего, Муся Привет всем нашим. Жду писем от Вас. Я послала уже Вам вчера телеграмму, в которой поздравила с Новым Годом, не будем дублировать. Привет от Кольки. Почему Вы не присылаете Вашей фотографии?»
«Умер Николай Иванович Рябов, один из старейших работников Хабаровского педагогического института, член КПСС с 1941 года, доцент, кандидат исторических наук. Трудящиеся края и особенно педагоги, молодежь, учащиеся хорошо знают Николая Ивановича как прекрасного лектора, прививавшего любовь к нашему родному Дальнему Востоку. Н. И. Рябов родился 16 июня 1908 года. Всю свою жизнь Н. И. Рябов работал на ниве народного просвещения. Он один из первых пионерских вожаков г. Хабаровска. С 1940 года до последних дней трудился в Хабаровском пединституте. Николай Иванович был крупным специалистом по истории Дальнего Востока и хорошим педагогом. Его воспитанники работают во всех уголках нашего края. Мы глубоко скорбим по поводу преждевременной кончины Николая Ивановича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.Представляется, что некролог написан в том очень формальном стиле, которым отличалось подавляющее большинство некрологов в советских газетах. Причем, это чувство у меня возникло сразу после его прочтения, а не в последующие годы. Мамины подруги Лёля и Лена, с которыми она потом дружила в течение всей своей жизни, хорошо знали Н. И. Рябова, считали, что у меня с ним много общих черт, как внешних, так и внутренних. Насчет внешних я сомневаюсь, так как все всегда считали, что я очень похожа на свою маму, а насчёт внутренних не исключено, что что-то перешло ко мне и от отца, а может быть, в результате комбинации родительских генов появилось в характере что-то новое, отличное от черт характера обоих моих родителей. Сейчас в интернете ещё до сих пор остались упоминания о Николае Ивановиче Рябове. Вот некоторые выдержки из них:Группа товарищей»
«Вожатым отряда весной 1923 года стал комсомолец Николай Рябов — бывший детдомовец, будущий доцент Хабаровского педагогического института, известный ученый-историк.»Его имя упоминается среди замечательных педагогов, которые пришли в Хабаровский педагогический институт в самом начале его образования:
«Обозревая пройденный путь, следует отметить тех, кто в тяжелые годы становления вуза и его развития отдавал свои силы и здоровье подготовке педагогических кадров. Их много, но назовем лишь тех, о которых ходили легенды. У истоков вуза стояли замечательные педагоги и организаторы образования: П. П. Кирьянов, директор института (1938–1945), М. Г. Штейн, М. Ф. Тупиков, М. И. Бушуева, К. Б. Шустерман, Н. И. Рябов, О. И. Лысенко, Е. Е. Желтоухов, Н. Н. Швецова, Э. Г. Фишер, В. У. Баранов, Х. Б. Ливерц, А. В. Шереметьев, П. Н. Богоявленский, А. П. Большаков, А. С. Черных, В. Е. Гончарова, В. А. Сорокин, И. Н. Лерман, Н. А. Авдеева и др.»Первые поступления в коллекцию «Редкая книга» относятся к 1954 г. В основе собрания — книги из библиотек Н. И. Рябова, Вс. Н. Иванова, Н. Н. Матвеева-Бодрого; издания, переданные Хабаровским отделением Союза писателей, редакцией газеты «Тихоокеанская звезда», библиотекой Хабаровского государственного педагогического института. В 1970 г. (по завещанию Н. И. Рябова — Н. Л.) в музейное собрание поступило более 150 книг из домашней библиотеки Н. И. Рябова, кандидата исторических наук, первого преподавателя исторической кафедры Хабаровского педагогического института, одного из первых пионеров г. Хабаровска. В библиотеке Н. И. Рябова хранилась книга П. Н. Милюкова, русского политического деятеля, историка, публициста, министра иностранных дел Временного правительства в 1917 году «Россия на переломе. Большевистский период русской революции. Том II. Антибольшевистское движение». Она была издана автором в 1927 году во время эмиграции в Париже.Хабаровский краевой краеведческий музей им. Н. И. ГродековаАдрес: 680000, город Хабаровск, улицаШевченко, дом 11.Телефон: (4212) 31-08-02, (4212) 32-63-64.Электронная почта: museumkhv@yahoo.comКоллекция «Редкая книга» в составе музейной коллекции «Фотодокументы»
Вот ещё одно упоминание о Н. И. Рябове.
…Хабаровск круто изменил судьбу художника А. Мильчина. Особую роль сыграл ученый-историк, преподаватель педагогического института Н. И. Рябов. Он разбудил интерес художника к истории освоения Дальнего Востока, привлек к изучению великих дел и подвигов землепроходцев. А. Мильчин решил воссоздать образы русских первопроходцев Пояркова, Хабарова, Атласова, Дежнева, Чирикова. Первой стала скульптура Семена Дежнева. Она явилась первой скульптурной работой от Хабаровского края на Всесоюзной художественной выставке в Москве (1950). В 1953 г. А. П. Мильчин представляет в Москве свое новое произведение — небольшую, до метра высотой скульптуру Ерофея Хабарова. После закрытия выставки скульптура была приобретена Государственной закупочной комиссией и экспонировалась в европейских странах народной демократии.Это одна из многочисленных ссылок на книги, опубликованные Н. И. Рябовым. Ну вот, пожалуй, и почти всё, что удалось про него найти в интернете. Мои поиски его родственников по интернету тоже оказались безуспешными. Слишком много Рябовых, да и имя, чтобы искать по отчеству, тоже, прямо скажем, не оригинальное. И потом уж так много лет прошло……Рябов Н. И., Штейн М. Г., Очерки по истории русского Дальнего Востока XVII — начала XX веков. Хабаровск, 1958.
Как я уже упоминала, родилась я в Москве после возвращения мамы из Хабаровска. В родильном доме она читала чьи-то воспоминания о Пушкине и его жене и решила назвать меня в ее честь Натальей Николаевной. Все советские времена Н. Н. Пушкину всегда критиковали, а мама, вот, наверное, что-то в ней разглядела. Так я и была Натальей Николаевной до тех пор, пока меня не удочерил мой папа, Дмитрий Владимирович Шаскольский в 1952 году. Правда, никто меня в эти годы по имени и отчеству и не называл. У моего папы была первая жена Ольга Григорьевна Гольцман, тоже биолог и дочка Наташа (Наталья Дмитриевна Шаскольская). Когда папа меня удочерил в 1952 г., я осталась Ломовской. Так мы все (мои прабабушка, бабушка, мама, я, наша дочка Оля и даже наша внучка Аня) одни по замужеству, другие в силу обстоятельств — Ломовские (шесть поколений).
 Мой прадедушка по материнской линии Книгер Пётр Борисович (1862–1938), отец моей бабушки Любовь Петровны Ломовской. По упоминаниям, был состоятельным человеком, работая управляющим угольными шахтами на Украине. Фотография сделана в г. Полтаве.[2]
Мой прадедушка по материнской линии Книгер Пётр Борисович (1862–1938), отец моей бабушки Любовь Петровны Ломовской. По упоминаниям, был состоятельным человеком, работая управляющим угольными шахтами на Украине. Фотография сделана в г. Полтаве.[2]
 Моя прабабушка Софья Григорьевна Книгер, жена П. Б. Книгера (стоит) и её сестра Хая Лившиц (сидит). На обороте печать: «5-тиминутная фотография, г. Полтава».
Моя прабабушка Софья Григорьевна Книгер, жена П. Б. Книгера (стоит) и её сестра Хая Лившиц (сидит). На обороте печать: «5-тиминутная фотография, г. Полтава».
 Родители моего дедушки Григория Иосифовича Ломовского: Иосиф и Эсфирь Ломовские. Фотография сделана в г. Мариуполе.
Родители моего дедушки Григория Иосифовича Ломовского: Иосиф и Эсфирь Ломовские. Фотография сделана в г. Мариуполе.
 Моя бабушка Любовь Петровна Ломовская (1889–1969), гимназистка.
Моя бабушка Любовь Петровна Ломовская (1889–1969), гимназистка.
 Мой дедушка, Григорий Иосифович Ломовский (1885–1941) — студент юридического факультета Императорского Харьковского университета.
Мой дедушка, Григорий Иосифович Ломовский (1885–1941) — студент юридического факультета Императорского Харьковского университета.
 Мой дедушка, Г. И. Ломовский (стоит в центре) и моя бабушка, Л. П. Ломовская (сидит справа) со своими близкими друзьями Евгенией Павловной и Иосифом Матвеевичем Розиными. 1910 год, г. Харьков. На бабушке бархатное платье, в руках изящная муфта, у неё красивая и сложная причёска. Ручка кресла, на котором сидит бабушка, заканчивается головой какого-то животного. Перед дедушкой лежит старинная книга, наверное, собственность фотографии. Дедушка — ещё студент Императорского Харьковского университета.
Мой дедушка, Г. И. Ломовский (стоит в центре) и моя бабушка, Л. П. Ломовская (сидит справа) со своими близкими друзьями Евгенией Павловной и Иосифом Матвеевичем Розиными. 1910 год, г. Харьков. На бабушке бархатное платье, в руках изящная муфта, у неё красивая и сложная причёска. Ручка кресла, на котором сидит бабушка, заканчивается головой какого-то животного. Перед дедушкой лежит старинная книга, наверное, собственность фотографии. Дедушка — ещё студент Императорского Харьковского университета.

 А вот и диплом моего дедушки Г. И. (Гирша Еселева) Ломовского об окончании в 1910 году юридического факультета Императорского Харьковского университета (диплом первой степени об окончании университета, выданный декабря 8 дня 1911 года, хранится в моем архиве).
А вот и диплом моего дедушки Г. И. (Гирша Еселева) Ломовского об окончании в 1910 году юридического факультета Императорского Харьковского университета (диплом первой степени об окончании университета, выданный декабря 8 дня 1911 года, хранится в моем архиве).
 Моя бабушка Любовь Петровна (1911 год, г. Харьков). Моей маме Эмме Ломовской нет ещё и годика.
Моя бабушка Любовь Петровна (1911 год, г. Харьков). Моей маме Эмме Ломовской нет ещё и годика.
 Фото моей бабушки Любовь Петровны Ломовской сделано в Женеве в 1912 году. На обороте фотографии слово «Женева» (Geneva) тщательно выскоблено бритвой, а на лицевой стороне фотографии зачеркнуть забыли.
Фото моей бабушки Любовь Петровны Ломовской сделано в Женеве в 1912 году. На обороте фотографии слово «Женева» (Geneva) тщательно выскоблено бритвой, а на лицевой стороне фотографии зачеркнуть забыли.
 Город Дрезден, 1913 год. Моя бабушка (третья слева) стоит с крокетным молотком в руке. Моя мама — на первом плане слева. Стоит отвернувшись.
Город Дрезден, 1913 год. Моя бабушка (третья слева) стоит с крокетным молотком в руке. Моя мама — на первом плане слева. Стоит отвернувшись.
 Моя мама Эмма (Муся) Ломовская, г. Харьков, 1913 год.
Моя мама Эмма (Муся) Ломовская, г. Харьков, 1913 год.
 Мои бабушка, Любовь Петровна, и дедушка, Григорий Иосифович, в городе Кисловодске до революции.
Мои бабушка, Любовь Петровна, и дедушка, Григорий Иосифович, в городе Кисловодске до революции.
 Моя мама Э. Г. Ломовская в возрасте 3-х лет и 4-х месяцев сфотографирована 10 июня 1913 года в г. Харькове.
Моя мама Э. Г. Ломовская в возрасте 3-х лет и 4-х месяцев сфотографирована 10 июня 1913 года в г. Харькове.
 Моя бабушка с моей мамой. Полтава, 1917 год.
Моя бабушка с моей мамой. Полтава, 1917 год.
 Мои дедушка, бабушка и мама (мама в 1-ом классе гимназии). Фото 1918 года, г. Полтава. Дедушка в какой-то полувоенной гимнастёрке, фотография сделана на дешёвой фотобумаге без обозначения фотографии.
Мои дедушка, бабушка и мама (мама в 1-ом классе гимназии). Фото 1918 года, г. Полтава. Дедушка в какой-то полувоенной гимнастёрке, фотография сделана на дешёвой фотобумаге без обозначения фотографии.
 Мой дедушка Григорий Иосифович Ломовский. Полтава, 1919 г.
Мой дедушка Григорий Иосифович Ломовский. Полтава, 1919 г.
 Обложка Годовой ведомости об успехах ученицы среднего приготовительного класса Ломовской Эммы в 1917–1918 учебном году, Полтава, с правами мужских казённых гимназий еврейская гимназия С. М. Гуревич. Правописание дореволюционное с твердым знаком и «и» с точкой.
Обложка Годовой ведомости об успехах ученицы среднего приготовительного класса Ломовской Эммы в 1917–1918 учебном году, Полтава, с правами мужских казённых гимназий еврейская гимназия С. М. Гуревич. Правописание дореволюционное с твердым знаком и «и» с точкой.
 Справка, каким-то необыкновенным образом сохранившаяся, как, впрочем, и другие материалы (к сожалению, далеко не все) в моём архиве. То, что сохранилось, — это моя заслуга, а то, что утрачено, это моя невольная и вольная вина.
Справка, каким-то необыкновенным образом сохранившаяся, как, впрочем, и другие материалы (к сожалению, далеко не все) в моём архиве. То, что сохранилось, — это моя заслуга, а то, что утрачено, это моя невольная и вольная вина.
Текст справки:
Выписка из протокола № 104 Заседания президиума (неразб.) от 4/6/1920.
Слушали: Пункт 5-й Об образовании юридической коллегии.
Постановили: для разрешения вопросов юридического характера образуется юридическая коллегия в составе: Председателя (неразб.) Правления И. П. Митровича Членов; Юристы Г. Ломовский, (неразб.) При Врид. Секретаре Л. С. Корохом (?) С подлинным верно
 Обратная сторона этой справки, выданной в 1920 году моему дедушке Г. И. Ломовскому. Справка написана на карте ещё немецкого города Бунзлау Веймарской республики. Это выяснила уже в Америке через почти сто лет после написания этой справки наша молодая сводная родственница Софья Карандашева, за что я, потрясённая её открытием, выражаю ей сердечную благодарность.
Обратная сторона этой справки, выданной в 1920 году моему дедушке Г. И. Ломовскому. Справка написана на карте ещё немецкого города Бунзлау Веймарской республики. Это выяснила уже в Америке через почти сто лет после написания этой справки наша молодая сводная родственница Софья Карандашева, за что я, потрясённая её открытием, выражаю ей сердечную благодарность.
 Первая страница профсоюзного билета моего дедушки Г. И. Ломовского. Можно различить с трудом, что билет был выдан ему как члену профсоюза в 1918 году. Конечно, этот билет должен быть изучен специалистами архивов. Сверху наш домашний адрес в Москве по Малой Бронной, написанный уже позднее.
Первая страница профсоюзного билета моего дедушки Г. И. Ломовского. Можно различить с трудом, что билет был выдан ему как члену профсоюза в 1918 году. Конечно, этот билет должен быть изучен специалистами архивов. Сверху наш домашний адрес в Москве по Малой Бронной, написанный уже позднее.
 Этот же профсоюзный билет открыт на странице об уплате профсоюзных взносов за 1927 и 1928 годы. На каждом месяце за 1928 год пометка: явился на отметку. Всех держали даже через профсоюз на заметке.
Этот же профсоюзный билет открыт на странице об уплате профсоюзных взносов за 1927 и 1928 годы. На каждом месяце за 1928 год пометка: явился на отметку. Всех держали даже через профсоюз на заметке.
 Наш дом на Малой Бронной в процессе строительства. Балкон нашей квартиры — первый слева на третьем этаже дома. Адрес квартиры всегда оставался и остаётся до сих пор неизменным: Москва, Малая Бронная, д. 36, кв. 20.
Наш дом на Малой Бронной в процессе строительства. Балкон нашей квартиры — первый слева на третьем этаже дома. Адрес квартиры всегда оставался и остаётся до сих пор неизменным: Москва, Малая Бронная, д. 36, кв. 20.
 На субботнике в нашем дворе на Малой Бронной улице (конец 20-х?). Третий слева Муся Кафенгауз, сосед с первого этажа (погиб в самом начале войны в 1941 году). Вторая справа моя тётя Валя (Валентина Григорьевна Ломовская). В центре её близкая подруга Галя Сельцовская.
На субботнике в нашем дворе на Малой Бронной улице (конец 20-х?). Третий слева Муся Кафенгауз, сосед с первого этажа (погиб в самом начале войны в 1941 году). Вторая справа моя тётя Валя (Валентина Григорьевна Ломовская). В центре её близкая подруга Галя Сельцовская.
 Моя мама Эмма Григорьевна Ломовская. Фотография сделана или перед отъездом на Дальний Восток или уже по приезде в г. Хабаровск, предположительно в 1932 году.
Моя мама Эмма Григорьевна Ломовская. Фотография сделана или перед отъездом на Дальний Восток или уже по приезде в г. Хабаровск, предположительно в 1932 году.
 Мои дедушка и бабушка с дочерью Валентиной снялись после того, как моя мама уехала на Дальний Восток (1932).
Мои дедушка и бабушка с дочерью Валентиной снялись после того, как моя мама уехала на Дальний Восток (1932).
 Три грации: слева направо Лена (в замужестве Фишер), Люба и моя мама Эмма (в просторечьи Муся) — однокурсницы и будущие дальневосточницы (Москва, 5 января 1931 г.)
Три грации: слева направо Лена (в замужестве Фишер), Люба и моя мама Эмма (в просторечьи Муся) — однокурсницы и будущие дальневосточницы (Москва, 5 января 1931 г.)
 Мой (Н. Л.) отец Николай Иванович Рябов. Галстук и рубашка, подаренные моей мамой, ему очень нравились. Качество фотографии оставляет желать лучшего. Это одна из двух фотографий, которую мне удалось обнаружить в бумагах моей семьи. Сделала я это уже после многочисленных переездов с квартиры на квартиру, когда многие бумаги, фотографии и письма были невозвратимо утрачены.
Мой (Н. Л.) отец Николай Иванович Рябов. Галстук и рубашка, подаренные моей мамой, ему очень нравились. Качество фотографии оставляет желать лучшего. Это одна из двух фотографий, которую мне удалось обнаружить в бумагах моей семьи. Сделала я это уже после многочисленных переездов с квартиры на квартиру, когда многие бумаги, фотографии и письма были невозвратимо утрачены.
 Лёля Мукосеева и Муся Ломовская (моя мама). Хабаровск, 1933 год. На обороте фотографии надпись: «Комвузовская профессура за научными трудами».
Лёля Мукосеева и Муся Ломовская (моя мама). Хабаровск, 1933 год. На обороте фотографии надпись: «Комвузовская профессура за научными трудами».
 Опять неудачная фотография с Дальнего Востока. Н. И. Рябов, моя мама и её самая близкая подруга Лёля Мукосеева.
Опять неудачная фотография с Дальнего Востока. Н. И. Рябов, моя мама и её самая близкая подруга Лёля Мукосеева.
 Миниатюрная скульптура состоятельного корейца, подаренная моей маме (Э. Г. Ломовской) одним из корейцев, с которым мама работала во время путины, интенсивного лова лосося, на реке Амур в начале 30-х годов 20-ого века. Эта скульптура моими (Н. Л.) усилиями попала в наш дом в Калифорнии, напоминая о далёких былых временах и сохраняя память о моих родителях.
Миниатюрная скульптура состоятельного корейца, подаренная моей маме (Э. Г. Ломовской) одним из корейцев, с которым мама работала во время путины, интенсивного лова лосося, на реке Амур в начале 30-х годов 20-ого века. Эта скульптура моими (Н. Л.) усилиями попала в наш дом в Калифорнии, напоминая о далёких былых временах и сохраняя память о моих родителях.
 Моя мама со своей подругой Леной греются на весеннем солнышке на берегу легендарной реки Амур.
Моя мама со своей подругой Леной греются на весеннем солнышке на берегу легендарной реки Амур.
 Знаменитый портрет Натальи Николаевны Пушкиной работы Александра Брюллова.
Знаменитый портрет Натальи Николаевны Пушкиной работы Александра Брюллова.
Повторюсь, что я была названа моей мамой в честь Н. Н. Пушкиной. Нельзя не отметить отсутствие моего сходства со знаменитой тезкой.
Глава 2 Клан Шаскольских
Говоря о предвоенном периоде жизни нашей семьи нельзя не написать о родословной моего папы Дмитрия Владимировича Шаскольского и его двоюродной сестры Марианны Петровны Шаскольской. С. Марианной Петровной (для меня — тётей Майей) мои родители дружили всю жизнь, вплоть до ее кончины в 1983 году. Она была постоянным и желанным гостем в их доме, и с ней была тесно связана и значительная часть моей жизни. Мои собственные сведения о прошлом семьи Шаскольских и их родословной, как и у большинства детей моего поколения, были очень скудными. Я знала только, что Шаскольские до революции владели сетью аптек в Санкт-Петербурге и что у отца моего папы Владимира Борисовича Шаскольского было два брата-близнеца: Петр Борисович и Павел Борисович. Марианна Петровна была дочерью Петра Борисовича, а Игорь Павлович Шаскольский (известный ленинградский историк) был сыном Павла Борисовича. Вскользь упоминалось также о родстве Марианны Петровны с Александром Брюлловым, архитектором и художником, старшим братом художника Карла Брюллова. Только сейчас опять подумала, что мама меня назвала Натальей Николаевной, вспоминая жену А. С. Пушкина. Считается, что самый лучший портрет Натальи Николаевны Пушкиной был написан Александром Брюлловым. Но моя мама в то время, когда я родилась, ещё не знала, что её мужем и моим названным отцом (папой) будет Дмитрий Владимирович Шаскольский. Мой папа всегда увлекался фотографией. Значительная часть представленных в этой книге фотографий сделаны им. К моему большому сожалению, только часть из них мне удалось сохранить при нашем переезде на другой конец нашей планеты. Важная часть фотографий, связанных с историей семьи Шаскольских, мне любезно была предоставлена Верой Эммануиловной Флюр (Шаскольской), дочерью Марианны Петровны Шаскольской. Но и я, в свою очередь, посылала ей фотографии, сделанные моим папой Дмитрием Вдадимировичем Шаскольским, которых не было в ее архиве. Я очень сожалею о том, что, фактически, подробности о родословной семьи Шаскольских узнала только в течение последних лет (с 2008 г.) по интернету. Родословная семьи Шаскольских сейчас подробно в нём представлена. Они это заслужили. Кроме того, своими знаниями о семье Шаскольских поделилась со мной Вера Эммануиловна, которую я знаю с самого её раннего детства и очень люблю и уважаю, в частности, за её совершенно выдающиеся способности. Ей есть в кого. Нельзя не отметить, что сейчас уже имеется созданная усилиями, главным образом, Бориса Королькова, очень подробная родословная семьи Шаскольских. Борис — родной внук старшего брата моего папы Бориса Владимировича Шаскольского. Когда я писала эту главу, такой подробной родословной, конечно, не было. Она появилась совсем недавно. Мои сведения почерпнуты из статей, выложенных на интернете. Дед моего отца, Шаскольский Борис Матвеевич (1843–1910), родился в г. Россиены, сейчас г. Росейняй, Литва. В 1867 г., после окончания Военно-медицинской академии, получил диплом провизора и право постоянного жительства в Петербурге. В 1870 г. он приобрел старейшую Петербургскую аптеку Самсоновскую на Выборгской стороне. После женитьбы в Риге на Евгении Михайловне Кальмеер и рождения детей принял лютеранство. В 1884 г. приобрел аптекарский магазин на Невском проспекте, 27, около Казанского собора и отделение в Кронштате. Созданный им Торговый дом был одним из крупнейших предприятий оптовой торговли аптекарскими товарами в Петербурге. В конце двадцатого века я видела на торцах двух ленинградских домов сохранившиеся старые вывески «Аптека Шаскольского». Кроме того, Торговый дом «Борис Шаскольский» с начала XX века занимался распространением по всей России знаменитой минеральной воды «Боржом». Б. М. Шаскольский, как известный предприниматель, был приглашен великим князем Михаилом Николаевичем Романовым (кавказским наместником) для организации сбыта минеральной воды Боржоми. В результате активной деятельности Бориса Матвеевича экспорт Боржоми увеличился с двух миллионов бутылок в год до пяти миллионов. На протяжении 30 лет Борис Матвеевич был членом Санкт-Петербургского фармацевтического общества и активно участвовал в его работе. В. Российской государственной библиотеке (которая раньше называлась Ленинской библиотекой или просто Ленинкой) до сих пор хранится выпушенная в 1897 году брошюра, составителем которой был Б. М. Шаскольский (Способъ употребленiя домашнихъ аптечекъ, составилъ Б. М. Шаскольскiй, Типографiя Шредера, Гороховая, 49 С. Петербург 1897). Такой домашней аптечке позавидовали бы, наверное, даже сейчас, и не только в России, но и в Америке. Борис Матвеевич как составитель этой брошюры предстает как очень образованный, предприимчивый, заботящийся о людях меценат. После кончины Б. М. Шаскольского в 1910 году наследницей Торгового дома стала его жена Е. М. Шаскольская. Она учредила стипендии им. Б. М. Шаскольского. Но фактически возглавил фирму его сын Павел Борисович Шаскольский (1882–1942). Он закончил естественный факультет Петербургского университета и фармацевтический институт Марбургского университета в Германии, имел диплом провизора. Он был деятельным, успешным предпринимателем и разносторонне образованным человеком. Владел несколькими языками, глубоко знал историю, очень любил и специально изучал искусство, архитектуру. Участвовал в деятельности общества «Старый Петербург». С 1916 по 1921 г. был на военной службе. После Октябрьской революции имущество Торгового дома было национализировано, торговля прекращена. Но как только, с началом Н. Па, появилась возможность, Павел Борисович вновь открыл аптекарский магазин на Невском. В 20-е годы аптека не приносила больших доходов, зато доставляла очень много хлопот и неприятностей. Но Павел Борисович не мог позволить себе закрыть дело. Он считал себя в долгу и перед семьей, и перед жителями города: ведь уже на протяжении многих лет для петербуржцев-ленинградцев было привычно обращаться в аптеку Шаскольского на Невском. В 1929 г. частный аптекарский магазин был закрыт, и Павел Борисович вернулся к своей специальности химика-фармацевта. Павел Борисович понимал, что ему, с его прошлым, лучше держаться подальше от столиц, от Ленинграда. В 1930 г. он стал техническим руководителем иодного бюро на Мурмане (остров Кильдин). Там он работал до 1934 г., затем — на Чимкентском химфармзаводе. Последним местом его работы стал завод Фармакон вЛенинграде. Как многие тысячи ленинградцев, он погиб блокадной зимой 1942 г. О. Павле Борисовиче Шаскольском прекрасный доклад сделала его внучка Татьяна Игоревна Шаскольская на международной конференции «Проблемы истории России и стран Северной Европы: от средних веков до наших дней», посвященной 90-летию со дня рождения её отца Игоря Павловича Шаскольского. Публикация материалов конференции 2009 года. Брат-близнец Павла Борисовича Петр Борисович Шаскольский (1982–1918) закончил историко-философский факультет Петербургского университета, где специализировался по истории средневековой Италии. С 1907 по 1913 выезжал за границу. В 1909 г. в Штутгарде Пётр Борисович женился на Надежде Владимировне Брюлловой (1889–1937). Она была внучкой художника и знаменитого архитектора Александра Брюллова и внучатой племянницей его младшего брата художника Карла Брюллова. А. Брюллов был архитектором Его Величества, членом Королевского института архитекторов в Англии и членом академий художеств в Париже, Милане и Петербурге. Прекрасная подборка об Александре Брюллове существует в интернете, не говоря уже о многочисленных других источниках, описывающих его необъятную творческую деятельность. Отцом Надежды Владимировны был сын А. Брюллова Владимир Александрович Брюллов (1844–1919) — делопроизводитель и управляющий делами Русского музея. С 1911 года Петр Борисович Шаскольский стал постоянным сотрудником энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. В 1914 г. Пётр Борисович Шаскольский с супругой вернулись в Россию и занялись активной политической деятельностью. На Учредительном съезде Трудовой народно-социалистической партии Петр Борисович был избран членом ЦК, выступил с докладом по национальному вопросу. После февральской революции 1917 года он был приглашен в состав Временного правительства в качестве заведующего национальным отделом Министерства внутренних дел. Осенью 1917 г. перешел в партию эсеров. После октября 1917 г. — член Всероссийского Комитета спасения Родины и Революции. После начала Красного террора перешел на нелегальное положение. Умер скоропостижно от испанки, прохворав всего три дня. В браке с Н. В. Брюлловой-Шаскольской Петр Борисович имел троих детей: Марианну (1913–1983), Тамару (1916–2009) и Валерия (1910–1948), которых я знала и буду упоминать по мере повествования. Надежда Владимировна Брюллова-Шаскольская была активным и видным деятелем партии эсеров. Член партии социалистов-революционеров (ПСР) с 1910 г. В 1908 г. она окончила историко-филологическое отделение высших (Бестужевских) курсов, специализировалась по истории религии. В 1916 г. поддерживала связи с А. Ф. Керенским. В 1917 г. представляла ПСР в бюро национально-социалистических партий. На первом заседании третьего партийного съезда ПСР в 1917 г. сделала основной доклад по национальному вопросу. В ноябре 1917 г. была избрана председателем петроградского губернского комитета ПСР. Осенью 1918 г. вместе с детьми выехала на Украину. В 1919–1920 гг. она — экстраординарный профессор по кафедре истории религии Харьковского университета. Арестована в июле 1922 г. и сослана в Среднюю Азию. Там она занималась научной и музейной работой, литературной деятельностью. Вторично арестована в 1923 году. В 1929 году она вернулась из ссылок в Ленинград, а в феврале 1933 г. была вновь арестована по делу народнического фронта со ссылкой на три года в Ташкент. Все годы ссылок её сопровождал сын Валерий. В апреле 1937 г. снова арестована и приговорена к расстрелу. Реабилитирована посмертно. О. Надежде Владимировне есть очень хорошая и подробная статья Я. В. Леонтьева в книге: «Политические деятели России 1917 г., биографический словарь», Москва. 1993. Материалы этой статьи я, в основном, и использовала. Кроме того, уже после написания первого варианта моих воспоминаний, вышел сборник воспоминаний «Марианна Петровна Шаскольская в кругу коллег, родных и друзей», Москва, М. СиС, 2013. Его публикация была приурочена к международному симпозиуму «Физика кристаллов 2013», посвященному 100-летию со дня рождения профессора М. П. Шаскольской. Я начала писать свои воспоминания ещё до выхода этого сборника из печати. В нём опубликована прекрасная статья внучки Надежды Владимировны Семёновой-Флюр, В. Э. (Шаскольской) и дочери М. П. Шаскольской «О родителях моей мамы» стр. 131–162. Если найдёте этот сборник, прочитайте, не пожалеете. В нём есть и моя короткая глава: Н. Д. Ломовская «В семье Шаскольских», стр.163–181. Когда этот сборник перед началом заседаний симпозиума раздали его участникам, то не повезло докладчикам, выстуавшим на первом заседании симпозиума. Догадайтесь почему! В интернете сейчас можно найти очень много ссылок на книги и статьи Надежды Владимировны Брюлловой-Шаскольской. Есть ссылки и на работы Петра Борисовича Шаскольского. Хорошие гены передали своим детям, внукам и правнукам родители Марианны Петровны, так преждевременно и насильственно ушедшие из жизни в кровавом 20-м веке! Четвертый, младший сын Бориса Матвеевича и Евгении Михайловны Шаскольских, Михаил Борисович был участником первой мировой войны. В 1915 году был офицером при штабе генерала Брусилова на Карпатском фронте. После революции они с женой Ниной покинули Россию через Константинополь и в 1920 году поселились в Берлине, детей у них не было. В 1927 году они переехали в Париж, где в это время жила семья сестры Нины Мария с мужем и сыном Борисом. Бориса в 1997 году и разыскала дочь Марианны Петровны Шаскольской Вера Эммануиловна Флюр (в девичестве Шаскольская), которая с 90-х годов прошлого века живет с мужем Христианом Флюр в Париже. Её общение с Борисом в 1997 году ограничилось телефонным разговором, так как он уже тогда был очень пожилым человеком. Он рассказал, что Михаил Борисович жил в Париже трудно, несмотря на то, что был очень образованным человеком, свободно владел немецким, английским и французским языками. Занимался распространением и продажей книг. Его жена Нина в 40-х годах скончалась от туберкулеза, а сам он скончался в 1973 году. Всю жизнь дружил со своим племянником Борисом, а с московскими родственниками никогда не пытался связываться. Один раз только упомянул, что в Москве у него тоже есть племянник Борис. Михаил Борисович очень тосковал по России и до 1927 года надеялся на перемены. У. Бориса не оказалось ни одной фотографии Михаила Борисовича. Во время, когда писалась эта глава воспоминаний, Вера считала, что Борис ещё был жив, так как на семейном участке кладбища не было свежих могил. Владимир Борисович Шаскольский (1882–1952), старший сын Бориса Матвеевича и Евгении Михайловны Шаскольских, в 1899 году окончил Горный институт в Санкт-Петербурге. После окончания института учился в Дармштадском политехникуме (Дармштадт, Германия). В 1906 году он женился на Марии Николаевне Глазыриной родом из г. Яранска Вятской губернии. Мария Николаевна в молодости окончила Бестужевские курсы, во время Русско-японской войны 1904–1905 годов и в поздние годы работала медсестрой в госпиталях как представитель общества «Красного Креста». Мой папа хранил фотографии этого периода её жизни. Часть из них сохранилась и до наших дней. Владимир Борисович в 1910 году состоял при Главном горном управлении с откомандированием в распоряжение Технической конторы «Сан-Галли» в Санкт-Петербурге. Интересно, что эта информация, взятая из интернета, практически слово в слово повторяет текст, написанный самим Владимиром Борисовичем в своей краткой служебной автобиографии, можете в этом убедиться. В дальнейшем переехал с семьей в Москву (адрес в Москве — Мыльников пер., д. 9). С 1913 года служил в Технической конторе «Сан-Галли» в Москве в должности младшего инженера; с 1914 года — заведующий технической частью элеваторного отдела, занимавшегося проектированием элеваторов и конвейеров (в том числе, крупнейшего Самарского элеватора) в товариществе «Антонъ Эрлангеръ и K°». После революции 1917 года работал в элеваторном отделе Комитета по государственным сооружениям (Комгосор) с 1918 по 1922 год; с 1923 года — главный инженер Мельстроя, занимался разработкой и эксплуатацией элеваторов и промышленных конвейерных систем различного назначения. Горный инженер В. Б. Шаскольский
Горный инженер В. Б. Шаскольский
В 1929–1933 годах работал в Технико-консультационном бюро ТрансТехпрома; составил первый альбом конструкций подъемно-транспортных средств. В 1933–1935 годах был мобилизован в Главное управление металлургической промышленности (ГУМП), где занимался механизацией трудоемких процессов на металлургических заводах Урала и Сибири. С 1940 года — старший научный сотрудник Отдела технической информации и обмена опытом ВНИИ подъемно-транспортного машиностроения в Москве. Скончался Владимир Борисович Шаскольский в 1952 году в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище. Вот как сам Владимир Борисович кратко описал свою автобиографию, наверное, при заполнении какой-нибудь анкеты или заявления.

Владимир Борисович (Вальтер Бернгардович) Шаскольский родился 10 февраля (по старому стилю) 1882 года в семье фармацевта Бориса (Бернгарда) Матвеевича Шаскольского. Мать — Евгения Михайловна Шаскольская (ур. Кальмейер). Вероисповедание — лютеранин (был прихожанином лютеранской Анненкирхе в СПб). Вместе со своими младшими братьями Петром и Павлом Шаскольскими учился в Петришуле с 1892 года. Окончил реальное отделение школы в 1899 году и поступил в Горный институт в Петербурге. С 1900 по 1907 год учился в Горном институте. Женился 10 февраля 1906 года на Марии Николаевне Глазыриной, родом из г. Яранска Вятской губ. После окончания института учился в Дармштадском политехникуме (Дармштадт, Германия). В 1910 году состоял при Главном горном управлении с откомандированием в распоряжение Технической конторы «Сан-Галли» в Санкт-Петербурге. В дальнейшем переехал с семьей в Москву (адрес в Москве: Мыльников пер., д. 9). С 1913 года служил в Технической конторе «Сан-Гали» в Москве в должности младшего инженера; С 1914 года — заведующий технической частью элеваторного отдела, занимавшегося проектированием элеваторов и конвейеров (в том числе крупнейшего Самарского элеватора) в товариществе «Антонъ Эрлангеръ и K°». После революции 1917 года работал в элеваторном отделе Комитета по государственным сооружениям (Комгосор) с 1918 по 1922 год; с 1923 года — главный инженер Мельстроя, занимался разработкой и эксплуатацией элеваторов и промышленных конвейерных систем различного назначения. В 1929–1933 годах работал в Технико-консультационном бюро ТрансТехпрома; составил первый альбом конструкций подъемно-транспортных средств. В 1933–1935 годах был мобилизован в Главное управление металлургической промышленности (ГУМП), где занимался механизацией трудоемких процессов на металлургических заводах Урала и Сибири. С 1940 года — старший научный сотрудник Отдела технической информации и обмена опытом ВНИИ подъемно-транспортного машиностроения в Москве. Сыновья: Борис, Дмитрий, Виктор, Глеб, Николай.

В семье родилось пятеро сыновей: Борис Владимирович Шаскольский (1907–1977), Дмитрий Владимирович Шаскольский, мой папа (1908–1990), Виктор Владимирович Шаскольский рожд. 1910 г., пропал без вести на войне, Глеб Владимирович Шаскольский (1913–1989) и Николай Владимирович Шаскольский (1922–1993). Мария Николаевна мечтала родить девочку, но природа не позволила. Она одевала младших сыновей в раннем детстве как девочек. Сохранилась одна фотография моего папы Дмитрия Владимировича в подростковом возрасте с бабушкой Евгенией Михайловной Шаскольской, а также фотография Владимира Борисовича Шаскольского и Марии Николаевны Шаскольской с их первенцем Борисом и её родителями, сделанная в городе Яранске, Вятской губернии 28 августа 1907 года. Кроме того, есть несколько фотографий Марии Николаевны, когда она была студенткой Бестужевских курсов и медицинской сестрой в период Русско-японской войны 1904–1905 годов. Природа отыгралась на братьях Шаскольских: у них рождались только девочки. У. Владимира Борисовича были очень теплые, близкие и доверительные отношения с Марианной Петровной, его племянницей. У моего папы сохранился сделанный им снимок совсем молодой Майи, на обороте которого его рукой написано: 1936. Именно в этом году в издательстве Детской литературы была подготовлена к печати первая книга Марианны Петровны Шаскольской «Кристаллы». Ей тогда было 23 года. Книгой «Кристаллы» и сейчас многие зачитываются. Помню, как в самом конце жизни Владимира Борисовича я как-то зимой навестила его в подмосковном санатории. Он подарил мне незабываемую прогулку в санях, запряженных лошадьми. Раньше я никогда не ездила на таком виде транспорта, хотя всегда об этом мечтала. Для меня, городской девушки, влюбленной в подмосковную природу, это был дорогой подарок. По-моему, Владимир Борисович тоже был рад моему приезду. Больше я его не видела. 10 февраля 2017 года ещё раз просматривала текст этой главы. Именно сегодня исполнилось 135 лет со дня его рождения! Кто же об этом сегодня вспомнит?
 Борис Матвеевич Шаскольский с женой Евгенией Михайловной и сыновьями (слева направо) Владимиром, Михаилом, Павлом и Петром на даче в Выборге.[3]
Борис Матвеевич Шаскольский с женой Евгенией Михайловной и сыновьями (слева направо) Владимиром, Михаилом, Павлом и Петром на даче в Выборге.[3]
 Брошюра, составителем которой был Б. М. Шаскольский, выпушенная в 1897 году, была обнаружена Верой Флюр (Шаскольской) в Российской государственной библиотеке (которая раньше называлась Ленинской библиотекой, или просто Ленинкой).
Брошюра, составителем которой был Б. М. Шаскольский, выпушенная в 1897 году, была обнаружена Верой Флюр (Шаскольской) в Российской государственной библиотеке (которая раньше называлась Ленинской библиотекой, или просто Ленинкой).
 Санкт-Петербург, Невский проспект, 78.Ученицы Бесстужеских курсов с профессором Фауссеном, 1904 г. М. Н. Шаскольская, мать моего папы Д. В. Шаскольского — крайняя справа.
Санкт-Петербург, Невский проспект, 78.Ученицы Бесстужеских курсов с профессором Фауссеном, 1904 г. М. Н. Шаскольская, мать моего папы Д. В. Шаскольского — крайняя справа.
 Мария Николаевна Шаскольская — медсестра в лазарете, представитель общества «Красного креста». Подпись на обороте с твердым знаком: 21 ноября 1914 года. Лазарет квартиро-нанимателей дома (неразб.) в Москве. Слева направо: Юлия Фёдоровна Бреннер, прапорщик Давыдов, Татьяна Павловна Белоруссова, врач Григорий Васильевич Макаренко, медсестра М. Н. Шаскольская, врач Александр Петрович Боголюбов, Надежда Филимоновна Леоненко.
Мария Николаевна Шаскольская — медсестра в лазарете, представитель общества «Красного креста». Подпись на обороте с твердым знаком: 21 ноября 1914 года. Лазарет квартиро-нанимателей дома (неразб.) в Москве. Слева направо: Юлия Фёдоровна Бреннер, прапорщик Давыдов, Татьяна Павловна Белоруссова, врач Григорий Васильевич Макаренко, медсестра М. Н. Шаскольская, врач Александр Петрович Боголюбов, Надежда Филимоновна Леоненко.
 Чета Владимира Борисовича Шаскольского и Марии Николаевны Шаскольской со своим первенцем Борисом во время визита к родителям М. Н. Шаскольской, стоят крайние справа. Сидят рядом с ними, повидимому, дедушка и бабушка с первенцем в руках. Думаю, что слева сестра и брат Марии Николаевны. Крайний слева сидит на стуле полноценный член семьи. На обороте фотографии надпись: «Снимались в городе Яранске, Вятской губернии 28 августа 1907 года» (ровно за 28 лет до рождения автора этих воспоминаний, Н. Л.)
Чета Владимира Борисовича Шаскольского и Марии Николаевны Шаскольской со своим первенцем Борисом во время визита к родителям М. Н. Шаскольской, стоят крайние справа. Сидят рядом с ними, повидимому, дедушка и бабушка с первенцем в руках. Думаю, что слева сестра и брат Марии Николаевны. Крайний слева сидит на стуле полноценный член семьи. На обороте фотографии надпись: «Снимались в городе Яранске, Вятской губернии 28 августа 1907 года» (ровно за 28 лет до рождения автора этих воспоминаний, Н. Л.)
 Братья Борис и Дмитрий Шаскольские, сыновья Марии Николаевны и Владимира Борисовича Шаскольских.
Братья Борис и Дмитрий Шаскольские, сыновья Марии Николаевны и Владимира Борисовича Шаскольских.
 Братья Шаскольские Борис, Дмитрий и Виктор, сыновья Марии Николаевны и Владимира Борисовича Шаскольских. Виктор снят в наряде девочки, о рождении которой так мечтала Мария Николаевна. Внизу печать придворного фотографа. Предположительно, начало 10-х годов 20-го века.
Братья Шаскольские Борис, Дмитрий и Виктор, сыновья Марии Николаевны и Владимира Борисовича Шаскольских. Виктор снят в наряде девочки, о рождении которой так мечтала Мария Николаевна. Внизу печать придворного фотографа. Предположительно, начало 10-х годов 20-го века.
 А вот и оборотная сторона двух фотографий, на которых сняты двое (Борис и Дмитрий) и трое (Борис, Дмитрий и Виктор) братьев Шаскольских.
А вот и оборотная сторона двух фотографий, на которых сняты двое (Борис и Дмитрий) и трое (Борис, Дмитрий и Виктор) братьев Шаскольских.
 Супруги Надежда Владимировна Брюллова-Шаскольская и Петр Борисович Шаскольский с детьми Марианной и Валерием (предположительно, 1913 год). Какая любовь к семье светится в глазах Петра Борисовича! А ведь жизнь его оборвётся, когда трое его детей будут совсем ещё маленькими (фото из Интернета).
Супруги Надежда Владимировна Брюллова-Шаскольская и Петр Борисович Шаскольский с детьми Марианной и Валерием (предположительно, 1913 год). Какая любовь к семье светится в глазах Петра Борисовича! А ведь жизнь его оборвётся, когда трое его детей будут совсем ещё маленькими (фото из Интернета).
 Середина двадцатых. Сидят Мария Николаевна Шаскольская с младшим сыном Николаем, Владимир Борисович Шаскольский и Виктор. Стоят Дмитрий, Борис и Глеб Шаскольские. Ну-ка, попробуйте вырастить в пред- и послереволюционные годы пятерых сыновей! Мой (Н. Л.) папа Дмитрий Владимирович обмолвился, что в эти годы среди братьев была установлена строгая очередность, кому подбирать со сковородки кусочком хлеба остатки масла.
Середина двадцатых. Сидят Мария Николаевна Шаскольская с младшим сыном Николаем, Владимир Борисович Шаскольский и Виктор. Стоят Дмитрий, Борис и Глеб Шаскольские. Ну-ка, попробуйте вырастить в пред- и послереволюционные годы пятерых сыновей! Мой (Н. Л.) папа Дмитрий Владимирович обмолвился, что в эти годы среди братьев была установлена строгая очередность, кому подбирать со сковородки кусочком хлеба остатки масла.
 Евгения Михайловна Шаскольская со своим внуком Димой, моим (Н. Л.) папой. Клязьма, 1924 г.
Евгения Михайловна Шаскольская со своим внуком Димой, моим (Н. Л.) папой. Клязьма, 1924 г.
 Представляется, что фото сделано в самом конце двадцатых годов 20 века. Мария Николаевна и Владимир Борисович Шаскольские с сыновьями. Все братья Шаскольские, кроме младшего Николая, уже совсем взрослые. Слева направо: Виктор, Мария Николаевна, Глеб, Николай, Борис, Владимир Борисович и Дмитрий.
Представляется, что фото сделано в самом конце двадцатых годов 20 века. Мария Николаевна и Владимир Борисович Шаскольские с сыновьями. Все братья Шаскольские, кроме младшего Николая, уже совсем взрослые. Слева направо: Виктор, Мария Николаевна, Глеб, Николай, Борис, Владимир Борисович и Дмитрий.
 Надежда Владимировна Брюллова-Шаскольская. Внучка А. П. Брюллова и дочка Владимира Александровича Брюллова (1844–1910), художника и управляющего делами Русского музея.
Надежда Владимировна Брюллова-Шаскольская. Внучка А. П. Брюллова и дочка Владимира Александровича Брюллова (1844–1910), художника и управляющего делами Русского музея.
 Марианна Петровна Шаскольская, 1936 год. (Фото Д. В. Шаскольского, моего папы.)
Марианна Петровна Шаскольская, 1936 год. (Фото Д. В. Шаскольского, моего папы.)
 Александр Павлович Брюллов (1798–1877), автопортрет.
Александр Павлович Брюллов (1798–1877), автопортрет.
 Книга М. П. Шаскольской «Жолио Кюри», выпущенная в серии «Жизнь замечательных людей».
Книга М. П. Шаскольской «Жолио Кюри», выпущенная в серии «Жизнь замечательных людей».
Глава 3 Мои родители и их научное окружение
После возвращения из Хабаровска в 1935 году моя мама Эмма Григорьевна Ломовская поступает в аспирантуру Института Экспериментального Морфогенеза Наркомроса (институт существовал с 1931 по 1941 годы). Руководил лабораторией в этом институте профессор Леонид Яковлевич Бляхер (1900–1987) — выдающийся биолог и историк биологии. В 1920 г. семья Леонида Яковлевича Бляхера переехала в Москву, и Леонид Яковлевич поступил на медицинский факультет 2-го МГУ. Будучи студентом медицинского факультета, он прошел биологический практикум на естественном отделении физико-математического факультета 2-го МГУ под руководством М. М. Завадовского (1891–1957). Тогда же Л. Я. Бляхер посещал организованный М. М. Завадовским кружок биологов в Московском зоопарке, сыгравший огромную роль в создании московской школы биологов-экспериментаторов. С 1933 по 1948 годы он был заведующим кафедрой общей биологии 2-ого Московского медицинского института. В 1935 г. стал доктором биологических наук и профессором, был женат на Марии Александровне Воронцовой (1902–1956). В 1945 г. он возглавил также лабораторию теоретической биологии Института экспериментальной биологии АМН СССР. В 1937 г. увидел свет его учебник «Курс общей биологии с зоологией и паразитологией», по которому изучали биологию студенты всех медицинских вузов страны. Учебник за 7 лет переиздавался 4 раза. В 1945 г. он также возглавил лабораторию теоретической биологии Института экспериментальной биологии АМН СССР. Успешная научно-исследовательская и научно-педагогическая деятельность Леонида Яковлевича продолжалась до 1948 г. — до мрачной августовской сессии ВАСХНИЛ, которая явилась крутым поворотом в научной судьбе ученого: он лишился кафедры и лаборатории и до 1955 г. был безработным. В мае 1955 г. Л. Я. Бляхер был принят на должность старшего научного сотрудника института истории естествознания и техники АН СССР. С 4 апреля 1956 г. по 10 декабря 1975 г. — в течение 20 лет — Леонид Яковлевич руководил в Институте сектором истории биологических наук. Именно в эти годы в нашей стране сложилась школа историков биологии, а сектор стал средоточием историко-биологических исследований. Л. Я. Бляхер оставил руководство сектором в возрасте 75 лет, но еще продолжал работать в институте до 1985 г. (Эти сведения взяты из статьи Н. А. Григорьян и Е. Б. Музруковой: «Профессор Леонид Яковлевич Бляхер», опубликованной в трудах института ИИЕТ в разделе «40 лет институту истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН».) Руководителем диссертационной работы моей мамы Э. Г. Ломовской была профессор Мария Александровна Воронцова (1902–1956) — выдающийся ученый в области физиологической регенерации, автор многочисленных трудов и монографий. В этот же период времени в лаборатории работал и Лев Давидович Леознер (1909–1979) — крупный специалист в области восстановления органов и тканей у животных и человека. В 1941 году М. А. Воронцова стала его женой на долгие годы. Труды этих выдающихся биологов были у нас в домашней библиотеке. Несколько слов о Кропотовской биостанции, на которой работала моя мама в летние месяцы в середине и в конце 30-х годов с маленькой дочкой на руках. Станция была организована в 1927 году в районе г. Каширы по инициативе кафедры общей биологии второго МГУ. С 1932 по 1937 год биостанция принадлежала Институту экспериментального морфогенеза. Вся лаборатория Л. Я. Бляхера на летние месяцы выезжала работать в Кропотово. На этой же биостанции работали и сотрудники кольцовского Института экспериментальной биологии (ИЭБ), сам Н. К. Кольцов (1872–1940), Б. Л. Астауров (1904–1974), Н. П. Дубинин (1906–1998), В. В. Сахаров (1902–1969), Б. Н. Сидоров (1908–1980), Н. Н. Соколов, Д. В. Шаскольский, мой будущий папа, и многие другие. В. Кропотове и начался мамин роман с моим будущим папой. В то время мама ещё очень сильно переживала разрыв со своим первым мужем Николаем Ивановичем Рябовым. Папа относился к этому с большой деликатностью. Его утешения окончились нежной дружбой и последующей совместной жизнью в течение почти полувека. Вспоминали, как я созывала всех играть в волейбол: «ребята, пелибоф!» Да, ещё дразнили: «а Наташа хрюкать не умеет!» А я, обижаясь, опровергала это заявление громким хрюканьем. По рассказам, на биостанции работала Вера Михайловна Шель (Вермишель). Вот уж все потешались! Еще составляли фразу из трех фамилий сотрудников биостанции: «Не надо нам Всяких Дрянных Сундуков!» Сегодня (на дворе 2017 год), 21 февраля — день рождения моей мамы Э. Г. Ломовской, о котором мы с моей дочкой Олей каждый год вспоминаем. Кто же ещё теперь об этом вспомнит? Хотя есть ещё люди, которые помнят мою маму. Исполнилось 117 лет со дня её рождения и более 30 лет со дня её кончины в 1985 году. И вдруг из моей детской памяти возникла песенка-частушка, которую со смехом пели в Кропотово. Частушки, как правило, не имеют конца. Но вот несколько куплетов из этой кропотовской частушки, которые вдруг неожиданно сейчас (2017 год) возникли в моей памяти:Не форси, форсун форсистый,
Я тобой не дорожу.
Я такими ухажорами
Заборы горожу.
Припев:
В лесу, говорят, в бору, говорят,
Росла, говорят, сосёночка,
Понравилася молодцу задорная девчёночка.
Припев:
Мы на лодочке катались
Золотистой, золотой,
Не гребли, а целовались,
Не качай, брат, головой.
Припев:
Ленты банты, ленты банты
Ленты в узел вяжутся,
А мой милый, ненаглядный
Диколоном мажется.
«К концу близился 1958 год. Я (Л. И. Лебедева) устраивалась на работу в Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук СССР. Это происходило в Москве, в лаборатории Н. П. Дубинина. — Вы будете работать у Юлия Яковлевича Керкиса. Вам знакомо это имя? — спросил меня первый директор-организатор института Николай Петрович Дубинин. — Нет, — простодушно ответила я. Он рассмеялся. — Приходите завтра в это время. Я познакомлю Вас с ним. Вечером я позвонила известному гистологу профессору С. Я. Залкинду (это он рекомендовал меня Н. П. Дубинину). — Семен Яковлевич, Вы знаете, кто такой Керкис? — Да. Это известный генетик. — Чем он известен? — Прежде всего, своей преданностью классической генетике, своим отказом «олысенковиться». — Он молодой, старый? Что Вы можете сказать о его человеческих качествах? — Это молодой, красивый мужчина. Но, — смеется Семен Яковлевич, — он женат. И не на простой прихожанке, а на «столбовой дворянке», дочери академика А. А. Заварзина. Я надеюсь, Вам известна эта фамилия! — Да. Гистологию мы учили по его учебнику. Семен Яковлевич минуту помолчал, потом, смеясь, добавил: — Юлий Яковлевич из тех, кому палец в рот не клади — откусит. Задиристый, но, безусловно, глубоко порядочный, интеллигентный человек. Вам повезло, Вы будете работать под началом известного генетика, ученика выдающихся ученых мирового масштаба. Желаю Вам успеха!»Неожиданное продолжение рассказа С. Я. Залкинда. Леонид Максович Фонштейн, мой муж, с пятого по десятый класс учился вместе с Г. А. Заварзиным. В моей книге «Биолог Леонид Фонштейн» есть фотография учеников 9 или десятого класса, где будущий выдающийся микробиолог, академик РАН. Георгий (в классе именовался Егором) Александрович Заварзин (1933–2011) сидит крайний слева во втором ряду. Леонид Максович (Лёня), который для всех его одноклассников был, конечно, просто «Фоном», сидит в первом ряду (второй слева) между своими друзьями, с которыми он дружил в течение всей своей жизни: Феликсом Викентьевичем Янишевским (в классе просто «Нос») и Виктором Узовичем Рошалём (по прозвищу «умный Рошаль»). Четвертый неразлучный друг первых трех Юрий Таричанович Дьяков (прозвище, конечно, «Дьяк», но были и другие, например, «Идеал») стоит крайним слева в верхнем ряду. До последнего года в течение нескольких десятилетий он был заведующим кафедрой на биологическом факультете МГУ, куда его в своё время не приняли в качестве студента. В книге также дано описание выдающегося советского агрохимика Ф. В. Янишевского. Семён Яковлевич Залкинд в беседе с Л. И. Лебедевой обмолвился, что Юлий Яковлевич Керкис, насколько я поняла, был женат на дочери знаменитого академика Александра Алексеевича Заварзина. Думаю, что приходится признать, что жена Ю. Я. Керкиса находилась в близком родстве с Георгием Александровичем Заварзиным, многолетним одноклассником Лёни Фонштейна. Лёня бывал в гостях у Егора в его академической квартире и рассказывал мне об этом. Но у меня эти его рассказы стерлись из памяти. Тесен был мир внутри Садового кольца в славном городе Москве. Вот такие пироги с котятами! Теперь довольно скудные сведения о начале научной карьеры моего папы, Шаскольского, Д. В. После окончания высшего учебного заведения (скорее всего, биологического отделения физико-математического факультета МГУ), судя по чудом сохранившейся у меня его трудовой книжке, с 1929 по 1939 год он работал в кольцовском Институте экспериментальной биологии АН СССР (ИЭБ). На одном из современных сайтов в трудах лаборатории сравнительной генетики животных Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН я нашла упоминание о папиной работе 1930 года. В нем говорится об улучшении местной породы кур в Кировской области с помощью знаменитой юрловской породы. Цитирую: «Первое обследование метисов было проведено в 1930 г. генетиком Д. В. Шаскольским (1908–1990), бывшим сотрудником И. Ген. Деятельное участие в этой работе принимал также А. С. Серебровский. В результате было установлено, что юрловские петухи улучшили показатели местных кур. Так, живая масса помесей увеличилась: кур — на 7,8 %, петухов — на 15,8 %, промеры тела — на 1,6–9,9 %. Во второй половине 1930-х Дмитрий Владимирович защитил кандидатскую диссертацию и опубликовал в немецком журнале статью по генетике пчелы, которой очень гордился. В 1937 г. стал старшим научным сотрудником. В 1939 и 1940 гг. был приглашён заведовать кафедрой Киргизского Гос. мединститута в г. Фрунзе. На современном сайте Кыргызской Государственной медицинской академии упоминается, что организатором и первым заведующим кафедры, называемой сейчас кафедрой медицинской биологии, генетики и паразитологии был доцент Д. В. Шаскольский. В. В. Бабков (1946–2006) упоминает моего папу в своей замечательной книге «Московская школа эволюционной генетики», которая многократно цитируется его российскими коллегами и историками биологии. Д. В. Шаскольский входил в эволюционную бригаду (впоследствии лабораторию) ИЭБ под руководством Д. Д. Ромашова, работающую в области эволюционной генетики. В книге помещена фотография, подпись под которой гласит: «Эволюционная бригада ИЭБ, ок. 1934 г. А. А. Малиновский, Д. В. Шаскольский, Д. Д. Ромашов». Дмитрия Дмитриевича Ромашова (1899–1963), выдающегося популяционного генетика и папиного друга, я в последний раз запомнила по поездке к нам домой в одном троллейбусе. Это было сразу после войны между двумя его арестами. Мама пишет в письме папе в Германию (он после войны выпускал в Лейпциге Атлас «Промысловые рыбы СССР»), что Митрич опять уехал. С его женой Ксенией Алексеевной Головинской мои родители дружили всю жизнь. А. А. (Кот) Малиновский (1999–1997), крупный популяционный генетик жил, кажется, как и мы, на Малой Бронной и встречался с папой. Главным направлением работы лаборатории, руководимой Д. Д. Ромашовым, было исследование мутационного груза в популяциях разных видов Drosophila, продолжающее работы лаборатории Сергея Сергеевича Четверикова, начатые в начале 1920-х годов. Здесь просто невозможно не отвлечься и не описать хотя бы очень коротко историю возникновения в Советской России исследований по генетике и, в частности, пионерских исследований по популяционной генетике. В этом кратком изложении я использовала, главным образом, материалы воспоминаний Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского (1900–1981), статью Николая Васильевича Глотова (1939–2016): «Сергей Сергеевич Четвериков, ученый и учитель», книгу Василия Васильевича Бабкова (1946–2006) «Московская школа эволюционной генетики» и другие многочисленные материалы, которые можно найти в интернете. Сейчас, когда я возвращаюсь к написанию своих воспоминаний после продолжительного перерыва, я хочу извиниться перед авторами, описывающими факты биографии С. С. Четверикова (1880–1959), которых я не упомянула раньше, а теперь уже не могу их найти в интернете. Продолжаю написанный ранее текст. Читать это все было настолько интересно, что я разрывалась между этим чтением и необходимостью все-таки продолжать что-то писать. Поэтому приходится сейчас выступать в роли айсберга, описывая здесь только верхушечку прочитанного. В результате Октябрьской революции и гражданской войны связь русской науки, включая биологию, с мировой наукой была прервана. Русские ученые-биологи совершенно не были осведомлены об успехах зарубежных генетиков при изучении генетики плодовой мушки дрозофилы, позволившие открыть структурные основы наследственности. Немаловажным для начала генетических исследований в России был приезд в Москву в 1922 году уже тогда известного американского генетика Г. Мюллера (1890–1967), позднее ставшего Нобелевским лауреатом. Он привез с собой генетически маркированные линии дрозофилы и знаменитую книгу Т. Моргана, которая так и называлась «Структурные основы наследственности». В ИЭБ был организован генетический практикум по дрозофиле. Усилиями Н. К. Кольцова в институт стали поступать из-за рубежа научные журналы и была организована первая в стране лаборатория по генетике. Ее возглавил выдающийся ученый, человек энциклопедических знаний и кругозора Сергей Сергеевич Четвериков, уже тогда очень известный зоолог. С. С. Четвериков также организовал семинар по быстрому освоению достижений генетики. Все сотрудники лаборатории генетики были зоологами, прекрасно знающими объекты своих исследований и учениками С. С. Четверикова. В течение непродолжительного времени было создано совершенно оригинальное направление генетических исследований — синтеза экспериментальной генетики с классическим дарвинизмом. Главная заслуга в этом принадлежала С. С. Четверикову. В 1926 г. была опубликована знаменитая статья С. С. Четверикова «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики», которая сразу отвела ему роль создателя нового направления в биологии и сделала его основоположником эволюционной генетики. В этой статье был указан путь экспериментальной проверки, предсказанной С. С. Четвериковым гетерогенности природных популяций. Не могу не назвать имена сотрудников лаборатории генетики, которые предоставили экспери-ментальные доказательсьва гетерогенности природных популяций, развивали идеи С. С. Четверикова и большинство из них стали выдающимися генетиками, внесшими неоценимый вклад в развитие генетических исследований. Вот эти имена: Д. Д. Ромашов, Е. И. Балкашина, Б. Л. Астауров, Н. К. Беляев, Н. В. и Е. А. Тимофеевы-Ресовские, А. Н. Промптов, П. Ф. Рокитский, С. М. Гершензон, В. П. Эфроимсон, С. Р. Царапкин, А. И. Четверикова, Д. В. Шаскольский (последний по собственному признанию С. С. Четверикова). Среди учеников и последователей С. С. Четверикова также знаменитые имена Н. П. Дубинина, Ф. Г. Добжанского и многих других (как же часто в поисках интересующих меня фамилий они оказываются в этой последней категории). Блестящая карьера С. С. Четверикова прерывается его арестом в 1929 году, многолетней ссылкой и невозможностью возвратиться в Москву или в Ленинград, российские научные мекки тех и последующих времен. Аресты и ссылки не миновали и других сотрудников лаборатории и института ИЭБ. Дважды были арестованы и провели годы в сталинских лагерях Д. Д. Ромашов и В. П. Эфроимсон (1908–1989). В 1935 году сослали в Чимкент Е. И. Балкашину, навсегда прервав её карьеру генетика. Арестован и расстрелян в 1937 году Н. К. Беляев. В. П. Эфроимсон в период травли С. С. Четверикова на собрании был единственным, кто поднял голос в его защиту. По инициативе Н. К. Кольцова уезжают в Германию чета Тимофеевых-Ресовских, а в Америку Ф. Г. Добржанский. Работая там в области генетики популяций они не забывают цитировать работы ее основателя. Имя С. С. Четверикова в собственной стране на многие годы было предано забвению. С 1935 года после многолетнего отсутствия возможности работать по специальности и до его кончины он жил в городе Горьком и до 1948 года работал заведующим кафедрой генетики и деканом биофака в горьковском Университете. В 1948 году он был уволен «как не покаявшийся неисправимый морганист-менделист». В 1959 году незадолго до кончины он узнал о награждении его медалью «Планкета Дарвина» за развитие эволюционного учения и генетики. Этой награды Германской Академии естествоиспытателей он был удостоен в связи со столетием публикации книги Ч. Дарвина «Происхождение видов». Медаль вручили также Н. П. Дубинину и И. И. Шмальгаузену, который и привез медаль С. С. Четверикова из Германии. Не буду останавливаться на тернистом пути возвращения имени С. С. Четверикова в советскую печать. Даже в книге В. В. Бабкова — образце, по моему мнению, труда по истории науки, вышедшей в 1985 году, не знаю, по каким соображениям цензуры, самоцензуры или по иным причинам ни словом не упоминается о трагической стороне жизни С. С. Четверикова и ряда его коллег. Сейчас в интернете и в печати очень много материалов, посвященных С. С. Четверикову — ученому и прекрасному светлому человеку. Спасибо людям, восстанавливающим поврежденную десятилетиями память. Можно также многое узнать и о работах и судьбах других генетиков прошлого века из самых разнообразных источников, порой совершенно неожиданных. Так, о судьбе Е. И. Балкашиной упоминается на сайте Восточно-Казахстанского краеведческого музея в период ее ссылки, жизни и работы в Усть-Каменогорске (автор и составитель сайта И. Григорьев). Единственное, что хотелось бы отметить не в связи с последним упоминанием, что приходится относиться к публикациям с осторожностью ввиду субъективности взглядов авторов, будь они даже историками науки. Представляется, что папа в студенческие годы и в самом начале своей многолетней работы в ИЭБ хорошо знал С. С. Четверикова, которого считал своим учителем. У папы сохранилось письмо к нему С. С. Четверикова, посланное из г. Горького в 1948 году. Оригинал этого письма я передала И. А. Захарову перед нашим отъездом в Америку с тем, чтобы он передал это письмо в музей института общей генетики АН СССР. Привожу его полный текст:
Горький 1948. Х11.8. ул. Минина, 5, кв.6 Дорогой Дмитрий Владимирович,Квасов, Д. Г., (1897–1968) — крупный физиолог, зав. кафедрой физиологии в Ленинградском педагогическом институте. Письмо написано в период после сессии ВАСХНИЛ — начала полномасштабного гонения на генетиков в нашей стране и не нуждается в комментариях. Я хорошо помню, как папа часто вспоминал сотрудника кольцовского института, генетика и хорошего поэта А. С. Боброва, который был арестован в 1930-ые годы и навсегда сгинул в лагерях. У меня сохранился текст песни «Генетическая дубинушка», написанный А. С. Бобровым в 1929 г. Вот этот текст:
Давно-давно получил Ваше письмо и вот все до нынешнего дня не отвечал. Не сердитесь на меня за это! Когда пришло Ваше письмо, я был безумно завален работой: я читал новый для себя курс (специалистам): «Новейшие задачи и последние достижения генетики». Вы представляете себе, какую адскую работу приходилось мне проделывать, рыться в журналах русских и иностранных, все это прочитывать, перерабатывать и излагать так, чтобы это было и понятно и интересно… Я был замучен в лоск, не спал ночи, голова трещала. При всем желании написать Вам я не мог урвать для этого и 1/4 часа. Сейчас моя жизнь качнулась в другую крайность: никаких лекций, никаких занятий, никакой работы вообще, свободен как ветер… Далось мне это не совсем легко. 1-го сентября я получил увольнение из Университета, 10-го — с работы по Шелкопряду, над которым я работал 12 лет, а 13-го у меня сделался сердечный припадок (инфаркт), от которого я все-таки (к сожалению) поправился, хотя еще не совсем. Почти три месяца я пролежал пластом в постели, не смея даже приподняться. Сейчас мне разрешено вставать часа на 3–4, и вот я пишу Вам, сидя за столом. Что-то Вы поделываете, как живете? Я тоже не раз вспоминал Вас за все эти долгие годы. Если встречаетесь с Квасовым или переписываетесь с ним, передайте ему мой самый сердечный привет, у меня осталось о нем самое светлое воспоминание. Не смею просить Вас написать мне, но если бы я получил от Вас несколько строк, Вы бы очень обрадовали и утешили своего старика-учителя.Искренне любящий и уважающий Вас С. Четвериков
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДУБИНУШКА
Если Рентген — мудрец изобрел икс — лучи,
Если кто-то их ввел в медицину,
То лишь мы в них нашли рычаги и ключи,
Чтоб открыть генотипа машину.
Припев:
Эх, мутация, ухнем!
Эх, летальная, сама пойдет,
Подёрнем, просветим, да ухнем!
Припев:
И еще прозвучать не успели слова,
Сделал Меллер работу с рентгеном,
Как тотчас же в России нашлась голова,
Чтоб начать расщеплнние гена.
Припев:
Кто бы мог ожидать, до какой высоты
Это дело поднимется сразу,
Как бобы из мешка повалились скьюты
Аккуратнее, чем по заказу.
Припев:
Проложили пути и работать легко,
Не смутит никакая помеха,
На одной на семерке скьютов далеко
Без сомнения можно уехать
Припев:
Удивительные подошли времена,
Разгораются всякие страсти.
Нынче сделать из мухи слона
Уж вполне в генетической власти.
А. С. Бобров (1929)
«За творчество, за мужество, за весь кольцовский стан, за крепкое содружество генетиков всех стран!» И задают письменно, в протоколе, такой вопрос: «Против кого нужно мужество «кольцовскому стану» в стране победившего пролетариата»?Папа входил в математическую группу при лаборатори эволюционной генетики (А. А. Малиновский, Д. В. Шаскольский, Д. Д. Ромашов при участии математиков А. А. Ляпунова (1911–1973) и директора института математики МГУ А. Н. Колмогорова (1903–1987) и других). В задачу группы входил математический анализ поведения хромосом в популяциях диких и домашних видов, а также анализ процессов, определяющих генетическую структуру вида. Из папиного окружения тех лет я помню и была знакома с Валентином Сергеевичем Кирпичниковым, Верой Вениаминовной Хвостовой, Дмитрием Дмитриевичем Ромашовым и его женой Ксенией Алексеевной Головинской. Многих других бывших сотрудников кольцовского института, конечно, видела уже в ту пору, когда сама стала генетиком. С. Андреем Николаевичем Колмогоровым папа общался и в последующие годы. В. В. Бабков пользуется моим искренним уважением, как прекрасный специалист в области эволюционной генетики и историк биологии. В статье, опубликованной в журнале «Человек» (№ 6,1998) «Как ковалась победа над генетикой», он упоминает, что интересный сюжет сообщил ему Д. В. Шаскольский: «Пчеловод Б. М. Музалевский заявил небольшой доклад на сессии. Летом 1936 г. он был недалеко от Института Лысенко и заехал туда, чтобы получить подтверждение. Лысенко заинтересовался биологией пчелы, и в конце длинной беседы Музалевский спросил, как Лысенко удаются такие крупные дела. На что получил краткий ответ: «Я имею право входа». Речь шла о доступе к И. В. Сталину» Следя из Америки за публикациями В. В. Бабкова, так печально было узнать о его безвременной кончине. Его книга «Московская школа эволюционной генетики» чудом сохранилась у нас при переезде в Америку. Я часто и с удовольствием ее перечитываю, гордясь крупными достижениями и открытиями советских генетиков 1930–х годов, удивляясь их невероятной трудоспособности, талантам и мужеству противостоять обрушившимся на них гонениям. Во второй половине 1930-х Дмитрий Владимирович Шаскольский защитил кандидатскую диссертацию и опубликовал в немецком журнале статью по генетике пчелы, которой очень гордился. В 1937 г. стал старшим научным сотрудником. В 1939 и 1940 гг. был приглашён заведовать кафедрой общей биологии Киргизского Гос. мединститута в г. Фрунзе. На современном сайте Кыргызской государственной медицинской академии упоминается, что организатором и первым заведующим кафедры, называемой сейчас кафедрой медицинской биологии, генетики и паразитологии был доцент Д. В. Шаскольский. Папа поехал туда сначала один, чтобы устроиться, а потом и вызвать семью. Через некоторое время он там тяжело заболел, отравившись угарным газом при закрытой печной задвижке. Пролежал двое суток без сознания, пока его не хватились. Его жизнь висела на волоске. Сильное повреждение центральной нервной системы сделало его почти неподвижным. Его мать Мария Николаевна и моя мама срочно выехали во Фрунзе (об этом городе мама тоже всегда вспоминала) и с большими трудностями привезли папу в Москву. Войну он встретил на костылях. В конце этой главы не могу удержаться и не пересказать данные, найденные в интернете, о дальнейшей судьбе Сергея Сергеевича Четверикова, а также Елизаветы Ивановны Балкашиной, сотрудницы кольцовского института, сыгравшей выдающуюся роль как популяционный генетик и тоже совершенно невинно пострадавшую во времена сталинских репрессий. Выдающуюся роль в разработке проблем популяционной генетики сыграл ученик С. С. Четверикова Н. В. Тимофеев-Ресовский. Работая в Берлине, он с 1926 по 1941 г. опубликовал большую серию работ в этой области науки. В 1927 г. в его статье, написанной совместно с Е. А. Тимофеевой-Ресовской, впервые в иностранной литературе было изложено содержание основополагающей статьи С. С. Четверикова (1926). Сходные работы в области популяционной и эволюционной генетики были выполнены зарубежными исследователями Фишером, Холдейном и Райтом в 1930-х гг. Один из виднейших исследователей в области популяционной генетики Ф. Г. Добржанский (1900–1975), США, в своих работах цитирует труды С. С. Четверикова и признает их исключительно важное значение для развития современной генетики и эволюционной теории. Он впервые в 1959 г. опубликовал сокращенный перевод на английский язык основного труда С. С. Четверикова «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики». Значение работ С. С. Четверикова в биологии, особенно в области популяционной и эволюционной генетики, соизмеримо с такими выдающимися открытиями, как установление законов Менделя и создание хромосомной теории наследственности. Далее мне хочется процитировать отрывок из статьи А. Шварца «Крушение Сергея Сергеевича», опубликованной в журнале «Слово» /Word/, 2007, 55.
«Зимою тридцать седьмого года Четверикова неожиданно навестил ученый секретарь Наркомзема. Время было строгое, предвоенное, разговор короткий: нужна чесуча, парашютная ткань, мы не можем больше зависеть от Японии. И он предложил Сергею Сергеевичу приспособить дубового шелкопряда к средней полосе, попросту, заказал ему неслыханную породу южного червя. Четвериков сразу понял: задача почти обречена, тысячи колхозов от Молдавии до Татарии пытались приютить шелконосную Сатурнию, и везде полный провал. Слишком нежен, привередлив был китайский гость, правда, дуб наш ел охотно, но каждую осень болел, мерз и дох. Велик был риск, и Сергей Сергеевич знал, чем грозит ему срыв. Но, подумав, не отказался, на то был особый расчет.»В. Марьиной роще, молодой дубраве близ Оки, он устроил небольшой опорный пункт, что-то вроде сельской фермы с лабораторией, и стал здесь приучать шелкопряда к русским холодам. Собственно, приучать он как раз собирался меньше всего. Иная задумка была у Сергея Сергеевича. Генетик, он лучше многих понимал, что никакие переделки, закалки и всякие перевоспитания тут не помогут, червь просто вымрет. И если заняться делом всерьез, надо исходить из одного несомненного факта: гусеница шелкопряда зимовать под Горьким никак не может. Но на беду именно так и выходило: китайская порода была бивольтинной, давала два поколения в год, и второе приходилось как раз на октябрь… В. Японии это, конечно, удобное время, там тепло, сухо, солнечное, а у нас, в средней полосе, гусеница, едва выйдя из личинки, чахла на голубых дубах. И, не успев окуклиться, гибла. Что делать? Не заняться же ему, впрямь, яровизацией шелкопряда. Сергей Сергеевич нашел отличный выход, даже два — на выбор. Нужно вывести скороспелую породу червя, сжать, втиснуть оба поколения в наше короткое лето, или, наоборот, замедлить цикл размножения, так растянуть его, чтобы до октября шелкопряд приносил только один урожай и зимовал бы в стадии личинки или куколки. Так и решили: первую задачу Четвериков поручил ученице, за вторую взялся сам.
Жили как многие: капуста, горох, на третье — огурцы. Суп из лопухов жена декана готовила блестяще. И стирала, и тянула хозяйство, а по утрам мерила версты до опорного пункта. Ни зимой, ни летом не оставляли они шелкопряда. Сергей Сергеевич, хоть и профессорствовал и заседал, а все старался улучить минуту для Сатурнии. Войдет в дубраву — тишина, палые листья шуршат под дубками, он на крыльцо, открыл дверь, и первое — не видит, а слышит своих червей: "Ах, как они едят! Войдешь в лабораторию, а там хруст, будто в стойлах лошади овес жуют!" И вывел-таки породу, приспособил южного червяка к среднерусской суровости. Сдал "Горьковскую моновольнинную" в испытание, получил правительственную(!) награду и тут же занялся новым делом: решил перевести гусеницу с дуба на березу. Березового шелкопряда задумал Сергей Сергеевич. И вывел бы! Вот уж начал он снова скрещивать, отбирать, поставил опыт сразу на девяти семействах. И ждет, приглядывается к червяку… Восемь линий не вынесли, погибли, но одна прижилась, на березе завила коконы. И числом не меньше, чем на дубе. Возликовал Сергей Сергеевич, и, верно, такого в природе досель не бывало. «Да еще, коконы-то оказались первоклассные, лучше дубовых! — писал он брату. — Теперь от этой семьи поведу линии и «березовая» порода у меня в руках. Ты только подумай: шелкопряда можно будет выводить и под Ленинградом, и под Пермью, а если захочешь, хоть в твоем Миассе.» Осенью 1945 года, — вспоминает В. И. Сычевская, — я была у Сергея Сергеевича в Горьком, он уже плохо видел, но был по-прежнему полон интересных мыслей, энергичен, занимался шелкопрядом… В октябре 1945 он еще не знал, что случится через три года. Но теперь-то уж можно рассказать.Из письма брату Николаю Сергеевичу, 1942 г
…Вчерне моновольтинная порода уже получена, и я мог телеграфировать правительству, что имею 5.300 коконов. Это, конечно, пустяки, но по дошедшим до меня сведениям, в нынешнем году вследствие холодного лета и ранней осени погибли все выкормки дубового шелкопряда. Моя порода осталась единственным племенным материалом в Союзе, и, возможно, на этой базе суждено возродиться нашему шелководству…Ему же, 1943 г
Мои дела с шелкопрядом идут хорошо. В нынешнем году вся выкормка в целом дала 95,8 % моновольтинных коконов…Ему же, 1944 г
…Живем не очень важно, — ждем, когда поспеет собственная картошка.
Четверикова вызвали к ректору.
— Мы высоко чтим вас, Сергей Сергеевич, — начал он, — и хотели бы сохранить в Университете… Но вы знаете… словом, надо отречься… Профессор сидел прямо, молчал, и ректор округлил свою мысль: — Это формальность, напишите, что вы отказываетесь от прежних ошибок, от морганизма и вернемся к делу». Снова помолчали. — Вы полагаете, это поможет? — усмехнулся Сергей Сергеевич. Ректор не понял, тогда он почти закричал: — Да если я даже отрекусь, кто вам поверит? — утих и внятно добавил: — Справедливо или нет, но меня считают одним из основателей современной генетики… И ушел. А в приказе было: «неисправимого морганиста-менделиста уволить… отчислить…»Неисправимый лежал в это время с третьим инфарктом и никогда уж больше не вернулся ни в университет, ни в Марьину рощу.
«Что для меня самое главное в любом научном исследовании? Это — ПРАВДА!! Не половинчатая правда, которая хуже открытой кривды, а настоящая, полноценная, чистая и честная правда. Никаких кривотолков и никакой лжи, вольной или невольной. Так было и останется до последнего мгновения моей жизни; от этого я не могу отступиться, как бы обстоятельства ни складывались против меня…»Болью отзывается в сердце и когда подумаешь о судьбе младшего брата Сергея Сергеевича — Николая Сергеевича Четверикова (1885–1973). Спасибо интернету, о его жизни и работе сохранились подробные сведения. Он был человеком, преданным Советской власти и крупным ученым. Арестован в 1930 году и приговорён к 4-годам заключения. В 1937 году после разгрома медико-биологического института, в котором он работал, был вновь арестован. После войны в 1946–48 годах работал в радио-биологическом институте вместе с крупным генетиком С. Н. Ардашниковым по проблемам первичных механизимв ионизирующей радиации. (О С. Н. Ардашникове я упомяну в следующих главах моих воспоминаний.) В 1949 году Николай Сергеевич переехал в г. Горький, когда Сергей Сергеевич тяжело заболел, и принял на себя заботы о старшем брате. После кончины Сергея Сергеевича в 1959 году Николай Сергеевич переехал в Москву и продолжил интенсивную научную и научно-литературную деятельность. Н. С. Четвериков перевел книгу американского генетика К. Штерна «Основы медицинской генетики», 1965 г., под редакцией В. П. Эфроимсона. Через много лет после кончины С. С. Четверикова, по инициативе его коллег по кольцовскому институту и других генетиков, было решено собрать деньги и поставить памятник на его могиле в г. Горьком. В то время студент кафедры дарвинизма Горьковского университета И. Ф. Жимулёв, где долгие годы работал Сергей Сергеевич, пошел разыскать его могилу после стольких лет забвения. Могила оказалась в заброшенной и грязной от мусора части кладбища. На палке, воткнутой в землю, была прикреплена крышка от консервной банки с фамилией Сергея Сергеевича. Гроб с его прахом студенты перенесли в другое место кладбища. Памятник на могиле Сергея Сергеевича поставили после долгих мытарств на деньги, собранные его коллегами по кольцовскому институту, генетиками других институтов и более молодыми почитателями его таланта. И. Ф. Жимулёв, который нашёл его могилу, потом сожалел, что он выбросил консервную банку с могилы С. С. Четверикова, а не сохранил её как память о том, как в не очень далёкие от нашего времени годы безжалостно стирали из умов и сердец людей имена, прославившие своими открытиями российскую науку. В 1973 году в г. Горьком состоялись Четвериковские чтения, инициированные президентом В. ГиС академиком Б. Л. Астауровым и председателем Совета по генетике и селекции АН СССР Д. К. Беляевым. Родной брат Дмитрия Константиновича Николай Константинович Беляев был ближайшим учеником Сергея Сергеевича, погибшим в сталинских лагерях. Ведущую роль в организации чтений сыграли также сотрудники Института цитологии (ИЦ) и Сибирского отделения АН СССР (Новосибирск) З. С. Никоро, которая проработала все годы с С. С. Четвериковым на кафедре генетики Горьковского университета и М. Д. Голубовский, бывший в то время ученым секретарем секции популяционной и эволюционной генетики при Совете по генетике АН СССР. Мой папа, Д. В. Шаскольский, тоже ездил в Горький для участия в этом симпозиуме. В 1983 г. в Новосибирске вышла книга С. С. Четверикова «Проблемы обшей биологии и генетики: (Воспоминания, статьи, лекции)», Отв. Ред. З. С. Никоро. Предисловие М. Д. Голубовского. В интернете удалось также найти статью, опубликованную сотрудниками краеведческого музея г. Усть-Каменогорска. В этом городе с 1955 года жила Е. И. Балкашина, талантливый учёный, многолетний сотрудник кольцовского института экспериментальной биологии. Елизавета Ивановна Балкашина — женщина удивительной судьбы. О ее многострадальной жизни рассказала сотрудникам краеведческого музея ее дочь, Татьяна Дмитриевна Ромашова. Е. И. Балкашина закончила гимназию с золотой медалью в г. Москве, хотя и родилась в Петербурге. Затем, в 20-е годы, училась на отделении биологии физико-математического факультета Московского Государственного Университета. После окончания учебы работала лаборантом, а потом и сотрудником генетической лаборатории института экспериментальной биологии. В этой же лаборатории трудились Н. В. Тимофеев-Ресовский, Д. Д. Ромашов и другие известные впоследствии ученые. В 1935 году по решению «тройки» была выслана в г. Чимкент, где работала энтомологом на противомалярийной станции. Пешком ходила, чтобы обследовать аулы на малярию, брюшной и сыпной тиф, оставляя нередко дома одну маленькую дочку. В 1939 году ее отпустили в Москву, но в столице сразу же вызвали в органы НКВД и потребовали срочно вернуться в Чимкент. С 1943 года она стала заведующей противомалярийной станции и публиковала научные статьи в журналах. После смерти жены Н. В. Тимофеева-Ресовского, несколько зим вела хозяйство в его доме. И ушли из жизни они в одном и том же 1980 году.С. С. Четвериков
 Фотография сотрудников кольцовского института (Института экспериментальной биологии). На тыльной стороне фотографии рукою моего папы Дмитрия Владимировича Шаскольского (почерк, прямо сказать, не важнецкий), написаны фамилии сотрудников института. Там же и дата: 1929 г. Верхний ряд слева направо: Минервина, Ферри, Мануйлова, Сидоров, Цубина, Шапиро, Бобров, Зенин, Купченко. Средний ряд слева направо: Камшилов, Иевлев, Трофимович, Садова, Роскин, Балихина, (фамилия сотрудника справа рядом с Балихиной в папином списке отсутствует), Фризен. Первый ряд слева направо: фамилия сотрудницы крайней слева отсутствует, за ней сидят Успенская, Эпштейн, Зиновьева, Маркович, Верховская, Стоянов.
Фотография сотрудников кольцовского института (Института экспериментальной биологии). На тыльной стороне фотографии рукою моего папы Дмитрия Владимировича Шаскольского (почерк, прямо сказать, не важнецкий), написаны фамилии сотрудников института. Там же и дата: 1929 г. Верхний ряд слева направо: Минервина, Ферри, Мануйлова, Сидоров, Цубина, Шапиро, Бобров, Зенин, Купченко. Средний ряд слева направо: Камшилов, Иевлев, Трофимович, Садова, Роскин, Балихина, (фамилия сотрудника справа рядом с Балихиной в папином списке отсутствует), Фризен. Первый ряд слева направо: фамилия сотрудницы крайней слева отсутствует, за ней сидят Успенская, Эпштейн, Зиновьева, Маркович, Верховская, Стоянов.
Не исключено, хотя никаких сведений у меня об этом нет, что фотография сделана Д. В. Шаскольским. Он все годы своей жизни увлекался фотографией и фотографировал почти как профессионал.
 Дмитрий Дмитриевич Ромашов, один из основоположников экспериментальной генетики популяций. Фото из коллекции Д. В. Шаскольского
Дмитрий Дмитриевич Ромашов, один из основоположников экспериментальной генетики популяций. Фото из коллекции Д. В. Шаскольского
 Эта фотография, по-видимому, была сделана на биостанции Кропотово. Честно говоря, не знаю, кто из сотрудников, представленных на этой фотографии, работал в каком из двух институтов. Думаю, что в основном на ней сотрудники лаборатории Л. Я. Бляхера Института экспериментального морфогенеза, а мой папа (крайний справа в верхнем ряду), который в то время ухаживал за моей мамой, Э. Г. Ломовской, является тут примкнувшим сотрудником кольцовскоо института. Знаю на этой фотографии лишь немногих. Сидит справа в первом ряду Валентин Замараев. Второй ряд справа: жена Замараева (по-моему, её звали Галя, помню, что оба они были близкими друзьями моих родителей), Леонид Яковлевич Бляхер, Эмма Григорьевна Ломовская (моя мама). Третий ряд: крайний слева Семён Яковлевич Залкинд. Рядом с С. Я. Залкиндом в том же ряду стоит Ольга Григорьевна Гольцман.
Эта фотография, по-видимому, была сделана на биостанции Кропотово. Честно говоря, не знаю, кто из сотрудников, представленных на этой фотографии, работал в каком из двух институтов. Думаю, что в основном на ней сотрудники лаборатории Л. Я. Бляхера Института экспериментального морфогенеза, а мой папа (крайний справа в верхнем ряду), который в то время ухаживал за моей мамой, Э. Г. Ломовской, является тут примкнувшим сотрудником кольцовскоо института. Знаю на этой фотографии лишь немногих. Сидит справа в первом ряду Валентин Замараев. Второй ряд справа: жена Замараева (по-моему, её звали Галя, помню, что оба они были близкими друзьями моих родителей), Леонид Яковлевич Бляхер, Эмма Григорьевна Ломовская (моя мама). Третий ряд: крайний слева Семён Яковлевич Залкинд. Рядом с С. Я. Залкиндом в том же ряду стоит Ольга Григорьевна Гольцман.
 Оригинал письма Сергея Сергеевича Четверикова, посланного моему папе Д. В. Шаскольскому через несколько месяцев после сессии ВАСХНИЛ, круто изменившую к худшему и без того непростую судьбу выдающегося учёного. Перепечатанное письмо приводится в этой главе.
Оригинал письма Сергея Сергеевича Четверикова, посланного моему папе Д. В. Шаскольскому через несколько месяцев после сессии ВАСХНИЛ, круто изменившую к худшему и без того непростую судьбу выдающегося учёного. Перепечатанное письмо приводится в этой главе.
 Вот в этом великолепном здании многие годы был роддом Грауэрмана. Там я (Н. Л.) и появилась на свет. Теперь уже не хочется упоминать ещё раз дату своего рождения.
Вот в этом великолепном здании многие годы был роддом Грауэрмана. Там я (Н. Л.) и появилась на свет. Теперь уже не хочется упоминать ещё раз дату своего рождения.
 Чудом сохранившееся фото из альбома с моими (Н. Л.) детскими фотографиями. Наташа старшая и я на биостанции в Кропотово. Я ещё не понимаю, что мы плывем на лодочке.
Чудом сохранившееся фото из альбома с моими (Н. Л.) детскими фотографиями. Наташа старшая и я на биостанции в Кропотово. Я ещё не понимаю, что мы плывем на лодочке.
 Мне (Н. Л.), наверное, около двух лет. С такими железными леечками, как я заметила, детки до сих пор играют в 21 веке даже в Америке.
Мне (Н. Л.), наверное, около двух лет. С такими железными леечками, как я заметила, детки до сих пор играют в 21 веке даже в Америке.
 Хорошо в Кропотове, но на всякий случай крепко держусь за мамину руку.
Хорошо в Кропотове, но на всякий случай крепко держусь за мамину руку.
 Кропотово, вторая половина 30-х. Сидят: в первом ряду моя (Н. Л.) тётя Валя, во втором ряду: слева направо: я, моя мама Муся Ломовская, Дмитрий Шаскольский, его дочь Наташа Шаскольская, мама Наташи Ольга Григорьевна Гольцман.
Кропотово, вторая половина 30-х. Сидят: в первом ряду моя (Н. Л.) тётя Валя, во втором ряду: слева направо: я, моя мама Муся Ломовская, Дмитрий Шаскольский, его дочь Наташа Шаскольская, мама Наташи Ольга Григорьевна Гольцман.
 Кропотово. Наташка (я, Н. Л.) — капризуля. Согласилась сниматься, только надев на руку мамины любимые часы. Подозреваю, что это те самые часы, которые были подарены маме Н. И. Рябовым, её первым мужем и моим отцом.
Кропотово. Наташка (я, Н. Л.) — капризуля. Согласилась сниматься, только надев на руку мамины любимые часы. Подозреваю, что это те самые часы, которые были подарены маме Н. И. Рябовым, её первым мужем и моим отцом.
 Ах, это коварное Кропотово!
Ах, это коварное Кропотово!
 9-ый или 10-ый класс школы, где Лёня, Л. М. Фонштейн (1932–2014), мой будущий муж, учился с 5-ого класса. В первом ряду второй слева Лёня. Крайний слева во втором ряду — Егор Заварзин (Георгий Александрович Заварзин (1933–2011), будущий выдающийся микробиолог, академик РАН.
9-ый или 10-ый класс школы, где Лёня, Л. М. Фонштейн (1932–2014), мой будущий муж, учился с 5-ого класса. В первом ряду второй слева Лёня. Крайний слева во втором ряду — Егор Заварзин (Георгий Александрович Заварзин (1933–2011), будущий выдающийся микробиолог, академик РАН.
 Моя (Н. Л.) мамочка очень меня любила, и я отвечала ей тем же.
Моя (Н. Л.) мамочка очень меня любила, и я отвечала ей тем же.
 Кончилось лето, а с ним и трудовая и дачная жизнь в Кропотово Первый слева — Валя Замораев, третья — мама со мной еще совсем маленькой, рядом Валина жена Галя Виноградова с дочкой Алёной. Едем на телеге, наверное, до ближайшей железнодорожной станции.
Кончилось лето, а с ним и трудовая и дачная жизнь в Кропотово Первый слева — Валя Замораев, третья — мама со мной еще совсем маленькой, рядом Валина жена Галя Виноградова с дочкой Алёной. Едем на телеге, наверное, до ближайшей железнодорожной станции.
 Дома тоже хорошо. Кто подарил медведя, конечно, не помню.
Дома тоже хорошо. Кто подарил медведя, конечно, не помню.
 Мне уже 4 года и 9 месяцев. Снимок сделан у нас дома на Малой Бронной. Хорошо помню наши стулья, которые служили нам ещё долгие годы после войны.
Мне уже 4 года и 9 месяцев. Снимок сделан у нас дома на Малой Бронной. Хорошо помню наши стулья, которые служили нам ещё долгие годы после войны.
Глава 4 Военные и первые послевоенные годы
Мне было неполных шесть лет, когда началась война. При первых бомбежках Москвы в котельную нашего дома, используемую в качестве бомбоубежища, попала зажигательная бомба. Мы были там с мамой, и я хорошо помню, как тушили пожар. Потом после сигнала воздушной тревоги мы стали ходить на станцию метро Маяковская, расположенную в 10–ти минутах от нашего дома глубоко под землей. Осенью 1941 года мы с бабушкой Любовь Петровной и с дедушкой Григорием Иосифовичем уехали в эвакуацию, а мама с папой еще оставались в Москве. Помню бомбежку нашего парохода по пути в г. Плёс на Волге. Через короткое время из Плёса переехали в г. Киров, где оказались дальние родственники дедушки. Дедушка до этого работал несколько месяцев на трудовом фронте под Москвой, застудил почки и скончался в начале 1942 года в г. Кирове в возрасте 56 лет. Его могилу найти не смогли. Помню, что он уже больной сокрушался, что я, уже «взрослая» девочка, а читать ещё не научилась. У бабушки была иждивенческая карточка, и мы голодали. До сих пор помню потрясающий вкус солдатских сухарей. Часть поломанных сухарей отбраковывали, не посылали на фронт и отоваривали по карточкам. Помню как продавщица в магазине отламывала и давала мне и другим детям кусочек от хлеба, уже выданного по карточке. И как каждая крошка хлеба, упавшая на стол, немедленно отправлялась в рот. Мама с папой оставались в Москве (папа на костылях) и по рассказам обсуждали возможность ухода из Москвы пешком. В ноябре 1941 года, когда немцы были уже в подмосковье, они эвакуировались из Москвы вместе с Военно-ветеринарной академией, в которой работала мама, в город Аральск на берегу Аральского моря в Казахстане. Мама более полугода ничего не знала о нашем местонахождении и пыталась нас разыскать. Имея слабую надежду застать нас у дальних родственников в г. Кирове, она, благодаря имеющейся у неё на руках справке из военной Академии и своей необыкновенной энергии, пересаживаясь с поезда на поезд, в самое тяжелое военное время, приехала в г. Киров и вывезла нас с бабушкой в г. Аральск. Своего горячо любимого ею отца она в живых уже не застала. Через месяц солнышка и еды я стала поправляться. Только молочные зубы совсем разрушились, потом эта голодная пора сказалась и на постоянных. Вскоре Академия переехала в г. Самарканд. Папа тоже устроился в Академии на временную работу. Преподаватели Академии жили в большом помещении, наверное, зале, перегороженном занавесками. Мы жили на сцене вместе с семьями Кошелевых и Залкиндов. Спасали пайки, выдаваемые кандидатам наук. Топили саксаулом, главным деревом пустыни, растущим в окрестностях Самарканда. Жена С. Я. Залкинда собирала детей и читала нам русских классиков. Она была очень красивая даже по моим детским воспоминаниям. Помню, как мы все боялись, когда она читала гоголевского Вия. Мы с Мишей Залкиндом и Толей Дворкиным (сыном другого преподавателя) все свободное время играли в войну на пустыре около дома. Папа в 1943 и 1944 годах был старшим научным сотрудником, генетиком во ВНИИ каракулеводства в отделе разведения каракулевых овец. На меня большое и тяжёлое впечатление произвело его упоминание, что каракульча — это шерсть ещё не родившихся, доставаемых из утробы матери овец. Моя бабушка Любовь Петровна вернулась в Москву из эвакуации в 1943 году, боясь за сохранность нашей московской квартиры. Однако нашему соседу по лестничной клетке чудом удалось её спасти от заселения и полного разграбления. Телефон, конечно, отключили и у нас его не было вплоть до 1957 года, несмотря на многочисленные хлопоты по его установлению. Мы с мамой и папой вернулись из эвакуации вместе с Академией в 1944 г. В стенном шкафу у нас в квартире долго хранились куски саксаула и куски соли из Аральска. Мама продолжала работать в Академии, а папа в 1944 году был зачислен на должность старшего научного сотрудника, а с 1958 года заведующего лабораторией генетики и селекции во ВНИИ прудового рыбного хозяйства и работал там вплоть до 1961 года. Несколько слов о нашем доме на Малой Бронной и о наших соседях. В 30-х годах наш первоначально четырехэтажный дом надстроили, и он стал шестиэтажным. На верхних этажах поселилась московская номенклатура в ранге министров и замминистров. Уж очень лакомым кусочком была и осталась улица Малая Бронная и, особенно, местоположение нашего дома напротив Патриарших прудов, переименованных вскоре в Пионерские. В двух подъездах нашего дома провели лифты, которые, проехав первые четыре этажа, останавливались только на пятом и шестом этажах. В нашем подъезде, да и в соседнем в конце 30–х годов арестовали, практически, всех глав семейств. На 1-ом этаже в нашем подъезде осталась жить Фаина Захаровна Кафенгауз, у которой мужа арестовали, а сын погиб в первые дни войны. На 2-ом этаже квартиру занял высокопоставленный партийный работник, который ни с кем из соседей не общался и его дочка никогда не гуляла во дворе. На этом же этаже уплотнили квартиру Рассоловых, арестовав отца Бори Рассолова и поселив там большую шумную семью. На 2-ом этаже жила в одной небольшой квартире семья Менделевых — мать Фаина Моисеевна и две ее дочери с семьями. Одна из них, Юлия Марковна, писаная красавица, жила с мужем, дочерью от первого брака Лией Канторович и умственно отсталым сыном Тёмой. Где-то в интернете промелькнуло, что они с мужем долго работали за границей, чуть ли не разведчиками. В мое время они оба служили в адвокатской конторе. С. Менделевыми мы общались часто и в крайних случаях ходили к ним звонить по телефону. Лия Канторович геройски погибла в августе 1941 года, подняв в атаку бойцов, у которых убили командира. О ней до сих пор есть много упоминаний на российских веб-сайтах. Была она, по воспоминаниям, очень красивой, и одно время, говорят, за ней ухаживал Александр Галич. Когда умер муж Юлии Марковны, а сестра Рая Марковна с семьей дочери в 60-х годах уехала в Израиль, она через несколько лет, поняв, что не в силах больше ухаживать за больным сыном, покончила его и свои счеты с жизнью. В одной из квартир на нашей лестничной клетке жила семья Суздалевых, тоже без главы семьи, в другой — наш сосед, очень пожилой человек с сестрой, стараниями которого во время войны сохранилась наша квартира. Общалась я, в основном, с нашим соседом со 2-ого этажа, Борькой Рассоловым. Помню, как мы в тайне от родителей ездили по Москве и даже в подмосковные музеи, часто играли у нас или у них дома. Когда у нас появился рояль (1949 г.), играли под роялем. Позже мы с Лёней, моим мужем, как-то встретили Бориса в метро, когда уже не жили на Малой Бронной. Он потерял грудного ребенка и мать, которая умерла от рака в совсем ещё молодом возрасте. Борис стал изобретателем, работая над внедрением капельного полива в засушливых районах. С увлечением рассказывал об этом у нас в гостях. На четвёртом этаже жила семья Казанцевых. Мужа Любовь Александровны — моей учительницы музыки на протяжении всего моего пребывания в музыкальной школе, арестовали до войны. В одну из комнат их квартиры поселили семью Старостина, знаменитого футболиста и тренера футбольной команды (кого из братьев Старостиных, я не знаю). Вскоре арестовали и его, и в маленькой комнате остались жить его жена и дочь. В комнате Любовь Александровны стояли хорошее пианино и старинная добротная мебель. Каждую неделю к ней приходили ее приятельницы для партии в преферанс и раскладывания пасьянсов. В другой комнате жила ее дочь с мужем и внучкой Любовь Александровны Леной. Лена, по-моему, стала впоследствии виолончелисткой, вышла замуж за музыканта, и ее двое детей играли на Патриарших прудах вместе с нашей дочкой Олей. После войны в нашей небольшой трёхкомнатной квартире жила моя бабушка Любовь Петровна, мама с папой, я и моя родная тетя Валя. В подростковом возрасте она много времени проводила во дворе нашего дома. Дворовая компания часто заходила к нам домой. От этих визитов остались большие вмятины на столовых серебряных ложках, которые использовались компанией в качестве музыкальных инструментов. До войны Валя заболела тяжелой формой туберкулёза и несколько довоенных лет провела в туберкулезных санаториях в Крыму. Во время войны закончила медицинский институт и в конце войны была мобилизована в армию. В. Москву вернулась в 1946 году. Вскоре после окончания ординатуры по рентгенологии она по распределению уехала работать рентгенологом в г. Великие Луки и прожила там до своей кончины в 2005 году. В. Великих Луках вышла замуж за актёра Великолуцкого драматического театра и родила дочку Галю. В 1955 году у нее была возможность устроиться в больницу и получить комнату в районе Лионозово, который вскоре стал одним из районов Москвы. Она была очень хорошим рентгенологом и, главное, прекрасным диагностом. Главный врач Центральной больницы в Великих Луках валялся у нее в ногах, умоляя ее остаться, и она осталась в Великих Луках и работала очень долго, даже уже и в пенсионном возрасте. Все в Великих Луках её знали, пока она работала, а потом, конечно, быстро забыли. После ухода на пенсию, вплоть до нашего отъезда в Америку в 1992 году, она жила в Москве в нашей с Лёней семье, изредка наведываясь в Великие Луки. После возвращения в Москву из эвакуации я пошла учиться в начальную школу на Малой Бронной, а с 4-ого класса училась в 124–ой женской школе, расположенной на Большой Бронной. В 2017 году, уже давно живя в Америке, впервые удосужилась прочесть необыкновенную серию книг Александра Бенуа, которая была уже много лет в нашей домашней библиотеке. Собирал библиотеку Лёня, мой муж. И я почувствовала, что в нашем детстве сохранились какие-то жалкие остатки той жизни, которую описывает в своей книге Александр Бенуа. Вернее, книга всколыхнула некоторые воспоминания детства. Я подолгу играла в нашем дворе. Не помню никаких эксцессов. Играли в казаков-разбойников, в лапту, штандер, в «замри», в прятки (раз, два, три, четыре, пять — я иду искать), в «фанты». Если ссорились, то потом в знак примирения протягивали друг другу мизинцы, приговаривая: «мирись, мирись, мирись и больше не дерись, а если будешь драться, я буду кусаться!». Как это ни смешно, вспоминается, что если мы с моим мужем ссорились или он меня обижал, то он никогда не просил прощения. В крайнем случае, протягивал мне мизинец, но чаше это делала я. Во двор часто заходили старьёвщики и унылыми голосами возвещали: «Старьё берём!». Но по-моему, никакого старья в послевоенные годы ни у кого уже не было. Ходили и мужчины с перекинутой через плечо точильной машиной и на весь двор, а иногда и в подъездах раздавалось: «Точить ножи, ножницы, бритвы править». Для них работа находилась. Наверное, работали в какой-нибудь артели. По приезде в Москву мои родители часто встречались и дружили с Марианной Петровной Шаскольской (тетей Майей), папиной двоюродной сестрой, и ее мужем Эммануилом Ильичом Адировичем (дядей Эммой). Мою маму, тоже Эмму, дома звали Мусей. Оба и тетя Майя, и дядя Эмма уже были известными физиками. В день победы мы с папой и мамой, тётей Майей и дядей Эммой ходили на Красную площадь, благо она была совсем недалеко от нашего дома, а салют в честь дня победы смотрели с Каменного моста. Я совсем сморилась, и дяде Эмме пришлось какое-то время нести меня на руках. Как сейчас помню. В компанию, которая часто собиралась у нас, входили также папин родной брат Глеб и его жена Нина. Эти первые послевоенные годы вспоминаются по этим встречам — играли в шарады, другие «интеллектуальные игры», смотрели мои кукольные представления, я еще и пела и начала играть на взятом на прокат пианино. Все почему-то терпеливо всё это слушали. Несмотря на напряженные времена, отправляли друг другу шуточные телеграммы. Вот одна из них: «Иду на ты, готовь торты, субботу, Глебы и Киты». «Киты» — это тётя Майя и дядя Эмма. Наша семья звалась «карасями». Вот еще один «шедевр» уже обмена телеграммами:«Поздравляем днем рожденья, мы прибудем в воскресенье. Срочно жарьте поросёнка. Карасиха с карасёнком».Ответная телеграмма не замедлила прибыть:
«Вы забыли, образины, что закрыты магазины. Не видать Вам поросёнка, мы зажарим карасёнка».Сейчас (2017) вдруг вспомнилась радиопередача, которой мы с мамой вместе очень увлекались несколько послевоенных лет подряд. Это «Клуб знаменитых капитанов». Я даже вспомнила сейчас все слова песни, которой открывалась каждая передача. Записала и, конечно, сразу посмотрела в интернет, а там во всех подробностях описан путь этого радиоспектакля для детей. Включали свою черную тарелку, единственную связь с внешним миром. Особенно любили под эту передачу наряжать новогоднюю ёлку. Другие передачи помню смутно, кроме необыкновенных музыкальных передач. Для тех, кто поленится посмотреть в интернет, привожу из него небольшую информацию:
«КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ КАПИТАНОВ» — цикл научно-познавательных передач для школьников. Вечером, в канун Нового 1946 года, после закрытия школьной библиотеки шесть оживших героев книг основали Клуб Знаменитых Капитанов. Это были: Тартарен (А. Доде, «Тартарен из Тараскона»), Робинзон (Д. Дефо, «Робинзон Крузо»), Гулливер (Д. Свифт, «Путешествия Гулливера»), Мюнхгаузен (Э. Распе, «Удивительные приключения барона Мюнхгаузена»), Гаттерас (Ж. Верн, «Путешествия и приключения капитана Гаттераса»), Капитан Немо (Ж. Верн, «20 тысяч лье под водой» и «Таинственный остров»). Они совершают путешествия по морям и океанам, по разным странам, рассказывают о своих приключениях, о географических открытиях, о встречах с мореплавателями, редкими птицами и животными, разбирают письма юных друзей Клуба, проводят среди радиослушателей различные конкурсы. В дальнейшем к членам Клуба присоединяются герои множества других книг: Дик Сенд (Ж. Верн, «Пятнадцатилетний капитан»), Артур Грэй (А. Грин, «Алые паруса»), капитан Григорьев (В. Каверин, «Два капитана») и другие.Передача выходила с декабря 1945 г. до начала 1980-х г.г.» Конечно, книги, герои которых участвуют в передаче, прочитаны. Так как я сама полностью уже сейчас вспомнила слова песни знаменитых капитанов, то привожу слова этой песни:
Авторы сценария — Владимир Крепс, Климентий Минц Редакторами радиопьес в разное время были — Т. Красина, А. Дитрих, Т. Седых… Режиссеры — Р. Иоффе, Н. Александрович, Т. Сапожникова и другие.
В шорохе мышином,
В скрипе половиц
Медленно и чинно
Сходим со страниц,
Шелестят кафтаны,
Чей-то меч звенит,
Все мы капитаны,
Каждый знаменит
Нет на свете далей
Нет таких морей
Где бы не видали
Наших кораблей,
Мы полны отваги,
Презираем лесть,
Обнажаем шпаги
За любовь и честь.
Сидит в Берлине бедный Дима, ему жена необходима.
Несчастный, даже в женский день он просидел один, как пень.
«Сергей Павлович не любил, когда происходила замена участников испытаний и на всякий случай подстраховывал новичков. Так, на летно-конструкторские испытания на море в 1955 году по его требованию прибыл начальник стартовой команды с ГЦП майор И. А. Золотенков. Участия его, однако, не потребовалось: Н. В. Шаскольский овладел вполне своими новыми обязанностями на испытаниях с качающегося стенда и к тому же был еще и подводником. Освоить же в оставшееся время особенности испытаний в условиях подводной лодки новому человеку быстро вряд ли бы удалось. «В следующем, 1956 году, история повторилась. Для участия в стрельбе после первого месяца транспортных испытаний С. П. Королев настоял на приезде с нового места службы Н. В. Шаскольского, на этот раз уже для того, чтобы дублировать меня. Очень деликатный по натуре человек, Николай Владимирович предупредил: «Не обращайте внимание на мое присутствие, я ни во что вмешиваться не буду». А. А. Запольский также вспоминает: «Наши жизненные пути с Н. В. Шаскольским пересекались в Высшем военно-морском инженерном училище им. Ф. Э. Дзержинского, а затем в Военно-морской академии кораблестроения и вооружения им. А. Н. Крылова, но близко знакомы мы не были. Судьба свела нас в 1955 году на морском полигоне, когда я был назначен в отдел испытаний старшим инженером-испытателем. Технически грамотный, эрудированный офицер, Николай Владимирович в совершенстве владел немецким языком, а затем освоил еще и английский. Отличался интеллигентностью, педантичностью и корректностью, но занудой не был. Никогда не повышал голоса. Без нажима умел как обязать своих подчиненных выполнить его указания, так и убедить начальство в своей правоте. Его доводы были всегда продуманы и логичны. Он умел слушать и соглашаться с дельным предложением, не настаивая на приоритете своего мнения. Был человеком высоко организованным и глубоко порядочным».Продолжая вспоминать, А. А. Запольский указывает на необходимость осуществления этого трудного дела, писания воспоминаний, потому что,
«если продолжать дальше надеяться на кого-то, то, может статься, и вспоминать будет некому. Нам, пока еще живущим, следует рассказать о событиях давних лет и этим отдать долг памяти тем самоотверженным энтузиастам, которые посвятили становлению нового флота лучшие годы своей жизни. Уверен, что ветераны способны заполнить «белые» страницы истории. Кстати, их молчание является одной из косвенных причин существования таких страниц. То ли они не хотели говорить всуе о самом, может быть, сокровенном для себя, то ли опасались показаться нескромными, упоминая о своем участии в работах, которыми руководили прославленные главные конструкторы С. П. Королев и Н. Н. Исанин. Но цену этим работам они знают».Н. В. Шаскольский — начальник стартовой команды морского полигона в 1955 году, не имея возможности из-за болезни приехать на юбилейную конференцию, в своем письме автору пишет: «Очень жаль, что не смогу приехать и повидать всех, кого помню, вспомнить нашу интенсивную, целеустремленную и, в итоге, несмотря ни на что, повидимому, полезную для отечества тогдашнюю жизнь.» После переезда в Москву Николай Владимирович женился во второй раз. В последние годы жил совсем рядом с нами около метро «Университет». Считалось, что его дочь Мария Николаевна Шаскольская была очень похожа на свою полную тёзку бабушку Марию Николаевну. В начале 80-х Николай Владимирович собрал всех Шаскольских, ленинградских и московских. По фотографиям искали сходство с предками. Николай был заядлым театралом. Наверное, наверстывал то. что не успел во време кочевой военной жизни. Скончался безвременно в начале 90-х. Еще о Марианне Петровне Шаскольской (1913–1983) — дочери Петра Борисовича Шаскольского и Надежды Владимировны Брюловой-Шаскольской, внучке фармацевта и бизнесмена Б. М. Шаскольского и правнучке архитектора и художника Александра Брюллова. Очень рано она осталась без родителей и воспитывалась в семье своей тёти В. Г. Конради, родной сестры её матери. После окончания школы работала в Ленинградском Университете уборщицей и препаратором, посещая лекции по кристаллографии. В 1934 г. переехала с кристаллографической лабораторией АН СССР в Москву. В 1936 г. подготовлена к печати ее книга «Кристаллы» в издательстве Детской литературы. Автору 23 года. Книгой многие зачитываются. В 1941 году закончила физический факультет МГУ по специальности рентгено-структурный анализ. А в 1942 году ей была присуждена степень кандидата физико-математических наук. В 1943 году получила учёное звание доцента по кафедре «Общая физика» на физико-математическом факультете МГУ. Марианна Петровна становится известным кристаллографом и кристаллофизиком. Однако в 1949 голу она была вынуждена уволиться из МГУ. Я хорошо помню это тяжелое для Марианны Петровны испытание. Она была принципиальным человеком и не научилась молчать на партийных собраниях. Своими переживаниями она делилась с моей мамой, мой папа был в ту пору в Германии и не мог ей ничего посоветовать. После короткого периода работы на кафедре физики в Московском педагогическом институте она в 1952 году поступает в Московский институт стали (в дальнейшем стали и сплавов) и в 1962 году организует в нём кафедру кристаллографии и становится ее первым заведующим, проработав там более 30 лет. С 1972 года до конца своей жизни она — профессор этой кафедры. Все выпускники института этого времени ее знали и боялись. Очень была строга и требовательна. Это я говорю не по наслышке. Как-то так случилось, что я неожиданно знакомилась с несколькими её учениками. Все они очень напрягались, когда узнавали, что Марианна Петровна — моя тётя и рассказывали, как они боялись идти сдавать ей экзамен. Её научный авторитет был очень высок, и с 1960 года она была участницей многих международных конгрессов и конференций зарубежом. И это в период «железного занавеса». Марианна Петровна — автор и переводчик большого числа научных и научно-популярных книг, популярных статей в журналах «Природа», «Наука и Жизнь», «Юный техник», «Пионер», автор лекций для детей по радио. Она также автор биографий известных ученых в серии «Жизнь замечательных людей»; наиболее известная из них «Фредерик Жолио-Кюри». В 1975 г. выходит ее монография «Основы кристаллофизики» и учебник «Кристаллография», ставший классическим. В соавторстве с И. А. Эльциным М. П. Шаскольская издает задачник «Сборник избранных задач по физике». В 1986 году, уже после ее кончины в издательстве «Наука» вышло 5-ое издание этого задачника. Эти задачи школьники решали и решают при подготовке вступительных экзаменов в технические вузы в течение десятилетий. Сейчас мне представляется, что я не могла решить ни одной задачи из этого учебника, но не помню, чтобы я расстраивалась по этому поводу. Не исключаю, что какие-то задачи мне всё-таки удавалось решать. Вспоминается, что рукописные тексты для машинистки Марианна Петровна всегда писала печатными буквами. Я попробовала так писать, у меня не получилось. Мысль улетучивалась быстрее, чем я успевала занести ее на бумагу. А вот главное событие, посвященное памяти М. П. Шаскольской, о котором она уже никогда не узнает. В 1988 году, по постановлению Юнеско, имя Марианны Петровны Шаскольской внесено в сборник «47 выдающихся женщин-физиков мира». Памяти М. П. Шаскольской были посвящены три Международные конференции по физике кристаллов: 1998, 2003 и 2006 гг. Объявление о четвертом Международном симпозиуме «Физика кристаллов 2013», посвященном 100–летней годовщине со дня рождения профессора Марианны Петровны Шаскольской, гласило, что он состоится с 28 октября по 2 ноября 2013 года в Москве в Национальном университете науки и технологии. Вера, дочь Марианны Петровны, активно участвует в подготовке материалов этого симпозиума. К началу симпозиума вышла книга «Марианна Петровна Шаскольская в кругу коллег, родных и друзей», Москва, М. СиС, 2013. Вера уговорила меня написать для этой книги свои воспоминания, которые называются «В семье Шаскольских», и сама их прекрасно отредактировала. Это был мой первый опыт публикации не научных статей. Текст этих воспоминаний частично пересекается с текстом этих моих мемуаров. Вера рассказала, что докладчикам первого заседания симпозиума не повезло, так как все присутствующие на этом заседании учёные просто уткнулись в эту книгу и из-за этого не могли внимательно слушать доклады. Нельзя не упомянуть о долголетней дружбе Марианны Петровны с Корнеем Ивановичем Чуковским. Он упоминает ее неоднократно в своих дневниках. Она часто бывала у него в Переделкине. Детские высказывания ее дочерей Веры и Майи вошли в книгу Корнея Ивановича «От двух до пяти». Муж Марианны Петровны Эммануил Ильич Адирович (1915–1973) (для меня в детстве — мой кумир и просто дядя Эмма), как я уже упоминала, тоже был известным физиком, академиком Узбекской Академии Наук. Скончался он совсем безвременно. До сих пор его труды по физике твердого тела и физике полупроводников остаются востребованными. Он один из основоположников опто- и диэлетрической электроники. Он тоже автор большого числа научно-популярных книг. Его книга «Электрический ток», увидевшая свет в 1952 году, до сих пор издается большими тиражами. Как только он появлялся в кругу своих знакомых, то сразу становился душой компании, сходу сыпал остротами, был яркой, неординарной личностью и, наверное, как и всякий талантливый человек, имел не простой характер. После войны приезжал в Москву и заходил к нам несколько раз в гости Валерий Петрович Шаскольский (1910–1948), родной брат Марианны Петровны и Тамары Петровны. Мне он очень нравился, был он добрым и приветливым человеком. Я только знала, что он живет в Средней Азии, работает геологом, имеет жену и двух дочерей Сашу и Лену. Он был старшим из детей Н. В. Брюловой-Шаскольской, уехал с ней в ссылку в Ашхабад в 1922 г. и в дальнейшем всегда был рядом с ней во все дни её тяжёлых испытаний. С 1931 по 1948 г. он был начальником геологического поискового отряда в Таджикистане. В начале 30-х его заставляли отречься от матери, но он неизменно отвечал отказом. В 1937 году он был арестован и провел в тюрьме 18 месяцев. В 1939 году был освобожден из-под стражи за отсутствием состава преступления. Умер Валерий Петрович совсем ещё молодым человеком, заболев в экспедиции дифтерией. Марианна Петровна потом всегда помогала его семье, за что они были ей очень благодарны. Одна из дочерей Валерия Петровича, Елена Разамат (Шаскольская) написала о нем и о его семье по просьбе составителей книги памяти о жертвах репрессий, и его краткая биография помещена в эту книгу, так же, как и биографии его родителей. Елена Разамат написала также книгу своих собственных воспоминаний «Разрешите объясниться», которую мне подарил её сын Эмиль, навестивший нас в Калифорнии в 2013 году. Получается, что кроме старшей дочери Валерия Петровича Саши, которая была намного моложе меня в то время, когда он скончался, теперь помню его живым только я по его редким приездам в Москву. Мне запомнилась также и лёгкость общения с ним, т. к. я была довольно застенчивой девочкой и имела трудности в общении с людьми не очень коммуникабельными. Это свойство у меня сохранялось в течение многих лет моей жизни. Правда, мне кажется, что в последние годы я постепенно это свойство утрачивала. Ленинградская родня московских Шаскольских, кроме Тамары Петровны Шаскольской и ее дочери Татьяны, состояла из потомков Павла Борисовича Шаскольского, его дочери Марины Павловны и сына Игоря Павловича и его семьи. Мои родители общались с ними, приезжая в Ленинград, или во время их визитов в Москву. И. П. Шаскольский — известный историк, специалист по истории древней и средневековой Руси и взаимоотношениям России со скандинавскими странами. Сейчас есть очень большое число сайтов в интернете, где упоминаются его труды. По их количеству он конкурирует с М. П. Шаскольской. Игорь Павлович — автор книг, которые переиздаются и в наше время. Интерес в России к собственной истории до конца не оскудел. В последний раз я встретилась с Игорем Павловичем, его женой и внучкой в академическом доме отдыха в Мозжинке под Звенигородом в 1991 году. Вместе гуляли, вспоминали моих родителей. Расстались тепло. В начале 1948 года папа уехал в длительную командировку в Германию издавать Атлас «Промысловые рыбы СССР» с описанием рыб, помещённых в Атласе, опубликованном в отдельном томе. Летом 1948 года мне сделали операцию по пересадке сухожилий на левой ноге, чтобы уменьшить последствия перенесенного в раннем детстве полиомиелита. После операции часами играли со школьными подружками на балконе в самые примитивные детские игры. Цветы на балконе были моей заботой, и я ежегодно осенью собирала семена настурций и коготков, а весной их высаживала. До сих пор вздрагиваю от вида и запаха настурций. Многие цветы и, особенно, травы в Америке, даже в Калифорнии, такие же, как в России. В парках вдоль асфальтированных дорожек — подорожники.
 Мой дедушка Григорий Иосифович Ломовский на трудовом фронте, куда он ушёл добровольцем в первые месяцы войны в возрасте 56 лет.
Мой дедушка Григорий Иосифович Ломовский на трудовом фронте, куда он ушёл добровольцем в первые месяцы войны в возрасте 56 лет.
 Копия статьи, опубликованной в газете «Правда», в которой упоминается инженер-геолог Виктор Владимирович Шаскольский, один из братьев Шаскольских, разработчик нового метода поиска полезных ископаемых. Пропал без вести в первые месяцы войны.
Копия статьи, опубликованной в газете «Правда», в которой упоминается инженер-геолог Виктор Владимирович Шаскольский, один из братьев Шаскольских, разработчик нового метода поиска полезных ископаемых. Пропал без вести в первые месяцы войны.
 Н. В. Шаскольский в чине или майора или уже подполковника
Н. В. Шаскольский в чине или майора или уже подполковника
 У нас дома на Малой Бронной в 1946-м или 47-ом году. Слева направо: М. П. Шаскольская (такая красивая и счастливая), её муж Э. И. Адирович (умница, острослов, душа компании). Чета Нины и Глеба Шаскольских, заядлых участников гонок на парусных лодках. Глеб Владимирович уже крупный инженер. Мама с папой (Эмма Григорьевна и Дмитрий Владимирович). Снимает папа, успевает подбежать ко всем присутствующим. Не знаю, где я: как видно, ещё не дозрела сниматься в такой компании.
У нас дома на Малой Бронной в 1946-м или 47-ом году. Слева направо: М. П. Шаскольская (такая красивая и счастливая), её муж Э. И. Адирович (умница, острослов, душа компании). Чета Нины и Глеба Шаскольских, заядлых участников гонок на парусных лодках. Глеб Владимирович уже крупный инженер. Мама с папой (Эмма Григорьевна и Дмитрий Владимирович). Снимает папа, успевает подбежать ко всем присутствующим. Не знаю, где я: как видно, ещё не дозрела сниматься в такой компании.
 Э. Г. Ломовская (моя, Н. Л., мама) — многолетний преподаватель кафедры гистологии Военно-ветеринарной академии (1940-е) за микроскопом.
Э. Г. Ломовская (моя, Н. Л., мама) — многолетний преподаватель кафедры гистологии Военно-ветеринарной академии (1940-е) за микроскопом.
 Мария Николаевна Шаскольская (папина мама) за пасьянсом в квартире на Мыльниковом переулке. Снимок папы, послевоенный.
Мария Николаевна Шаскольская (папина мама) за пасьянсом в квартире на Мыльниковом переулке. Снимок папы, послевоенный.
 Уезжаем с мамой и папой отдыхать на Рижское взморье, 1947 г. Снимает, конечно, папа.
Уезжаем с мамой и папой отдыхать на Рижское взморье, 1947 г. Снимает, конечно, папа.
 Отмечаем 60-летие со дня рождения Николая Владимировича Шаскольского. 1982 г.
Верхний ряд слева направо: Лёня Фонштейн, мой (Н. Л.) муж, Тамара Петровна Шаскольская, двоюродная сестра юбиляра, Ольга Григорьевна Гольцман (1-ая жена Д. В. Шаскольского), Галя Зубелевич (дальняя родственница юбиляра), 2-ой ряд: вторая слева Марианна Петровна Шаскольская (двоюродная сестра юбиляра), Игорь Павлович Шаскольский (двоюродный брат юбиляра), Эмма Григорьевна Ломовская (жена Д. В. Шаскольского), Д. В. Шаскольский (родной брат юбиляра), Глеб Владимирович Шаскольский (родной брат юбиляра).1-ый ряд слева Н. Д. Ломовская, дочь Э. Г. Ломовской (автор настоящих мемуаров), Николай Владимирович Шаскольский (юбиляр), Ольга Леонидовна Ломовская (дочь Л. М. Фонштейна и Н. Д. Ломовской), крайняя справа в первом ряду жена юбиляра.
Отмечаем 60-летие со дня рождения Николая Владимировича Шаскольского. 1982 г.
Верхний ряд слева направо: Лёня Фонштейн, мой (Н. Л.) муж, Тамара Петровна Шаскольская, двоюродная сестра юбиляра, Ольга Григорьевна Гольцман (1-ая жена Д. В. Шаскольского), Галя Зубелевич (дальняя родственница юбиляра), 2-ой ряд: вторая слева Марианна Петровна Шаскольская (двоюродная сестра юбиляра), Игорь Павлович Шаскольский (двоюродный брат юбиляра), Эмма Григорьевна Ломовская (жена Д. В. Шаскольского), Д. В. Шаскольский (родной брат юбиляра), Глеб Владимирович Шаскольский (родной брат юбиляра).1-ый ряд слева Н. Д. Ломовская, дочь Э. Г. Ломовской (автор настоящих мемуаров), Николай Владимирович Шаскольский (юбиляр), Ольга Леонидовна Ломовская (дочь Л. М. Фонштейна и Н. Д. Ломовской), крайняя справа в первом ряду жена юбиляра.
 Слева моя бабушка, Любовь Петровна Ломовская, дедушкин родной брат Саул Иосифович Ломовский (дядя Саул) и его жена тётя Ганя у нас в гостях на Малой Бронной. Снимал, конечно, папа. Послевоенная фотография.
Слева моя бабушка, Любовь Петровна Ломовская, дедушкин родной брат Саул Иосифович Ломовский (дядя Саул) и его жена тётя Ганя у нас в гостях на Малой Бронной. Снимал, конечно, папа. Послевоенная фотография.
 Моя тётя Валентина Григорьевна Ломовская с дочкой Галей, 1950-е.
Моя тётя Валентина Григорьевна Ломовская с дочкой Галей, 1950-е.
 Я, (Н. Л.) сколько себя помню, весной на нашем балконе на Малой Бронной высаживала цветочные семена ноготков и настурций, собранные с этих растений поздней осенью предыдущего года. Поливала и ухаживала за ними в течение лета. Растения были не прихотливыми и особенного ухода не требовали. Цвели себе всё лето и цвели. Настурций много и в Америке. Как потрёшь листочек, так и вспомнишь Малую Бронную. А ноготки, которые уже цветут в Калифорнии в январе, я первый раз увидела вчера, 20 января 2017 года в соседнем с нами городке Ларкспур.
Я, (Н. Л.) сколько себя помню, весной на нашем балконе на Малой Бронной высаживала цветочные семена ноготков и настурций, собранные с этих растений поздней осенью предыдущего года. Поливала и ухаживала за ними в течение лета. Растения были не прихотливыми и особенного ухода не требовали. Цвели себе всё лето и цвели. Настурций много и в Америке. Как потрёшь листочек, так и вспомнишь Малую Бронную. А ноготки, которые уже цветут в Калифорнии в январе, я первый раз увидела вчера, 20 января 2017 года в соседнем с нами городке Ларкспур.
 Владимир Борисович Шаскольский со своей племянницей Марианной Петровной Шаскольской и её маленькими дочками Верочкой и Майечкой. (Фото прислано мне Верой Шаскольской.)
Владимир Борисович Шаскольский со своей племянницей Марианной Петровной Шаскольской и её маленькими дочками Верочкой и Майечкой. (Фото прислано мне Верой Шаскольской.)
 В воскресный день на даче в Луцино под Москвой (начало 50- х). Слева направо: я (Наташа Л.), Вера (дочь Марианны Петровны), Таня (дочь Тамары Петровны), Майя (дочь Марианны Петровны), моя мама Эмма Григорьевна Ломовская и Тамара Петровна Шаскольская. Фотографирует, наверное, Марианна Петровна Шаскольская.
В воскресный день на даче в Луцино под Москвой (начало 50- х). Слева направо: я (Наташа Л.), Вера (дочь Марианны Петровны), Таня (дочь Тамары Петровны), Майя (дочь Марианны Петровны), моя мама Эмма Григорьевна Ломовская и Тамара Петровна Шаскольская. Фотографирует, наверное, Марианна Петровна Шаскольская.
 Прекрасная фотография в нашу бытность в Луцино, присланная мне (Н. Л.) Верой Шаскольской. Там М. П. Шаскольская снимала дачу и считалось, что я там пасу её дочек, Веру и Майю, и её племянницу Таню Шаскольскую. Конечно, там всегда с нами жила няня Маруся. По воскресеньям приезжала Марианна Петровна и моя мама Эмма Григорьевна и периодически жила родная сестра Марианны Петровны Тамара Петровна. Так что моя помощь на даче была скорее мифом. Думаю, что такие аккуратные косички Тане (слева от меня), Верочке и Майечке (справа) заплетала няня Маруся. Два мальчика — Никита и Борис Шарковы. Борис Юрьевич Шарков (г. р. 1950), физик, доктор физмат наук, член-корр РАН. Никита Шарков-Соллертинский (1948–2007) — выдающийся художник и реставратор.
Прекрасная фотография в нашу бытность в Луцино, присланная мне (Н. Л.) Верой Шаскольской. Там М. П. Шаскольская снимала дачу и считалось, что я там пасу её дочек, Веру и Майю, и её племянницу Таню Шаскольскую. Конечно, там всегда с нами жила няня Маруся. По воскресеньям приезжала Марианна Петровна и моя мама Эмма Григорьевна и периодически жила родная сестра Марианны Петровны Тамара Петровна. Так что моя помощь на даче была скорее мифом. Думаю, что такие аккуратные косички Тане (слева от меня), Верочке и Майечке (справа) заплетала няня Маруся. Два мальчика — Никита и Борис Шарковы. Борис Юрьевич Шарков (г. р. 1950), физик, доктор физмат наук, член-корр РАН. Никита Шарков-Соллертинский (1948–2007) — выдающийся художник и реставратор.
 Борис Владимирович Шаскольский (1907–1977)
Борис Владимирович Шаскольский (1907–1977)
Глава 5 Жизнь продолжается
Как только папа уехал в Германию, у нас в доме появился котенок, которого подобрали на лестнице. Но в тот же день как папа вернулся, он выбросил котенка за дверь, т. к. совершенно не выносил запаха кошек. Я была убита. Но зато он почти все заработанные в Германии деньги потратил на покупку великолепного коричневого концертного рояля «Bluthner», который занял большую часть их комнаты. Я играла на нём вплоть до окончания 7-милетней музыкальной школы, а потом еще два года занималась с учительницей из института Гнесиных, прекрасным музыкантом. Какое-то время аккомпанировала себе по нотам романсы, а впоследствии себе и Лёне, моему мужу. На этом моя музыкальная карьера закончилась. После переезда с Малой Бронной на новую квартиру на Филях по обмену в 1963 г. рояль продали. Его купила в комиссионном магазине Александра Пахмутова, выдающийся советский композитор, так что рояль оказался в более чем достойных руках. А я в течение почти полувека больше не прикасалась к инструменту. Одной из причин было то, что в период моего обучения музыке совсем не принято было учить подбирать аккомпанемент по слуху, а сама я этому не научилась. Вообще мое музыкальное образование было достаточно формальным. Я играла хорошо и довольно сложные вещи. Но ленилась учить наизусть. Это сильно ограничивало мои возможности. Я дружила с двумя музыкантами-скрипачами из музыкальной школы, Сашей Рубиным и Сашей Кисельманом. Так вот, они были настоящими музыкантами, мгновенно называли имя композиторов и названия произведений, исполняемых тогда в большом числе по радио. Они в старших классах приходили к нам домой, когда мы собирались у нас и танцевали фокстроты и танго под патефон. Мне нравился Саша Рубин, а я нравилась Саше Кисельману. Потом я встретила уже совсем взрослого Сашу Рубина в метро с высокой, модно одетой красивой девушкой. Он меня не узнал или сделал вид, что не узнал. Да, вот к чему у меня, по-видимому, был настоящий талант, так это к декламации стихов и прозы. Однажды, когда я читала «Жди меня» К. Симонова, в классе многие плакали. Но и этот талант быстро испарился из-за моего нежелания или неумения учить стихи или прозу наизусть. А вообще-то я объясняла это плохой памятью, а можно было бы её и потренировать. Большинство наших девочек росло без отцов. Валя Вязнер и ее родная сестра воспитывались в разных семьях родственников, т. к. родители были репрессированы. Об этом я узнала много позже. Между прочим, я была почти единственной девочкой в классе, которая жила в отдельной квартире, а не в коммуналке. Все годы, с 1-го по 10-й класс в нашем классе училась Татьяна Самойлова, дочь Евгения Самойлова, имя которого гремело на всю страну. Впоследствии и она стала кинозвездой после того, как сыграла главную роль в фильме «Летят журавли», облетевшем не только нашу страну, но и весь мир. Родители Тани, она и ее младший брат жили в коммунальной или очень маленькой отдельной квартире, и я пару раз бывала у них в доме. Потом, когда мы уже кончали школу, ее отец получил хорошую отдельную квартиру на Песчаных улицах в районе Сокола, и мы ездили ее смотреть. Еще мы однажды почти всем классом поехали в дом на Набережной навестить нашу прихворнувшую учительницу английского языка — голливудскую красавицу Нину Ивановну. Она вышла замуж за П. П. Ширшова, знаменитого полярника, участника экспедиций на Северный полюс. Жили они в большой 5-тикомнатной квартире. Потом нас всех посадили в вызванный по этому случаю ЗИС, который отвез нас обратно в школу. От школьных уроков английского осталось только умение правильно произносить буквосочетание th («ти», «эйч») и способность к быстрому усвоению навыков чтения научных текстов на английском. О том, чтобы когда-то появилась необходимость в разговорной речи, и не помышлялось. О чем я очень жалею, так это о том, что меня частным образом не учили языкам, а школ с обучением на английском, немецком и французском тогда еще не было. А как бы это пригодилось в дальнейшей жизни! Элла Лаврецкая, Лёнина многолетняя коллега и наш близкий друг, рассказывала, что когда ее не приняли в институт после школы, она целый год (почти наверняка 1953) училась на курсах английского языка, и это в те далекие времена заложило хорошую основу для ее теперешнего владения языком. Дочки тети Майи, Вера и Майя, которые росли уже немножко в другие времена, имели частных учителей по английскому и французскому языкам. Младшая Майя потом учила и японский. Обе закончили физико-математический факультет МГУ. Вере французский пригодился, когда она познакомилась со своим будущим мужем — французским физиком. Мне всегда очень мешало отсутствие минимальных знаний разговорного английского и не было времени и способностей этим вплотную заниматься в Москве, не имея заложенной в детстве основы. Только научную литературу я читала по-английски совершенно свободно. Познакомившись впервые в 1973 году со своим знаменитым английским коллегой Дэвидом Хопвудом мы с ним дискутировали в очной беседе, переписываясь. Когда я познакомилась с Лёней, моим будущим мужем, уже, по-существу, кончая Московский университет, оказалось, что он знал многих девочек из моего класса через своего двоюродного брата Эдика Гойзмана, с которым тесно общался в школьные и все последующие годы. В компанию моих одноклассниц, которые уже начали посматривать на мальчиков, входила и Таня Самойлова, и Лёня даже пару раз ходил с ней в кино. Светлана Полякова — дочь родителей-музыкантов и сама занимающаяся музыкой профессионально, дружила с Эдиком. Отец Эдика и Лёнин дядя, Исаак Львович Гойзман, был выдающимся скрипачом, и всю жизнь играл в Большом симфоническом оркестре Всесоюзного радио (сейчас Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского). В эту компанию моих одноклассниц также входили Оксана Бендер и Наташа Пронина. Светлана Полякова и Оксана Бендер всю последующую жизнь остались близкими друзьями семьи Эдика Гойзмана. Со Светланой Поляковой сидела за одной партой Наташа Гуреева, ставшая впоследствии женой солиста Большого театра А. Ф. Ведерникова. Наталия Николаевна Гуреева — пианистка, органистка, профессор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств России. Вся компания иногда собиралась на последних партах и обменивалась впечатлениями, в частности, я думаю, и о моем будущем муже. Молодые люди уже были студентами московских вузов. Учились мы в мрачные годы советской истории. В классе было много евреек. Но я совершенно не помню никаких проявлений антисемитизма в нашей школе. Правда, память — штука коварная. Моя бабушка всю свою последующую жизнь помнила еврейские погромы на Украине до революции и рассказывала как писатель В. Г. Короленко на ее глазах предотвратил еврейский погром в Полтаве. Бабушка с дедушкой еще до войны часто ходили в Еврейский театр на Малой Бронной, благо до театра было рукой подать, и я помню ее восхищенные рассказы о знаменитых актерах этого театра С. М. Михоэлсе и В. Л. Зускине. Бабушка в старые времена была большой поклонницей знаменитого тенора Л. В. Собинова. До революции увлекалась операми Р. Вагнера. В мое школьное время были ярые поклонницы двух теноров Большого театра И. С. Козловского или С. Я. Лемешева. Я не принадлежала к числу ни тех, ни других, хотя мне нравились голоса обоих этих певцов. Как-то на юге видели И. С. Козловского с женой. Говорили, что он пел там в местной церкви. Лёня рассказывал, что в годы его учебы в Тимирязевской академии И. С. Козловский давал шефские концерты для студентов Тимирязевки в Большом или Малом зале Московской консерватории. В конце концерта на бис он отпускал аккомпаниатора, брал в руки гитару и до поздней ночи пел старинные русские романсы, что тогда не очень-то и поощрялось. Молодая публика была в полном восторге. В школьные годы я часто ходила в театры: Художественный, Малый, Большой, на концерты по абонементам в Большой и Малый Залы Консерватории. Благо все было рядом и ещё можно было свободно достать (купить) билеты. Училась я хорошо, но времени не хватало из-за дополнительной нагрузки в музыкальной школе. Не помню, чтобы моя мама когда-то приходила в школу, наверное, посещала, но крайне редко, родительские собрания. Один раз за все время учебы сделала мне серьезное внушение за низкие оценки, и я быстренько их исправила. Я в эти годы совершенно не интересовалась биологией за пределами школьного курса, и, насколько я помню, не читала биологических книг, имеющихся в изобилии в нашей домашней библиотеке. Читала только художественную литературу, да и то только ту, которая была у нас дома. Мама подкупала все, что было необходимо для школьного курса. Любила читать юбилейное полное собрание сочинений А. С. Пушкина, изданное в 1937 г. С 4–го класса я училась в женской школе № 124, которую окончила в 1953 году. Весь 4-ый класс у нас ещё была одна пожилая учительница по всем предметам Анна Герасимовна. Все эти годы Соня Иоффе, Оля Кравец, Валя Вязнер, Светлана Зарх и Нора Ляховецкая были моими подружками. Сонечка, Валя и Светлана учились средне, а Оля и Нора хорошо. Сидела я все свои школьные годы годы за одной партой с Марой Степанянц, тоже, как и я, хорошей ученицей. Правда, после школы я с ней ни разу не встречалась. Сегодня (1 марта 2017 года) глянула в интернет и обнаружила, каким же известным учёным стала Мариэтта Степанянц. Не могу не привести её послужной список: «Степанянц Мариэтта Тиграновна. Руководитель Центра Восточных философий Института философии Российской Академии Наук. В 1974 г. защитила докторскую диссертацию на тему: «Мусульманская философская и общественно-политическая мысль XIX–XX вв.» Начиная с 70-х годов книги и статьи М. Т. Степанянц переводятся на многие иностранные языки и публикуются в Индии, Пакистане, США, Великобритании, Канаде, Германии, Ливане, Южной Корее, Монголии, Чехословакии и др. Участник и организатор многочисленных международных форумов и конференций. Президент VII и VIII конференций философов Востока и Запада (1995, 2000 — Гонолулу). Действительный член Российской Академии гуманитарных исследований, член Исполкома Международного общества по изучению индийской философии, член редколлегий ряда зарубежных научных периодических изданий, включая американский журнал Philosophy East & West и индийский Social Sciences Research Journal.» Вот это да! С пятого класса у нас уже были разные учителя по разным предметам. Классным руководителем все эти годы был наш математик Федор Иванович Мусатов. Нам он казался очень пожилым. Он был строг, многие теоремы предлагал «повесить в рамку и под стекло». Я очень старалась быть по математике хорошей ученицей, но мне она давалась с трудом, также как и физика. Курс биологии мне нравился, наверное, я все-таки что-то читала сверх программы, судя по моим ответам на уроках, но я этого не помню. Я думаю, что наша учительница по биологии Ольга Феодосьевна и домашняя обстановка все-таки привили мне вкус к биологии. Я ходила у неё в любимчиках. Недавно (уже в 2016 году) Сонечка Иоффе по телефону напомнила мне, что Ольга Феодосьевна на одном из уроков конспективно рассказала в классе, как рождаются дети. Все девочки сидели, не поднимая глаз. А она сказала: «дурочки, кто же Вам ещё об этом расскажет, не родители же». Наш очень строгий физик Борис Васильевич однажды построил весь наш класс в линеечку, и вдруг все стали раскачиваться одновременно из стороны в сторону и не могли остановиться. Всех родителей вызвал, а Тане Самойловой, кроме того, записал замечание в дневник. Учительницей по литературе была Татьяна Ивановна, молодая и очень красивая женщина. Её уроки нам нравились, но, представляется, что она ни на шаг не отходила от утверждённой школьной программы. Да, забыла упомянуть. В нашем классе училась Наташа Кирпичникова, дочь от первого брака Валентина Сергеевича Кирпичникова, выдающегося генетика. Он был коллегой папы и в кольцовском институте, и во ВНИИ прудового рыбного хозяйства. Так вот, его первая жена, преподавательница английского языка, жила с матерью и двумя дочерьми (обе сильно болели, особенно младшая, Елена) в полной бедности в полуподвальном помещении около Палашевского рынка. Семья была очень интеллигентная, помню много старинных фотографий. Наташина мама говорила мне, что мыслит по-английски. Мне тогда представлялось, что их отец им не помогал. Может быть, я ошибалась. Я встречала Валентина Сергеевича. на рыбхозах, где жила вместе с папой, а потом на научных конференциях и съездах. Еще в кольцовском институте в составе эволюционной лаборатории В. С. Кирпичников возглавил одно из направлений лаборатории — изучение экологической и генетической структуры низших таксономических групп сазана, выполняемое совместно с К. А. Головинской. Как и В. П. Эфроимсон, Валентин Сергеевич внес большой вклад в бескомпромиссную борьбу с лысенкоизмом. Герой Социалистического Труда. Звание присвоено 16 октября 1990 года за особый вклад в сохранение и развитие генетики и селекции, подготовку высококвалифицированных научных кадров. Привожу текст этого указа:В 1993 году была основана премия имени В. С. Кирпичникова «За выдающиеся работы в области эволюционной генетики». Я очень плохо помню события в школе и не переставала удивляться, сколько разных эпизодов школьной жизни рассказывали мои однокласницы на встречах уже после окончания школы. События последующих лет как-то вытеснили из памяти мои школьные впечатления. Когда кончали школу, то договорились встречаться ежегодно, 5 декабря тогда еще в день Сталинской Конституции. Этот один день в году я старалась не пропускать никогда. И в этом декабре 2011 г., когда я пишу эти строки, собрались в 58-ой раз. Созвонились по этому поводу с Сонечкой Иоффе, которая уехала в Америку немного раньше нас, и все наши девочки, включая меня, этому тогда очень огорчались. Когда мы почти после 20-тилетнего отсутствия в 2010-м году приехали в Москву из Америки и я позвонила Оле Кравец, она сразу меня узнала. Все, кто смог, мои школьные подружки приехали к ней повидаться со мной, несмотря на сильную жару летом 2010 г. Они встречаются и в течение года и, как могут, помогают друг другу. Вот и в этом, уже 2016 году встретились в декабре 8! девочек! из нашего класса в 63-й раз! Вспоминая Малую Бронную тех лет, нельзя не сказать, что, насколько я знаю, трамвай по ней никогда не ходил, вопреки очень правдоподобному описанию у Булгакова. Памятник И. А. Крылову на Патриарших поставили уже, наверное, в 80-е годы. Справа и слева от нашего дома были две булочные, и мы всегда знали, в какую из них надо итти за свежим хлебом. Почти на углу Малой Бронной и Садовой, в новом генеральском доме был очень хороший продовольственный магазин, в него ходили часто, особенно в летнее время, ввиду отсутствия домашних холодильников. Вспоминается также вкус сырковой массы, которая продавалась в берестяных коробочках в Смоленском гастрономе, вафли трех размеров с мороженым между ними. На улицах продавались кустарно сделанные сладкие петушки на палочках, и дети их сосали с упоением. Еще играли маленькими блестящими шариками, набитыми бумагой, которые подпрыгивали на привязанной к ним резинке. Сегодня (14 декабря 2011) ездили в библиотеку в городок Лос-Алтос, уже живя в Калифорнии. Проходя мимо местного краеведческого музея, увидели в небольшом парке, прилегающем к музею, маленькую старую водокачку 30–х годов, и я вспомнила, что до войны у меня была игрушка, работавшая на том же принципе. Вода перекачивалась из маленького резервуара, когда вверх и вниз двигали ручку, и стекала тоненькой струйкой из длинного носика. Еще вчера среди мелочей в магазине увидела маленькие металлические ведерки для игры в песок. У меня в детстве были такие же. Потом встретила двух близнецов-китайцев, которые шли с такими же ведерками. Некоторые товары в разных концах света продаются почти столетиями. Почему сейчас металлические… Вспоминается, что в те далекие школьные годы я очень любила ходить зимой в валенках и всегда ждала зимой сильных морозов, чтобы пойти в них в школу вместо ботинок со шнурками. Галош я не любила, помню их клали в специально сшитые мешки и оставляли в школе на вешалке. Потом мне подшили валенки войлочной подошвой с резиновым непромокаемым покрытием. В таких валенках можно было ходить даже по мокрым тротуарам во время оттепелей. Как же много в Москве было сапожных мастерских, где по многу раз чинили старую обувь. Конечно, зимой всегда мечтали, чтобы мороз был ниже 25 °C, и тогда занятия отменялись, к всеобщему восторгу, даже в старших классах, и можно было целый день гулять во дворе. Вся наша семья очень любила Малую Бронную и Патриаршие пруды. Весной всегда наслаждались запахом цветущих старых лип. Особенно ароматными были липы, растущие на аллее бульвара вдоль Малой Бронной. Зимой, когда пруд замерзал, его оборудовали под каток и после войны построили помпезную раздевалку. Она и сейчас там стоит. Мы с подружками из класса часто ходили на каток. У всех были гаги и только Валя Вязнер щеголяла в норвегах и каталась лучше всех. Я каталась совсем неважно. На катке всегда играла музыка, и вечером каток закрывали под песню, которую исполнял Леонид Утесов со своей дочерья Эдит: «Дорогие москвичи, доброй ночи, доброй Вам ночи, вспоминайте нас». В самом центре Москвы это было спокойное место для прогулок мам с колясками и всех детей, живших в окружающих Патриаршие пруды домах. Наша маленькая дочка Оля с няней, а по выходным со мной, проводила там несколько часов в день, начала ходить, когда ей еще и года не было. Лёня, её папа, гулять с ней стеснялся из-за её хулиганского поведения. Уехали мы с Малой Бронной в 1964 году и с тех пор уже редко туда попадали. Каждый раз она менялась. Становилась чужой и какой-то официальной. Массивный памятник И. А. Крылову не придавал никакого уюта детской площадке. Я уже не говорю о том впечатлении, когда мы увидели Малую Бронную, как совсем незнакомую улицу и Патриаршие пруды в последний наш приезд в Москву в 2010 году. Но наш любимый старый, такой уже чужой дом стоял на прежнем месте, как неприступная крепость. Хочу еще немного описать наш быт и обстановку в квартире на Малой Бронной. В большой комнате с балконом стояла старая кровать с двумя металлическими спинками отнюдь не двуспальная, но и не очень узкая. Рядом с кроватью стоял шкаф для одежды, и в нём помещалась одежда и все другие принадлежности моих родителей. Правда, на лето шерстяные вещи, пересыпанные нафталином, клали в большой сундук в коридоре. После войны купили широкую чешскую софу, которая еще и раскладывалась. Над ней висел гобелен с изображением охоты на оленей. Половину комнаты занимал рояль. Посредине стоял большой обеденный стол, а рядом с кроватью буфет. В нижнем его отделении размещалась столовая посуда, а наверху чайная и совсем немного рюмок. Серебряные стопочки исчезали по мере ухода очередной няни нашей дочки. Верхняя часть буфета была застеклена бутылочного цвета непрозрачным красивым стеклом. На одной из стен большой комнаты разместились стеллажи с книгами, научными и художественными. Последние стеллажи смастерил столяр Алексей, который столярничал и в других наших будущих квартирах. Он быстро и хорошо все делал, но не любил доделывать, ему было скучно, особенно если ему уже заплатили значительную часть денег, которые он быстро спускал известно на что. Рядом со стеллажами стоял большой папин письменный стол с набитыми до отказа ящиками. Все бумаги, письма, открытки, диапозитивы, фотографии никогда не выбрасывались и оседали или в этом столе или в одном из ящиков буфета, благодаря чему и сейчас я имею немногочисленные свидетельства тех далеких времен. При переезде с Малой Бронной папа очень долго не мог собрать свои бумаги, и при следующих переездах мы просто перевозили целиком полные бумаг ящики его письменного стола, не разбирая их содержимое. Старые вещи тоже, как правило, не выбрасывались и хранились в большом стенном шкафу в коридоре. Леня тайком из него выбросил при переезде много старья и одну большую старую статуэтку, и потом ему это долго не могли простить. Софа-диван перекочевывала во все последующие московские квартиры, такая она была удобная. Буфет остался в последней маминой с папой квартире, которую мы продали, уезжая в Америку в 1992 году. Девушке, которая ее купила, буфет очень нравился, и она обещала его не выбрасывать. В квартире на Малой Бронной всегда была газовая плита, даже во времена, когда в большинстве старых московских домов готовили на керосинках и примусах. В ванной была газовая колонка с горячей водой. В последние годы из ванной по всему длинному коридору протянули трубы в кухню, чтобы мыть посуду горячей водой из газовой колонки. В 1950-е годы в квартире появился маленький холодильник «Саратов». Его сменил холодильник «ЗИЛ» в 60-х годах, его нам по-знакомству достала Лёнина тетя Рива, которая работала в газетном киоске. Купить просто в магазине не могли. В 80-е годы, когда мы уже жили на нашей последней в Москве квартире, новый холодильник купили по талону, который выдали Лёниному отцу (отчиму), как ветерану войны, а старый продолжал честно служить все эти годы уже в коридоре нашей квартиры до нашего отъезда. Многие послевоенные годы в квартире на Малой Бронной всё белье, включая постельное, стирали руками, кипятили на плите и развешивали сушить в коридоре. Позже появились прачечные для стирки белья, и нашивание меток на каждую вещь занимало много времени. Особым событием было заклеивание окон на зиму. Срезались белые узкие поля из газет и смазывались сваренным на плите клеем. Щели в оконных рамах сначала закладывали ватой, а сверху заклеивали бумагой. Между двумя рамами прокладывали вату, которая в конце зимы была черной от копоти. Все-таки мы жили в центре Москвы и недалеко от Садовой, по которой ходили грузовики. Центральное отопление, насколько я помню, всегда работало хорошо, и во всех квартирах, в которых мы жили в Москве, всегда было тепло, даже в самые суровые зимы. Я помню, как были довольны мои коллеги-англичане, которые приехали в Москву в 1991 году и жили в Олиной квартире, когда она уже уехала в Америку. Не надо было самим заботиться об отоплении, как это бывает в собственных домах в Англии. В квартире всегда было тепло и уютно. Еще до нашего отъезда с Малой Бронной в 1963 г. она стала меняться до неузнаваемости. По обеим сторонам нашего дома снесли малоэтажные дома, и наш дом оказался между двумя, построенными очень быстро,особняками, куда вселились самые ответственные работники ЦК нашей партии. Говорили, что каждая квартира в них занимала целый этаж. Когда мы еще жили в Москве, Малая Бронная уже так изменилась, что когда я на ней случайно оказывалась сердце не щемило от воспоминаний. Как я уже упоминала, в последний раз мы были на Малой Бронной в наш приезд в Москву летом 2010-го года. Конечно, ни в подъезд, ни во двор зайти не удалось. Остались величественные старые липы, с которыми мы и попрощались, старый пруд и булочная на углу Садовой и Малой Бронной. Нашу школу закрыли, еще когда мы жили в Москве. Еще два осколка воспоминаний тех лет. Я любила петь русские народные песни на два голоса, но не помню с кем. Конечно, пели и военные и довоенные песни. Все они прочно застряли в памяти. Помню, как после 9-го класса отдыхали втроем с мамой и папой в деревне на Московском море. Вечерами хозяйка, у которой мы снимали комнату, запевала песни, а мы подпевали. Она знала их великое множество. И потом я жалела, что не записала все куплеты целой баллады «Хазбулат удалой, бедна сакля твоя». А теперь открываешь интернет, и слова этой песни, и её история у тебя как на ладони. Почему-то первый раз за всю жизнь, прочтя эту фразу моих воспоминаний уже в 2016 году, я догадалась это сделать! Когда родилась наша дочка Олечка, мы много лет подряд снимали дачи под Москвой. Сборы на дачу были сложными. Вся квартира переворачивалась вверх дном. Часть мебели увозили на дачу. Однажды мы всей семьей поехали к бабушкиному двоюродному брату. Почему-то были тоже большие сборы, и Олечка в ажиотаже спросила: «И холодильник берем?» Наверное, летом 1947 г. мы с папой и мамой отдыхали в Юрмале под Ригой. Латвия была в то время совсем другая. Проезжая по ее территории на поезде, поразились, видя поля, поделенные на маленькие квадратики разного цвета. Это контрастировало с бескрайними колхозными полями во всех других частях Советского Союза. Латышей еще не загнали в колхозы и урожай или его часть принадлежал тому, кто обрабатывал эти небольший участки земли. Помню прекрасную природу, узкую полосу леса между морем и рекой, женщин, прогуливающихся по пляжу в красивых длинных распахнутых халатах, концерт Вертинского. Еще о 1950-х. Помню, как иногда во время прогулок кто-то из девочек рассказывал анекдот сомнительного для тех времен содержания, и мы все оглядывались, нет ли по близости посторонних. Боялись, но все равно рассказывали. Помню, что в начале 50-х, сидя в туалете, (вместо отсутствующей туалетной использовали в те годы газетную бумагу) подсчитывала, сколько раз на газетной странице упоминается имя Сталина. Это было уже слишком даже для такой непосвященной в советскую реальность девочки, хотя разговоров об этом дома я не помню. Все последние постановления партии при жизни Сталина тоже уже воспринимались с трудом, так же, как и его последние статьи по вопросам языкознания и другие. Но культ продолжался. Родители если и говорили между собой о положении в стране, старались не посвящать в это детей, и мои родители не были исключением. Но вот уже все были уверены и об этом говорилось, что знаменитый на всю страну выдающийся артист и общественный деятель Соломон Михоэлс погиб не в случайной автокатастрофе, а был специально сбит грузовиком. А уж когда начался этот ужасный инцидент с «делом врачей» все были в полном ужасе от их ареста и от возможных последствий этого события. Мы, дети, подсчитывали число еврейских фамилий, которых было подавляющее большинство, среди арестованных врачей. Газеты нагнетали ситуацию, описывая начавшуюся истерию в поликлиниках, связанную с отказом многих больных лечиться у врачей-евреев. И это продолжалось до самой смерти Сталина. Сталин умер, когда мы кончали 10-й класс. Не помню, чтобы наши учителя плакали. Буквально в тот же день после объявления о начале процедуры прощания всем классом пошли на похороны. Еще по многочисленным воспоминаниям, описаниям, кинофильмам в памяти были всенародные похороны Ленина. Пришли на Трубную площадь, которую по радио объявили как начало маршрута. Страшная давка началась почти сразу же, и все мы потеряли друг друга. По пути следования, чтобы выбраться из толпы, люди взбирались на витрины магазинов, фонари. Деревья Бульварного кольца были увешаны калошами. Мне удалось добраться до Пушкинской площади да и то только потому, что выбраться из толпы не было никакой возможности. И тут я окончательно почувствовала, что меня сейчас просто раздавят, — так я была сжата окружающими людьми. Как я смогла выбраться из толпы, я не помню. Может быть, кто-то более крепкий и помог маленькой девушке. Никто из нашего класса не попал на похороны, но, к счастью, никто и не пострадал. Когда я пришла домой, там уже присутствовал почти весь наш класс. Все девочки были почти в истерическом состоянии, смеялись и плакали. Пришла мама. Я этих слов не помню, но Соня Иоффе, уже в Америке, рассказала, что моя мама ее спросила: «Ну что же вы так убиваетесь?» Ещё, конечно в этот первый день похорон никто из нашего окружения не представлял, какими человеческими жертвами обернётся это событие. Я с тех пор много лет совсем не могла находиться в толпе, например, в метро при подъёме наверх по эскалатору и всегда выжидала, когда она схлынет. Здесь не могу не упомянуть о долголетней дружбе с сыном брата моего дедушки Михаила Ярославом (Славой) Ломовским. Он появился у нас в доме через несколько лет после войны. Его мобилизовали в армию в последний военный год и надолго продлили срок службы. Вернувшись из армии, он в 1953 году поступил в институт стали и сплавов в Москве и стал у нас постоянным гостем. Слава еще задолго до доклада Хрущева о культе личности Сталина у нас на балконе на Малой Бронной (считалось, что в тайне от родителей) рассказал мне правду о Сталине, о репрессиях. Все годы в армии он прослужил на Дальнем Востоке и был тому свидетелем. После окончания института он по распределению поехал работать на атомные заводы на Урале (последними, кажется, был «Маяк» и закрытый город Челябинск–40). Конечно, сильно облучился, страдал диабетом. Каждый год по пути в южный санаторий заезжал к нам погостить почти до нашего отъезда в Америку. У него была приемная дочь Марина от первого брака его жены и родная дочь Соня, которую мы так никогда и не увидели. Он собирал библиотеку (несколько тысяч томов) и в последнюю с ним встречу мы подарили ему 8 томов арабских сказок («Тысяча и одна ночь»). Вернувшись домой из отпуска, он вскоре скончался от инфаркта в возрасте всего 60 лет. Ни дня без строчки! Сейчас (15 декабря 2011 г.) вернулась из кинотеатра, прослушав прямую трансляцию из Метрополитен опера оперы Ф. Гласса, посвященной Ганди и его философским воззрениям, параллельно предаваясь воспоминаниям. После смерти Сталина все внимательно вчитывались в публикуемые в центральной прессе статьи Л. П. Берии, Г. М. Маленкова и других сталинских соратников, гадая, кто же будет его преемником. Летний отпуск провели с мамой на Азовском море под Мелитополем. В. Мелитополе жила мамина подруга по университету и работе в Хабаровске Лёля Мукосеева. Она познакомилась со своим будущим мужем в поезде по пути в Хабаровск. У них родилось трое детей. Этого чисто русского парня, её мужа, звали Давид. После войны он работал в органах и имел большой отдельный дом в Мелитополе. В 1953 году он внезапно умер от инфаркта, и семья вскоре переехала в городскую квартиру. Я запомнила, как наша хозяйка в приморской деревушке на Азовскомморе однажды обмолвилась «за портхвели дерутся», имея в виду нашу партийную верхушку. У нас еще долго хранились газеты с их выступлениями после смерти Сталина. Отец Феликса Янишевского, Лёниного близкого друга, Викентий Францевич собирал вырезки из газет, начиная с 30-х годов. Даже эти, казалось бы, совершенно официальные материалы хранить в доме было не безопасно, и большинство людей этого не делали. При обыске их могли обвинить в предвзятом отборе материалов. Помню, что бывая у Феликса уже в 1960–х, мы рассматривали эту уникальную коллекцию документов эпохи. Потом встретили известие об аресте и расстреле Л. П. Берии. Уже тогда ходили слухи, что руки у него в крови, но что он английский шпион, уже никто не верил. Несколько человек из нашего класса учились очень хорошо, и некоторые родители постоянно ходили в школу. Для меня всегда остается загадкой, как я, единственная из класса, получила золотую медаль. Так сложилось. Марианна Петровна Шаскольская (моя тётя, кто забыл) горячо агитировала меня поступать на физфак МГУ, но я не чувствовала себя способной к физике и вообще до конца школы не ощущала в себе никакого призвания. Пошла по линии наименьшего сопротивления на биофак МГУ, где в то время работала моя мама. Поступила без экзаменов на биологический факультет МГУ. На вопросы на собеседовании, по словам беседующего со мной преподавателя из лысенковской когорты, отвечала вяло и сбивчиво, но все-таки меня приняли. На мой выбор учиться на биологическом факультете и потом на кафедре микробиологии повлияла также прочитанная и любимая книга «Охотники за микробами» Поля де Крюи. Самым значительным для меня в ней героем был и остаётся Луи Пастер. Потом в 1956 году грянул закрытый доклад Н. С. Хрущева. На биофаке его зачитывали не только на закрытых партийных собраниях, но и студентам при закрытых наглухо окнах и дверях. Я своими ушами слышала этот доклад. Вся страна в мгновение ока узнала о развенчании культа личности Сталина. Мне уже тогда представлялось, что это событие разделило историю Советского государства на две части — до и после этого доклада. Вера в советских руководителей и их политику мгновенно испарилась навсегда. С этого момента государство жило по инерции. Гайки, временно ослабленные в период очень короткой оттепели, снова закручивались в последующие десятилетия, заставляя большинство людей жить по правилам, навязанным властью. Но в нашем окружении никогда не высказывались предположения, что громадная империя может рухнуть в одночасье. Не находила я таких предположений и в самиздате.УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА УЧЕНЫМ, ВНЕСШИМ ОСОБЫЙ ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ
За особый вклад в сохранение и развитие генетики и селекции, подготовку высококвалифицированных научных кадров присвоить звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали “Серп и Молот”: Гершензону Сергею Михайловичу — академику Академии наук Украинской ССР. Дубинину Николаю Петровичу — академику Академии наук СССР. Кирпичникову Валентину Сергеевичу — научному консультанту Института цитологии Академии наук СССР. Рапопорту Иосифу Абрамовичу — члену-корреспонденту Академии наук СССР. Полянскому Юрию (Георгию) Ивановичу — члену-корреспонденту Академии наук СССР. Струнникову Владимиру Александровичу — академику Академии наук СССР. Тахтаджяну Армену Леоновичу — академику Академии наук СССР.
 Это мой класс всегда под буквой «А», думаю, что 8-й, или 9-й, годы 1951 или 1952. Конечно, фамилии всех не помню. 1-ый ряд слева направо: Нина Крыцина, очень хорошая ученица, Нина Ивановна, преподавательница английского языка, Фёдор Иванович Мусатов — наш классный руководитель с пятого по десятый класс, преподаватель математики; директор нашей школы (её имени и отчества вспомнить не могу), Ольга Феодосьевна, преподаватель биологии. Второй ряд тоже слева направо: 2-ая Светлана Зарх, Мара Степанянц, Алла Кобякова, Надя Волосатова, Галя Перова, Соня Иоффе, Нора Ляховецкая, я, Наташа Ломовская. 3-й ряд: Оля Кравец, Лысенко, Руфа Кутакова (5-я слева) за ней Валя Вязнер, Таня Грейбус, 2-ая справа Аля Кравцова, крайняя справа в третьем ряду Наташа Кирпичникова. Верхний ряд слева направо: Оксана Бендер (красотка), Наташа Пронина, Светлана Хотинская, Седова, Наташа Гуреева, Лида Криницына, Галя Лаврухина, Милославская, Мара Шац (предпоследняя в этом верхнем ряду), и, наконец, Татьяна Самойлова, наша главная знаменитость. Насчитала тринадцать улыбающихся лиц (в том числе и моё, Н. Л.) из 31-ой ученицы. В общем, наверное, процент неплохой по тем временам.
Это мой класс всегда под буквой «А», думаю, что 8-й, или 9-й, годы 1951 или 1952. Конечно, фамилии всех не помню. 1-ый ряд слева направо: Нина Крыцина, очень хорошая ученица, Нина Ивановна, преподавательница английского языка, Фёдор Иванович Мусатов — наш классный руководитель с пятого по десятый класс, преподаватель математики; директор нашей школы (её имени и отчества вспомнить не могу), Ольга Феодосьевна, преподаватель биологии. Второй ряд тоже слева направо: 2-ая Светлана Зарх, Мара Степанянц, Алла Кобякова, Надя Волосатова, Галя Перова, Соня Иоффе, Нора Ляховецкая, я, Наташа Ломовская. 3-й ряд: Оля Кравец, Лысенко, Руфа Кутакова (5-я слева) за ней Валя Вязнер, Таня Грейбус, 2-ая справа Аля Кравцова, крайняя справа в третьем ряду Наташа Кирпичникова. Верхний ряд слева направо: Оксана Бендер (красотка), Наташа Пронина, Светлана Хотинская, Седова, Наташа Гуреева, Лида Криницына, Галя Лаврухина, Милославская, Мара Шац (предпоследняя в этом верхнем ряду), и, наконец, Татьяна Самойлова, наша главная знаменитость. Насчитала тринадцать улыбающихся лиц (в том числе и моё, Н. Л.) из 31-ой ученицы. В общем, наверное, процент неплохой по тем временам.
 Фотографирует, как всегда, у нас дома мой папа Д. В. Шаскольский. Фото сделано в большой комнате нашей квартиры на Малой Бронной. Четыре подружки слева направо: Валя Вязнер, Соня Иоффе, Наташа Ломовская, Оля Кравец. Слева над нами тарелка репродуктора. Сколько же было связано всего с этим единственным в то время источником разнообразных передач.
Фотографирует, как всегда, у нас дома мой папа Д. В. Шаскольский. Фото сделано в большой комнате нашей квартиры на Малой Бронной. Четыре подружки слева направо: Валя Вязнер, Соня Иоффе, Наташа Ломовская, Оля Кравец. Слева над нами тарелка репродуктора. Сколько же было связано всего с этим единственным в то время источником разнообразных передач.
 Эта прекрасная фотография моего папы Д. В. Шаскольского (сколько я себя помню) всегда висела в большой комнате квартиры на Малой Бронной. Год на обороте фото не обозначен. Каков пастух!
Эта прекрасная фотография моего папы Д. В. Шаскольского (сколько я себя помню) всегда висела в большой комнате квартиры на Малой Бронной. Год на обороте фото не обозначен. Каков пастух!
 Мои школьные подружки у нас дома на Малой Бронной. Сидят слева направо: Мара Степанянц (моя постоянная соседка по школьной парте), сестры Лена и Наташа Кирпичниковы, я (Н. Л.), соседка по нашему дому Лена Казанцева; стоят слева направо: Светлана Зарх, Оксана Бендер, Лида Криницина.
Мои школьные подружки у нас дома на Малой Бронной. Сидят слева направо: Мара Степанянц (моя постоянная соседка по школьной парте), сестры Лена и Наташа Кирпичниковы, я (Н. Л.), соседка по нашему дому Лена Казанцева; стоят слева направо: Светлана Зарх, Оксана Бендер, Лида Криницина.
 Моя (Н. Л.) мама, Эмма Григорьевна Ломовская, справа, на первомайской демонстрации. Все были обязаны ходить на эту демонстрацию. Неявка грозила крупными неприятностями. Какой год не знаю, во всяком случае, И. В. Сталин ещё жив, судя по наличию его портрета на фасаде дома. Слева портрет В. М. Молотова, справа не знаю кто.
Моя (Н. Л.) мама, Эмма Григорьевна Ломовская, справа, на первомайской демонстрации. Все были обязаны ходить на эту демонстрацию. Неявка грозила крупными неприятностями. Какой год не знаю, во всяком случае, И. В. Сталин ещё жив, судя по наличию его портрета на фасаде дома. Слева портрет В. М. Молотова, справа не знаю кто.
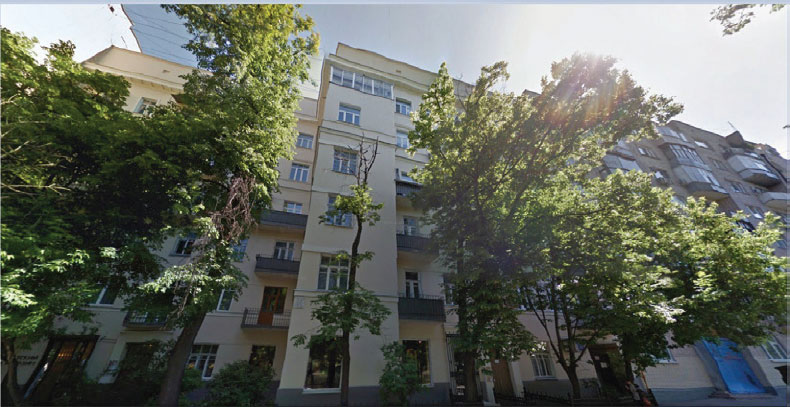 Открываешь сейчас интернет и узнаёшь всё про наш любимый дом № 36 по Малой Бронной улице в Москве, в котором наша семья жила с 1926 по 1963 годы. Дом был построен как кооперативный дом рабоче-строительного товарищества «Работник льноторга» (построен в 1926 году, архитекторы И. П. Машков и Б. М. Великовский, надстроен в 1932 году). Виден и балкон нашей бывшей квартиры на третьем этаже в левой половине дома. Снимок совсем недавний. А если открыть в интернете Википедию, «Патриаршие пруды», то там единственная фотография, на которой справа в центре между двумя немного более высокими домами стоит и наш дом. Выходит, что это самое знаменитое место на Малой Бронной. Вот!
Открываешь сейчас интернет и узнаёшь всё про наш любимый дом № 36 по Малой Бронной улице в Москве, в котором наша семья жила с 1926 по 1963 годы. Дом был построен как кооперативный дом рабоче-строительного товарищества «Работник льноторга» (построен в 1926 году, архитекторы И. П. Машков и Б. М. Великовский, надстроен в 1932 году). Виден и балкон нашей бывшей квартиры на третьем этаже в левой половине дома. Снимок совсем недавний. А если открыть в интернете Википедию, «Патриаршие пруды», то там единственная фотография, на которой справа в центре между двумя немного более высокими домами стоит и наш дом. Выходит, что это самое знаменитое место на Малой Бронной. Вот!
 Соня Иоффе приехала в Москву, наверное, в начале двухтысячных из Америки и, конечно, встретилась со своими одноклассницами. Слева направо: Алла Кобякова, Мара Шац, Светлана Зарх, Оля Кравец, Сонечка Иоффе (Зайдман). Из пяти четверо — догадайтесь, какой национальности.
Соня Иоффе приехала в Москву, наверное, в начале двухтысячных из Америки и, конечно, встретилась со своими одноклассницами. Слева направо: Алла Кобякова, Мара Шац, Светлана Зарх, Оля Кравец, Сонечка Иоффе (Зайдман). Из пяти четверо — догадайтесь, какой национальности.
 А это самое начало двухтысячных. Мы с моим мужем Лёней Фонштейном ещё работаем в Висконсинском университете (г. Мэдисон), куда мы приехали из Москвы в 1992 году. Сонечка Иоффе (крайняя во втором ряду) приехала в Мэдисон навестить своего внука, который учился в то время в университете в Мэдисоне, а заодно, конечно, и нас. Рядом с ней Лёня и Галя и Генрих Бабичи. В первом ряду слева направо: Наташа Чубукова, Надежда Винокур и я (Н. Л.). Выехали на пикник с нашими мэдисоновскими друзьями, бывшими москвичами.
А это самое начало двухтысячных. Мы с моим мужем Лёней Фонштейном ещё работаем в Висконсинском университете (г. Мэдисон), куда мы приехали из Москвы в 1992 году. Сонечка Иоффе (крайняя во втором ряду) приехала в Мэдисон навестить своего внука, который учился в то время в университете в Мэдисоне, а заодно, конечно, и нас. Рядом с ней Лёня и Галя и Генрих Бабичи. В первом ряду слева направо: Наташа Чубукова, Надежда Винокур и я (Н. Л.). Выехали на пикник с нашими мэдисоновскими друзьями, бывшими москвичами.
 А вот и я приехала в Москву в 2010 году. Девочки пришли повидаться со мной (попали на эту фотографию не все, в том числе и я). Мара Шац, Алла Кобякова, Светлана Зарх, Нора Ляховецкая. Встреча на квартире у Оли Кравец.
А вот и я приехала в Москву в 2010 году. Девочки пришли повидаться со мной (попали на эту фотографию не все, в том числе и я). Мара Шац, Алла Кобякова, Светлана Зарх, Нора Ляховецкая. Встреча на квартире у Оли Кравец.
 А это уже 2015 год. Я приехала из Сан Франциско в Бостон, чтобы встретиться с моей старшей коллегой по лаборатории С. И. Алиханяна Софьей Захаровной Миндлин. На фотографии она слева, я (Н. Л.) в центре, а справа Миша Зайдман — муж Сонечки, уже давным давно тоже Зайдман. Живём на Кейп Коде, морском курорте под Бостоном, в доме у племянника Софьи Захаровны Бориса и его семьи. Софья Захаровна приехала к нему из Москвы.
А это уже 2015 год. Я приехала из Сан Франциско в Бостон, чтобы встретиться с моей старшей коллегой по лаборатории С. И. Алиханяна Софьей Захаровной Миндлин. На фотографии она слева, я (Н. Л.) в центре, а справа Миша Зайдман — муж Сонечки, уже давным давно тоже Зайдман. Живём на Кейп Коде, морском курорте под Бостоном, в доме у племянника Софьи Захаровны Бориса и его семьи. Софья Захаровна приехала к нему из Москвы.
 Оказалось, что моя дорогая школьная подружка Сонечка Иоффе (Зайдман) дружит с семьей племянника Софьи Захаровны. Слева направо: Соня, Софья Захаровна, Миша, Сонин муж, и я (Н. Л.). Сзади Атлантика. Вот какие редкие совпадения в нашей жизни.
Оказалось, что моя дорогая школьная подружка Сонечка Иоффе (Зайдман) дружит с семьей племянника Софьи Захаровны. Слева направо: Соня, Софья Захаровна, Миша, Сонин муж, и я (Н. Л.). Сзади Атлантика. Вот какие редкие совпадения в нашей жизни.
Глава 6 Сессия ВАСХНИЛ, катастрофические последствия воцарения лженауки в советской биологии, письма-дневники моей мамы папе в Германию и наша жизнь в самом конце 40-х годов
В августе 1948 года папа вернулся в Москву на время отпуска из Германии и мы поехали в Евпаторию укреплять мою оперированную ногу сеансами грязей. Купаться мне не рекомендовали, и я страдала на берегу моря. И тут грянул гром — августовская сессия ВАСХНИЛ. Помню, как мама и папа простаивали у вывешиваемой на щите центральной газеты «Правда», с ужасом читая о происходящих на сессии событиях. Сессия готовилась в секрете и специально была назначена на время, когда многие ведущие генетики были в отпуске или, как и селекционеры, заняты уборкой урожая. Отсутствовал на сессии и Н. П. Дубинин, который в то время был признанным главой советской генетики. Мои родители все время сокрушались, что он не может выступить на этой сессии и защитить генетику, как это безуспешно пытались сделать немногие присутствующие на ней генетики и ученые других биологических дисциплин. Позорная книга с материалами сессии ВАСХНИЛ была у нас дома. Теперь ее можно в полном объеме прочесть на интернете и, может быть, даже купить, так же как и книги многих лысенковцев, опубликованные в эпоху лысенкоизма. О сессии ВАСХНИЛ и ее последствиях написано много. Эта сессия подвела итог двадцатилетней ожесточенной войны настоящей науки с лженаукой, в которой наука постепенно утрачивала свои позиции, теряла жизни своих выдающихся представителей, возможность ученых заниматься любимым делом, без которого жизнь теряла всякий смысл, и завершилась полной победой лженауки. Многие имена жертв этой войны сейчас хорошо известны. Это и всемирно известные ученые, и рядовые деятели науки. Сразу после сессии закрыли кафедру генетики МГУ, основанную в 1930 г. и руководимую Александром Сергеевичем Серебровским. Александр Сергеевич умер летом 1948 г. еще до сессии ВАСХНИЛ. Сняли с заведования кафедрой дарвинизма всемирно известного теоретика эволюционного учения XX столетия Ивана Ивановича Шмальгаузена, который организовал эту кафедру в 1938 г. и заведовал ею до 1948 г. Его уволили как не обеспечившего воспитания советской молодежи в духе передовой мичуринской биологии. Уже в августе 1948 г. был уволен из МГУ и зав. кафедрой динамики развития Михаил Михайлович Завадовский. Он был учеником Н. К. Кольцова наряду с С. С. Четвериковым, А. С. Серебровским, Г. О. Роскиным и другими. М. М. Завадовский внес громадный вклад в биологическую науку как эмбриолог, эндокринолог, генетик, животновод, создатель крупнейшей школы биологов. Он заведовал кафедрой динамики развития с начала образования биофака МГУ. С 1923 г. М. М. Завадовский становится директором Московского зоопарка, основывает знаменитый КЮБЗ (кружок юных биологов зоопарка). Им опубликовано 400 научных трудов и монографий, приоритет его исследований в области динамики развития был признан во всем мире. В августе 1948 г. он был уволен из МГУ, закрыта кафедра и ликвидирована его лаборатория в ВИЖЕ (Всесоюзном институте животноводства). Лаборатория в ВИЖЕ под руководством Михаила Михайловича вновь была открыта только в 1954 г., а в 1957 г. М. М. Завадовский скончался. К 110–летию со дня рождения М. М. Завадовского вышли прекрасные статьи о нем, его имя вошло во все учебники по общей и экспериментальной биологии и генетике. В 1949 году были вторично арестованы Д. Д. Ромашов и В. П. Эфроимсон, многолетний и бескомпромиссный борец с лысенковщиной. Был освобожден от заведования кафедрой общей биологии 2–го Московского медицинского института и Леонид Яковлевич Бляхер. Он даже с горечью гордился, что его освободили от занимаемой должности как активного приверженца реакционного вейсмановско-менделевско-моргановского направления в биологии и сохранил этот документ эпохи в своем архиве. Его знаменитый учебник многократно до этого переиздававшийся, «Курс общей биологии с зоологией и паразитологией», по которому изучали биологию студенты всех медицинских вузов страны, был изъят из библиотек и больше не переиздавался. Семь лет Л. Я. Бляхер был безработным, отлученным от экспериментальной науки и преподавания… В эти и последующие годы он создал фундаментальные труды по истории биологии. О Л. Я. Бляхере опубликована прекрасная статья Н. А. Григорьян и Е. Б. Мизруковой, приуроченная к 40–летию института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, в котором он работал с конца 1950–х годов вплоть до своей кончины. Многочисленные труды этих выдающихся ученых издавались до 1948 года, составляли значительную часть домашней библиотеки моих родителей. И. И. Шмальгаузен и И. А. Рапопорт, выступая на сессии и рискуя всем, не отреклись от своих взглядов. В последний день работы сессии с покаянными речами выступили П. М. Жуковский, академик ВАСХНИЛ, выдающийся ботаник и растениевед, И. М. Поляков, ботаник, крупный специалист в области истории биологии и дарвинизма, а также С. И. Алиханян, ставший впоследствии генетиком и селекционером микроорганизмов, среди которых были полученные в его лаборатории высокопродуктивные штаммы продуцентов антибиотиков. Это позволило осуществить в нашей стране организацию крупномасштабного производства большого числа антибиотиков, сыгравших и продолжающих играть свою выдающуюся роль в лечении инфекционных заболеваний. С. И. Алиханян по праву считается основателем микробной генетики в СССР. Начало этих уникальных работ было осуществлено в период полного засилья лысенковской идеологии во всех областях биологических наук. Наверное, С. И. Алиханян был в это время в первых рядах конформистов российской науки советсккого периода. Его поступок на сессии ВАСХНИЛ оставил глубокую рану в его душе на всю оставшуюся жизнь, и те немногие нераскаявшиеся классические генетики не простили ему этого поступка. Чтение курсов классической генетики во всех учебных заведениях Советского Союза официально полностью прекратилось. Поголовно у всех учёных-генетиков требовали расписок в том, что классическая генетика является реакционной наукой. Не буду останавливаться, по крайней мере, сейчас на усилиях мужественных учёных, которые, практически, с самого начала периода лысенковщины стали бороться за её уничтожение. Об этом имеется очень обширная литература, написанная очевидцами и талантливыми писателями. В этом же роковом 1948 году Военно-ветеринарная академия, в которой моя мама проработала многие годы, была реорганизована, и мама в связи с закрытием кафедры гистологии была уволена. У меня нет маминой трудовой книжки, и я не знаю точно, когда она после увольнения устроилась на работу на биологический факультет МГУ. Взяли ее в лабораторию животновода И. Я. Прицкера при кафедре дарвинизма, и она попала в самое пекло. Вернусь к более или менее хронологическому описанию событий. Неоценимую помощь в этом оказывает мне папина трудовая книжка. В 1948 году его направляют работать в Германию в г. Лейпциг, славившийся полиграфическим мастерством, издавать Атлас «Промысловые рыбы СССР» и фундаментальное приложение а нему с подробным описанием рисунков. Рыбы были представлены в атласе не в качестве фотографий, а прекрасными рисунками, большинство из которых было выполнено выдающимся художником-анималистом, зоологом и путешественником Н. Н. Кондаковым (1908–1999). Его имя часто упоминалось у нас дома. Обширная литература о Н. Н. Кондакове имеется в интернете. Там же можно познакомиться с Атласом и даже, как-будто, его приобрести. Атлас, конечно, был всегда у нас в доме, я его смотрела, но рыбами не интересовалась. Что меня удивляло, это то, что они были все одного размера и было трудно представить их в натуральную величину. Недавно, уже в Америке, с двух сторон ко мне вернулись напоминания об этом Атласе. В 2009 г. к нам в Сан-Франциско на недельку приехала моя подруга еще по университету Ирма Теодоровна Расс. Ее родители Ирина Николаевна Верховская и Теодор Саулович Расс были коллегами и друзьями моих родителей. Ирина Николаевна была известным радиобиологом и биофизиком. Теодор Саулович был совершенно выдающимся ученым-ихтиологом, многие годы являлся научным руководителем экспедиций научного судна «Витязь». Его биография доступна в Интернете. Он автор многочисленных трудов, и в его честь названы несколько впервые описанных видов рыб. Его дочери, Ирма и Ирина, опубликовали о нем воспоминания. Так вот, он был одним из главных редакторов Атласа, о чем мы с Ирмой вспоминали во время ее визита. Недавно Оля Данилевская, наша многолетняя коллега и близкий человек, случайно в разговоре рассказала, что ее родители-ихтиологи, жившие в Керчи, имели этот Атлас у себя дома и пользовались им как настольной книгой, и она тоже его очень хорошо помнит. Оля Данилевская много лет работала в лаборатории Р. Б. Хесина, была руководителем дипломной работы Оли, нашей дочки. Теперь уже много лет работает в Америке. Она была женой безвременно ушедшего из жизни Жени (Евгения Витальевича) Ананьева. О них речь впереди. Мои мама и папа хорошо знали немецкий, особенно папа, переговаривались на нём, когда хотели поговорить дома без свидетелей. Папа говорил, что его часто в Германии принимали за немца. Провел он там не меньше, полутора лет. Как я уже упоминала. он был откомандирован в Лейпциг издавать Атлас и приложение к нему «Промысловые рыбы СССР». Работа над этим Атласом была начата еще до войны по распоряжению А. И. Микояна и имела статус правительственного задания. Н. Н. Кондаков начал готовить рисунки к Атласу еще до войны. Как говорится в биографии Н. Н. Кондакова, «Атлас является до сих пор не превзойденной по полноте и качеству издания сводкой с 230 великолепными цветными рисунками, из которых 145 выполнены Н. Н. Кондаковым». В нашем доме это имя звучало часто. Только сейчас, по прошествии нескольких лет после написания этой главы воспоминаний, нашла упоминание папиной фамилии в числе членов редакции, выпускающих атлас и приложение к нему. Вот этот список членов редакции: академик Л. С. Берг, А. С. Богданов, Н. И. Кожин, Т. С. Расс. Авторы описаний семейств: Л. С. Берг, Б. С. Ильин, И. И. Казанова, Т. С. Расс, А. Н. Световидов. Авторы описаний рыб: А. П. Андрияшев, И. Н. Арнольд, Е. А. Безрукова, Л. С. Берг, Т. Б. Берлянд, Л. И. Васильев, B. В. Васнецов, В. И. Грибанов, Т. Ф. Дементьева, А. Н. Державин, Н. А. Дмитриев, П. А. Дрягин, В. К. Есипов, М. В. Желтенкова, C. Г. Зуссер, М. М. Иванова-Берг, Б. С. Ильин, А. Г. Кагановский, И. И. Казанова, С. К. Клумов, Н. И. Кожин, Г. У. Линдберг, А. В. Лукин, С. М. Малятский, Б. П. Мантейфель, Н. А. Маслов, Г. Н. Монастырский, П. Д. Носаль, Г. В. Никольский, А. В. Подлесный, И. Ф. Правдин, А. Н. Пробатов, Т. С. Расе, А. А. Световидова, А. Н. Световидов, Р. С. Семко, Е. К. Суворов, Д. Н. Талиев, К. Ф. Телегин, К. Р. Фортунатова, Б. Г. Чаликов, Н. И. Чугунова, Е. В. Чумаевская-Световидова, П. Ю. Шмидт. Авторы подсобных материалов и сводок: по рыбоводству — Б. И. Черфас; по использованию рыб — Н. Т. Березин; по уловам рыб в СССР — Т. Ф. Дементьева, И. И. Казанова, Н. И. Чугунова; по мировым и зарубежным уловам рыб — Т. С. Расс. Рисунки в тексте исполнены художником Н. Н. Кондаковым. Консультант-ихтиолог издания: Д. В. Шаскольский. Художественное оформление: Н. В. Ильин. Редактор-организатор и техническое оформление: Я. И. Бецофен. Папа, готовя Атлас к изданию в Лейпциге, постоянно общался с Н. Н. Кондаковым, так же как и с другими авторами Атласа, главным образом, с помощью телеграмм. Можно себе представить, какой гигантский объем работы был им проделан. Ведь вся работа по выпуску Атласа и большого тома текстового приложения к нему легла на его плечи! Я помню, как к нам домой был прислан сигнальный экземпляр Атласа, и его два тома вместе с приложением всегда были у нас дома. Папе была объявлена благодарность начальником издательства в Германии (запись в трудовой книжке): «за высокую добросовестность, оперативность и инициативу при выполнении этой работы». Разлука мамы с папой на такой значительный период времени (весь 1948 и часть 1949 года) была очень трудной для них обоих. У меня в руках чудом (благодаря папе) сохранившиеся письма, которые писала моя мама папе в Германию в конце 1948 и в первой половине 1949 годов. Как уже упоминалось, после увольнения мамы из Военно-ветеринарной академии по сокращению штатов в результате ликвидации кафедры гистологии и реорганизации этого учреждения она устроилась на работу осенью 1948 года в лабораторию Исаака Яковлевича Прицкера при кафедре дарвинизма. Заведующий кафедрой И. И. Шмальгаузен был уволен сразу после августовской сессии ВАСХНИЛ, зав. кафедрой стал Ф. А. Дворянкин. В письмах мамы, помимо домашних дел, описываются глазами свидетеля и невольного участника события, происходящие на биофаке МГУ после сессии ВАСХНИЛ 1948 г. Поверить невозможно, что такие, а также и другие события этой эпохи могли произойти. Письма написаны почти в стиле дневника. Представляется, что в то время дневники и воспоминания были очень большой редкостью. За мысли, положенные на бумагу, часто расплачивались репрессиями. Все письма мамы были воинские, на адрес полевой почты. Письма поступали на Главпочтамт г. Москвы, на каждом — штамп: проверено военной цензурой, так что многие события описываются ею иносказательно. Основываясь на них, можно глазами очевидца и участника событий взглянуть на атмосферу этого периода нашей жизни, делая скидку на то, что эти письма подвергались военной цензуре. Ее первое письмо от 11.12.48 г. после отъезда папы во вторую половину его командировки в Германию…«Сегодня провела уже четвертое занятие. Занятия идут неплохо. Режут, красят, смотрят препараты. Хорошие, славные ребятишки, немножко замордованные всем происшедшим. Но, кажется, понемножку начинают отогреваться. И ко мне относятся хорошо, потому что чувствуют, по-моему, что плохого я им не хочу. Может, это все не так и я преувеличиваю, но так чувствую. В левой половине учебным процессом интересуются не сильно, там больше насчет перегородок круглого зала и портретов. Но вообще, по-прежнему, очень много волнительного. И представь себе, что приказ еще не утвержден. Надо отдать справедливость нашему милому Исаак Яковлевичу (Прицкеру — Н. Л.), что, по существу, только он один по-настоящему беспокоится о всех нас. И только благодаря ему, все бумаги уже спущены и, кажется, нам будет оплачено за все, хотя это еще не наверняка. Сегодня Исаак Яковлевич нам сказал, что одними птицами заниматься недостаточно и что придется частично работать и с животными… Эмма (Э. И. Адирович — Н. Л.) сдал диссертацию 30 ноября. Он в своем репертуаре. Все-таки он необыкновенно талантлив… Сегодня получила письмо из Горького от Сергея Сергеевича (С. С. Четверикова — Н. Л.). Я его распечатала (не обижайся), так как в таком виде не хотела тебе посылать его, а сейчас только напишу, что он извинялся перед тобой, что не ответил, что по-прежнему тебя любит и ценит, но был до 1 августа страшно занят, а после 1-го совершенно освободился, но заболел, инфаркт сердца — 3 месяца лежал неподвижно, сейчас едва поправляется. Последнее, что пишет — не смею просить Вас написать мне, но если бы я получил от Вас несколько строк, Вы бы очень обрадовали и утешили своего старика-учителя. Его адресс: Ул. Минина 5, кв. 6… Относительно зарплаты пока не знаю, но не пиши, пожалуйста, об уменьшении денег для Наташки (старшая дочь папы Н. Д. Шаскольская — Н. Л.). Ведь Ольга (первая папина жена О. Г. Гольцман — Н. Л.) сейчас на полставке, а я надеюсь, что у меня все будет в порядке.»В письме от 23.12.48 г. мама пишет, что зарплаты в университете она еще не получала, большой практикум временно прервался из-за сессии (ВАСХНИЛ — Н. Л.), Галину Самохвалову предупредили, что в приказ (о зачислении — Н. Л.) ее вносить не будут — вдруг решено выкорчевывать старое с корнем. Она тяжело все это переживает, да и мы тоже все очень огорчены. (Я помню Г. Самохвалову, но не нашла о ней других упоминаний — Н. Л.)
«Мои занятия прошли довольно хорошо. Препараты почти у всех сделаны. Провели в В. Же занятия по искусственному осеменению. Очень интересно. Смотрели живую дробящуюся яйцеклетку кролика, момент оплодотворения яйцеклетки, ясно видна полиспермия. Потом студенты сами получали сперму кролика и осеменяли крольчиху. Потом смотрели на баранах, лошадях и быках. И все это через мое знакомство с Иваном Матвеевичем. …Меня, по глупости Прицкера, провели в Ученый Совет. Это произвело впечатление грома с ясного неба, тем более, что ни Вячека ни Василия Васильевича не провели. Шурочка Чмутова с ужасом мне сообщила, что весь университет говорит об этом. Ксеня (Головинская, К. А. — Н. Л.) иронически поздравила меня с этим… Ради бога, пиши Наташке. Она тебе уже писала. После каждого твоего письма — слезы, почему не ей.»Письмо от 7.1.49. Цитирую письмо почти полностью, т. к. очень хорошо сама помню встречу этого Нового года и мама хорошо все это описывает.
«Встречали мы Новый Год неожиданно хорошо, т. к. в начале 12-го часа вдруг явился Эмма (Э. И. Адирович — Н. Л.) Ну, естественно, что Наташка была на десятом небе. Я купила чудесный напиток — сидр и т. к. он 7-процентной крепости, то Наташка выпила 2 бокала (тут и в дальнейшем «Наташка» — это я, Н. Л.), Эмма пил тоже, и даже мама. Пили и за тебя (извини, что такой слабый, но все же не вода), и за всех наших ребятишек, которых теперь не так уж мало и за то, чтобы все-таки 48 год не возвращался и чтобы наука процветала. Майка уже выправляется — дочка маленькая, очень хорошая. (Марианна Петровна 18 декабря 48 г. родила девочку, которую назвали Майей, т. к. она родилась в день рождения самой Марианны Петровны. — Н. Л.). Меня утвердили приказом и. о. старшего научного сотрудника, т. к. Несмеянов настаивает на объявлении конкурса (в смету не включили, и я опять не получила зарплаты). Со вчерашнего дня мы начали работать на Томилинской птицефабрике и будем там работать в течение месяца. Задачи очень большие. Вчера вернулась в час ночи и, очевидно, так будет весь месяц, так что даже не будет и выходных… Дом совершенно беспризорный. Наташка на каникулах гоняет во всю… Сейчас только что была на Мыльниковом на дне рождения у Марии Николаевны. (Мама моего папы — Н. Л.) Там все в порядке. Да, не грусти о зиме — ее нет. Снега нет совершенно, Москва-река не стала, уже не говоря о Патриарших. Днем лужи, как весной, а к вечеру подмерзает. Так что иногда думаю, уж не вернулись ли мы в Самарканд. Сейчас даже этого хотела бы, если бы это было с тобой… Письмо коротенькое, но уже 12, а завтра Томилино.»В письме от 5.2.49 мама упоминает о Марии Александровне Воронцовой, которая была научным руководителем ее кандидатской диссертации и кумиром…
«Мария Александровна, с которой я сейчас на курсах, предлагает мне итти к ней работать в Медицинскую академию. Этот вопрос надо решить к 20.2. От сумбура (далее вычеркнуто военной цензурой — Н. Л.) я бы ушла с удовольствием. Она сейчас зав. отделом морфологии и зав. лабораторией. Пока еще она в Мединституте, но собирается оттуда уходить из (вычеркнуто военной цензурой — Н. Л). Я знаю, что ты скажешь, что нельзя уходить из (зачеркнуто военной цензурой — Н. Л.)… А мне там все не по себе, хотя, надо сказать, что отношение ко мне самое хорошее. Но, понимаешь, все это типичное не то. Мария Александровна говорит, что, может быть, даже возможно будет итти на должность старшего научного сотрудника… Они будут заниматься регенерацией внутренних органов… Ну, как ты мне посоветуешь. Ведь мне, кроме тебя, посоветоваться не с кем. Сижу на лекции и 1-ый раз не пишу, верней, пишу тебе письво. Речь идет о коровах, сене и прочей несъедобной вещи. Вчера был каракумский академик — болтун толстый и больше ничего.»Выдержки из письма от 9.3.49…
«Очень рада за тебя, что ты живешь спокойно и размеренно. О себе этого никак не могу сказать. Потому — не дом (на Моховой) а содом. Болото мне кажется раем. Твоя телеграмма несколько умерила мой пыл, но отнюдь не совсем его уничтожила. Пока еще там со штатами не все решено. (по-видимому, речь идет о предложении М. А. Воронцовой — Н. Л.)… Рождение мое прошло хорошо (мама родилась 21 февраля — Н. Л.) Были все свои — Глебы (папин родной брат Глеб с женой Ниной — Н. Л.) киты (Марианна Петровна Шаскольская, двоюродная сестра папы и ее муж Эммануил Ильич Адирович — Н. Л.) и даже Владимир Борисович (В. Б. Шаскольский, отец папы — Н. Л.) Это было 23.2. 21-го получила чудесный цветок — цикломен, с твоей запиской. Очень много вокруг него было всяких дураковаляний, т. к., конечно, никто не сознавался в том, как он был куплен. Я сказала, что цветочница, которая его принесла, рассказала, что внешность у гражданина, заказывающего его, была очень представительная. Новая шуба и шапка замечательные (это у Эммы новая шуба). Тут сердце Эммы дрогнуло, но он стоически выдержал… Недели две назад у меня была Мика (Мария Григорьевна Цубина — жена В. П. Эфроимсона — Н. Л.) — она не работает…»Выдержки из письма от 29.3.49…
«У меня сейчас работы столько, что дышать некогда. Большой практикум по цыпленку. Вскрывают, делают окошечки в скорлупе. В лаборатории сейчас шумно. Инкубаторы, цыплята, студенты и все было бы хорошо но… Иссак Яковлевич (Прицкер — Н. Л.) уходит и хоть он и… но хороший, а кто будет сейчас, совершенно не известно!!! Сегодня событие. Эмма (Э. И. Адирович — Н. Л.) защитил докторскую, конечно прошло блестяще. Я за него очень рада. И главное, за Майку. У них сейчас мир и все идет очень хорошо… Эмма, конечно, балагурил по поводу твоих писем и телеграмм, которые получались на их адрес и по этому поводу было сочинено следующее:Я думаю, что письма пока не нуждаются в комментариях, так ясно мама описывает ситуацию на работе и дома. В письме от 19.3.49 обсуждался вопрос о возможности, а скорее, о полной невозможности маминого приезда к папе в Германию на месяц……Наташка отличница. Я теперь ведаю аспирантскими делами, еще один груз свалился на меня…»Сидит в Берлине бедный Дима.Ему жена необходима.Несчастный, даже в женский деньОн просидел один, как пень…
«с кафедрой будет, наверное, сложновато (получить разрешение на отъезд — Н. Л.), т. к. сейчас вообще в лаборатории чушь и ничего не поймешь. Легко выгоняют, но трудно отпускают, т. к., если захотят, то выгонят безо всяких, но, если я захочу, то могут и не отпустить, независимо от того хорошо или плохо относятся и от того, что, может быть, через несколько дней захотят того сами.»Письмо от 21.4.49…
«Вчера звонила Богданову. Он просил написать тебе, что Анастас Иванович (А. И. Микоян — Н. Л.) одобрил рисунки. С чем тебя поздравляю и очень, очень рада.»Письмо от 9.4.49…
«Очень скучаю по тебе, даже больше, чем в первый раз. Может быть, сознаюсь тебе потому, что сейчас у меня все сложнее и поэтому тебя особенно не хватает… Уйти с работы сейчас очень опасно, ведь не всегда так будет везти как с университетом. И, наконец, что самое, пожалуй, сложное — это сама кафедра. Прицкер уходит 15-го. Лаборатория остается, по существу, на произвол судьбы и из научных сотрудников только я одна. Большой практикум окончится к 1 мая. Я, конечно, понимаю, что я не спасу положения, но все-таки со мной хоть какая-то жизнь теплится, а уйди я — и все замрет, умрет естественной смертью. Несмотря на то, что работу в Москве найти не просто, к нам не бегут. Почему, не знаю. Ты, конечно, скажешь (хотя нет, ты-то как раз не скажешь) ну и пусть помирает. Но, представь себе, мне жалко. Уж очень дорого все это стоило нам, которые пришли туда этой осенью. Хотя так хочется иногда расплеваться, уйти, уехать к тебе… Если бы речь действительно шла о том, что нам предстоит с тобой уезжать всерьез и надолго, тогда, конечно, никаких сомнений у меня бы не было, а я просто ушла бы и поехала туда, куда бы мы с тобой решили… не слишком ли много мы уделяем внимания работе, не пожалеем ли мы, что ради работы шли на жертвы, на расставания, теряли драгоценное время, которого не так уж много у нас остаётся. Особенно сейчас, когда трудно заглядывать в будущее и дорог, может быть, даже не год, а месяц. Очень вообще тревожно… Ты не представляешь себе, каким бездарным организатором проявил себя ”блестящий Цицерон” (без сомнения, речь идет об И. И. Презенте — Н. Л.), ты, конечно, понимаешь, о ком речь. Это что-то потрясающее. По существу, сейчас все на краю развала. Не знаю, как будет дальше…»Письмо от 27.4.49…
«Наташка была совершенно счастлива, когда получила твое письмо. Когда я пришла, она уже лежала в кровати и письмо было под подушкой. В пианино верит только мама (папа писал, что на заработанные деньги он хочет купить пианино — Н. Л.)… В связи с чудесной организацией прихожу домой в 12, а иногда и в час ночи… Каждый день то собрания, то Ученый совет, то семинары, а то кафедральные дела, разгоны и прочее. Да, к сожалению, о подробностях можно будет поговорить не скоро. Сам понимаешь почему… Прицкер благополучно исчез, и на меня свалилась вся лаборатория… Зав. подписал распоряжение о назначении меня временным зав. лабораторией. Но… уверяю тебя, что в тысячу раз проще было взяться за заведование кафедрой гистологии во Фрунзе тогда, 10 лет назад, чем сейчас, даже учитывая опыт и прочее. Потому что там была простая привычная знакомая гистология, а здесь неопределенная, неясная, никому непонятная тематика. Придумывать одной — это слишком сложно. И даже тебя нет. У зава (имеется ввиду Ф. А. Дворянкин — Н. Л.) в этом направлении мозги не работают. Он не способен руководить в таких вопросах даже ни шагом. Очень много заставляют заниматься планами лабораторий и оборудованием нового здания, которое должно быть по последнему проекту готово в 51 году. Вчера только кончила принимать зачеты по большому практикуму. Три дня готовились к дню открытых дверей для десятиклассников. Кафедра была показана во всем блеске и внешнем лоске. Наташка, конечно, ходила со мной и страшно внимательно все слушала. Она считает, что у нас в лаборатории было лучше всего, понимаю почему, очевидно, из-за цыплят.»В письме от 3.5.49, в частности, описывается арест Д. Д. Ромашова, папинового друга и коллеги по кольцовскому институту…
«На днях я была в институте (имеется в виду ВНИИ прудового и рыбного хозяйства, где после войны работал папа. — Н. Л.). Долго разговаривала с Ксеней (К. А. Головинская, жена Д. Д. Ромашова — Н. Л.). Д. Д. перекочевал в Красноярский край и решил там осесть лет на пять, причем будет там работать по специальности. По дороге он сильно заболел и его высадили в Свердловске, положили в больницу, но сейчас он уже доехал… Первомайские дни провели так. Мы с Наташкой ходили на демонстрацию. Все было так чудесно, народ совершенно оттаял от жары, весеннего воздуха. Жарко было так, что в летнем платье было невозможно, прятались в любую подворотню, пока стояли у Никитского бульвара. В 12 часов были на Красной. Оттуда целой компанией пошли домой пешком. Все твои знакомые — Нина Скадовская, с которой я работаю, ее муж Строганов, Зацепин, Кабак и наши ребятишки. Они много вспоминали ваш большой практикум, Сергей Сергеевича (Четверикова —Н. Л.), Николая Константиновича (Кольцова — Н. Л.) и всех, кого мы так хорошо знаем. Строганов и Зацепин кончали, кажется, на год раньше тебя. Пришли домой и свалились без задних ног. Потом, когда пообедали и выспались, поехали к Майке (Марианне Петровне Шаскольской — Н. Л.) Сегодня сильное похолодание. Наташка играла, потом пошла в кино. А вечером мы никуда не пошли. Наташка решает задачи, а я пишу тебе письмо. На столе у меня стоит гортензия, которая сохранилась от вчерашней демонстрации, вообще их целых три. Так как они были с землей, то Наташка их высадила в горшки и они ожили… Твой цветок потерял листья и мы уже совсем потеряли надежду, что он оживет, но продолжали поливать и он воскрес и пустил чудесные молоденькие листочки. По радио чудесный концерт, и мы наслаждаемся. Нам с Наташкой вдвоем не скучно.»Выдержки из письма от 23.5.49…
«Наташка очень мучается, что не пишет тебе. Но ты сам понимаешь, какая у нее сейчас горячая пора. Сдавала экзамен по музыке, а т. к. на теорию не ходила, то досталось очень трудно, пришлось дополнительно заниматься с учительницей. В результате у Любовь Александровны — «5», а по теории «4». Играла на отчетном концерте… Сам понимаешь, сколько волнений… В. Москве стоит чудесное лето и, естественно, отпускное настроение, хотя, если рассуждать разумно, то до отпуска и твоего приезда еще 2,5 месяца… И как тут рассуждать разумно, когда в кувшине стоит букет сирени, за окном чудесная весенняя гроза, Патриаршие, кажется, заканчивают период реконструкции и, наконец, готов дом-раздевалка для катка (необходимое сооружение для лета), какие-то необычайные фонари и даже липы, почуяв всю важность момента, распустились особенно пышно… Не сердись за легкомысленное письмо.»В письме от 13.6.49 мама упоминает нашу домработницу Клаву, которая жила и работала у нас с середины 30-х годов. После войны она опять приехала к нам, и мама пыталась ее прописать. Мама сообщает, что Клаву категорически отказались прописать, и она уехала обратно в деревню.
Письмо от 21.6.49…
«Хорошо, что мы на мой отпуск едем на юг. А то в Москве и в подмосковье ненадежно. Хотя помнишь, как было в маленьком Кропотове в 38-ом? Ты ночью шлепал босиком, да и я тоже. И в Оке купались… Я уж как-то даже не могу себе представить, когда будет это желанное время, что мы будем говорить, говорить и наговориться не сможем… На днях в вестибюле университета встретила Веру Вениаминовну (Хвостову — Н. Л.). Ее дочка учится на первом курсе. Долго с ней разговаривали. Она сообщила одну весть — Микин муж уехал вслед за Митричем. (речь идет об аресте мужа М. Г. Цубиной В. П. Эфроимсона, Митрич — Дмитрий Дмитриевич Ромашов. — Н. Л.). Владимир Владимирович (Сахаров — Н. Л.) до сих пор не работает. Она (В. В. Хвостова — Н. Л.) работает в библиотеке иностранных языков. Вот и все московские новости. У меня новость очень неприятная — назначили секретарем аттестационной комиссии биофака. У нас сейчас аттестация профессорско-преподавательского состава.»Не могу не привести отрывки из единственно сохранившегося письма папы из Германии от 11.6. 49.
«…видишь ли появились сведения, что на каникулы можно выписывать маленьких детей и жен… Но потом оказалось, что это не получается. Что же делать! Буду по-прежнему стараться изо всех сил скорее довести все до конца и приехать. Сейчас конец хорошо виден — рисунки готовы больше, чем наполовину, текст — хоть и со скрипом и с массой телеграмм, но тоже идет. Контрольный срок выпуска сигналов к 10–15 июля может осуществиться только при самых благоприятных условиях, т. е. при быстрейших ответах из Москвы на мои срочные вопли об ошибках, и если оснований для этих воплей больше почти не будет… Вообще то, что текстовой том обрушился полностью на мою голову, — нет ничего плохого. Без меня он получился бы в неважном виде, с рядом ошибок. Но мне-то это достается сейчас весьма крепко… Но ты ведь, Муся, знаешь, что я люблю, когда много нужной работы. Так что в этом отношении все в порядке. Мне очень досадно, что дочки не пишут (им, правда, сейчас совсем некогда)… Я хотел написать тебе стихи, но ничего не выходит, нужно время. Помнишь, тогда я тебе написал (белыми, правда, стихами) прямо на чистовик. Талант, очевидно пропал. А засесть за это — нет времени. Набралось лишь несколько строчек, а что же посылать обрывки. Мусенька, скучно мне без тебя, без хорошей и нежной… ты ведь знаешь как…» «На днях получил письмо — на коллегии в Москве, разбирались готовые рисунки. Признали все в полном порядке со стороны художественной правильности, воспроизведения в цвете, и также товарищ пишет, что говорю вам и всем здесь, что Ваша работа по всем линиям, в том числе, и по издательско-производственной выше всего того, на что можно было надеяться. Извини меня, пожалуйста, за похвальбу, но с кем же мне еще делиться как не с тобой. Передай Майе, что здесь ее знакомая по детгизу — редактор Резникова.»В следующем конверте оказались-таки папины стихи:
Сколько лет промелькнуло над нами,
Сколько звезд пронеслось чередой.
Мы обнявшись по жизни шагаем,
Хоть и трудно бывает порой.
Трудно в длительнейших расставаниях
И в здоровье неважно подчас,
Но не в душ обоюдном вниманьи,
Не в любви и не в ласке у нас.
Эти десять созвездий мелькнувших
Обернулись жестоким лицом,
Оба смерти в лицо посмотрели,
Оба след получили о том.
А хорошего сколько бывало,
Сколько будет еще впереди.
Мы идем во вторую декаду
И поймаем четвертую ли.
«Трудно мне сейчас почти все время. Но что же делать. Терплю и делаю все, что могу, чтобы хоть как-нибудь облегчить и разрядить обстановку. Но понимаешь, все время ощущение Дамоклова меча… Сейчас я секретарь аттестационной комиссии. Ты представляешь, какая это огромная и ответственная работа. Ведь это по всему нашему факультету. Пока еще не сорвалась. Но к 1-му нужно все кончить, а у нас еще сделана только пятая часть работы. Каждый вечер заседаем до 11–12 часов. Председатель И. И. (И. И. Презент — Н. Л.). Надо сказать, что обсуждение, к счастью, идет чрезвычайно объективно, чему я очень рада. Наша кафедра пойдет послезавтра… Мне припоминают механику развития…Письмо от 11.7.49…
5 июля должен открыться в Ленинграде съезд гистологов, анатомов и эмбриологов. Я как-то заикнулась И. И. (И. И. Презент — Н. Л.), что не мешало бы меня туда послать. Но он на это ответил, что нечего мне там делать, т. к. ничего нового я там не получу… Но вдруг сегодня утром получаю открытку… Вы являетесь делегатом 5-го Всесоюзного съезда гистологов… Так до сих пор не понимаю, кто меня туда всунул. Боюсь, что на кафедре будет бум. Неужели могут не пустить? Фаина Михайловна (Ф. М. Куперман — Н. Л.) защитила на днях докторскую, и был грандиозный банкет на кафедре…»
«Оказалось это (быть секретарем аттестационной комиссии факультета — Н. Л.) таким огромным делом, что я приходила, к удовольствию всех окружающих, особенно, Клавочки, в 5–6 часов утра. В течение 2 недель заседали, а потом оформляли… Когда приедешь, расскажу тебе все подробно, как это протекало. Было немало трудного, но и много интересного. Вчера мне сказал Зацепин (не знаю, помнишь ли ты его, но он тебя хорошо знает и учился не то на курс старше, не то моложе тебя) что твои сигнальные номера будут 12-го в Москве. Я не верю этому счастью… На съезд в Ленинграде мне так и не удалось попасть… Хоть мой голос и не имел большого значения (правда И. И. иногда прислушивался и к нему), но иногда использовала свою секретарскую власть и сколько могла выручала. Вчера, в основном, закончили, но в среду нас будут слушать и утверждать (или не утверждать!) наше решение, этажом ниже нашей кафедры (следующее предложение вычеркнуто военной цензурой — Н. Л.). У меня уже 35 перелитых цыплят (а у Маховки ни одного, а она хвастала и говорила, что цыплята развиваются, и когда ее спросили и что же вылупляется, — она с гордым видом сказала нет, — они просто погибают по другим причинам). Но, к сожалению, никакой разницы по внешнему виду. Нет, и боюсь, что не только по внешнему, но и по внутреннему тоже. Так что уже ходячим стало — переливание из пустого в порожнее — только суметь бы это доказать. Дим, мы нацело изымали белок, клали в инкубатор и развивался цыпленок, только меньше по величине, но совершенно нормальный и погибал на 19 день. Скорей бы ты приезжал, так нужно посоветоваться с тобой, как дальше быть…»Еще одно мамино письмо сохранилось, предположительно, 1968 года, повествующее о ее поездке на Международный конгресс эмбриологов, который состоялся в горах Северной Италии в Кортина д’Ампеццо…
«Вот я и вернулась из дальних странствий. Я просто счастлива, что мне выпало на долю посмотреть Италию. Вернешься, буду рассказывать и показывать скудными средствами тех открыток, которые куплены и, может быть, тех фотографий, которые неизвестно как получились. Там нужно было, как я и предполагала, только кино, потому что было столько всего динамичного, что простое фото ничего подобного не могло передать. Что может сказать фото о нашем 10-часовом переезде из Милана в Кортина д’Ампеццо на автобусе через Альпы. Проезжали чудесное озеро Лаго ди Гарди (объезжали вокруг него около 4-х часов, снежные перевалы и т. д.) А в Венеции, где все в движении — гондолы, площадь Св. Марка с тысячами голубей и туристов, важно шествующих монахов и монахинь с черными портфелями. Мы были даже в Помпее и это, пожалуй, самое грандиозное. Для коллекции морей искупалась в Средиземном море в Неаполе, хотя это было купание с приключениями, но все-таки это было здорово. Проезжали у подножия Везувия и где-то вдали виднелось Сорренто и Капри. 5 дней жили в Кортина. Конгресс проходил там так, что каждая секция заседала в разных залах отелей или ресторанов. Общего помещения не было. Мы приехали на следующий день после открытия и уехали накануне закрытия, поэтому не видели торжественных церемоний, но так спланировала путешествие фирма С или Чита, как мы ее называли. Самое пикантное, что мой доклад должен был быть 2-го июля в день закрытия конгресса, а мы уезжали 1-го июля. Я попросила перенести его на другую секцию, как и все те, которые делали доклад в этот день. Мне разрешили, и я доложила на моем английском, но, в общем, кажется, говорила не хуже всех иностранцев. В объяснениях частного характера и в магазинах меня вывозил, в основном, немецкий, и с ним я спокойно доехала до Рима. Ну вот, собственно, краткий конспект… Я здорово устала от поездок — 5 самолетов, поезд и сотни километров на автобусе за две недели. Вчера на кафедру заходила старшая Наташа. У них все в порядке, выглядит она нормально, передавала тебе привет…»Сейчас мне кажется, что эти мамины письма — самое интересное из всех моих мемуаров. Если уж речь зашла о письмах, то мне хотелось бы привести и три моих письма, два из них адресованы папе в Германию, а одно — маме. Они сохранились среди маминых писем. Вот они:
«Дорогой папочка! Получила твое письмо. Большое спасибо. Как ты сейчас живешь? Много ли работаешь? Я тебе послала два письма, но получила от тебя только одно. Напиши, пожалуйста, ты получил мое письмо от 2.1? У нас все в порядке, все здоровы. От тебя не заразились. Прошел ли твой грипп? За каникулы я три раза была в Большом театре и слушала «Снегурочку», «Кармен» и «Князя Игоря». Самое большое впечатление произвела на меня опера «Кармен». А «Снегурочка» не очень понравилась, конечно, оркестровка хорошая, но арий хороших нет. Опера «Князь Игорь» тоже очень понравилась. 6-го числа у нас был общешкольный маскарад в доме архитектора. Я получила 1-ый приз за оригинальность костюма. Я была шарманщиком. На мне были твои черные брюки (конечно подшитые), бабусин жакет, через плечо была повешена шарманка (коробка из-под торта, который мамуле подарили в день рождения). На ней была наклеена масса всяких открыток. Потом в коробке была просверлена дырка, в которую вставлена ручка от мясорубки (твоей, она пригодилась хоть в этом деле). Но самое замечательное было то, что на шарманке прыгала обезьянка, которая и привлекала всеобщее внимание. На мне была замечательная маска, такой человек с котелком на голове. В общем, мне дали билет в театр драмы. Мамуля сейчас работает очень много. Она ездит на птицеферму. Там очень интересная работа. Мы в школе начали учить зоологию и уже прошли строение кролика и некоторых простейших. Недавно всем классом ходили на экскурсию в Тимирязевский музей на вскрытие крысы. Очень интересно. Ей дали наркоз, так же как и мне. По геометрии мы проходим все новые теоремы, и мне порой бывает очень трудно. Иногда нуждаешься в объяснении. По физике тоже очень интересно, но, к сожалению, учительница показывает очень мало опытов, все у нее из рук валится. Ну, пока все. До свидания. Пиши. Целую тебя крепко тысячу раз, твоя Наташа»
«Дорогой мой папочка! Красновидово, 12 июня 49 г. Давно я тебе не писала. Как ты живешь? Скоро ли приедешь? Сдала я экзамены и теперь живу в пионерлагере МГУ. Первый экзамен был по русскому письм. Эпиграфом к изложению я взяла из Горького, «Песня о соколе» — «Безумству храбрых поем мы песню.» В общем, по изложению я получила пятерку. Второй экзамен был по русскому устн. Мне достался пятый билет. Там надо было рассказать переход причастий в существительные и прилагательные и рассказать «Песню о вещем Олеге». Я ее даже не рассказывала, а велели рассказать «Украинскую ночь» Гоголя. Я получила пять. Следующий экзамен был по арифметике. Арифметика была у нас только письменная. Нас все время Федор Иванович пугал, что задача будет очень трудная. И действительно, в 5-х классах задача была очень трудная. Мы бы ее ни за что не решили. А у нас задача была очень легкая. Пример тоже не из трудных. И надо было еще решить пропорцию. Потом была история. Мне достался очень легкий 2-й билет. Надо было рассказать о возникновении Рима и о войнах императора Юстиниана. По ботанике я рассказывала о хламидомонаде и о строении семян. И рассказывала не по таблицам, а прямо по семенам под лупой, а по географии мне попался самый последний, самый интересный билет. Там надо было рассказать про Австралию, а в Австралии очень интересный животный мир и растительность. Я получила похвальную грамоту, как и в те годы. Сейчас отдыхаю в лагере. Здесь замечательная природа. Настоящая русская природа. Также протекает приток Москва-реки. Мы уже начали купаться. Я тебе кажется писала, что я в бассейне научилась плавать, но пока только на спине. Я собираю маленьких жуков и сегодня нашла первый подосиновик. Сегодня после полдника со мной и еще с тремя девочками и вожатой приключилось интересное происшествие. Мы пошли собирать растения и попали под грозу. Полил ужасный дождь, и мы спрятались под молодыми елочками, как в шалаше. Но все-таки промокли до нитки и с песней добежали до лагеря. Сегодня мы поймали птенчика, который выпал из гнезда и отпустили. Ну, пока все. Пиши почаще. До свидания. Приезжай поскорей. Целую крепко, крепко, крепко. Твоя Наташа»Письмо написано карандошом. Сзади приписка от мамы:
«посылаю тебе письмо Наташки, которое она прислала из лагеря для передачи тебе. Как видишь, у девчонки все благополучно. Если можно, сними обет молчания, потому что поводов для беспокойства у меня достаточно, их в изобилии мне доставляет мой т. н. шеф През…»
«Дорогая моя мамуленька! 23 июня — 49 г. Я взяла себе в привычку каждый вечер писать тебе обо всем. Сегодня у нас было первое занятие географического кружка. Как интересно! Около нас стоит маленькая часовенка, построенная при смерти одного самодура-помещика фон-Мека. У него было два поместья, Аксаково и Красновидово. И вот ему взбрело в голову на огромном пароходе по мелкой речушке проехать полтора км из Аксаково в Красновидово. И вот эти несчастные полтора км они ехали 7 дней, непрерывно садясь на мель. Потом ему еще взбрело в голову в преддверии лета пройти на лыжах из одного поместья в другое. Для этого всю дорогу застлали ватой, и он со своей свитой пошел. Дальше он рассказал много интересного о реке. Но некоторое из его объяснения я не поняла. Дальше мы пошли полем. А потом вошли в лес. Там мы учились кричать как филины, но это очень трудно, и у меня есть сдвиги, но небольшие. А потом каждая пара должна была разложить и зажечь костер одной спичкой. Мы быстрей всех разожгли костер. Я сначала взяла кусочек коры, зажгла и поднесла к коре, которая была в костре. Она вспыхнула. Потом и все загорелось. Получился очень веселый костер. А потом выкопала яму и схоронила там угли и даже не заметно было, что здесь только что горел веселый огонек. А потом мы наткнулись на огромный муравейник. Студент посоветовал их попробовать. Я сначала не решилась, а потом попробовала и решила, что это довольно вкусно. А потом мы быстрым шагом вернулись домой. Я устаю меньше даже других девочек. А потом я весь вечер танцевала. Вот все, что я хотела написать. Да, мамуля, пришли калоши, потому что идут беспрерывные дожди, и было прямо счастье, что мы выбрали два часа без дождя. Еще, пожалуйста, пришли форму, потому что все-таки холодновато без платья. Ну, до свидания, пиши чаще, если сможешь, приезжай обязательно. Поцелуй бабулю. Целую крепко, крепко, крепко. Твоя Наташа»
«Мамуля! Пришли, пожалуйста, романсы на слова Пушкина. И ноты. Нам скоро привезут пианино.»Боже, какая же я была наивная и простоватая маленькая девочка. Но из песни слова не выкинешь. Самое главное, что события в письмах описываются в то далекое время прямо по горячим следам, а не по воспоминаниям через десятки лет, оказывается, того же самого, но совсем другого человека.
 А вот и автор приведенных в этой главе и чудом сохранившихся писем из детства автора этих воспоминаний (Н. Л.).
А вот и автор приведенных в этой главе и чудом сохранившихся писем из детства автора этих воспоминаний (Н. Л.).
 Трое в лодке. Догадайтесь, кто? Крым, Евпатория, 1948 год. Папа приехал в отпуск из Германии.
Трое в лодке. Догадайтесь, кто? Крым, Евпатория, 1948 год. Папа приехал в отпуск из Германии.
 Моя мама, Эмма Григорьевна Ломовская (справа) со студентами, поступившими на биолого-почвенный факультет МГУ в 1948 году.
Моя мама, Эмма Григорьевна Ломовская (справа) со студентами, поступившими на биолого-почвенный факультет МГУ в 1948 году.
 1949 год. Мы отдыхаем с мамой в Крыму в Алупке-Саре. Папа ещё не вернулся из такой длительной командировки в Германию.
1949 год. Мы отдыхаем с мамой в Крыму в Алупке-Саре. Папа ещё не вернулся из такой длительной командировки в Германию.
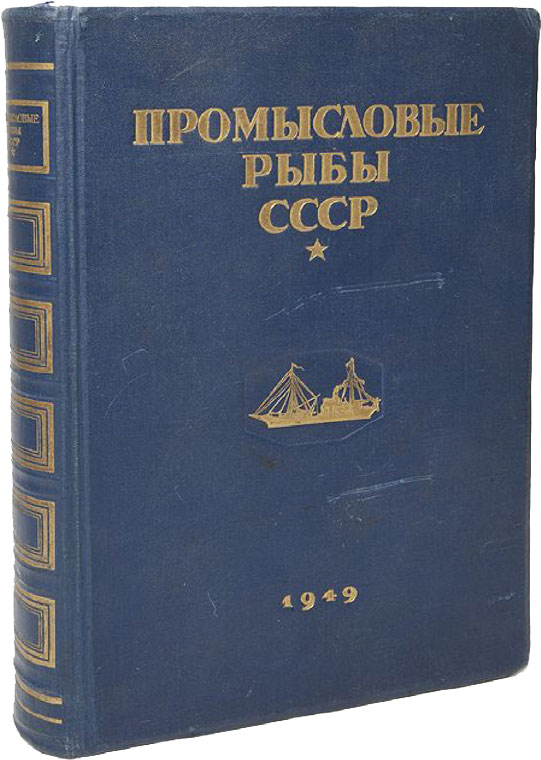
От издателя
Москва, 1949 год. Пищепромиздат. С иллюстрациями. Здесь содержатся основные сведения по биологии и промыслу рыб бывшего СССР. Это издание служит приложением к атласу “Промысловые рыбы СССР” (к каждому рисунку в нем читатель может найти в книге достаточно полную характеристику рыбы), но может использоваться отдельно как справочник. Описания рыб представляют самостоятельные очерки, состоящие из однотипно написанных разделов, что облегчает наведение справок по отдельным вопросам биологии и промысла. Эти очерки показывают богатство промысловой ихтиофауны нашей стран и пути ее практического использования.Содержание
Введение. Указания к пользованию книгой “Промысловые рыбы СССР”. ОПИСАНИЯ РЫБ. Миноговые. Сельдевые акулы. Колючие акулы. Скатовые. Скаты-хвостоколы. Осетровые. Сельдевые. Анчоусовые. Лососевые. Хариусовые. Корюшковые. С аланксовые. Щуковые. Чукучановые. Карповые. Вьюновые. Сомовые. Угревые. Саргановые. Макрелещуковые. Полурыловые. Тресковые. Колюшковые. Кефалевые. Атериновые. Змееголовые. Центрарховые. Серрановые. Окуневые. Луфаревые. Ставридовые. Горбылевые. Спаровые. Смаридовые. Султанковые. Губановые. Зубатковые. Бельдюговые. Песчанковые. Волосохвостовые. Скумбриевые. Пеламидовые. Головешковые. Бычковые. Скорпеновые. Терпуговые. Бычки-рогатки, или подкаменщиковые. Байкальские широколобки. Пинагоровые. Тунцовые. Калкановые. Камбаловые.
 Думаю, что папа (Д. В. Шаскольский) и мама (Э. Г. Ломовская) сфотографировались после приезда папы из командировки в Германию, наверное, в самом конце 1949 или в начале 1950 года. Чувствуется, что оба довольны окончанием такой длительной разлуки. В то же время, представляется, какой нелёгкий груз пронесли они в первое десятилетие их совместной жизни, хотя, слава богу, оба остались живы.
Думаю, что папа (Д. В. Шаскольский) и мама (Э. Г. Ломовская) сфотографировались после приезда папы из командировки в Германию, наверное, в самом конце 1949 или в начале 1950 года. Чувствуется, что оба довольны окончанием такой длительной разлуки. В то же время, представляется, какой нелёгкий груз пронесли они в первое десятилетие их совместной жизни, хотя, слава богу, оба остались живы.
 Взрослею (я, Н. Л.), 1951 год. Отдыхаем под Полтавой. Живём у хозяев с полным пансионом. Даже сейчас вспоминаю, как вкусно и недорого они нас кормили.
Взрослею (я, Н. Л.), 1951 год. Отдыхаем под Полтавой. Живём у хозяев с полным пансионом. Даже сейчас вспоминаю, как вкусно и недорого они нас кормили.
 Н. Д. Ломовская, 1955 г.
Н. Д. Ломовская, 1955 г.
Глава 7 Посвященная памяти моих родителей — Э. Г. Ломовской и Д. В. Шаскольского
Возвращусь еще ненадолго к более раннему периоду нашей жизни, может быть, немного повторюсь. Кроме уже приведенных маминых писем, практически, никаких других документов той эпохи у нас не сохранилось. Причина — наше полное непонимание необходимости описания событий уходящих жизней наших родителей и наших. Мои родители не выбрасывали многих свидетельств их жизни, но и не оставили ни воспоминаний, ни дневников, ни оформленного архива. Единственное, что мама сделала по моей просьбе, — это она подписала имеющиеся в нашей семье фотографии. О том, чтобы написать воспоминания, даже мысли ни у неё, ни у папы не возникало. Так же, как и у меня, её попросить об этом. Я думаю, у нее бы это получилось, судя по приведенным здесь письмам. Когда она ушла с работы по болезни в 1978 г., она до самой своей кончины в 1985 г. очень страдала, что осталась не у дел, как и многие люди ее поколения, но времена для воспоминаний еще не наступили. Наш внезапный отъезд в Америку (на сборы был только один месяц без отрыва от работы) усугубил ситуацию. Взять с собой можно было только очень ограниченное число вещей, т. к. первоначально планировалась только годовая командировка, а не отъезд в эмиграцию. Как я уже упоминала, помогает папина трудовая книжка, которая позволяет восстановить последовательность событий. Так что при описании нашей жизни, практически, приходится полагаться только на память, которая меня часто подводила и подводит. Конечно, если бы не наш внезапный отъезд (если бы да кабы), я надеюсь, но совсем в этом не уверена, что мне пришла бы в голову мысль привести в порядок их архив, но это потребовало бы очень больших усилий, таких же, как и труд по написанию этих воспоминаний. Некоторые документы и фотографии мы успели перед отъездом оставить Лёниной сестре Мире, и она хранила их вплоть до нашего приезда в Москву в 2010-м году. Мама с папой никогда не стремились купить дачу под Москвой, предпочитая каждый год отдыхать в разных местах, и целый год копили деньги на отпуск. В один из отпусков отдыхали под Батуми, увидели, где прошло детство и юность Э. И. Адировича, провели отпуск в субтропиках с растущими там эвкалиптами. Батуми показался мне тогда таким провинциальным городом, даже не верилось, что в нём провел годы своей молодости дядя Эмма. Но на то и российская провинция, которая подарила миру столько талантливых людей! Потом в Калифорнии запах эвкалиптов сразу вернул меня в ту далекую поездку под Батуми. Летние каникулы до отпуска родителей я проводила или на рыбхозе с папой или на даче, которую снимала моя тетя Майя (М. П. Шаскольская) в поселке Луцино под Звенигородом. Об этом я уже писала. Впоследствии комнату соседей в квартире Марианны Петровны удалось обменять, и в ней стала жить Екатерина Николаевна Драгунова — автор известного учебника английского языка. Она пережила ленинградскую блокаду, и я помню, что она всегда работала лежа. Я думаю, что она после ареста матери Марианны Петровны принимала какое-то участие в ее судьбе. Приезжала в Луцино и моя мама, которая наведывалась и на Звенигородскую биостанцию, заходила к Скадовским, так как дружила с дочерью С. Н. Скадовского Ниной Сергеевной Строгановой (Скадовской). С. Н. Скадовский (1886–1962) был основателем Звенигородской биологической станции и зав. кафедрой гидробиологии биофака МГУ. Нина Сергеевна и ее муж Николай Сергеевич Строганов работали на биофаке, а в 30-е годы он был сотрудником кольцовского института. Так что им было что вспомнить. Мы с дочерью Строгановых Мариной провели под Звенигородом пару зимних школьных каникул. Зима под Москвой для двух городских девочек была такой красивой! Искристо-белый глубокий снег, ослепительно яркие звезды ночного неба, манящие огни домов соседних деревень. Ходили в долгие прогулки на лыжах. Любовь к лыжам я сохранила на всю жизнь и вырывалась на лыжные прогулки до самого отъезда из Москвы. Марина училась на почвенном отделении биофака, и наши пути разошлись после звенигородской практики 2-го курса университета. Во время этой практики я еще бывала в доме Скадовских, помню пение его жены Людмилы Николаевны. Марина Николаевна Строганова впоследствии стала крупным почвоведом. Ее биография и научная деятельность подробно описаны на ряде сайтов в интернете. Она — лауреат Государственной премии СССР за 1987 г., автор монографий, учебных пособий и почвенных карт. В последние годы она уделяет большое внимание описанию родословной семьи Скадовских, которая корнями уходит в далекое прошлое, и издала книгу по истории этой семьи. В последний наш визит в Москву (2010 г.) мы поехали в Луцино по приглашению другой Марины, дочери Ирмы Расс. Семье Марины удалось построить большой современный дом в бывшем академическом поселке Луцино, и я довольна, что кто-то из наших знакомых хорошо живет в местах моего детства. Ирма вызвалась проводить нас с Лёней на Звенигородскую биостанцию, расположенную в 15 минутах ходьбы от их дома. Зашли мы и в дом Скадовских. Марина и ее муж оказались дома. Дом состарился и не напоминал усадьбу (как мне тогда казалось) далеких 50–х. Марина подарила нам одну из книг, вышедших под ее редакцией и с ее примечаниями. Автор книги «Воспоминания о русском доме» — Анна Бродская (Скадовская), жена выдающегося музыканта Адольфа Давидовича Бродского (1851–1929), первого исполнителя второго скрипичного концерта П. И. Чайковского. Книга замечательная, и по моему мнению, является образцом книг этого жанра. Она была написана на английском языке и увидела свет в 1904 г. Автор книги так же, как и я (да простят мне читатели мою нескромность), очень сомневалась в том, что ее книга вызовет у кого-то интерес и писала ее для себя. Друзья настояли на издании ее воспоминаний, и книга, вышедшая в 1904 году, при жизни автора, выдержала два издания. На русском языке книга увидела свет более века спустя, в 2006 году. Она прекрасно издана в Издательском доме «Коктебель» с великолепными фотографиями и другими иллюстрациями. Многие из них хранятся в архиве М. Н. Строгановой. Несколько летних школьных каникул я провела с папой на рыбхозе «Нива» Воронежской области. В. Москве в школьные годы я больше общалась с мамой, была очень к ней привязана, с папой такого теплого общения я не припоминаю, хотя мои и мамины письма к нему говорят об обратном. Но на «Ниве» вдвоем мы с папой очень дружили, он много знал, мне было с ним интересно, и он не делал мне замечаний, как часто случалось дома. Папа приезжал летом на рыбхоз как сотрудник Института прудового и рыбного хозяйства заниматься выведением новых пород рыб. Я хорошо помню огромных и маленьких зеркальных (почти без чешуи) и чешуйчатых карпов. Папа метил их клеймом и выращивал мальков из икры, полученной в результате разных скрещиваний. Мы питались яйцами, молоком и медом с соседней пасеки, который у нас не переводился. Я думаю, что папа, всю жизнь влюбленный в пчел как в генетический объект, давал пасечникам хорошие советы, и они в благодарность снабжали нас первосортным медом. Над электроплиткой в нашей комнате висело объявление «А в яичницу соль», так как я всегда забывала ее посолить. Однажды папина помощница пригласила нас к себе на обед. На столе стояла большая миска с борщом со сметаной и все — ее дети и мы — ели из этой миски. Потом ели яичницу из двух дюжин яиц. При этом хозяйка приговаривала: ешьте, ешьте, лучше в нас, чем в таз. И стол быстро опустел. Помню также неожиданную встречу с бычком на узкой дорожке между прудами. Я бежала от него стремглав, а он кинулся за мной. Испугалась на всю жизнь. В одну из поездок на рыбхоз заболела паратифом, схватила солнечный удар и в довершение была искусана целым роем пчел. Мама пожалела мои толстые косы и не остригла меня после болезни. Волосы вылезли и косы стали совсем тоненькими. Коротко остриглась я уже только после 3–го курса университета. Упоминание о рыбхозе «Нива» я нашла сейчас на сайте ассоциации аграрных журналистов. В статье Л. Григоровой, журнал «Край черноземный», описывается путина (осенний вылов рыбы) в АО «Павловск рыбхоз», одном из крупнейших в Воронежской области. В конце статьи упоминается, что это благополучное хозяйство взяло под свое крыло рыбхоз «Нива» в Семилукском районе, который когда-то был лидером среди рыбоводческих хозяйств Воронежской области, а теперь еле-еле сводит концы с концами. В конце статьи упоминается, что в регионе продолжается кооперация с учеными по разведению элитных пород рыб. Работая в рыбном институте и на рыбхозе «Нива», папа разработал метод отдаленной гибридизации самцов и самок рыб для их промышленного производства. При этом достигался эффект гетерозиса, рыбы достигали значительно большего веса, чем потомство одного вида рыб. С 1954 по 1957 г. папа работал доцентом кафедры прудового рыбоводства в Мосрыбвтузе, а потом снова вернулся в прежний институт, но уже заведующим лабораторией генетики и селекции. В 1961 г. он прошел по конкурсу на заведование кафедрой зоологии в Университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Как упоминалось в разговорах в семье, он не сработался на кафедре со своим другом еще по кольцовскому институту В. З., которого он взял на кафедру. В 1965 году он был зачислен на должность старшего научного сотрудника в лабораторию Н. П. Дубинина в Институт биофизики АН СССР, а с 1966 по 1972 г. уже работал во вновь организованном Институте общей генетики АН СССР. Там его работой по закрытой тематике, я предполагаю, было обследование рыб в водоемах, подвергшихся радиоактивному заражению при крупной ядерной аварии в Сибири в 1957 году. Не знаю, волею каких обстоятельств или личностей, ему предложили уйти на пенсию, и еще некоторое время он работал на временной ставке. После ухода на пенсию он осуществил свою давнюю мечту — заниматься генетикой пчелы и опубликовал на эту тему несколько крупных теоретических статей, главным образом, в журнале Генетика. К своему стыду, должна сознаться, что в те годы совсем не интересовалась папиными работами. Единственное, что мне очень нравилось, — это выбор им объекта исследования. Ссылки на статьи Д. В. Шаскольского по генетике пчелы и воспроизведение рисунков из его статей постоянно появляются на современных компьютерных сайтах. Сейчас, просматривая его статьи, поражаешься, каким же грамотным классическим генетиком он был и как прекрасно знал свой объект. Не помню, упоминала ли я уже о том, что до последних лет его жизни к нему приезжали за советом сотрудники пасек и привозили прекрасный мед. Недавно в начале статьи, опубликованной в связи с 80–тилетием института пчеловодства в 2010 г., отмечалось, что генетикой и селекцией пчел плодотворно занимались Т. А. Аветисян и Д. В. Шаскольский. Список известных ученых и специалистов-пчеловодов в аналогичной статье в 2000 г. начинался с Д. В. Шаскольского. Полностью статья Д. В. Шаскольского (ориентировочно 1964 г.) «Племенные трутни от пчел трутовок» была недавно вновь опубликована на сайте «Air Bees» в 2011 г. На этом же сайте недавно опубликована полностью папина статья «Трутни — третья часть племенного материала». В книге В. П. Николаенко «Племенная работа с пчелами» 2005 г. издания, Ростов-на-Дону, Изд. БАРО-ПРЕСС, приводятся два рисунка по Д. В. Шаскольскому. На сайте Pasechniki.ru (2011) приводятся и обсуждаются данные двух статей Д. В. Шаскольского (1964 и 1968 гг.) о влиянии гетеро- или гомозиготности по гену пола на выживаемость самок и трутней в пчелиной семье. В диссертации на звание кандидата биологических наук, поданной к защите Кукчейко, В. О., в 2002 г. «Морфофункциональные аспекты селекции среднерусских пчел в условиях республики Башкортостан» (Уфа) приводятся ссылки на 5 работ Д. В. Шаскольского 1968, 1977, 1987 и 1990 годов. А я сейчас, в 2017 году, покупаю в Сан-Франциско башкирский необыкновенный по вкусу мёд. В чем я разбираюсь, так это в качестве мёда. На сайте «Мед и пчеловодство», 2010 г. (создание и развитие сайта в г. Ногинске) также есть ссылки на работы Д. В. Шаскольского. Работе, опубликованной в журнале Генетика в 1990 году, в год его кончины, он сам придавал большое значение. У него был список, по которому он рассылал оттиски своих статей. Б. Л. Астауров всегда присылал ему благодарственную записочку о получении оттиска. Папа являлся единственным автором всех этих пчелиных работ. Сейчас, открывая интернет, вижу ещё больше ссылок на его работы. В 1990 году, более, чем через 40 лет после сессии ВАСХНИЛ и более чем полувека с начала ожесточенной политической борьбы с генетикой — наукой о наследственности, государство «покаялось» перед оставшимися в живых и подвергшихся в прошлом гонениям учеными-генетиками и наградило их правительственными наградами «за особый вклад в сохранение и развитие генетики и селекции, подготовку высококвалифицированных кадров». Папы не стало в апреле 1990 года, и его наградили в ноябре 1990 года Орденом Знак Почета посмертно. Среди награжденных было очень много известных мне имен. Привожу полный текст этого указа, чтобы ещё раз вспомнить имена учёных-генетиков, жизнь и работа которых пришлась на такой трудный для развития генетики период в жизни нашей страны. Большинство выдающихся ученых-генетиков, которые могли бы войти в этот список, к сожалению, не дожили до выпуска этого указа, но их имена остались в памяти ныне живущих, и надеюсь, что и в памяти будущих поколений.Представляется, что здесь уместно упомянуть недавно присланное мне М. Д. Голубовским упоминание о Д. В. Шаскольском в книге А. А. Любищева «В защиту науки. Статьи и письма». Л. Наука, 1991. Редакция и примечания М. Д. Голубовского. Это высказывания из статей Дмитрия Владимировича (Д. В.) с критикой лысенкоизма в период с 1953 по 1966 гг. Так, в статье «О положении в биологии и агрономии» А. А. Любищев цитирует воспоминания Д. В. Шаскольского:УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СССР УЧЕНЫХ, ВНЕСШИХ ОСОБЫЙ ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ
За особый вклад в сохранение и развитие генетики и селекции, подготовку высококвалифицированных научных кадров наградить:ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Александрова Владимира Яковлевича — сотрудника Ботанического института имени В. Л. Комарова Академии наук СССР. Давиденкову Евгению Федоровну — члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР. Лебедева Даниила Владимировича — ученого секретаря комиссии Академии наук СССР по научному наследию Н. И. Вавилова. Малиновского Александра Александровича — бывшего сотрудника Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований Академии наук СССР, ныне пенсионера. Шкварникова Петра Климентьевича — сотрудника Института молекулярной биологии и генетики Академии наук Украинской ССР.ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Александрова Александра Даниловича — академика Академии наук СССР. Атабекову Анаиду Иосифовну — бывшего сотрудника Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, ныне пенсионера. Базилевскую Нину Александровну — профессора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Блюменфельда Льва Александровича — сотрудника Института химической физики имени Н. Н. Семенова Академии наук СССР. Варшавер Нину Борисовну — бывшего сотрудника Института молекулярной генетики Академии наук СССР, ныне пенсионера. Волькенштейна Михаила Владимировича — члена-корреспондента Академии наук СССР. Галеева Гайфутдина Салахутдиновича — академика ВАСХНИЛ. Горощенко Георгия (Юрия) Леонтьевича — бывшего старшего научного сотрудника Института цитологии Академии наук СССР, ныне пенсионера. Гуляева Григория Владимировича — академика ВАСХНИЛ. Делоне Наталью Львовну — старшего научного сотрудника Института медико-биологических проблем Министерства здравоохранения СССР. Зедгенидзе Георгия Артемьевича — действительного члена Академии наук СССР. Камераза Абрама Яковлевича — бывшего сотрудника Всесоюзного научно-исследовательского института растениеводства имени Н. И. Вавилова, ныне пенсионера, гор. Ленинград. Карпеченко Галину Сергеевну — бывшего сотрудника Института общей генетики Академии наук СССР, ныне пенсионера. Карташеву Надежду Николаевну — бывшую заведующую кафедрой Томского государственного университета, ныне пенсионера. Лебедеву Нину Александровну — ведущего научного сотрудника Института общей генетики имени Н. И. Вавилова Академии наук СССР. Лукина Ефима Иудовича — бывшего заведующего кафедрой Харьковского зооветеринарного института, ныне пенсионера. Любимову Веру Федоровну — сотрудника Главного ботанического сада Академии наук СССР. Макашеву Раузу Хадиевну — бывшего сотрудника Всесоюзного научно-исследовательского института растениеводства имени Н. И. Вавилова, ныне пенсионера. Навалихину Нину Константиновну — старшего научного сотрудника Института молекулярной биологии и генетики Академии наук Украинской ССР. Навашину Елену Николаевну — старшего научного сотрудника-консультанта Института химической физики имени Н. Н. Семенова Академии наук СССР. Погосянц Елену Ервандовну — сотрудника Всесоюзного онкологического научного центра Министерства здравоохранения СССР. Чуксанову Нину Александровну — старшего научного сотрудника Ботанического института имени В. Л. Комарова Академии наук СССР.ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА
Абелеву Эльфриду Адольфовну — бывшего старшего научного сотрудника Института биологии развития имени Н. К. Кольцова Академии наук СССР, ныне пенсионера. Арасимович Валентину Вячеславовну — члена-корреспондента Академии наук ССР. Молдова. Богданову Екатерину Николаевну — бывшего сотрудника Ленинградского государственного университета, ныне пенсионера. Гецову Анну Бенедиктовну — бывшего старшего научного сотрудника Зоологического института Академии наук СССР, ныне пенсионера, гор. Ленинград. Коган Зинаиду Марковну — доцента Белорусской сельскохозяйственной академии. Левитину Полину Ильиничну — доцента Московской ветеринарной академии. Машкина Сергея Ивановича — бывшего сотрудника Воронежского государственного университета, ныне пенсионера. Мигушову Эмилию Филипповну — бывшего старшего научного сотрудника Всесоюзного научно-исследовательского института растениеводства имени Н. И. Вавилова, ныне пенсионера, гор. Ленинград. Миндлин Софью Захаровну — ведущего научного сотрудника Института молекулярной генетики Академии наук СССР. Мирека Виктора Францевича — бывшего старшего научного сотрудника Института биологии развития имени Н. К. Кольцова Академии наук СССР, ныне пенсионера. Рубцова Ивана Антоновича — бывшего старшего научного сотрудника Зоологического института Академии наук СССР, ныне пенсионера, гор. Ленинград. Светозарову Валентину Владимировну — бывшего старшего научного сотрудника Главного ботанического сада Академии наук СССР, ныне пенсионера. Тагееву Софию Викторовну — бывшего старшего научного сотрудника Института биологической физики Академии наук СССР, ныне пенсионера. Шаскольского Дмитрия Владимировича — бывшего старшего научного сотрудника Института общей генетики имени Н. И. Вавилова Академии наук СССР (посмертно). Шмерлинг Жозефину Григорьевну — бывшего заместителя заведующего отделом Института молекулярной генетики Академии наук СССР, ныне пенсионера. Щепотьева Федора Львовича — члена-корреспондента Академии наук Украинской ССР.
«Т. Д. Лысенко удалось протащить в программу партии, принятую на 22 съезде КПСС в 1961 г., фразу «Шире и глубже развивать мичуринское направление в биологической науке». Генетик Д. В. Шаскольский вспоминает: «Со свойственной лысенковцам административной ловкостью сделано было так, что предложение было опубликовано в последнюю субботу, а на следующей неделе уже открылся съезд, так что времени для обсуждения не оставалось. Съезд включил пункт Лысенко в программу. Поскольку Программу может изменять только съезд, я обратился к следующему, XXIII съезду КПСС (как полагается, заранее, через ЦК КПСС) с предложением убрать пункт, поддерживающий мичуринскую биологию, но мне еще до съезда было сообщено, что в повестке XXIII съезда нет вопроса о Программе. Таким образом, этот пункт, поддерживающий лысенковское направление, находился в Программе партии более 24-х лет — до XXYII съезда партии»Мне представляется, что папа был участником и докладчиком, по крайней мере, на двух международных конгрессах пчеловодов в Румынии и Германии. Немецкие коллеги прислали ему после конгресса изображение пчелы на изящной металлической пластинке. Папа очень гордился и радовался тому, что эта пчела была изображена очень точно, согласно ее строению. Эта пчелка и сейчас висит у нас дома теперь уже в городке Милл Вайле, примыкающем к Сан-Франциско, и всегда привлекает внимание наших друзей и знакомых. Олечка, наша дочь, в память о дедушке собирает коллекцию пчел в виде их изображений на разных предметах: посуде, столовых приборах, брошках. Коллекция пополняется медленно, т. к. пчелок найти довольно трудно. Тем приятнее, когда удается что-то найти. И, конечно, как правило, изображение пчел не отражает их настоящего строения. У меня была совершенно неосуществимая идея открыть магазин, в котором многочисленная армия пчеловодов и других покупателей могли бы купить разнообразные предметы домашнего обихода с эмблемой пчелы. Эта нереальная идея одно времязанимала мою фантазию. Такие вещи, например, с удовольствием бы покупались на конгрессах пчеловодов, которые собирают тысячи участников. Но эта идея, пожалуй, хороша только для настоящих бизнесменов. Папа очень любил и виртуозно пользовался логарифмической линейкой, охотно пытался обучать меня ею пользоваться, но я отлынивала. Сегодня (ноябрь, 21, 2011) Мира, родная сестра Лёни, в телефонном разговоре из Москвы вдруг сказала, что папина линейка еще хранится у нее в Московской квартире. Моя мама, Эмма Григорьевна Ломовская, с 1948 по 1978 год работала на биолого-почвенном факультете МГУ. После эпопеи с переливанием белка (по существу, попыткой очередного доказательства существования вегетативной гибридизации), которая не дала никаких положительных результатов (мама не собиралась ничего подтасовывать), она стала работать в области радио-биологии и регулярно публиковать результаты своих исследований. Публиковала работы в соавторстве со своей многолетней лаборанткой Е. И. Воробьевой. Елена Ивановна начала работать на кафедре еще в старые долысенковские времена. Она была старшей сестрой А. И. Воробьева, известного гематолога. Мама бывала в доме Воробьевых, и ее хорошо знали в лаборатории А. И. Воробьева. Препаратором в их маленькой группе работала Надежда Дмитриевна (фамилии не помню). У нее была большая семья, и она очень нуждалась. Мама иногда приглашала ее за плату помочь приготовить ужин для гостей. Она была прекрасной хозяйкой и готовила очень вкусно и быстро. У нее я научилась сразу мыть посуду в процессе приготовления еды. Мама хорошо знала и очень ценила А. А. Нейфаха, с которым поддерживала одно время научные контакты, а через много лет с А. А. Нейфахом и его женой Леной Лазовской дружила наша дочь Оля. Они и сейчас близкие подруги с Леной. К сожалению, в интернете мне удалось найти ссылки только на три мамины работы, процитированные в наши дни. Очень много лет в одной лаборатории с мамой и по сходной тематике работала Фаина Борисовна Шапиро, с которой мама дружила долгие годы. Я предполагаю, что она также как и Е. И. Воробьева начинала работать на кафедре, которой заведовал И. И. Шмальгаузен. Фаина Борисовна бывала у нас дома и знала меня совсем еще маленькой девочкой. Помню, как она схватилась за голову, когда поняла, что Наташке (мне) уже 50. Перед нашим отъездом в Америку встретились с ней случайно на Университетском проспекте и попрощались навсегда. Помню, что мама много лет читала курс общей биологии, но не на биофаке, а на другом факультете МГУ. Думаю, что она была хорошим и опытным лектором, имея перед собой на лекции только очень краткий конспект. Ни слайдов, ни компьютеров, ни других усовершенствований, которые облегчают жизнь сегодняшних лекторов и докладчиков, конечно, не было и в помине. Только цветные мелки! Преподавательской работой она стала заниматься, имея большую преподавательскую нагрузку еще в Хабаровском педагогическом институте, а потом и на кафедре гистологии в Военно-ветеринарной академии. Так что ее педагогический стаж не прерывался в течение многих десятилетий. Вспомнила смешной случай: мама работала много лет в Академии с В. Н. Кошелевым. Его жена была дочерью от первого брака академика В. Н. Шапошникова, выдающегося ученого-микробиолога. Кошелевы были вместе с нашей семьей в эвакуации в Аральске и в Самарканде и общались с моими родителями и после войны. Как-то раз мама была у них в гостях и в дверях появился их племянник, Миша Иванов, тогда студент биофака, а в будущем академик РАН и многолетний директор Института микробиологии РАН. Увидев маму, своего преподавателя, он остолбенел и выскочил за дверь. Она до этого, наверное, не приняла у него зачет. В отличие от мамы, я никогда не занималась педагогической деятельностью, считала, что не смогу по времени совместить научные исследования с преподаванием и предпочла заниматься только наукой. Отсутствие лекторского опыта я всегда ощущала, готовясь и выступая с докладами. Мой муж всегда настаивал, чтобы я не пользовалась написанным текстом. Один раз я очень удивилась, когда молодой сотрудник нашего московского института подошел ко мне после доклада и сказал, что он был бы готов меня еще долго слушать. Думаю, просто польстил, но мне, любительнице похвал, было приятно. Раньше об этом моём свойстве я никогда не задумывалась. Было некогда. В последние годы работы в университете, по-моему, в результате очередной реорганизации, маму пригласил работать к себе в лабораторию Борис Александрович Кудряшов, который в те годы заведовал кафедрой физиологии и возглавлял лабораторию физиологии и биохимии свертывания крови. Б. А. Кудряшов — автор крупных открытий в области изучения свертывания крови. Он также автор и организатор производства препарата тромбина, используемого для остановки кровотечений и спасшего жизни сотен тысяч раненых во время войны, а также фибринолизина, используемого для предотвращения тромбозов. Мама работала у Бориса Александровича вплоть до 1978 года, когда ей пришлось уйти на пенсию по состоянию здоровья, и очень страдала, что осталась не у дел. Очень любила свою правнучку Анечку, ездили с папой отдыхать на турбазы Дома ученых, вместе с К. А. Головинской были на съезде ВОГИС имени Н. И. Вавилова в Минске в 1984 году. А в 1985 году ее не стало. Я всегда чувствую свою вину перед мамой в том, что не уделяла ей достаточно внимания в мои зрелые годы, но она ни разу меня в этом не упрекнула.
 Мы с папой на рыбхозе «Нива». Начало 50-х. Я в один из годов на рыбхозе умудрилась заболеть возвратным тифом, а ещё один раз на меня напал целый рой пчёл. Так что не обходилось и без приключений.
Мы с папой на рыбхозе «Нива». Начало 50-х. Я в один из годов на рыбхозе умудрилась заболеть возвратным тифом, а ещё один раз на меня напал целый рой пчёл. Так что не обходилось и без приключений.
 Э. Г. Ломовская (крайняя слева) на конференции в Магдебурге (ГДР) в 1958 году.
Э. Г. Ломовская (крайняя слева) на конференции в Магдебурге (ГДР) в 1958 году.
 Мой папа Д. В. Шаскольский (крайний слева) участвует в международном конгрессе пчеловодов в Румынии в 1965 г.
Мой папа Д. В. Шаскольский (крайний слева) участвует в международном конгрессе пчеловодов в Румынии в 1965 г.
 После его доклада папе предпонесли металлическую пчелу. Она и сейчас украшает наш дом в живописном городке под Сан-Франциско, США.
После его доклада папе предпонесли металлическую пчелу. Она и сейчас украшает наш дом в живописном городке под Сан-Франциско, США.
 Мои (Н. Л.) родители, Эмма Григорьевна Ломовская и Дмитрий Владимирович Шаскольский, ещё молодые, отдыхают в доме отдыха Пестово (14–25 января 1955 года).
Мои (Н. Л.) родители, Эмма Григорьевна Ломовская и Дмитрий Владимирович Шаскольский, ещё молодые, отдыхают в доме отдыха Пестово (14–25 января 1955 года).
 Родители на рыбхозе «Нива», 1960 год.
Родители на рыбхозе «Нива», 1960 год.
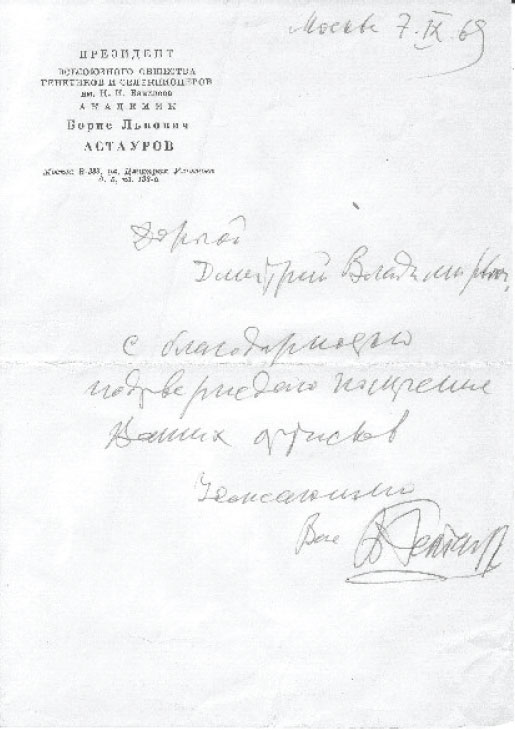 Помню, что Борис Львович Астауров всегда присылал записку, подтверждающую получение оттиска опубликованной папой статьи. Они были многолетними коллегами, работая в кольцовском институте в 30-е годы.
Помню, что Борис Львович Астауров всегда присылал записку, подтверждающую получение оттиска опубликованной папой статьи. Они были многолетними коллегами, работая в кольцовском институте в 30-е годы.
 Мой папа в свободное от работы время, в основном, в отпуске любил сочинять небольшие поэмы по поводу времяпровождения в хорошей компании и читать их вслух всем присутствующим. Турбаза Дома учёных в Паланге (Литва), 28 июля 1975 года. Там же с ними отдыхали их внучка Оля (наша с Лёней дочка) и Марианна Петровна Шаскольская. Оля помнит, что давала Марианне Петровне уроки игры в настольный теннис.
Мой папа в свободное от работы время, в основном, в отпуске любил сочинять небольшие поэмы по поводу времяпровождения в хорошей компании и читать их вслух всем присутствующим. Турбаза Дома учёных в Паланге (Литва), 28 июля 1975 года. Там же с ними отдыхали их внучка Оля (наша с Лёней дочка) и Марианна Петровна Шаскольская. Оля помнит, что давала Марианне Петровне уроки игры в настольный теннис.
 Мои родители в подмосковном доме отдыха в Красновидово летом 1984 года.
Мои родители в подмосковном доме отдыха в Красновидово летом 1984 года.
 Навещаю (Н. Л.) редко своих родителей в доме отдыха в Красновидово зимой 1985 года. Ничто ещё не предвещало того, что этот год будет последним в жизни моей мамы.
Навещаю (Н. Л.) редко своих родителей в доме отдыха в Красновидово зимой 1985 года. Ничто ещё не предвещало того, что этот год будет последним в жизни моей мамы.
 Моя мама любила эту фотографию. Просто фото для паспорта. Даже печать проглядывает слева.
Моя мама любила эту фотографию. Просто фото для паспорта. Даже печать проглядывает слева.
Глава 8 Годы учёбы в Московском Университете
Когда я поступила на биолого-почвенный факультет МГУ, моя жизнь совершенно изменилась. Не надо было делать каждый день домашних заданий и отвечать на уроках. Поначалу, первые полгода — не жизнь, а сплошные развлечения. Расплата не заставила себя ждать. Первый год мы еще учились в старом здании университета на Моховой. Лекции слушали в Большой Зоологической аудитории, семинарские занятия проводились в Зоологическом музее. Анатомичка размещалась в подвале. Многое из университетской жизни, к сожалению, выветрилось из памяти. В университет я ходила пешком с Малой Бронной, и у меня скоро появился попутчик Р. Ш., который тоже жил на Малой Бронной и учился со мной в одной группе. Он уже был заядлым зоологом с совершенно сложившимися интересами в биологии. От него я научилась завязывать некоторые морские узлы, правильно точить карандаши, а главное, у него первого я переняла интерес к научным исследованиям. Наша группа быстро сдружилась, мы провели вместе два года, после которых началась специализация по кафедрам. Общалась чаще всего с Ирмой Расс, Верой Кудеяровой, Таней Белошапкиной, Семеном Милейковским, Володей Познером. Володя только недавно эмигрировал с родителями в Советский Союз, но говорил хорошо по-русски с легким акцентом. Общаться со сверстниками мужского пола было необычно после учебы в женской школе. По воскресным дням ездили за город, ходили в гости друг к другу. На первом же экзамене по ботанике (анатомия и морфология растений) схватила четверку. Четверку получила и по политэкономии. Научил меня сдавать экзамены по политическим дисциплинам только в конце моей учёбы в университете мой будущий муж Лёня Фонштейн. В начале ответа надо было сразу процитировать классиков. Работало безотказно. Помню, на семинаре по истории КПСС при чтении одной из сталинских работ я, по полной наивности, сказала, что эта статья является кратким изложением работы Ленина. Преподаватель посмотрел на меня и замял мое замечание. По его взгляду я поняла, что если бы Сталин был еще жив, мне было бы не избежать неприятностей. Многие лекторы нам очень нравились. Кумиром был Лев Александрович Зенкевич, читавший курс зоологии беспозвоночных. С тех пор я сохранила к ним нежную платоническую любовь, особенно к планктону северных морей. Нравились и лекции Олега Реутова, молодого, но уже известного химика. Он любил пошутить на лекциях, разбавляя шутками серьезность предмета. На лекциях по истории КПСС садились на задние ряды и вместо конспекта лекции записывали довольно безграмотные высказывания лектора. На втором курсе учились уже в Новом здании биофака на Ленинских горах. Странно было сидеть не за общим тесным столом, а в больших комнатах для занятий, в больших аудиториях. Новое здание университета всегда казалось мне похожим на Московский метрополитен. Помпезный стиль заказчика вполне узнавался. Здание биофака казалось мне мрачноватым. Не хочется вспоминать о том, как добирались в первые годы до нового здания университета. Доезжали до Калужской (впоследствии Октябрьской) площади, а оттуда до университета шел один единственный автобус, который должен был каждый день перевезти туда и обратно многие тысячи студентов и преподавателей университета. Автобус брали штурмом. Иногда мы на обратном пути из университета шли пешком до Калужской площади. Расстояние не малое. Потом пустили еще один автобус до университета от Киевского вокзала. Появилась альтернатива. Наша дружба в группе как-то ослабела, все уже выбирали, на какую кафедру пойти для дальнейшей специализации. Во время последующей учебы я дружила с Ирмой Расс, была в хороших отношениях с Юрой Винецким, с Володей Познером, хотя все уже разошлись по разным кафедрам. Владимира Владимировича Познера уже давно знает вся страна. Окончил он кафедру высшей нервной деятельности, но после окончания биофака много лет работал в секретариате С. Я. Маршака и впоследствии стал известным на всю страну журналистом-международником. В 90–х работал несколько лет на телевидении в США, а потом вернулся в Россию. В моей памяти он остался моим однокурсником и очень приятным в общении человеком. Правда, видя его на экране телевизора Я воспринимала его как очень повзрослевшего и скорее неизвестного мне человека. Наверное, при общении в школе и в институте трудно себе представить, как сложится судьба и как реализуются возможности окружающих тебя школьниц и студентов. Может быть, кто-то более внимательный и проницательный мог бы что-то предсказать. Когда мы с моей внучкой Анечкой улетали в Америку в 1991 году, я — читать лекции, а она навсегда к своей маме, мы увидели Володю Познера в аэропорту Шереметьево. Я как-то не решалась подойти к такой знаменитости, но Анечке очень хотелось с ним пообщаться, и я ей уступила. Володя сразу стал вспоминать студенческие годы и превратился в того прежнего юношу, которого я знала в далекие студенческие годы. Он вспомнил, как в конце 70-х на одной из встреч нашего курса подошел ко мне и отметил, что я одна из немногих, кто поднимал руку на все заданные анкетные вопросы; мы вспоминали тех, кто уже стал доктором наук, опубликовал статьи в иностранных журналах, обзавелся внуками. Не могу не упомянуть про одну встречу в мои студенческие годы, которая произвела на меня большое впечатление. Моя тетя Валя после рождения дочки жила какое-то время у нас на Малой Бронной. Ее муж Семён Горностаев был актером Великолуцкого театра драмы. Однажды, когда он приехал навестить жену и дочку, к ним в гости пришел его однокурсник по театральному училищу. Им оказался тогда еще не бывший в расцвете своей заслуженной славы Евгений Евстигнеев. После этого визита мы с ним встретились, долго гуляли. Он рассказывал о профессии актера, показывал, как надо говорить со зрителем, чтобы зритель его услышал. Он был еще совсем молодым и, наверное, неизвестным актером, но в нем чувствовалась порода. Телефона у нас дома не было еще с военных времен. Позвонить по оставленному им телефону в театр я постеснялась. Так и осталась эта приятная встреча со знаменитой личностью в моей памяти. Тогда уже несколько слов о Татьяне Самойловой, с которой я проучилась семь лет в одном классе. Таня, по-моему, сразу после школы поступила в театральное училище, вышла замуж за красавца Василия Ланового, но брак оказался недолговечным. Через несколько лет после окончания школы Татьяна Самойлова стала мировой знаменитостью, снявшись в главной роли в кинофильме «Летят журавли». Мне казалось, что на экране просто жила девушка, которую мы знали столько лет, что она просто сыграла сама себя, настолько ее образ был знаком. Как я уже упоминала, после окончания школы все мои одноклассницы каждый год встречались. Надо отдать должное Тане, что она тоже часто приходила на наши встречи и виделась со своими более близкими подружками из нашего класса в зените своей славы. Когда я училась, по-моему, на втором курсе университета, в очень комфортабельном и помпезном помещении клуба в новом здании состоялся концерт агитбригады биофака МГУ. Пели студенческие и туристские песни на стихи и музыку самих участников концерта. Среди них были впоследствии очень известные композитор Г. Шангин-Березовский и поэт Д. Сухарев. Душой и режиссером концерта была Ляля Розанова. Все участники концерта были старшекурсниками. По существу, это были авторские песни, которые с восторгом принимались студенческой аудиторией. Впоследствии этот же коллектив авторов и исполнителей поставил пьесу-капустник «Комарики», которая тоже пользовалась большим успехом. После окончания второго курса летнюю практику проходили на знаменитой Звенигородской биологической станции, которая сейчас носит имя ее основателя Сергея Николаевича Скадовского (1886–1962). Станция была основана в 1910 году на территории имения, принадлежащего семье Скадовских. В 1918 году она перешла в собственность государства и до 1935 года входила в состав Кольцовского института ИЭБ (Институт экспериментальной биологии). С. Н. Скадовский заведовал в этом институте кафедрой физико-химической биологии. За сборник трудов станции под его редакцией ему присудили в 1929 году Ленинскую премию. Как я уже упоминала, станция стала также летней резиденцией сотрудников генетических лабораторий ИЭБ, где были начаты пионерские работы по насыщенности мутациями природных популяций дрозофил. В описываемые мной годы все студенты второго курса биофака проходили на Звенигородской биостанции практику по зоологии, ботанике и другим общебиологическим дисциплинам. Ряд кафедр биофака имели там постоянные места для работы на Верхних дачах, а Нижние принадлежали второкурсникам. Когда мы приехали в Москву в 2010 году и посетили биостанцию, Верхние дачи выглядели так же, как и 50 лет тому назад. Говорят, что на Нижних дачах что-то перестроили. На зоологической практике учились узнавать голоса разных птиц, каждая из которых имела свой собственный ареал обитания. Определяли видовую принадлежность множества растений и грибов. Но после сдачи зачетов все улетучилось из моей головы, и я не считаю себя настоящим биологом и всегда завидовала, конечно, белой завистью, нашему другу Юрию Дьякову, его жене Тане и их сыну Максиму, настоящим биологам. Во время практики заходила я в гости и в дом Скадовских, который тогда казался большим и ухоженным. Почему-то жена Сергея Николаевича, Людмила Николаевна, вспоминается одетой в русский национальный костюм. Может быть, я и ошибаюсь. Еще помню, что от станции Звенигород я часто ходила одна пешком до биостанции, это 10 или 12 километров и почему-то не боялась, проходила каждый последующий километр быстрее предыдущего. Вечерами у костров пели песни Г. Шангина-Березовского: «Листопад», «Трава умыта ливнем», «В. Звенигород, Звенигород идем» и другие. Эти песни сливались с настроением и прекрасной средне-русской природой Подмосковья. Ирма Расс и Юра Винецкий поступили на вновь организованную на биофаке кафедру биофизики, и я часто туда к ним приходила. На факультете в то время заработала установка для облучения гамма-лучами, и Юра однажды подшутил над наивной студенткой из их группы, послав ее в деканат за получением свинцовых трусов. Аспирантом на кафедре биофизики в это время был Борис Вепринцев (1928–1990), с которым я вскоре познакомилась. Оказалось, что он был арестован, будучи студентом МГУ, и недавно вернулся из лагерей, где провел несколько лет. Об этом периоде своей жизни упоминал только, что встретил там много интеллигентных, высокообразованных людей, которых трудно было бы встретить за такое время на свободе. В конце 60-х как-то встретились с ним на школе по молекулярной биологии в Дубне. Он пригласил меня послушать песни, исполняемые Юлием Кимом, на квартире у одной из жительниц Дубны. Народу пришло очень много. Песни были сплошь антисоветские, произвели на меня большое впечатление, но я сидела в страхе, что сейчас нас всех заберут. Юлий Ким, помнится, тогда учительствовал и писал песни к кинофильмам под псевдонимом «Михайлов». Борис в это время стал настоящей знаменитостью, кроме всего прочего, записывая голоса птиц, и рассказывал, что встречался с Н. С. Хрущевым. На следующий день поехали с ним кататься на лыжах, и он оставил меня далеко позади, уехал, не оглядываясь. В последние с ним встречи он подарил мне оттиск статьи, в которой проводил идею о сохранении генофонда животного мира. Эта инициатива совершенно не находила поддержки в официальных академических кругах. О. Борисе Николаевиче Вепринцеве можно прочесть прекрасный очерк в книге С. Э. Шноля «Герои, злодеи и конформисты российской науки», 2001, Москва, Крон-Пресс. Автор долгие годы был его близким другом. В последующие годы наши пути с Борисом почти не пересекались. Он прожил яркую и короткую, по теперешним меркам, жизнь. Я была уже только на его гражданской панихиде на биофаке МГУ, стояла там рядом с Борисом Виленкиным, с которым познакомилась очень много лет назад на Беломорской биостанции. Как-то узнали друг друга. Одним из самых ярких воспоминаний о студенческих годах были две поездки на Беломорскую биологическую станцию (ББС) летом после 1–го курса и зимой после 4–го курса во время зимних каникул. Везли с собой крупы, консервы из Москвы по списку, выданному заранее. Поехала я туда (обычно ездили студенты более старших курсов) по протекции Ф. М. Куперман, работающей на кафедре дарвинизма. Ехал туда и ее сын Игорь Шульгин, который учился уже на последних курсах биофака. У меня было задание от Фаины Михайловны посадить на биостанции семена зерновых и в разное время суток лишать их естественного света, накрывая молодые проростки бумажными пакетиками. Помнится, что я все сделала аккуратно, и она была довольна. Я только запомнила, что особенностью северных широт является более высокое процентное содержание ультрафиолетовых лучей в сумерках. В поезде до Кандалакши вечером я отравилась консервами. Утром мы (человек 6 или 8) пересели на моторную лодку, чтобы добраться до острова, на котором была расположена биостанция. Время пути — около трех часов. Вспомнить страшно время, проведенное на этой лодке. Жизнь на биостанции била ключом: занятия, большая стройка, в которой все принимали участие, совершенно бессонные ночи (был разгар белых ночей), солнце не заходило, а только склонялось к горизонту и всходило вновь, спать с непривычки при дневном свете ночью было трудно. Незнакомые мне песни пел по вечерам под гитару Николай Андреевич Перцов — директор ББС и главный организатор существования этой структуры на, по существу, необитаемом острове. Эти песни навсегда врезались в память. Совсем близко, но к югу от станции стоял столб, указывающий, что территория к северу от него лежит за полярным кругом. Природа вокруг станции была как-будто неприметная, с мхами, карликовыми деревьями, но она почему-то завораживала, и я всегда хотела приехать туда еще раз. Практику для студентов кафедры зоологии беспозвоночных, которую я тоже посещала, проводила доцент кафедры Вера Александровна Бродская. Она хорошо знала мою маму, многих генетиков, уволенных с биофака после сессии ВАСХНИЛ. В 1955 году ее подпись стояла под знаменитым «письмом 300», которое послали в ЦК КПСС генетики и ученые других специальностей, ратующие за восстановление генетики в стране и прекращение поддержки лженаучных направлений в науке. Письмо содержалось в секрете многие десятилетия. 50-летие послания письма отмечалось в 2005 году. Его содержание можно сейчас прочесть на интернете. Приводится и полный список людей, которые его подписали. Всем, интересующимся историей биологии, советую его прочесть и снять шапки перед теми, кто его подписал в самые тяжелые времена засилья лысенковщины. Результатом послания этого письма оказалось снятие Т. Д. Лысенко с поста президента ВАСХНИЛ. Насколько мне известно, подписавшие письмо не пострадали, но эпоха лысенкоизма продолжалась. Вернусь на ББС. На занятиях под лупой и микроскопом смотрели на представителей планктона Белого моря, которым питается большинство животного мира мирового океана. До сих пор перед глазами проплывает представительница планктона — изящная фигурка, подобная маленькой балерине в ярких балетных тапочках. Удивительный и разнообразный мир морских беспозвоночных. Зоологи говорили, что разнообразие и красота планктона в Баренцовом море еще лучше, чем в Белом, а самый интересный планктон живет в морях и океанах Дальнего Востока. Чтобы брать пробы планктона, плавали на пока единственном корабле, по-моему, под названием «Персей». Прекрасный очерк о ББС и ее бессменном директоре Николае Андреевиче Перцове написал Симон Эльевич Шноль в своей уже упоминаемой мною книге «Гении, злодеи и конформисты российской науки». Трудно себе представить, но в июне на биостанции стояла сильная жара, хотелось искупаться. Вбежав с разбега в воду, все выскакивали из нее, как ошпаренные. Температура воды не поднималась выше 10 °C. Когда я уезжала, то к своему удивлению и удовольствию, услышала от Николая Андреевича, что теперь могу приезжать на ББС в любое время и без всякого приглашения. После этой поездки я заболела Севером. На 4-ом курсе, сдав досрочно экзамены за 1-ый семестр, решила увидеть ББС зимой. Николай Андреевич сказал, что тоже собирается в это время поехать на ББС, и мама купила мне билет на поезд, который он назвал. Приехав на вокзал и войдя в вагон, мы его не обнаружили. Мама заволновалась и, конечно, не могла отпустить меня одну. Однако оказалось, что моими соседями по купе были отец и сын Шемякины, которые тоже ехали на ББС. Отец Миши был родным братом известного химика, академика М. М. Шемякина, именем которого был назван впоследствии Институт биоорганической химии. Его сын Миша Шемякин был студентом биофака и учился на 3-ем курсе. Они уговорили маму отпустить меня вместе с ними. Отец Миши собирался только проводить его и вернуться в Москву. Не могу вспомнить, как мы добрались до биостанции, только помню, что пролив, на котором она стояла, не замерзал даже зимой. На станции не было ни души, даже сторожа. Миша Шемякин, в отличие от меня, был уже очень опытным и взрослым человеком. Он уже был женат на красивой и умной девочке с его курса Оле Киселёвой. Она училась с Мишей на одном курсе, и я потом какое-то время встречалась в Москве с ними обоими. Миша был хорошим охотником, умел готовить и быстро наладил наш быт. Я, к своему стыду, к этому времени не умела варить даже макароны. На станции стояла полярная ночь. В сутках было не больше 2,5–3-х часов светлого времени. Мы использовали его, плавая на лодке по проливу. Миша охотился на нырков и другую водоплавающую птицу, которая там водилась в изобилии. Еще он охотился на глухарей, когда мы ходили на лыжах, привезенных из Москвы. Постоянно ели приготовленную Мишей птицу. В темное время суток на небе полыхало полярное сияние. Один раз отправились на лыжах по замерзающей части пролива в магазин, за несколько километров от биостанции. Встретили нас приветливо, но очень удивились, узнав, откуда мы приехали. Никто из местных жителей по этому пути не ездил из-за опасности оказаться под водой. Зимняя природа была такой же необыкновенной и величественной как и летняя. Ближе к берегу пролив покрывался толстым слоем льда. Первый раз я видела морские приливы и отливы шириной до сотни метров. В период отливов можно было ходить подо льдом. Вы попадали в ледяной дворец, построенный природой (mother nature, как говорят американцы). Все вокруг сверкало из-за вмерзшего в лед фосфоресцирующего светящегося планктона. Мы с Мишей жили дружно, совершенно не скучали. Наверное, читали книжки, найденные в избе, в которой мы жили. В избе было тепло, т. к. мы постоянно топили печь дровами, имеющимися в изобилиии. Мне, городской девочке, было там комфортно. Живя всю жизнь в Москве, я никогда не ощущала себя урбанисткой. За неделю до нашего отъезда, уже в настоящие студенческие каникулы на ББС приехала группа второкурсников. Они очень быстро освоились, как и положено зоологам. Помню только, что по вечерам развлекались, валяясь в глубоких сугробах. Покидали станцию вдвоем с Мишей, добрались опять по тому же опасному пути до деревни, а оттуда нас на санях местный житель довез до железнодорожной станции. Лежа на верхней боковой полке вагона, невольно слушала одну и ту же пластинку с песней «Мишка, Мишка, где твоя улыбка…» Мне было грустно. На перроне Мишу встретила жена, и мы потом уже вместе с Лёней, моим будущим мужем, какое-то время с ними общались. С. Мишей мы много лет работали в Радиобиологическом отделе (РБО) Института атомной энергии, но в разных лабораториях. Он — у Р. Б. Хесина, а я — у С. И. Алиханяна. Но это уже другая история. С ним мы как-то мало вспоминали время, проведенное на ББС. Я думаю, что он много путешествовал и для него это было одно из многих впечатлений, а для меня — уникальное воспоминание моей молодости. Я, как и все мои сокурсники, не получила генетического образования и не предполагала, что стану генетиком. Никакого интереса курсы дарвинизма и генетики с основами селекции (по последнему курсу сдавали только зачет) у меня не вызывали. Надо признаться, что все последующие годы на кафедре микробиологии, куда я поступила, я училась очень формально. Может быть, теперь мне это только кажется. Ни о какой генетике микроорганизмов, в которую я влюбилась, уже поступив на работу, не было и речи. Кафедрой микробиологии руководил академик Владимир Николаевич Шапошников (1884–1968) с 1937 по 1967 год. В конце 50-х он мне казался уже очень пожилым, уставшим человеком, и я не помню, чтобы мне нравились его лекции. У него были очень большие заслуги в области физиологии микроорганизмов и технической микробиологии. Он был организатором производства молочной, бутиловой и уксусных кислот, ацетона и бутанола на основе не химического синтеза, а микробиологических процессов и автором теории двухфазового развития бактерий. По его книге «Техническая микробиология» мы и сдавали экзамены. На кафедре читалось много спецкурсов, значительное место занимал большой практикум. Среди преподавателей были такие известные микробиологи как Н. Д. Иерусалимский, впоследствии академик АН СССР (физиология и биохимия микрорганизмов), И. Л. Работнова (адаптивный микробный метаболизм), автор известной книги «Общая микробиология», 1966, Е. Н. Кондратьева, впоследствии член-корр. АН СССР — крупный специалист в области изучения фотосинтезирующих бактерий. Хорошо помню основных преподавателей большого практикума Т. Т. Нетте (дочь «человека и парохода» Нетте, по известному стихотворению В. Маяковского) и Н. В. Козлову. Накануне сдачи экзаменов и зачетов на кафедре я всегда приходила в ужас от того, сколько, по сравнению со мной, знали мои однокурсники по кафедре. Но как-то я умудрялась сдавать экзамены и зачеты не хуже, а часто, может быть, и лучше других. А экзаменов и зачетов на кафедре было очень много: техническая микробиология, почвенная микробиология (экзамены), методика исследования продуктов брожения, морфология микробов, бактериоз высших растений, водная микробиология, обмен у микроорганизмов и др. Но все эти дисциплины оставляли меня равнодушной. Тема моей дипломной работы была «Сравнительное изучение биохимических особенностей двух штаммов актиномицетов». Руководителем дипломной работы была Маргарита Васильевна Нефёлова из лаборатории антибиотиков, которой руководил Н. С. Егоров, зав. кафедрой микробиологии с 1967 по 1989 гг. и министр высшего образования. Но так случилось, что актиномицетами я занималась впоследствии всю мою жизнь. Мы сидели в одной комнате с Наташей Немаковой (Сухаревой), которая делала диплом под руководством Г. Г. Жариковой. Мы встретились с Наташей в Америке, когда она приехала в Мэдисон навестить своего сына и его семью. Работали много, но уловить разницу в ферментативных активностях штаммов, отличающихся по уровню антибиотической активности было очень трудно. Помню, что Н. С. Егорову, по-моему, моя работа не очень-то понравилась, но замечаний он не сделал. Как это ни странно, но недавно, уже в 2016 году, общаясь по телефону из Америки с Софьей Захаровной Миндлин, выдающимся генетиком микроорганизмов, с которой мы много лет работали в лаборатории С. И. Алиханяна, она обмолвилась, что читала мою дипломную работу и она тогда ей понравилась. Ну и память у неё! Во время учебы в МГУ я, практически, ни с кем не встречалась. Мальчики, которым нравилась я, мне не нравились и наоборот. На танцах, которые мы изредка посещали с моей университетской подругой и соседкой по Малой Бронной Анкой Ефремовой, меня очень редко приглашали танцевать, из-за чего я обычно расстраивалась. Кроме того, у нас дома не было телефона, и это было большим препятствием для поддержания знакомства. Телефон, наконец, нам поставили в конце 1957 года, и для нашей семьи началась более комфортная жизнь. Мы на первом курсе биолого-почвенного факультета МГУ, 1953 год. Учимся в одной группе. Подружились и ездим по воскресеньям за город. Московская зима, ветрено. На нижнем фото слева направо я (Наташа Ломовская), Вера Кудиярова, Володя Познер (да-да, Владимир Владимирович Познер) и Ирма Расс. На верхнем фото все те: же я (Н. Л.), Володя Познер, (подмёрз), Ирма Расс и Вера Кудиярова. Все девочки в каких-то странных шароварах.
Мы на первом курсе биолого-почвенного факультета МГУ, 1953 год. Учимся в одной группе. Подружились и ездим по воскресеньям за город. Московская зима, ветрено. На нижнем фото слева направо я (Наташа Ломовская), Вера Кудиярова, Володя Познер (да-да, Владимир Владимирович Познер) и Ирма Расс. На верхнем фото все те: же я (Н. Л.), Володя Познер, (подмёрз), Ирма Расс и Вера Кудиярова. Все девочки в каких-то странных шароварах.
 Встреча Нового 1954 г. у нас дома на Малой Бронной. Сидят: Ирма Расс, Семен Милейковский, Наташа Ломовская, Соня Иоффе. Стоят: Вера Кудиярова и Ольга Кравец. Смешанная компания моих школьных подруг и моих новых университетских приятелей.
Встреча Нового 1954 г. у нас дома на Малой Бронной. Сидят: Ирма Расс, Семен Милейковский, Наташа Ломовская, Соня Иоффе. Стоят: Вера Кудиярова и Ольга Кравец. Смешанная компания моих школьных подруг и моих новых университетских приятелей.
 Практика в Чашниково под Москвой после первого курса учёбы на биофаке МГУ. Мне очень нравились занятия по зоологии беспозвоночных, которые вела Вера Александровна Бродская, доцент кафедры зоологии беспозвоночных. Она в центре в тёмном платье. Улыбаются всего две девочки я (Н. Л.), слева и чуть повыше от Веры Александровны и Вера Кудиярова (стоит во втором ряду); сидит слева Семён Милейковский, тоже член нашей маленькой компании. Справа в верхнем ряду Володя Познер, рядом с ним Стасик (фамилию его вспомнить не могу).
Практика в Чашниково под Москвой после первого курса учёбы на биофаке МГУ. Мне очень нравились занятия по зоологии беспозвоночных, которые вела Вера Александровна Бродская, доцент кафедры зоологии беспозвоночных. Она в центре в тёмном платье. Улыбаются всего две девочки я (Н. Л.), слева и чуть повыше от Веры Александровны и Вера Кудиярова (стоит во втором ряду); сидит слева Семён Милейковский, тоже член нашей маленькой компании. Справа в верхнем ряду Володя Познер, рядом с ним Стасик (фамилию его вспомнить не могу).
 Я (Н. Л.) третья слева, на Беломорской биологической станции после первого курса. Одни из первых осваиваем судно «Персей», едем брать пробы планктона, маленьких (видны под лупой) обитателей морей и океанов, основной пищи водных животных. Представители беломорского планктона запомнились своей необыкновенной красотой на всю мою жизнь. Правда, зоологи говорили, что планктон на Баренцевом море ещё более красивый.[4]
Я (Н. Л.) третья слева, на Беломорской биологической станции после первого курса. Одни из первых осваиваем судно «Персей», едем брать пробы планктона, маленьких (видны под лупой) обитателей морей и океанов, основной пищи водных животных. Представители беломорского планктона запомнились своей необыкновенной красотой на всю мою жизнь. Правда, зоологи говорили, что планктон на Баренцевом море ещё более красивый.[4]
 Опять на Беломорской биологической станции, но уже зимой после досрочной сдачи зимней сессии 4-ого курса. По бокам зоологи-второкурсники, слева Борис Виленкин, имени студента справа, к сожалению, не помню.
Опять на Беломорской биологической станции, но уже зимой после досрочной сдачи зимней сессии 4-ого курса. По бокам зоологи-второкурсники, слева Борис Виленкин, имени студента справа, к сожалению, не помню.
 На лекции в Большой аудитории уже в новом здании биолого-почвенного факультета МГУ. Ирма Расс вспомнила, как я один раз сбежала с лекции и лектор пошёл за мной, чтобы меня вернуть.
На лекции в Большой аудитории уже в новом здании биолого-почвенного факультета МГУ. Ирма Расс вспомнила, как я один раз сбежала с лекции и лектор пошёл за мной, чтобы меня вернуть.
Часть вторая
Глава 9 Главная встреча моей жизни
Должна попросить прощения у читателей, которые читали написанную мной недавно книгу «Биолог Леонид Фонштейн» за повторения, которые будут встречаться в этой книге. Не повторяясь, трудно пропустить очень длительный период знакомства и нашей совместной жизни с моим мужем Леонидом Максовичем Фонштейном. День 7 ноября 1957 года мы с папой отпраздновали, выпив вдвоем целую бутылку шампанского. Не помню, где была в это время мама. Часов в 8 вечера позвонила старшая Наташа (повторюсь: дочь моего приемного отца Д. В. Шаскольского) и стала меня приглашать в компанию своих бывших однокурсников по Тимирязевской Академии. Компания уже собралась в доме на Арбате. Я засомневалась, как я смогу туда дойти пешком после выпитого, но она меня уговорила. Компания была веселая и стала потом моей на все последующие годы. Квартира была коммунальной, на наружной двери висела старая медная табличка «Адвокат Сибор». В большой комнате этой квартиры, где все и собрались, жил Юра Дьяков со своей мамой Любовь Иосифовной. Он только что вернулся после многолетней работы по распределению в Таджикистане. Пришли к Юре и два его ближайших друга, которые учились вместе с ним в школе с четвёртого или пятого класса, а потом и в Тимирязевке. Лёня Фонштейн приехал в отпуск с целины, где он работал после распределения заведующим сортоучастком Госсортоиспытательной сети, а Феликс Янишевский никуда не уезжал из Москвы и учился, наверное, в это время в аспирантуре. Отсутствовал их четвертый друг и одноклассник, главный возмутитель спокойствия, Витя Рошаль. Витя в это время работал после окончания Менделеевки (Московского химико-технологического института имени Д. И. Менделеева) на химическом предприятии в Эстонии. Тимирязевку представляли также Наташа старшая, она же меня и пригласила, и две женатые пары Дима Вахмистров и его жена Инна Вахмистрова и Боря Ребентиш со своей первой женой Валерией. Пили, ели, пели под гитару, шутили, и мне было совсем не скучно. Дима Вахмистров сварил большую кастрюлю глинтвейна по очень сложной рецептуре. В конце вечеринки Лёня сидел на полу и допивал глинтвейн половником из кастрюли. Но все же ему удалось сконцентрироваться, и он пошел провожать меня домой, так как больше было некому. Прошлись по Патриаршим. Оказалось, что он живет совсем рядом, в Конюшковском переулке у площади Восстания. Я потом подозревала, что одной из причин продолжения нашего знакомства было то, что мы жили рядом. Не надо было провожать девушку на другой конец Москвы, а потом еще и возвращаться домой. На следующий день мне позвонила Наташа и сказала, что она не советует мне встречаться с Лёней, потому что он большой ловелас. А он и не звонил. Он был высокий, красивый, взрослый, по моим меркам, и мне понравился. Где-то через месяц позвонил и пригласил в кино на «Летят журавли». Потом пригласил меня встречать Новый 1958 год в доме композиторов. Организатором таких светских встреч был Лёнин двоюродный брат Эдик Гойзман, с которым Леня дружил, можно сказать, с самого рождения. Слушали выступления знаменитостей (помню только И. Козловского и С. Мартинсона). Встречу закончили в доме знаменитого композитора Тихона Хренникова, который жил в этом же доме. Лёня, уходя, забыл свой шарф и потом окружающие очень любили вспоминать, как сам Тихон Хренников спустился на несколько лестничных пролетов, чтобы отдать шарф Лёне. Лёня был в Москве в довольно длительном зимнем отпуске. Дело в том, что на целине в это время уже существовала целая сеть сортоучастков, занимающихся районированием зерновых сортов на целинных землях. Возглавляли эти участки опытные селекционеры, и Лёня был среди них самым молодым. В конце года надо было представлять годовые отчеты. Анализ результатов работы и написание отчетов было для селекционеров делом нелегким. Оказалось, что Лёня делает это быстро и грамотно, виртуозно суммируя результаты на простых, но используемых десятилетиями счетах. Поэтому осенью, когда снимали урожай, Лёня приезжал в Петропавловск, областной центр Кокчетавской области, и в течение месяца писал отчеты по результатам, присылаемым с сортоиспытательных станций области. В благодарность, его отпускали в Москву в довольно длительный отпуск до начала подготовки к следующей посевной. В начале февраля Лёня пригласил меня на свой день рождения. Его мама удивилась и шепнула ему, зачем он привёл с собой школьницу. Но он ее заверил, что школьница уже кончает Московский университет. В гостях была вся честная компания, пели под аккомпанемент Инны Вахмистровой. Витя Рошаль умудрился в споре уколоть кого-то вилкой и пролить кровь. Когда расходились по домам, запахло дымом: кто-то случайно опустил в карман пальто горящую сигарету. После дня рождения Лёня на несколько месяцев возвращался на целину. Его отпускали в Москву после более чем трехлетней работы на целине учиться в аспирантуре, и он должен был сдавать дела своему заместителю. Тем временем я делала и писала дипломную работу, сдавала государственные экзамены. Лёня вернулся с целины и стал готовиться к экзаменам в аспирантуру. В это время вернулся в Москву и Витя Рошаль, успев жениться. Он был очень грамотным химиком, но устроиться в Москве на работу не мог, так как во время работы по распределению в Эстонии потерял московскую прописку. Я прочитала объявление на биофаке о том, что на кафедру высшей нервной деятельности объявлен набор добровольцев для снятия параметров вхождения человека в сон и посоветовала Вите хоть немного подзаработать. Он пошел на кафедру и стал всем сообщать, что он теперь торгует своим телом. Правда, это занятие продолжалось недолго, т. к. будучи человеком эмоциональным, заснуть он никогда не мог, несмотря на тишину и уговоры сотрудников кафедры. После его увольнения пошли втроем в магазин «Диета» у Калужской заставы, и Витя с Лёней там поспорили, кто быстрей съест порцию купленных сырных палочек. Витя сразу набил палочками рот и стал ими давиться, а Лёня быстро съедал каждую палочку по отдельности и победил. После окончания Университета в 1958 году до начала работы, о которой я расскажу в следующей главе, я поехала отдыхать в дом отдыха рядом с городом Плёсом на Волге. Волга тогда еще, как мне вспоминается, была почти в своей первозданной красе. Приплыла я в Плёс из Москвы на пароходе. В купе вместе со мной ехала пара, муж с женой, недавно вернувшиеся из лагеря. Они рассказывали мне о лагерной жизни. Женщины оказались более выносливыми, чем мужчины, и процент женщин, умирающих от голода и лишений, был ниже. Их рассказы врезались в мою память навсегда. С тех пор, отдавая дань памяти миллионов невинно осужденных, я старалась читать всю литературу о лагерях ГУЛАГА. В доме отдыха кормили кое-как, в городских магазинах было абсолютно пусто. Вокруг была природа, воспетая Левитаном. Я описывала свое житье в письмах к Лёне, но в ответ не получила от него ни одного письма. Волновалась и расстраивалась по этому поводу. Правда, когда приехала на пароходе в Москву, он встречал меня на Речном вокзале в Химках и не мог дать вразумительного объяснения, почему он не отвечал на мои письма. Пошли в ресторан Речного вокзала и заказали роскошный ужин с вином, черной икрой, другими закусками и горячим блюдом. С этого времени стали встречаться часто. Чувствовалась, что нравились друг другу. Я начала узнавать о Лёниной жизни до его знакомства со мной. Он был долгожданным ребенком своих родителей Анны Абрамовны Фонштейн (урожденной Ерусалимской) и Макса Наумовича Фонштейна. Бабушку Лёни по материнской линии Геню выдали замуж 18-ти лет за вдовца с двумя детьми, владельца большой мельницы. Во время революции мельницу отобрали. Её муж Абрам Ерусалимский вскоре умер. Она осталась с двумя его детьми от первого брака Лёвой и Борей (Лёва был ненамного моложе ее самой) и с тремя маленькими детьми, рожденными в браке с Абрамом, — Анной, Моисеем и Цецилией, без всяких средств к существованию. Переехали в Киев и стали жить на первом этаже двуххэтажного деревянного дома по Малой Васильковской. Чтобы прокормиться, Геня жарила пирожки с разной начинкой и продавала их на Бессарабском рынке. В доме все обращались к ней «мадам Ерусалимская». На втором этаже этого дома жила семья Фонштейнов, Наума и Нины с детьми Абрамом, Максом, Моисеем, Софьей, Базалией и Фрумой. Наум Фонштейн еще в 19 веке эмигрировал в Америку, там женился и в семье родилась дочь Кэролайн. Через несколько лет Наум, оставив семью в Америке, вернулся на Украину и женился вторично. Кажется, Наум и его вторая жена Нина работали обивщиками мебели. Шло время и Анна Ерусалимская, окончив гимназию, вышла замуж за Макса Фонштейна, а Боря Ерусалимский женился наБазалии (Басе) Фонштейн. Их дети стали двоюродными с двух сторон. Макс и Анна переехали жить в Москву. Макса в начале 30-х годов послали полпредом (так тогда называли послов) в Туркмению, и Анна с долгожданным сыном, маленьким Лёней, отправилась вместе с ним. Через год Макс заболел тяжелой формой туберкулеза, и семья вернулась в Москву. Макс Наумович Фонштейн провел последние годы своей жизни в санаториях в Крыму и скончался в 1936 году в возрасте 36 лет и тем самым, наверное, избежал возможного ареста. Был похоронен на Новодевичьем кладбище. О нем осталась только память его жены, его братьев и сестер, несколько фотографий и нежные письма сыну Лёне из Крыма. Лёня рос болезненным ребенком, и бабушка Геня переехала к дочери в Москву. Лето они с Лёней до войны проводили в Киеве, где в той же квартире жил ее сын Моисей, Лёнин родной дядя, с женой Верой и дочерью Неллой. Дядя был военным. Бабушка Геня с Лёней приезжали в Киев и брали на вокзале извозчика, чтобы доехать до дома. Вещей, кроме двух маленьких чемоданчиков, не было. Во дворе их дома жила еврейская семья с маленьким мальчиком, которого мать называла по имени и отчеству. Так, во дворе раздавалось: «Изеле Моисеевич, вы будете пить чай с клубничкой или без никому?» Мальчик отвечал: «Я хочу хлеб поверх масла, поверх варенья.» Вся эта семья погибла в Бабьем Яру. Когда началась война бабушка Геня и Лёня уже были в Киеве. 22 июня ждали открытия рядом с их домом спортивного стадиона им. Н. С. Хрущева. В. Киеве оказался в командировке дядя Лёва, приемный сын бабушки Гени. Он работал в Москве хозяйственным директором ЦАГИ. Во второй день войны он смог вернуться в Москву по бронированному билету, и ему удалось увезти с собой Лёню. Бабушка осталась с семьей сына, который уже вернулся в свою воинскую часть. Анна Абрамовна, Лёнина мама перед самой войной вторично вышла замуж за Израиля Иосифовича Семеновского, который впоследствии всю жизнь обожал свою жену и ее сына. В эвакуацию Анна Абрамовна с сыном поехали во Фрунзе, где уже много лет жили их дальние родственники. Израиля Иосифовича мобилизовали в армию. Туда же во Фрунзе приехала и бабушка Геня с семьей сына. Лёня в эвакуации серьезно болел, и его спасла встреча с доктором Харлампием Харлампиевичем Владосом, который лечил его ещё в Москве. Ходил в школу, и ему там дали характеристику, что ребенок резко отличается по своему умственному развитию из среды своих сверстников. Это в будущем дало повод к насмешкам со стороны его новых друзей-одноклассников уже в Москве, так как в характеристике не было указано, в какую же сторону он выделяется. Анна Абрамовна, работавшая до войны в издательстве «Искусство», во Фрунзе устроилась на работу в институт генетики АН СССР, одновременно выполняя функции секретаря, кадровика и бухгалтера. Часть института во главе с новым директором, Т. Д. Лысенко, возглавлявшим лженаучное направление мичуринской биологии, оставалась в Москве. Из эвакуации возвращались в одном купе с А. А. Прокофьевой-Бельговской и ее сыном. Она, классический генетик, еще в те времена продолжала работать в институте генетики. Ее муж Марк Леонидович Бельговский был на фронте. Оставшийся институтский спирт по пути из эвакуации меняли в городе Аральске на соль, а соль по мере приближения к Москве — на топленое масло и сахар. Соль была в цене. После возвращения в Москву Лёня продолжал болеть и встретил день победы в Филатовской больнице. Его продолжал спасать все тот же врач Х. Х. Владос, который в критический момент не разрешил удалить у ребенка селезенку. Болезнь постепенно отступала, но приступы болей в печени, требующие приезда неотложной помощи с уколами, продолжались до самого окончания Тимирязевки. Решение ехать на целину было смертельно опасным. Единственный фельдшерский пункт находился в 50 км. от совхоза, в котором он жил. Парадоксально, но когда он приехал на целину, приступы прекратились и печень его больше не беспокоила. Преимуществом, которое дала болезнь, была выдача ему белого билета, освобождения от воинской повинности. Отсутствие необходимости регистрироваться в военкомате по месту жительства помогло сохранить московскую прописку в течение всех лет работы на целине. Вернусь в Лёнины школьные годы. Пропуски занятий по болезни оставляли много времени для чтения, слушания радио (знал наизусть много оперных арий и целые отрывки из опер) и пластинок довоенной поры. Они послужили начальным этапом записей городских романсов, которые мы осуществили уже в нашей другой жизни в двухтысячных годах в Калифорнии. На Конюшках, где в крошечной комнате небольшого дома ютилась семья Лёни, было много шпаны в послевоенные годы. Парни потом попали в тюрьмы. По своей улице Лёне ходить было относительно безопасно, т. к. соседи-хулиганы считали его своим. Бабушка носила ему в школу горячие завтраки, что являлось предметом насмешек, и в школе его третировали. Тогда он перестал туда ходить до тех пор, пока его не перевели с 5-ого класса в другую школу. На этом он потерял год, но приобрел много. В новой школе были прекрасные учителя и совсем другие ученики. Вскоре особенно подружился с Феликсом Янишевским, Виктором Рошалем и Юрием Дьяковым. В школьные годы Лёня был постоянным посетителем читальных залов библиотек, включая Ленинку, где ему иногда давали книги даже из закрытых фондов. Посматривал на девочек. Дружил со своим двоюродным братом Эдиком. Мама Эдика, Софья Наумовна Гойзман, урожденная Фонштейн, родная сестра Макса, привечала Лёню как родного сына. Как уже упоминалось, Юра Дьяков жил в квартире на Арбате. В этой же квартире жила известная пианистка Надежда Львовна Сибор, дочь знаменитого скрипача и педагога Л. С. Ауэра, который в начале революции эмигрировал из Советской России. Баба Надя, как ее уже тогда называли, рассказывала Юре и Лёне, как она играла вместе с Гольденвейзером Льву Николаевичу Толстому в Ясной Поляне. Как же часто, уже давно живя в Америке, я слышу упоминания о знаменитом скрипаче и педагоге Л. С. Ауэре в 21-ом веке в самых разных контекстах! И сразу вспоминаю рассказы Лёни и его друзей о его дочери Надежде Сибор. Лёня, будучи серьезным библиофилом, в юношеские годы, прочел всю библиотеку бабы Нади, где были книги, уже давно не издававшиеся в СССР. Квартира была пятикомнатной, и в каждой из остальных комнат жили отдельные семьи. Как я вскоре поняла, квартира была точной копией той квартиры, где жила семья Шаскольских. Юра с мамой занимали такую же комнату, в которой последние годы жила папина мама Мария Николаевна Шаскольская. Невольные соседи в квартире, где жил Юра Дьяков, как ни странно, жили дружно, помогали бабе Наде, раз в неделю играли в преферанс. Мальчики у них быстро научились этой игре и были целые периоды повального увлечения преферансом. Уже в другой школьной компании Лёня весь десятый класс после уроков бежал играть в покер. Баба Надя до самых преклонных лет играла на пианино, и к ней в гости приходили знаменитые певцы и музыканты. В школе увлекались физикой, которую преподавал в институтском объеме Эвель Михайлович Варшавер. Конечно, давали прозвища учителям. Петр Савельевич, учитель по математике, был Пипин Короткий, а учительница по биологии — Сосущая Сила. Лёня отличался абсолютной грамотностью. Помнит, что только один раз сделал ошибку в слове «опасность». У его родителей не было возможности да и необходимости интересоваться его учебой. Чтение было основой его самообразования. Соревновались друг с другом в знании деталей из прочитанных книг. Даже сейчас помнит фамилии героев из книг, прочитанных в детстве. Хорошо играл во многие игры, карточные, шахматы, волейбол. Правда, один раз, когда мы уже поженились, сел играть с двумя пожилыми людьми в академическом доме отдыха в Мозжинке под Звенигородом. Они его быстро обыграли, и ему стоило больших трудов на следующий день немного отыграться. Оказалось, что они играли в преферанс еще в компании с Маяковским. С деньгами в Лёниной семье было туго. До рождения его младшей сестры Миры (Леня был на 14 лет ее старше) семья ютилась в 11–метровой комнате, бабушка Геня спала на столе, который раскладывали каждый день. При этом приходили родственники и другие гости, и весь широкий подоконник был уставлен тарелками с холодцом и пирогами. Потом удалось с доплатой поменять эту комнатушку на большую в бывшем старом купеческом доме на Конюшковской улице. В доме не было центрального отопления. Первое время готовили на примусе и керосинке. Дрова держали в сараях во дворе. Лёню невзлюбил петух, который разгуливал по двору и норовил его клюнуть, когда его руки были заняты дровами. Однажды Лёня, изловчившись, огрел его поленом. Больше петух к нему не приставал. Юра, Феля и Лёня посещали зоологический кружок в Зоомузее и собирались поступать на биофак МГУ. Всех троих в МГУ не приняли по разным причинам. Даже не хочется перечислять по каким. В этом же году они поступили в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, впоследствии стали докторами биологических наук: Юра — известным фитопатологом и микологом и многолетним (более 30 лет) заведующим кафедрой биофака МГУ, куда его не приняли; Феля — агрохимиком, членом-корреспондентом ВАСХНИЛ; Лёня — генетиком, доктором биологических наук и многие годы заведующим крупным отделом безопасности лекарств. Учеба в Тимирязевке сопровождалась длинными летними практиками. Копнили сено, осваивали сельскохозяйственную технику. Одно лето Лёня работал помощником агронома в нищей деревне средней полосы. Там были бескрайние поля льна с синими цветами, похожие на море при легком бризе. Пожилой хозяйке, куда Лёню определили на постой, колхоз выделял крынку молока в день, солонину и муку. Она была счастлива. На главный престольный праздник этой деревни отряжали колхозников за продуктами в Москву. Копили деньги целый год. Агроном советовал Лёне не выходить на гульбище, чтобы не попасть под горячую руку дерущихся. Последнюю практику провели в Одессе. Всю рабочую неделю питались халвой с молоком, а в воскресенье ходили на пляж и в ресторан. В. Тимирязевку от дома Лёня ездил больше часа на трамвае в любую погоду в легких туфлях и носках и, конечно, без кальсон. Зимних ботинок не было. Пожилые люди иногда ходили в фетровых ботах. Часто оставался ночевать в общежитии. Однокурсники из селекционной группы встречались и после окончания Тимирязевки. Академия, в частности, готовила и партийные кадры. В их группе учился Виктор Шевелуха, очень способный студент, впоследствии ставший на какое-то время зам. министра сельского хозяйства; несколько будущих секретарей обкомов, Володя Савицкий стал впоследствии секретарем М. С. Горбачева. Группа после окончания института регулярно собиралась. Володя помогал периодически устраиваться на работу двум евреям из группы. Как я уже упоминала, после окончания Тимирязевки Лёню направили работать в Северный Казахстан на целину, где началась кампания по ее освоению. Выехал на работу 4 августа 1955 года, в первый год освоения целины. Ехал в поезде вместе со своей однокурсницей Наташей Флоровой. Ее направили в другой район, но до Петропавловска ехали вместе. Наташа ехала с бабушкой и огромным доберманом-пинчером Зитой. Ей тоже купили билет. Она наводила ужас на всех пассажиров вагона. Зита очень не любила громких разговоров и один раз даже укусила Юру Дьякова, который что-то возбужденно рассказывал. Расстались в Петропавловске. Через полгода Лёню назначили заведующим сортоучастком Госсортоиспытательной сети, в задачи которой входило районирование сортов зерновых, наиболее приспособленных к условиям выращивания на целинных землях. Сортоучасток должен был быть расположен на землях крупного совхоза (45 тысяч га пахотной земли) в 300 км к северо-востоку от Петропавловска и от железной дороги. Начали с полного нуля. Практически вдвоем со своим заместителем Марьяном Карловичем Кустовским построили дом, в котором разместилась лаборатория и комнаты для жилья. Строили с учетом сильных зимних морозов. Западная Сибирь! Первые полгода жили впроголодь. В магазине пусто. Работники совхоза ничего продавать не могли, да и на деньги купить было нечего. Все деньги оставались на руках. Жизнь немного наладилась, когда приехала жена Марьяна Маруся с маленькой дочкой и завела большое подсобное хозяйство: гусей, кур, свиней и даже корову. В совхоз из Петропавловска, областного центра, Лёня прилетел зимой на двухместном самолете, дороги просто не было. Один раз добирался из Петропавловска несколько суток в финском домике, поставленном на сани, которые тащил трактор. Внутри топилась печка. Потом уже построили грейдерную дорогу и стали ездить на грузовиках. В соседних деревнях жили немцы Поволжья, выселенные Сталиным с насиженных мест. Жили в добротно построенных, чистых домах, сохраняя традиции. У Лёни первое время работали и чеченцы, которым в это время было разрешено вернуться в Чечню, и они уехали. Готовились к первой посевной. В работе были сорта яровой пшеницы, ячменя, овса и других зерновых культур. Сорта зерновых высевались на большие делянки и сравнивались по большому числу показателей: продуктивности, скороспелости, из-за короткого вегетационного периода, засухоустойчивости, устойчивости к болезням, качеству зерна. На основе такого комплексного анализа должны были быть даны предложения по их районированию. Рабочих нанимали в совхозе. В случае необходимости совхоз предоставлял сортоучастку крупные сельхозмашины. Сортоучасткок, в отличие от совхоза, располагал малой техникой, конными сенокосилками, небольшими машинами для очистки зерна, которые совхозу покупать не разрешали, и Лёня делился ими с совхозом для обработки приусадебных участков. Кроме того, сортоучасток снабжал совхоз отборным проверенным элитным зерном в качестве посевного материала. Конечно, ни о каких удобрениях или севооборотах на таких гигантских площадях не было и речи в этой зоне рискованного земледелия. Часть земель держали под паром. Первые два года были неурожайными. Зато на третий год потери от предыдущих лет были компенсированы громадным урожаем. Не успевали собирать и вывозить зерно. Всё было в зерне. Совхоз стоял на широкой реке Ишим, притоке Иртыша, одной из главных рек Западной Сибири. Кругом только степь. Ни одного дерева вокруг на сотни километров. Вдоль реки рос кустарник талл. Топили зимой не дровами, а саманом — смесью сухого навоза с соломой. Свои владения Лёня летом объезжал на ходке с запряженным в него мерином Августом. Зимой Кара, конюх и бригадир сортоучастка, запрягал Августа в сани. Часто длинные вечера коротали у Лёни: только у него была своя жилплощадь при конторе. Все остальные жили на съемной жилплощади. Собиралась местная интеллигенция. Главный агроном совхоза, Николай Капитонович, был из ссыльных, о прошлом не распространялся, где-то в 1930-ые годы окончил Тимирязевку. Приходили также главный механик совхоза Лёня, главный зоотехник Юрий Назарович Булыга, главный ветеринар Хамид Аминов. Все они были ещё молодыми, чуть постарше Лёни. Самым главным, конечно, был главный ветеринар, у него был спирт, но в ограниченном количестве. За все время работы Лёни на целине водку не завозили ни разу. В совхозный магазин раз в несколько месяцев привозили партию одного и того же напитка: или шампанского или ликера, почему-то Бенедектина. Работа в дни завоза спиртного прерывалась полностью. От шампанского вздувались животы, а от сладкого ликера сахар начинал выделяться через кожные поры. С целины Лёня привез купленную у кого-то по случаю теплую андатровую шапку-ушанку и долгие годы носил ее в Москве до тех пор, пока она совсем не износилась. Когда Лёня уезжал с целины, его заместитель Марьян подарил ему карточку, где он был сфотографирован вместе со своей женой Марусей. Карточку я видела среди наших фотографий, но до сих пор найти её не могу. Привожу только надпись на обороте этой фотографии, которую я успела списать: «На память Леониду Максовичу Фонштейну от Кустовского Марьяна Карловича и его жены Маруси Александровой. Посмотришь и вспомнишь нашу совместную работу в Северном Казахстане. 29/I — 1958 года». Совсем недавно я Лёню спросила, не жалеет ли он о годах, проведенных на целине, и он очень серьёзно ответил мне, что нет. Текст этой главы, практически целиком опубликован в моей предыдущей книге «Биолог Леонид Фонштейн». Но мне ничего не остаётся, как повторить его и в этих воспоминаниях. Заранее прошу прощения у читателей за ряд повторов в обоих книгах, которые мне ну никак не удаётся избежать. Макс Наумович и Анна Абрамовна Фонштейны — родители моего мужа Леонида Максовича Фонштейна. На обратной стороне фотографии подпись: «Дорогим родителям на память от Ани и Макса. 14-VII-1924. Киев».
Макс Наумович и Анна Абрамовна Фонштейны — родители моего мужа Леонида Максовича Фонштейна. На обратной стороне фотографии подпись: «Дорогим родителям на память от Ани и Макса. 14-VII-1924. Киев».
 Лёня Фонштейн, Наташа Ломовская, Юра Дьяков и Инна Вахмистрова, 1958 г. До нашей женитьбы ещё больше года.
Лёня Фонштейн, Наташа Ломовская, Юра Дьяков и Инна Вахмистрова, 1958 г. До нашей женитьбы ещё больше года.
Глава 10 Начало работы по микробной генетике — области, ставшей моим призванием
Никакого образования по классической генетике я за время учёбы в университете не получила. Годы моей учёбы совпали с годами полного засилья в генетике лженауки, именуемой мичуринской генетикой. Повторюсь, может быть, что даже после окончания университета у меня не было никаких идей по поводу того, в какой области биологии мне хотелось бы работать. Но мои родители, долгие годы работавшие в настоящей науке, не ошиблись в своём выборе того, к кому можно было в Москве обратиться за советом, имея, конечно, в виду моё микробиологическое образование. Мой папа хорошо знал Александру Алексеевну Прокофьеву-Бельговскую — известного генетика-дрозофилиста и цитолога. После увольнения из института цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР в 1948 году ей удалось устроиться на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт пенициллина Министерства здравоохранения СССР. Вскоре институт был переименован во ВНИИ антибиотиков. В этом институте она проработала до 1956 года старшим научным сотрудником, заместителем начальника отдела и заведующим Музея промышленных микроорганизмов. А. А. Прокофьева-Бельговская разработала цитологические основы контроля культур актиномицетов, микроорганизмов, образующих антибиотики, которые были положены в основу промышленных регламентов на производстве. Одним из результатов ее многолетней работы с актиномицетами явилось написание прекрасной книги «Строение и развитие актиномицетов», Из-во АН СССР, 1963. Эта книга стала настольным пособием для сотрудников заводов по производству антибиотиков. Папа поговорил с Александрой Алексеевной, и она посоветовала мне пойти работать в лабораторию С. И. Алиханяна. Он, в свою очередь, был уволен с кафедры генетики биофака МГУ после сессии ВАСХНИЛ. Ему тоже удалось в 1948 году поступить на работу во ВНИИ антибиотиков, и он вскоре возглавил в этом институте большую лабораторию селекции промышленных микроорганизмов, образующих антибиотики. Страна остро нуждалась в отечественных антибиотиках и на заводах по их производству могли быть использованы только микроорганизмы, в десятки или даже в сотни раз превышающие продуктивность их природных предшественников по выходу антибиотиков. В лаборатории Соса Исааковича Алиханяна для получения высокопродуктивных штаммов актиномицетов и грибов использовали, практически подпольно, методы классической генетики: обработку низкопродуктивных штаммов ионизирующей радиацией и большим числом химических мутагенов, а потом и супермутагенов, а также генетическое изучение штаммов, образующих антибиотики. Сос Исаакович взял меня на работу, упомянув, что по фенотипу я им с Александрой Алексеевной напоминаю молодую Софью Захаровну Миндлин. Софья Захаровна уже была в то время правой рукой Соса Исааковича, крупным специалистом в области селекции и генетики актиномицетов. Ей удалось получить классическое генетическое образование еще до печальных событий сессии ВАСХНИЛ. В начале 1950-х ее как еврейку уволили из института, но скоро восстановили. Помогли и усилия по её восстановлению С. И. Алиханяна. Он, как говорили, угрожал уволиться. Лишиться таких специалистов институт не мог, так как антибиотическая промышленность страны практически использовала только штаммы микроорганизмов с высокой антибиотической активностью, полученные в лаборатории С. И. Алиханяна с помощью методов классической формальной генетики. Во всеуслышание об этом не говорили даже в конце 1950-х годов. Я начала работать в лаборатории Соса Исааковича Алиханяна в августе 1958 года. Троих выпускниц биофака, в том числе и меня, первыми зачислили в Радиобиологический отдел (РБО) Института атомной энергии (ИАЭ), куда под крышу физиков в этот период по просьбе И. В. Курчатова переходили работать несколько известных генетиков со своими лабораториями: Р. Б. Хейсин, С. И. Алиханян, Н. И. Шапиро, С. Н. Ардашников. Т. Д. Лысенко уже качался, но еще был в фаворе у Н. С. Хрущева. Однако отказать И. В. Курчатову в его просьбе Никита Сергеевич не смог. Территориально лаборатория С. И. еще находилась в Институте антибиотиков и была в стадии перехода в ИАЭ. Институт антибиотиков находился в индустриальном районе Москвы на Нагатинском шоссе. Рядом на полную мощность работал биохимический завод им. Карпова. При выходе из троллейбуса или электрички сразу ощущался сильный специфический неприятный запах химического и микробиологического производства, привыкнуть к которому было трудно. В стенах этого института я провела полтора года. Лаборатория С. И. Алиханяна — крошечный островок микробной селекции и генетики, занимающийся, главным образом, прикладными исследованиями на совершенно генетически не изученных сложных объектах — актиномицетах и грибах, образующих антибиотики. Ко времени моего прихода в лабораторию там уже долгие годы работают опытные селекционеры, которые пытаются, помимо обработки продуцентов антибиотиков ионизирующей радиацией и химическими супермутагенами для повышения выхода антибиотиков, внедрять генетические методы изучения продуцентов антибиотиков. Сос Исаакович и его квалифицированный коллектив хорошо понимают важность генетического изучения микробных объектов. Правда, в личных беседах Сос Исаакович всегда признавался в своей неугасающей любви к плодовой мушке дрозофиле как к генетическому объекту. Каждую неделю, без исключения, в лаборатории проводтся семинары, на которых реферируются статьи, опубликованные в иностранных журналах. В конце 40-х и все 50-ые годы генетика микроорганизмов за рубежом развивается стремительными темпами. Даже трудно перечислить все открытия в области генетики бактерий и их вирусов бактериофагов, да я и не ставлю себе такой задачи. Были идентифицированы основные способы переноса бактериальной ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) — субстанции наследственности: трансформация, конъюгация и трансдукция. Еще в 1944-ом году вышла статья Д. Эвери и соавторов, представивших в экспериментах на микробах генетические доказательства того, что ДНК является веществом наследственности. Выдающийся американский микробный генетик Эстер Ледерберг в течение одного года (1950-го) совершила невероятное: идентифицировала половой (F) фактор бактерии E.coli, ответственный за бактериальную конъюгацию, и изолировала бактериофаг лямбда. Последний станет на долгие годы модельным объектом генетики бактериофагов. Эстер Ледерберг в то время работала в Стэнфордовском университете и оставила о себе ещё одну память: на газонах вдоль дорог посадила красные маки, которые и по сей день весной украшают территорию университета. Мы тому свидетели, так как сейчас живем рядом со Стэнфордом. Джошуа Ледерберг, её муж, в возрасте 33 лет получил Нобелевскую премию за расшифровку механизмов конъюгации. В 1951 году супруги Ледерберг с соавторами описали феномен трансдукции — передачи генетического материала бактерий с помощью бактериофагов. В 1950 году начинает работать над концепцией лизогении французский генетик русского происхождения Андре Львов. Его статья, обобщающая результаты существования симбиоза бактерии и бактериофага, появляется в печати в 1953 году. Его открытие приравнивалось многими учеными к открытию в том же 1953 году Д. Уотсоном и Ф. Криком структуры ДНК. Условно-патогенные бактерии Escherichia coli и Salmonella typh-imurium и их бактериофаги (фаги) становятся на долгие годы основными объектами генетики микроорганизмов. Я уже не говорю о публикации Г. А. Гамовым в 1954 г. гипотезы о том, что информация в ДНК кодируется триплетами нуклеотидов. Эта гипотеза была подтверждена экспериментально Ф. Криком и С. Бреннером в 1961 году. М. Ниренберг с соавторами установили соответствие между кодонами в ДНК и аминокислотами в белках. И эти эпохальные открытия происходят в США и в Европе в период полного запрета на исследования в области классической генетики в Советском Союзе. Все в лаборатории Алиханяна в курсе открытий в области микробной генетики, несмотря на загруженность работой, поскольку селекционная работа требует больших физических усилий по отбору редких мутантов среди десятков тысяч проверенных на активность вариантов. С большой нагрузкой работают лаборанты, засевая пробирки и колбы с приготовленной питательной средой и определяя антибиотическую активность культур. Многие уже не молоды. Алиханян умеет подбирать кадры и на долгие годы заразить их своей поразительной научной энергией. Те, кто не выдерживает, тихо уходят. Все разговоры в лаборатории всегда и без исключения переходят на личность, и эта личность — Сос Исаакович. В его лаборатории работают С. Ю. Гольдат, многие годы сотрудник кольцовского института, С. З. Миндлин и С. Любинская, выпускницы кафедры генетики биофака МГУ 1948 года, Л. И. Ерохина, супруги Ждановы, Нелли Исааковна и Виктор Григорьевич, Т. С. Ильина и С. В. Каменева, первые аспирантки Соса Исааковича, А. Ф. Тетерятник, К. П. Гарина, Е. С. Морозова, Л. Н. Борисова, А. В. Владимиров, Ю. Э. Барташевич. Позднее женское царство еще немного разбавляется приходом В. В. Суходольца и В. Н. Крылова. Многие из этих сотрудником перейдут вместе с Сосом Исааковичем в его сектор в Институте Курчатова, а потом и в организованный по его инициативе в 1968 году Институт Генетики и Селекции Промышленных Микроорганизмов. Конечно, много появится потом и совсем молодых людей, и на плечи коллектива ляжет задача хоть как-то закрывать часть крупной бреши, остающейся от эпохи лысенкоизма. Меня определили в помощницы к Тамилле Сергеевне Ильиной, которая не занималась селекцией, а уже много лет изучала взаимоотношения актиномицетов с актинофагами, вирусами, размножающимися в клетках актиномицетов и вызывающими их гибель (лизис). Буквально через неделю после моего прихода в лабораторию Сос Исаакович быстро поручил мне отреферировать на семинаре знаменитую статью А. Львова, описывающую концепцию лизогении у бактерий. Помогла формальная сдача английских страниц на биофаке. А. Львов — Нобелевский лауреат по физиологии и медицине 1965 года. Иностранные научные журналы уже публиковали сотни статей по генетическому изучению вирулентных и умеренных бактериофагов. Модельными объектами вирулентных фагов были фаги Т-серии, а умеренных, главным образом, фаг лямбда. Вирулентные фаги имели один путь развития в бактериальной клетке — ее лизис и образование многочисленного потомства фагов. Умеренные бактериофаги, в зависимости от физиологического состояния бактериальной клетки, в различном проценте случаев были способны осуществлять вирулентный путь развития, либо инфекция приводила к установлению лизогенного состояния. В этом случае фаг не убивал клетку, а его геном встраивался в бактериальную хромосому. В редких клетках такой лизогенной популяции геном фага вырезался из хромосомы и убивал клетку с образованием фагового потомства. Это явление и описал в своих пионерских работах А. Львов. Я с первого взгляда влюбилась в такое умное поведение умеренных фагов и все последующие годы старалась следить за успехами в этой области исследований. Работа с актинофагами имела большое прикладное значение. Заводы по производству антибиотиков в нашей стране очень часто страдали от фаговой инфекции, возникающей в многотоннажных ферментерах, в которых выращивались актиномицеты. Каждый такой ферментер содержал тонны дорогостоящей питательной среды, в которой выращивались актиномицеты. Ферментация заканчивалась образованием антибиотика, который выделяли с помощью химической очистки. В результате инфекции актинофагами актиномицеты в таком ферментере гибли, не образуя антибиотика. Производство несло большие материальные потери. В лаборатории Алиханяна стали заниматься получением актиномицетов, устойчивых к фаговой инфекции. Задача требовала изучения взаимоотношений актиномицетов с актинофагами, которую было трудно осуществить, работая в прикладном институте. Две сложные проблемы возникали при промышленном использовании устойчивых к фагам актиномицетов. Во-первых, как правило, они образовывали значительно меньшее количество антибиотика. Это совершенно не устраивало производство, которому постоянно спускали сверху планы по увеличению антибиотической продукции. Во-вторых, при использовании устойчивых вариантов сразу находились фаги, преодолевающие их устойчивость, и все начиналось сначала. Сталкиваясь с этой проблемой в течение многих лет, для меня было совершенно очевидно, что актинофаги попадают в ферментеры извне в результате дефектов в их конструкции. Однако среди большинства опытных заводских специалистов и ряда ученых в академических институтах существовало мнение, что инфекция вызывается фагом, присутствующим внутри лизогенной актиномицетной клетки штамма продуцента антибиотика. Это позволяло дезавуировать основную причину фаголизиса — несовершенство заводского оборудования. Насколько я помню, Софье Захаровне Миндлин удалось получить фагоустойчивый продуцент окситетрациклина, очень распространенного тогда антибиотика, который образовывал такие же количества антибиотика, как и исходный фагочувствительный штамм, и был устойчив к другим актинофагам. Но это был уникальный случай, о котором даже сама Софья Захароовна не помнит. Когда я через много лет спросила у американского ученого Дика Болтса, имеются ли у них на крупной американской фирме проблемы с фаголизисом, он с удивлением ответил, что никогда с такой проблемой не сталкивался. У фирмы имелись в эксплуатации ферментеры, которые не позволяли проникновению в них фагов. Как это ни парадоксально, но проблемы фаголизиса при производстве антибиотиков стимулировали уникальные генетические исследования актинофагов в Советском Союзе в лаборатории С. И. Алиханяна. Известно, что бактериофаги играли очень существенную роль в генетическом изучении самих бактерий. В конце 1950-х годов, в связи с важностью актиномицетов, образующих большинство антибиотиков, многие известные генетики микроорганизмов за рубежом, ранее работавшие с удобными модельными бактериями, попытались начать генетическое изучение актиномицетов, но большинство из них вскоре отказалось от этой идеи. Генетическое изучение актиномицетов, хотя они и принадлежали к бактериям, было сильно затруднено более сложным их строением, чем у модельных бактериальных генетических объектов. Однако в середине 1950-х годов стали проводиться фундаментальные исследования по генетике актиномицетов на штамме, который не использовался в качестве промышленного продуцента. У истоков генетического изучения штамма актиномицетов Streptomyces coelicolor A(3) стояли итальянский ученый Джузеппе Сермонти, а также английский учёный Дэвид Хопвуд. Интенсивные исследования, проводимые в Англии, были настолько эффективными и результативными, что штамм Streptomyces coelicolor A(3) стал модельным объектом генетики актиномицетов. Трудно переоценить роль этих исследований в практике использования актиномицетов в качестве промышленных продуцентов. В течение десятилетий Дэвид Хопвуд возглавлял большой отдел в Институте Джона Иннеса (г. Норидж, Англия). За свои научные заслуги Дэвид Хопвуд, помимо научных званий, получил звание сэра из рук английской королевы. В. Англии ценят своих героев. С обоими учеными, Д. Хопвудом и Д. Сермонти, С. И. Алиханян поддерживал тесные контакты, умудряясь это осуществлять в эпоху железного занавеса. В свою очередь, они по заслугам оценивали вклад, который вносила лаборатория Алиханяна в генетическое изучение актиномицетов и создание основ селекции актиномицетов. Достаточно сказать, что наличие генетической рекомбинации у актиномицетов было практически одновременно продемонстрировано супругами Сермонти, 1955, Алиханяном и Миндлин, 1957, Брэндлом и Шибальским, 1957, и Д. Хопвудом, 1957. Потом Д. Хопвуд в исследованиях на модельном штамме обогнал всех своих коллег. Нельзя также не упомянуть и о статьях и книгах С. И. Алиханяна и его сотрудников об основах селекции продуцентов антибиотиков, которые публиковались в нашей стране и за рубежом. Эти статьи были настоящей находкой для шпионов, т. к. зарубежные фармацевтические компании, занимающиеся селекцией, предпочитали молчать о результатах своих исследований, а на работах Алиханяна учились многие его коллеги как в нашей стране, так и за ее пределами. Джузеппе Сермонти в 1960-е годы вместе со своей женой Изабеллой Спада-Сермонти приезжали в лабораторию С. И. Алиханяна, а в 1973 году Д. Сермонти участвовал в международной конференции по генетике актиномицетов, которую организовал Сос Исаакович на горном курорте Цехкадзор в Армении, о которой еще будет речь впереди. Пригласил Сос Исаакович участвовать в этой конференции и Д. Хопвуда, но тот до 1988 года в Советский Союз не приезжал. Работа в прикладном институте антибиотиков ограничивала возможности генетического изучения как актиномицетов, так и их вирусов, актинофагов, т. к. объектами исследования всегда должны были быть актиномицеты, используемые в промышленности. Это тормозило работы по генетическому изучению актиномицетов и осуществлению кардинальных исследований по генетическому контролю биосинтеза антибиотиков. Первоначальный этап моей работы, однако, завершился публикацией сначала в отечественном престижном журнале Доклады Академии Наук, а потом и в английском журнале статья Алиханяна, С. И., Ильиной, Т. С. и Ломовской, Н. Д. «Трансдукция у актиномицетов» (S. I. Alikhanian, T. S. Iljina, N. D. Lomovskaya Transduction in Actinomycetes. 1960, Nature 188: 245–246). В статье были впервые приведены доказательства наличия у актиномицетов феномена трансдукции, т. е. переноса генов актиномицета с помощью актинофага. Следует учесть, что феномены общей и специализированной трансдукции на модельных бактериях были открыты в начале 50-х годов и продолжали интенсивно изучаться в конце 1950-ых. Так что мы шли по горячим следам. Тамиллу Сергеевну злые языки называли Ледерберг и Ледерберг, так часто она цитировала авторов открытия феномена трансдукции. К сожалению, наша работа по трансдукции не имела продолжения, ввиду слабой генетической изученности актиномицета — объекта трансдукции. Правда, даже сейчас, по прошествии многих лет, в литературе можно найти упоминания об этой работе. В общем, для меня в самом начале работы в лаборатории С. И. Алиханяна стало очевидным, что я, наконец, нашла своё призвание стать генетиком микроорганизмов. Этому призванию я не изменила в течение всей моей долгой научной карьеры и ничуть об этом не жалею. Правда, проработав микробным генетиком в течение, практически, полувека, я решила, что это достаточный срок для человеческой жизни и даже перестала следить за её достижениями. Иногда немного жалею об этом, но моя новая работа по сохранению памяти о жизни и работе моих родных, коллег, друзей и ряда выдающихся генетиков поколения моих родителей не оставляет мне на это времени. Теперь нельзя не упомянуть о совершенно необъятной деятельности, которую предпринял Сос Исаакович Алиханян по изданию в СССР на русском языке книг зарубежных авторов, подводящих итоги, ставших классикой работ по микробной генетике. Я не знаю, какой энергией надо было обладать, чтобы пробить издание этих книг еще в годы засилья в биологической науке лысенковской идеологии. На этих книгах, изданных под редакцией и с предисловием С. И. Алиханяна, учились, по крайней мере, два поколения советских генетиков и молекулярных биологов. Наверное, первой ласточкой была книга знаменитых французских генетиков Ф. Жакоба и Э. Вольмана «Пол и генетика бактерий». Она вышла в издательстве Academic Press в 1961 году, а уже в 1962 была выпущена Издательством Иностранной Литературы на русском языке в переводе А. А. Прозорова и С. З. Миндлин. Вслед за этой первой птичкой выходят один за другим русские переводы тоже под редакцией и с предисловием С. И. Алиханяна: фундаментальный труд У. Хейса «Генетика бактерий и бактериофагов» (перевод К. Н. Гринберга), 1965; Ф. Сталя «Механизмы наследственности» (перевод В. Г. Никифорова), М., Мир, 1966; А. Рейвина «Эволюция генетики» (перевод В. В. Суходольца), 1967; В. Брауна «Генетика бактерий» (перевод В. Н. Крылова), М., Наука, 1968 и, наконец, почти библия молекулярных биологов и генетиков, которая выходила в 1974 и 1981 годах в переводе Ю. Н. Зографа, Т. С. Ильиной и В. Г. Никифорова, книга Гюнтера Стента и Р. Кэлиндера под редакцией и с предисловием С. И. Алиханяна «Молекулярная генетика» М., Мир, 1974. Сейчас второе издание этой книги 1981 года (тираж 13500 экземпляров) считается букинистическим. Нельзя не упомянуть также, что русский перевод книги Г. Стента «Молекулярная биология вирусов бактерий» М., Мир (перевод М. И. Верховцевой и Л. Р. Гольдиной под редакцией и с предисловием А. С. Кривицкого) был опубликован в 1965 году. В 2000 году, отдыхая на Ямайке, познакомились в автобусе с американкой, которая приехала на остров из Беркли (Калифорния) отпраздновать свадьбу дочери. Разговорившись, узнали, что она хорошо знакома с Гюнтером Стентом. Список переводных изданий можно продолжать. Они сокращали пробел в генетическом образовании, по крайней мере, двух поколений генетиков, работающих в Советском Союзе. Тяжелый труд переводчиков этих изданий выполняли, главным образом, высококвалифицированные сотрудники лабораторий С. И. Алиханяна и Р. Б. Хейсина, которые совмещали этот труд с напряженной экспериментальной научной работой. В моей научной жизни большую роль сыграло переводное издание книги М. Адамса «Бактериофаги» (перевод Т. С. Ильиной) М., Из-во Иностранной литературы, 1961 год, под редакцией и с предисловием А. С. Кривицкого. Книга была издана у нас через два года после её выхода из печати на английском языке в 1959 году. Впоследствии вышли в свет и переводные издания книг Херши А. Д. (ред), «Фаг лямбда» М., Мир (русский перевод под редакцией Б. Н. Ильяшенко) и Д. Уотсона. «Молекулярная биология гена» М., Мир, 1978. В 1966 году году выходит в свет и первый сборник статей отечественных генетиков «Актуальные вопросы современной генетики». Книга была издана по материалам Всесоюзного семинара по генетике для преподавателей университетов (семинар был организован кафедрой генетики МГУ в 1964 г.) под редакцией С. И. Алиханяна. Научным редактором этого сборника был мой муж Лёня Фонштейн. Он был очень доволен тем, что познакомился сразу со многими выдающимися классическими генетиками того времени, а авторы этого сборника благосклонно принимали его замечания как научного редактора. Он в эти годы много редактировал, хотя эта работа плохо оплачивалась. Как научный редактор он работал быстро и продуктивно. Книга В. Н. Сойфера «Молекулярные механизмы мутагенеза» тоже вышла под его научной редакцией, хотя помнится, что впервые между автором и редактором были какие-то разногласия, какие, не помню. Впоследствии Лёня редактировал и книги Н. П. Дубинина. Сейчас уже не можем вспомнить всех книг, которые он редактировал. Недавно вспомнила, что он был уже ответственным редактором книги Н. П. Дубинина «Некоторые проблемы современной генетики», М., Наука, 1994, которая вышла уже после нашего отъезда в Америку. В 1963 году выходит настольная книга всех советских генетиков того времени «Генетика», Л., ЛГУ, 1963, М. Е. Лобашева, заведующего кафедрой генетики Ленинградского университета с основами классической генетики. По рассказам ленинградских молодых генетиков, преподавание этого курса в ЛГУ, практически, не прерывалось в тяжелые годы лысенкоизма. Начинают выходить книги и монографии по генетике микроорганизмов и отечественных авторов: «Генетика и селекция микроорганизмов», М., Наука, 1964 (отв. ред. С. И. Алиханян), Д. М. Гольдфарба «Введение в генетику бактерий» (научн. ред. Н. Д. Ломовская), 1966; С. И. Алиханяна «Современная генетика», М., Наука, 1967; И. А. Захарова и К. В. Квитко «Генетика микроорганизмов» Л.,1967; Алиханяна, С. И. «Селекция промышленных микроорганизмов», М., Наука, 1968; «Генетические основы селекции микроорганизмов» М., Наука, 1969. (отв. ред. С. И. Алиханян). Я (Н. Л.) в самом начале работы в РБО. Института атомной энергии им. Курчатова (1958 г.) после доклада, сделанного мной на семинаре лаборатории, руководимой С. И. Алиханяном. Доклад, по предложению С. И. Алиханяна, был посвящен реферированию статьи А. Львова, посвященной открытию им явления лизогении у бактериофагов и получившего за это открытие Нобелевскую премию. Тут я впервые осознала, что моё призвание быть генетиком микроорганизмов и их вирусов бактериофагов. При этом имелось в виду изучение актиномицетов — продуцентов большинства антибиотиков и их вирусов, умеренных актинофагов, способных к лизогенизации их актиномицетных хозяев. Моя мечта сбылась через несколько лет работы в лаборатории С. И. Алиханяна с вирулентным фагом Т4. А пока собираю литературу по лизогении. Слева от меня картотека статей по изучению этого явления у бактерий и бактериофагов.
Я (Н. Л.) в самом начале работы в РБО. Института атомной энергии им. Курчатова (1958 г.) после доклада, сделанного мной на семинаре лаборатории, руководимой С. И. Алиханяном. Доклад, по предложению С. И. Алиханяна, был посвящен реферированию статьи А. Львова, посвященной открытию им явления лизогении у бактериофагов и получившего за это открытие Нобелевскую премию. Тут я впервые осознала, что моё призвание быть генетиком микроорганизмов и их вирусов бактериофагов. При этом имелось в виду изучение актиномицетов — продуцентов большинства антибиотиков и их вирусов, умеренных актинофагов, способных к лизогенизации их актиномицетных хозяев. Моя мечта сбылась через несколько лет работы в лаборатории С. И. Алиханяна с вирулентным фагом Т4. А пока собираю литературу по лизогении. Слева от меня картотека статей по изучению этого явления у бактерий и бактериофагов.
 Сос Исаакович Алиханян в своем рабочем кабинете 1980 гг.
Сос Исаакович Алиханян в своем рабочем кабинете 1980 гг.
Глава 11 Начало нашей совместной семейной жизни
Своим чередом катилась и наша личная жизнь. Почти в начале 1959 года женился Эдик Гойзман, которого мы раньше всегда видели при встречах с ним с новой девушкой. Его женой на все последующие годы стала Люда Лившиц, очень красивая, дочь главного конструктора авиационных моторов на крупном авиационном заводе в Москве. В то время он не разрешал своей семье летать на самолетах. Мы с Лёней были свидетелями на их свадьбе. Витя Жданов, Лёнин однокурсник по Тимирязевской академии, который работал со мной в одной лаборатории, как-то заметил Лене, что Наташу могут иувести. Я работала вместе с Виктором и его женой Нелли больше 30 лет в одном институте, и мы с ними дружили. Будучи длительное время заместителем директора нашего института и какое-то время исполняющим обязанности директора, Виктор Григорьевич при разных коллизиях не забывал, что я Лёнина жена. Лёня еще подумал и сделал мне предложение. Поженились мы 11 июня 1959 года. Оба были абсолютно счастливы. Деньги, привезенные с целины, ушли на покупку телевизора Лёниным родителям и на приобретение раскладывающегося дивана в маленькую комнату квартиры на Малой Бронной. Лёня один на спине принес его на 3-й этаж и сшил на свадьбу новый костюм. Свидетелями на нашей свадьбе были уже женатые Гойзманы, которые прямо в Загсе уговорили нас с Лёней не менять мою фамилию. Так я и осталась Ломовской, что по тем временам, наверное, было правильно. После Загса вместе со свидетелями пришли пешком на Малую Бронную, где нас уже ждали гости: тетя Ганя с дядей Саулом, родным братом моего дедушки, Марианна Петровна, Лёнины родители Анна Абрамовна и Израиль Иосифович, и Феликс Янишевский со своей первой женой Олей, которая должна была родить с часу на час. Стояла совершенно необычная для этого времени года жара, и почти вся приготовленная еда осталась. Конечно, все, кого нам хотелось пригласить, не могли одновременно поместиться в нашей квартире или даже в большой комнате коммунальной квартиры, где жил Лёня с родителями и сестрой. Устраивать свадьбу в ресторане, по-моему, ещё было не принято. Мы и в дальнейшем отмечали все события в нашей семье всегда дома. На вторую свадьбу были приглашены Лёнины и мои друзья. Она уже состоялась в доме у Лёни. Всё приготовила Анна Абрамовна, также как и на третью свадьбу, куда были приглашены многочисленные Лёнины родственники. Благо за продуктами ходить было недалеко. Всё купили в большом магазине в высотном здании на площади Восстания. Это был какой-то довольно короткий период в Москве, когда в продовольственных магазинах было изобилие продуктов и не было очередей. Некоторые, например, Эдик Гойзман умудрился побывать на всех трех свадьбах, как свидетель, близкий друг и родственник. Его жена Люда, обладая какой то парадоксальной памятью может и сейчас вспомнить, в каком платье я была на свадьбе и какую скатерть стелили. Было много свадебных подарков, но денег всё время катастрофически не хватало, и большинство из них в разное время были проданы. Сейчас от всех подарков сохранились 4 из шести хрустальных бокалов для шампанского (мы подняли их в день нашей более чем скромной золотой свадьбы уже в Калифорнии) и пять из шести серебряных чайных ложечек, подаренных тетей Майей (Марианной Петровной). В отпуск и медовый месяц поехали на Кавказ в Пицунду, прихватив с собой несколько баночек с черной икрой. Но в Пицунде было трудно достать даже хлеб, не говоря уже о сливочном масле. Пришлось есть икру ложками. В. Пицунде мы познакомились с супружеской парой, Эллой и Володей Фрейзонами, с которыми дружим и по сей день. Они уехали в Америку почти одновременно с нами и сейчас живут в Бостоне. На пляже Лёня с Володей играли в преферанс с болваном на домашние эклеры, которые парень приносил на пляж продавать с лотка. Часто они доставались нам бесплатно. Лёня очень любил эклеры и старался во всю их выиграть. Володя был заядлым охотником и всегда плавал с подводным ружьем. Я боялась входить в воду одновременно с ним. Во время поездки в Гагры, чтобы купить обратные билеты в Москву, у Лёни из заднего кармана украли кошелёк с деньгами и билетами. Пришлось продать его костюм хозяину квартиры, где жили Фрейзоны. Все равно это было счастливое время, мы уже ждали ребёнка, но мне казалось, что беременность длится целую вечность. В ту пору мы, конечно, не знали, кто должен родиться. Надеялись, что будет мальчик и мы назовём его в честь отца Лёни Максом. Родилась плотненькая коротенькая девочка, которую мы долго не могли назвать. Звали просто девочкой. Назвали ее только через месяц Ольгой. У меня сразу началась инфекционная грудница, а все крошки после выхода из роддома попали в Филатовскую больницу со стафилококковой инфекцией (воспалением легких). Олю трижды за это время спасали. Первый раз Лёня, который, придя с работы, увидел, что девочка умирает, и через 10 минут мы были в больнице. Я была в это время в полной депрессии и все время плакала. Прогноз врачей был неутешительным, но врачи были опытные, никто из детей не умер. Я в это время еще и отравилась дрожжами и лежала с высокой температурой дома, девочка оставалась в больнице и Лёня по несколько раз в день относил туда сцеженное молоко, которого было мало. В самый критический момент в течение болезни из Великих Лук приехала моя родная тетя Валя, врач-рентгенолог и вообще хороший врач, и спасла ребенка, продержав ее всю ночь на руках у открытого окна. После этого ребенок стал поправляться и ее выписали из больницы одной из первых. Когда я после 4-дневного перерыва пришла ее кормить, я своего ребенка не узнала. Но мы с Лёней, особенно впоследствии, были уверены, что нам её не подменили. В три месяца наша девочка уже сама садилась, согнувшись в три погибели, в 6 месяцев встала в кроватке. В начале зимы в 8 месяцев уже ходила по Патриаршам в длинном пальто, короче достать не удалось, подвязанном тонким пояском, чтобы не задувало, и в больших резиновых ботах. До ее пяти лет Лёня стеснялся с ней гулять на Патриарших, потому что она обижала других детей и отнимала у них игрушки. Единственным утешением было то, что она так укатывалась за день, что отправлялась спать в 8 часов вечера. Правда, просыпалась в 6 утра и все начиналось сначала. Я вышла на работу, когда ей исполнилось 4 или 5 месяцев, и началась череда нянь. Нашей с Лёней доченьке Олечке два месяца и девять дней. Улыбается своей бабушке Э. Г. Ломовской. Фото от 15 мая 1960 г.
Нашей с Лёней доченьке Олечке два месяца и девять дней. Улыбается своей бабушке Э. Г. Ломовской. Фото от 15 мая 1960 г.
 Я обожаю нашу доченьку Олечку и полнею от бесконечного питья чая с молоком, надеясь иметь больше собственного грудного молока. Ничего не помогает. Пью час с молоком с отвращением. Фото от 19 июня 1960 г.
Я обожаю нашу доченьку Олечку и полнею от бесконечного питья чая с молоком, надеясь иметь больше собственного грудного молока. Ничего не помогает. Пью час с молоком с отвращением. Фото от 19 июня 1960 г.
Глава 12 Тернистый путь возвращения классической генетики в нашу страну
Вернусь ненадолго в 1950-ые. Так мне жалко, что никогда не писала дневников да и никогда не предполагала писать воспоминания. Даже несколько лет назад, когда у нас в гостях уже в Калифорнии был Дэвид Хопвуд и его жена Джойс, Дэвид вдруг сказал, что хорошо бы я написала мемуары. Я удивилась, т. к. никогда об этом не думала. Теперь вот приходится насиловать свою и нашу с Лёней совместную память, часто безуспешно, но я об этом не жалею. Как же мучительно шел процесс к возврату к генетике в нашей стране в эпоху лысенкоизма! Я хорошо помню, как читали, наверное, первую статью в Ботаническом журнале Н. В. Турбина с критикой теории видообразования Т. Д. Лысенко. Она была опубликована еще при жизни Сталина. Это событие всех потрясло. Но к Н. В. Турбину, несмотря на его такой мужественный поступок, все равно относились как к человеку, который в свое время поддерживал Т. Д. Лысенко. Помню, как я была на лекции Т. Д. Лысенко для студентов биофака МГУ в 1955 году. Аудитория ломилась от зрителей. Он высказал все свои абсурдные теории о превращении одних видов в другие. Немедленно появились эпиграммы. Текстов я не помню, что-то о превращении пеночки в кукушку. Помню, как лектор наделил воробьев атомной энергией, прыгающих в Сибири на 40- градусном морозе. Совсем не помню, чтобы эти его теории были где-то опубликованы. А смотреть в интернете не хочется. Признанным лидером борьбы с лысенкоизмом был В. Н. Сукачев — академик АН СССР, директор института леса АН СССР, главный редактор Ботанического журнала и Бюллетеня Московского общества испытателей природы (МОИП), в которых появлялись статьи, критикующие теории Т. Д. Лысенко и его последователей. Пройти все барьеры на пути к публикации этих статей было невероятно трудно. В. Н. Сукачев не боялся. В № 3 и 4 Ботанического журнала за 1955 год были опубликованы рефераты статей директора института культурных растений Ганса Штубе и немецкого генетика Гельмута Бёме с критикой лысенкоизма. В. П. Эфроимсон еще в 1947 году направил в отдел науки ЦК КПСС большой труд с критикой лысенкоизма. Он же, вернувшись после второго ареста и пребывания в лагере с 1949 по 1955 годы, еще не будучи реабилитированным, посылает этот труд вновь в ЦК КПСС и в генеральную прокуратуру. И только через 40 лет после его написания его публикуют в 1988 году в журнале «Вопросы естествознания и техники». В 1955 году в Бюллетене МОИП публикуется разгромная рецензия на книгу Н. И. Фейгинсона «Основные вопросы мичуринской генетики», написанная В. П. Эфроимсоном. Сначала планировали опубликовать ее под другим авторством, но потом настоящий автор был тоже назван. В следующем номере журнала публикуется еще одна статья В. П. Эфроимсона, по его словам, с невинным названием, но с убийственным критическим содержанием взглядов и политики Т. Д. Лысенко. В 1955 году отправляет свои статьи Н. С. Хрущеву и А. А. Любищев — биолог, член международного биометрического общества «Об аракчеевском режиме в биологии» и «О монополии Лысенко в биологии». Я уже упоминала о «Письме 300», направленном в Президиум ЦК КПСС и подписанном истинной научной элитой страны в октябре 1955 года. Письмо последующими десятилетиями содержалось в полном секрете и было опубликовано с купюрами в начале перестройки в газете «Правда» от 13 января 1989 года. К своему стыду, я этого не помню, хотя мы были еще в Москве. Единственным оправданием может служить то, что многие годы мы не читали центральных газет. Моей мамы уже не было в живых, а папа был сильно болен, иначе бы они, конечно, обратили наше внимание на это письмо. Авторы письма и ученые, его подписавшие, оставались неизвестными в течение 50 лет! Вестник В. ГиС опубликовал сохранившиеся материалы, связанные с «Письмом 300», в 2005 году (т. 9, № 1). Замысел письма возник в Ботаническом институте им, В. Л. Комарова в Ленинграде, когда стало очевидным, что обращения отдельных ученых остаются без ответов. Авторами письма были сотрудники Ботанического института В. Я. Александров и Д. Б. Лебедев, а также Ю. М. Оленов — генетик, работающий в зоологическом институте. Первым подписал письмо директор Ботанического института, правая рука В. Н. Сукачева, член-корр АН СССР П. А. Баранов, вторым — член-корр АН СССР Д. Н. Насонов. П. А. Баранов отвез письмо Н. П. Дубинину. Письмо написано без преклонения перед всесильной властью, без скидок на уровень образования ее представителей и на политическую ситуацию в стране. Очень советую тем, кто интересуется историей биологии и просто историей прочесть «Письмо 300» и, главное, увидеть подписи под ним ученых, которые показали пример гражданского мужества и не побоялись во времена всеобщего страха его подписать. Сколько фамилий из Ботанического института, из института научной информации АН СССР, люди всех биологических специальностей, физики, математики, химики. А сколько фамилий, которые я уже упоминала в своих воспоминаниях! Письмо одобрили И. В. Курчатов и А. Н. Несмеянов, тогдашний президент АН СССР. И. В. Курчатов вспоминал, что Н. С. Хрущев в разговоре с ним назвал письмо возмутительным. Письмо было направлено с сопроводительной запиской П. А. Баранова и Н. П. Дубинина, которая не сохранилась. В этом же 1955 году Т. Д. Лысенко был снят с поста президента ВАСХНИЛ, а ученого секретаря биологического отделения А. И. Опарина сменил В. А. Энгельгардт. Борьба продолжалась. Н. С. Хрущев поддерживал Т. Д. Лысенко. Его восстановили в должности президента ВАСХНИЛ в 1958 году. В этом же году разогнали редакцию Ботанического журнала. Поводом, наверное, и последней каплей была публикация в третьем номере журнала статьи Н. В. Тимофеева-Ресовского «О синтетической теории эволюции». Вместе с тем, в 1955 году в институте биофизики АН СССР открывается большая лаборатория радиационной генетики (зав. лаб. Н. П. Дубинин), в 1958 году организован радиобиолоогический отдел с генетическими лабораториями в Институте атомной энергии и генетические лаборатории в институте химической физики АН СССР. В 1963 году в журнале «Нева», № 3 (опять Ленинград) опубликована статья Ж. А. Медведева и В. С. Кирпичникова «Перспективы советской генетики» с уничтожающей критикой взглядов Т. Д. Лысенко. Редакцию тоже разогнали. Имя Ж. Медведева я впервые услышала от Лёниных друзей, так как Ж. Медведев до его увольнения в 1962 году работал в Тимирязевской академии. Его аспирантом в Тимирязевке был Никита Заболоцкий — сын знаменитого поэта Н. Заболотского. Никита, который совсем недавно скончался, был близким другом Инны и Димы Вахмистровых, и мы часто с ним в молодости встречались. Я помню, что Ж. Медведева уволили из Тимирязевки в связи с написанием книги «Биологическая наука и культ личности». Машинописные экземпляры этой книги циркулировали в Самиздате. Принес нам ее почитать на пару дней Дима Вахмистров, с которым Лёня, а потом мы оба дружили многие годы. Он все последующие годы был главным поставщиком самиздата в нашу семью. Я думаю, что это было уже после того, как я познакомилась с Жоресом Александровичем Медведевым в Чехословакии на конференции, посвященной 100-летию со дня открытия законов Менделя, в 1965 году. Из рук Димы мы на пару ночей получали также «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «В круге первом» А. И. Солженицына. Конечно, читали всё, что успело проскользнуть в публикацию в короткий период оттепели самого конца 1950-х и начала 1960-х. В 1964 году общее собрание академии наук СССР, выйдя из повиновения власти, проголосовало против избрания в академики Н. И. Нуждина, многие годы принадлежавшего к стану Лысенко. Еще о В. П. Эфроимсоне. Я с ним не была знакома, но мои родители знали хорошо и его, и его жену М. Г. Цубину. В начале 60-х я и Лёня часто ходили в Ленинку и всегда видели там Владимира Павловича. В 1958 году он написал книгу «Введение в медицинскую генетику», которая увидела свет только в 1964 году и переиздавалась в 1968. По ней училось поколение медицинских генетиков. Потом были еще и редкие прижизненные публикации, иногда даже прорывающиеся к широкой публике. Уже посмертно вышли три крупных труда В. П. Эфроимсона «Генетика гениальности», «Генетика этики и эстетики» и «Педагогическая генетика». Сейчас опубликовано очень много материалов о героической жизни В. П. Эфроимсона. За год до кончины он дал интервью Е. А. Кешман, которое было опубликовано только в 2000 году в № 26 газеты «Биология» издательского дома «Первое сентября». Всё измеряется десятилетиями. Читайте. Не пожалеете. Когда его спрашивали, не хочет ли он эмигрировать, он отшучивался: я хочу умереть на ступеньках Ленинки. Закончить мне хочется цитатой из выступления В. П. Эфроимсона в Политехническом музее на встрече, посвященной памяти Н. И. Вавилова (публикация Е. Кешман):«Я пришёл сюда, чтобы сказать правду. Я не обвиняю ни авторов фильма, ни тех, кто говорил сейчас предо мной, но этот фильм — неправда. Вернее, ещё хуже. В фильме не сказано самого главного. Не сказано, что Вавилов — не «трагический случай в нашей истории». Вавилов — это один из многих десятков миллионов жертв, самой подлой, самой бессовестной, самой жестокой системы. Системы, которая уничтожила по самым мягким подсчётам 50, а скорее 70 миллионов ни в чём не повинных людей. И система эта — сталинизм. Система эта — социализм. Социализм, который безраздельно властвовал в нашей стране, и который и по сей день, не обвинён в своих преступлениях».Зал замер! В 1987 году! Как мне знакомо это чувство. В начале перестройки, когда мы слушали выступления Ю. Афанасьева, я сидела у телевизора и думала: вот сейчас, сразу после передачи, его заберут. Когда в 1988 году в Москву и Ленинград приехали мои английские коллеги Д. Хопвуд и К. Четер, они в Ленинграде беседовали с С. Г. Инге-Вечтомовым. Он так откровенно рассказывал им о ситуации в стране, что я тоже удивилась. Все 1960-ые и начало 1970-х в полном забвении находилось и имя С. С. Четверикова. И. Ф. Жимулев, теперь уже, по-моему, академик РАН, вспоминал, что будучи студентом Горьковского университета участвовал в перезахоранении праха С. С. Четверикова с заброшенной части Бугровского кладбища в его центральную часть в 1969 году, через 10 лет после кончины С. С. Четверикова. На его прежней могиле стоял деревянный столбик с прибитой на нем крышкой от консервной банки, на которой неровным почерком было написано: профессор С. С. Четвериков. И. Ф. Жимулев впоследствии сожалел, что выбросил эту крышку, которая, по его словам, была пронзительным свидетельством отношения режима к людям, составляющим гордость страны. Я знаю, что уже написала об этом, но думаю, что не грех будет и повторить эти воспоминания. Может быть, кто-то из читателей случайно их пропустил, а написанное дважды вернее.
 Конец 1970-х или самое начало 1980-х. На банкете в ресторане «Прага» на старом Арбате в честь защиты докторской диссертации Элеонорой Суреновной Пирузян. Сидят слева направо Т. С. Ильина, Л. М. Фонштейн, Н. Д. Ломовская. Стоят слева директор института ВНИИ генетика С. И. Алиханян и заведующий лабораторией этого института В. В. Суходолец.
Конец 1970-х или самое начало 1980-х. На банкете в ресторане «Прага» на старом Арбате в честь защиты докторской диссертации Элеонорой Суреновной Пирузян. Сидят слева направо Т. С. Ильина, Л. М. Фонштейн, Н. Д. Ломовская. Стоят слева директор института ВНИИ генетика С. И. Алиханян и заведующий лабораторией этого института В. В. Суходолец.
Глава 13 Шестидесятые и последующие десятилетия — жизнь в напряженном темпе
После рождения нашей дочки Оли я поступила в аспирантуру осенью 1960 года. Аспиранты в институте Атомной Энергии (кстати, в те времена институт был просто под номером, каким, не помню). В. Институте атомной энергии аспиранты получали большую, по сравнению с другими аспирантурами, стипендию, 130 рублей. Лёня в своей аспирантуре получал 120, да и то, учитывая его трудовой стаж до аспирантуры. После сдачи экзаменов меня вызвал к себе Ю. С. Гаврилов, крупный физик, директор РБО и сказал, что несмотря на то, что меня приняли в аспирантуру, его не удовлетворяет уровень моих знаний по биохимии и еще по нескольким биологическим дисциплинам и набросал большой список экзаменов, которые я должна была сдавать в течение курса аспирантуры. Я очень расстроилась и приуныла. Его план был для меня абсолютно не осуществимым. Потом я успокоилась и стала жить в соответствии с известным анекдотом Ходжи Насреддина: он обещал эмиру, что через 20 лет выучит своего ишака грамоте. Его спросили как он может давать такие несбыточные обещания, на что он ответил, что через 20 лет умрет или ишак, или эмир, или он. И точно к окончанию курса аспирантуры Ю. С. Гаврилов ушел с поста директора РБО. Конечно, я готовилась к сдаче кандидатского минимума. Но даже Р. Б. Хесин, как член комиссии, ограничился приятной беседой и подписал протокол. Быт в это время был у нас довольно сложный. Я ездила на работу от Маяковской до Сокола на метро, а потом на автобусе № 100 до площади Курчатова и возила с собой судки — три небольшие кастрюльки, соединенные одной ручкой. На пути домой я заходила в ресторан Пекин, что на площади Маяковского функционирует до сих пор и брала там ужин. Такая еда на дом стоила не дорого. Насколько она была съедобна — не помню. Все сотрудники РБО пользовались столовой на территории Института атомной энергии, куда выдавали ежемесячно бесплатные талоны. Столовая была очень хорошая, но ходить по территории института было как-то не комфортно, хотя РБО отделял от нее только забор. За вредность также каждый день выдавали пакет молока. Зимой в эти годы мы часто ездили на лыжах. Базой иногда служили дача в поселке старых большевиков, которая принадлежала дяде Юры Дьякова Алексею Михайловичу Дьякову. Тогда я только знала, что он был известным востоковедом. Однажды он угостил нас азиатским пловом. Такого вкусного плова я не ела ни до, ни после. Как я теперь понимаю, А. М. Дьяков сыграл большую роль в становлении Юры как настоящего натуралиста. Тогда мы об этом не задумывались. Алексей Михайлович перенял увлечение животным и растительным миром от своего отца и передал его не своим детям, а племяннику. Алексей Михайлович настолько хорошо знал птиц, что к нему часто обращались за советами профессиональные орнитологи. Его дочь и сын вместе с Юрой недавно издали небольшую книгу воспоминаний А. Дьякова: «Годы детства и молодости». Его дневники-воспоминания обрываются в 1922 году. Книга показалась мне очень интересной, и я даже не помню, когда еще получала такое удовольствие от виртуального общения с автором. Но похоже, что А. М. Дьяков очень рано понял, что последующие после 1922 годы — уже не время для ведения дневников. Не исключено, что он и уничтожил то, что было написано позднее. Отец Алексея и Торичана, отца Юры Дьякова, тоже был очень образованным биологом. После него осталось большое количество рукописей по наблюдению за растениями и животными в принадлежащем ему до революции поместье. После революции в период разрухи этими рукописями топили печи, чтобы выжить. Вернусь к 1960-м. Я по-прежнему работала с актиномицетами, хотя многие сотрудники сектора С. И. Алиханяна стали работать с более генетически изученными объектами. Лёня защитил кандидатскую диссертацию на год раньше меня в 1964 году. Делал он ее в институте генетики АН СССР, где директором, по-прежнему, был Т. Д. Лысенко. Правда, как я уже писала, эпоха его всевластия в биологии шла к концу. Формальным руководителем диссертации Лёни был И. Е. Глущенко, зав. лаб. селекции растений в институте генетики. Вторым руководителем согласился быть член-корр. АН СССР. Александр Михайлович Кузин, зав. лаб. радиобиологии института биофизики АН СССР. Работа была посвящена изучению дистанционного действия ионизирующей радиации на растительные организмы. Эффекты были очень слабыми и надо было просматривать большое количество материала, чтобы получить или не получить статистически достоверные отличия. При этом нельзя забывать, что результаты можно было учитывать только раз в году после сбора урожая зерновых. Когда мы стали работать уже в Америке, то столкнулись со слабым проявлением гена, участвующего в репарации мутационных повреждений у штамма, образующего противораковый антибиотик даунорубицин. Вот тогда, проделав бесчисленное количество опытов, вспоминали Лёнину работу. Как это ни парадоксально, в программу кандидатских экзаменов в ту пору в мичуринском институте входил экзамен по классической генетике. Ее учили по старому, изданному еще в 30-ые годы, переводному учебнику Синнота и Дэна. Это был потрепанный библиотечный экземпляр. Переметнувшиеся в стан лысенковцев образованные в области настоящей генетики ученые с видимым удовольствием и ностальгией экзаменовали аспирантов. С тех пор Лёня образовался в области классической генетики раньше и лучше меня. Прочитав Лёнину диссертационную работу И. Е. Глущенко, не получив желаемых результатов, отметил: «Гора родила мышь». Лёня защищал на последнем Ученом Совете в 1964 году перед началом реорганизации Института генетики в Институт общей генетики АН СССР, где директором стал Н. П. Дубинин. Конечно. на защиту пришли все Лёнины друзья. Лёня был при галстуке, что случалось очень редко, и во время своего доклада, волнуясь, вертел головой, пытаясь от него освободиться. Потом все смеялись и долго еще его копировали. Несколько сотрудников старого института, включая Лёню, были зачислены в новый институт. Заведующим лабораторией генетики бактерий и бактериофагов в новом институте стал Давид Моисеевич Гольдфарб — известный исследователь бактериофагов, работавший до этого в Институте эпидимиологии и микробиологии им. Гамалеи АМН СССР. Давид Моисеевич был очень энергичным человеком, все время преодолевая трудности, связанные с потерей ноги в совсем молодом возрасте во время войны. После защиты диссертации Лёня призадумался, стоит ли ему дальше продолжать работать с растениями. Я к тому времени уже стала работать с бактериофагом Т4, ставя в день по несколько экспериментов и получая на следующий день результаты. Конечно, это шутка. Получить интересные результаты всегда не просто. Я к тому времени знала Давида Моисеевича, участвуя в конференциях с микробной тематикой, а впоследствии он был оппонентом на моих кандидатской и докторской диссертациях. Придя к нему, я спросила, не может ли он поговорить с Лёней и, если он ему понравится, то взять его на работу. Он мне ответил без промедления, что он уже его берет, так как он мой муж. Так Лёня стал работать в лаборатории Давида Моисеевича и в первый, но не в последний раз совершенно изменил направление своих исследований. Первый раз придя в лабораторию Давида Моисеевича, Лёня был сразу ошеломлён осведомленностью лаборанта Бори, не говоря уже обо всех остальных сотрудниках лаборатории. Однако через полгода втянулся и стал работать по совершенно современной, даже по мировым стандартам, тематике, а именно, получению доказательств инфекционности ДНК фага Т4. Этот опыт работы с фагом очень пригодился ему, когда мы через много лет приехали работать в Америку. В лаборатории Давида Моисеевича в те годы работал и Юра Винецкий, мой однокурсник и большой специалист в области бактериофагов. На все последующие годы он стал другом нашей семьи. Я в это время ещё училась в аспирантуре уже в новом здании РБО и работала в большой аспирантской комнате. Сектору С. И. Алиханяна был отведен почти целый этаж. Немного позже после меня в нашей комнате появились две Норы — Нора Мкртумян и Нора Пирузян. Нора Мкртумян впоследствии стала работать в моей лаборатории, и мы проработали с ней вместе рука-об-руку почти 25 лет. Она прекрасно владела английским языком и сыграла очень большую роль в профессиональном переводе наших статей для зарубежных научных журналов и установлении контактов с нашими зарубежными коллегами. Нора Пирузян стала моей близкой подругой. Мы вместе с ней участвовали в двух международных генетических конгрессах, в 1968 году в Японии, в 1973 году в Америке, а также в 1974 году в симпозиуме по генетике промышленных микроорганизмов в Англии. Характер людей сразу проявлялся при близком общении, особенно заграницей. Нас друг в друге все устраивало. Нора Пирузян много лет работала в лаборатории С. И. Алиханяна с бактериофагом MU, стала доктором наук, профессором, крупным специалистом в области генной инженерии растений. Она много лет возглавляла большие лаборатории в двух академических институтах, Молекулярной Генетики и Общей Генетики АН СССР. В какое-то время в нашей аспирантской комнате появился Ионес Рубикас, поступивший в аспирантуру к Сосу Исааковичу, до ээтого работая в Вильнусе. Уж не знаю, побился ли он с кем-нибудь об заклад или решил доказать себе сам, что закончит эксперимент для защиты кандидатской диссертации в три месяца. И дейсвительно, работая круглые сутки и выпив цистерну кофе, он вчерне закончил эксперимент, на который у всех уходили годы. В начале 1960-х мы пестовали нашу дочь на подмосковных дачах, бесконечно занимая деньги на их оплату и эксплуатируя обеих бабушек. Два раза вдвоем по недельке летом провели в Киеве и под Таллином в поселке Пирита. В. Киеве жили на Малой Васильковской у вдовы Лёниного родного дяди Моисея, тети Веры. Она подолгу торговалась, покупая продукты на рынке, готовила вкусную еду, держала постояльцев. Ее дочь Нелла, вернувшись с целины, работала начальником почвенной экспедиции. Мы ходили есть мороженое и варенники с вишнями и картошкой в кафе-подвальчиках. Киев казался в то время хлебосольным городом. В следующем году поехали на недельку в Пириту. Приехав в этот поселок под Таллиным решили, что попали в ЦКовский поселок, такие большие, каменные, добротные и красивые стояли там дома. Оказалось, что это дома местных жителей. Удалось снять комнатушку в менее престижном районе. Однажды пошли пообедать в местный ресторан. К моему удивлению и удовольствию, официанты называли меня «мадам». За соседним столом в большой компании сидела Людмила Гурченко — в зените славы после главной роли в кинофильме «Карнавальная ночь» в постановке Эльдара Рязанова. У. Эдика Гойзмана и его жены Люды тоже родилась дочка, назвали Наташей. Вокруг одни сплошные Наташи в следующем за нами поколении. На следующий год мы сняли дачи по соседству. Рядом с нами снимала дачу семья Ямпольского, многолетнего аккомпаниатора знаменитого скрипача Давида Ойтраха. Его сын Мирон Ямпольский приходил любоваться на малютку Наташу. Люда как-то вскользь ему заметила: не волнуйся, она будет твоей третьей женой. Так и случилось. У них хорошая семья профессиональных музыкантов, живут они уже давно под Вашингтоном и имеют уже двух взрослых детей, Тову и Исаака. Това — хороший музыкант, недавно поступила в Чикагский университет, игра на скрипке — её вторая специальность. Исаак тоже поступил в Чикагский университет, и если ещё не передумал, то будет первым в их семье биологом. После нескольких лет, проведенных на дачах под Москвой, уже все последующие отпуска ездили куда-нибудь в другие места отдыхать вместе с дочкой. Уж очень надоело переезжать на дачи и таскать туда бесконечные сумки с продуктами из Москвы. В 1962 году отмечали 30-летие Лёни. Вся честная компания, состоящая из его одноклассников, однокурсников и родственника Эдика Гойзмана почти целый год готовилась к этому событию фундаментально. Собирались на новой квартире у Эдика и ели умопомрачительную утку, приготовленную домработницей по кличке Тамарка-санитарка. Она, в свою очередь, называла Витю Рошаля куроедом. Шли к нашему дому на Малой Бронной всей компанией и к нашему ужасу, на улице развернули большой плакат: «Поднимем ярость масс на юбилей Фонштейна!» Все, сейчас всех заберут! Но — пронесло! Торжественно открыли бюст, утверждая сходство Лёни с баснописцем Иваном Андреевичем Крыловым. Наверное, другого бюста просто не нашли. Спели сочиненный длинный гимн, перечислили все Лёнины недостатки, в частности, как он разбил в Тимирязевке очень ценный стеклянный прибор, обсудили неоднозначную характеристику, данную ему после окончания первого класса школы, проблему секса у ежей и современное состояние мичуринской биологии. В общем, культ Лёниной личности все равно был налицо. Впоследствии повторить этот вечер уже никогда не удавалось. Прошу прощения у читателей, которые читали мою книгу «Биолог Леонид Фоншьейн» за повторение этого абзаца. Но из песни слов не выкинешь! В 1961 году в Москве состоялся V Международный биохимический конгресс с пятью тысячами участников. На нем, в частности, обсуждались возможности расшифровки генетического кода. Лёня, как хорошо знающий немецкий, все дни сидел в справочной конгресса в здании МГУ. В конце раздавал участникам билеты в несколько ресторанов на банкеты, так как ни один ресторан не мог вместить всех делегатов. Когда мы поздно вечером пришли в Гранд-Отель на улице Горького, вся еда была уже съедена. Джойс Хопвуд, биохимик по образованию, участвовала в этом конгрессе и уже в 1980-ые вспоминала о своем разговоре с Р. И. Салгаником, известным советским генетиком, работавшим в то время в Академгородке под Новосибирском. Он довольно откровенно обрисовал ей ситуацию, сложившуюся в нашей стране с генетическими исследованиями. Она удивилась его откровенности, но он отметил, что он и так уже живет в Сибири. Я во время этого конгресса познакомилась с выдающимся американским микробиологом и физиологом Арнольдом Демейном, который во время конгресса приезжал в лабораторию С. И. Алиханяна. Помню, как разговаривала с ним в вестибюле Главного здания МГУ, где проходил конгресс. С ним можно было так легко и спокойно общаться, даже почти не имея навыков в разговорной английской речи. Арни (так он просил себя называть), конечно, уже тогда был метром. В конце семидесятых он приедет на конференцию по генетике бацилл и актиномицетов с женой и дочерью в Ереван по приглашению С. И. Алиханяна, много сделав для организации контактов с американскими учеными. Нам они с женой в Ереване ещё и прекрасно продемонстрировали как в Америке танцуют танго и фокстрот. При этом он же организовал годичную стажировку в моей лаборатории микробного генетика Тома Труста из лаборатории Эдварда Каца (Вашингтонский Университет) в 1978 году. Оля после приезда в Америку в 1990 году стала работать в Бостоне, в Массачусетском Институте Технологии (MIT), где в течение многих лет работал Арни, и он ее опекал. В записочке ко мне упомянул, что она уже через неделю после приезда выглядела настоящей американкой. Когда я в 1991 году привезла нашу внучку Аню в Бостон, Арни организовал мне большое трехмесячное турне с докладами в ведущих университетах и фармацевтических фирмах Америки. До нашего отъезда из Москвы и уже в Америке мы с ним часто встречались на научных симпозиумах. Он делал прекрасные доклады и лекции о работах своей лаборатории и анализировал современное состояние физиологии и генетики микроорганизмов. До сих пор мы шлем друг другу ежегодные весточки, но живем далеко друг от друга и уже давно не виделись. Сейчас, уже на склоне лет он преподает в прекрасном университете, куда пригласили работать очень известных ученых всех специальностей, вышедших на пенсию. Они передают свой бесценный опыт будущим поколениям. В начале 1960-х (не помню в каком точно году) мы с Лёней на майские праздники поехали на экскурсию по Золотому Кольцу. Экскурсию организовал Атомный Институт и предоставил автобус. У нас был прекрасный экскурсовод, которого звали Владимиром Ильичем. Публика в автобусе к нему обращалась по поводу и без повода, чтобы прозвучало такое знакомое всем сочетание имени и отчества. Владимир Ильич знал все про каждый дом и каждый памятник старины на нашем пути и за эти два дня рассказал нам столько интересного, что поездка запомнилась на всю жизнь. Проезжали такие древние и прекрасные города как Переяславль-Залесский, Ростов Великий, Суздаль, Владимир, Кострома, Ярославль с церквями, соборами, кремлями, которые не успели полностью разрушить в эпоху безумной борьбы с религией как опиумом для народа. Конечно, практически все церкви и соборы были бездействующими. Но осталось тогда впечатление, что вся эта красота все же как-то сохраняется неизвестно чьими усилиями. Ночевали в Ярославле почему-то на барже, пришвартованной к волжскому берегу. Ночью на барже так все перепились, включая экскурсантов нашего автобуса, что спать нельзя было ни минуты. Вообще как-то в один из вечеров этих первомайских праздников мы, идя по улице, поняли, что не встретили ни одного трезвого человека. Это тоже запомнилось. Точно не помню, в каком из этих старинных городов сидели в древнем кремле, окруженном толстой стеной, и веяло вечностью. По стене прошел отряд пионеров в красных галстуках и с горном. В 1963 году в академию наук с визитом приехал директор одного из академических биологических институтов Макса Планка в ФРГ доктор Ёзеф Штрауб. Лёню попросили его сопровождать в качестве переводчика-биолога при встречах с нашими учеными. Он оказался очень интеллигентным и добрым человеком, не задавал провокационных вопросов, но чувствовалось, что он хорошо понимал ситуацию. С Лёней он подружился и, по-видимому, оценил его способности. Пару раз вместе с ним ходили в оперу или балет (билеты покупала академия наук). Возвратившись в Берлин, он написал в Президиум АН СССР несколько писем с просьбой послать Лёню в трехмесячную стажировку в его институт. В них он подчеркивал, что Лёня не подвергнется во время стажировки никакой политической пропаганде. В конце концов Лёню заставили написать ему письмо, что он, к сожалению, не может приехать, так как занят оформлением диссертационной работы. Эта история имела короткое продолжение. В 1965 году в Брно (где работал Грегор Мендель) и в Праге состоялся симпозиум, посвященный столетию со дня открытия законов Менделя. Съехалась вся Европа. В. Советском Союзе пока оттепель. Страна представлена большой делегацией. В ее составе Р. Б. Хесин (если я не ошибаюсь, это была его первая и последняя поездка за рубеж), В. Д. Тимаков, по моему, уже тогда Президент АМН СССР, Д. М. Гольдфарб, А. С. Кривицкий, Н. П. Бочков, Н. В. Лучник и даже Ж. А. Медведев и еще целая плеяда выдающихся советских генетиков. Как вспоминается, только С. И. Алиханян добился участия в этом симпозиуме своих совсем еще молодых учеников. В этом смысле он был совершенно уникальной личностью, пробивающей стены Атомного Института, а впоследствии и Министерства микробиологической промышленности, добиваясь участия сотрудников его лаборатории, а впоследствии и института в международных конференциях. В период расцвета микробной генетики за рубежом и засилья лысенковской биологии в нашей стране генетику могли начать развивать только ученые следующего поколения, которое составляли большинство его учеников. Создавая большую школу микробных генетиков, С. И. Алиханян делал все возможное и невозможное для обеспечения необходимых контактов своих учеников с зарубежным содружеством ученых. Зарубежные генетики, среди которых были близкие друзья и коллеги Н. В. Тимофеева-Ресовского, надеялись и на его приезд и даже предварительно заказали банкет в его честь, но его в составе советской делегации не было. На одном из заседаний меня узнал и подошел ко мне Ё. Штрауб и совсем неожиданно для меня пригласил в тот же вечер в ресторан, где должны были встретиться друзья и коллеги Н. В. Тимофеева-Ресовского в надежде его увидеть, которая так и не оправдалась. Среди них было несколько директоров институтов Макса Планка. Я, конечно, очень боялась ехать, но согласилась. За мной приехал на маленькой машине его молодой сотрудник, говоривший по-английски, и мы поехали. Я ждала неприятностей, но как-то пронесло. Из присутствующих, кроме Ё. Штрауба, которых я видела раньше, наверное, во время их визитов в лабораторию С. И. Алиханяна, были только Ганс Штубе, очень известный генетик и директор института генетики в Гатерслебене, ГДР, и Мельхерс, тоже известный генетик. Говорили, конечно, по немецки. Я не понимала ни одного слова, кроме частых упоминаний имени Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского. Официанты обошли всех, предлагая легкую закуску и я взяла на тарелку совсем немного, полагая, что будут еще какие-то блюда. Но это оказалась вся заказанная еда. Впоследствии Г. Беме, сменивший Г. Штубе на посту директора института генетики, попросил своего друга Давида Моисеевича Гольдфарба прислать статью для юбилейного номера немецкого журнала, посвященного 70- летию Г. Штубе. В этом журнале была опубликована статья Лёни из лаборатории Д. М. Гольдфарба (Л. М. Фонштейн и Г. Мнацеканян «Генетическая трансформация фага Т4». Доклады в Брно завершились Торжественной мессой в монастыре, где работал Г. Мендель. От этой мессы у меня на память осталась маленькая иконка, которую мне дала на счастье пожилая чешка. Во время переезда из Брно в Прагу у меня украли все оставшиеся чешские кроны. Я успела купить только осеннее пальтишко Оле и входившую тогда в моду нейлоновую рубашку Лёне. Мои сердобольные подружки собрали мне небольшую сумму, чтобы купить несколько сувениров. Вспоминается В. Н. Сойфер, который не уставал фотографировать знаменитых участников симпозиума. У меня, к сожалению, от встреч на международных форумах сохранились только немногочисленные фотографии, которые мне любезно присылали зарубежные коллеги. Но большинство таких писем просто не доходили до адресата. Эта моя первая зарубежная поездка запомнилась новыми знакомствами с интересными людьми в нашей делегации, общались, шутили. После приезда домой решили собраться и почему-то у нас дома. Мы всей семьей вместе с моими родителями и бабушкой к тому времени переехали с Малой Бронной (по обмену) в бóльшую по площади квартиру около метро Филевский Парк. На эту встречу собрались все москвичи, Р. Б. Хесин очень нахваливал нашу домашнюю еду, из Обнинска приехал Н. В. Лучник. Позднее в Ленинке я как-то увидела Жореса Медведева и обрадовалась встрече. Он сказал, что он тоже очень рад, но, к сожалению, меня не знает. Это оказался его брат-близнец Рой Медведев. Примерно, в это же время я встретила в Ленинке в последний раз обожаемого в детстве и ранней юности Эммануила Ильича Адировича, бывшего мужа Марианны Петровны Шаскольской. Он стал академиком Узбекской Академии Наук и жил и работал в Ташкенте. Поговорили, предложил встретиться еще раз, но не пришлось. На Филях, в доме сталинской постройки с толстыми стенами в 5-тиэтажном доме без лифта на 3-м этаже прожили до конца 1968 года. Оля постоянно простужалась и в перерывах между простудами посещала детский сад в соседнем подъезде. Иногда из сада ее забирала соседка и кормила жареной картошкой. Детей из сада забирали с вечерней прогулки, и Оля всегда спрашивала: «А вы меня уже забрали, чтобы можно было спокойно повисеть на заборе вниз головой?» По воскресеньям часто ездили кататься на лыжах в парк, окружавший бывшую ближнюю дачу Сталина. Теперь вдоль высокого забора, окружавшего дачу, можно было проехать на лыжах. Оля съезжала с маленьких горок и была очень горда, когда не падала в сугроб. Шоферы такси всегда рассказывали, проезжая по Минскому шоссе, что всех шоферов, кто случайно попадал на дороги, ведущие к даче, при жизни Сталина арестовывали. Еще мы часто по воскресеньям ездили на автобусе 130 по Минскому шоссе обедать к Лениной маме. Этот маршрут существует и сейчас. Она к этому времени вышла на пенсию (абсолютно мизерную) и получила из рук академии наук маленькую (23 кв. м), но отдельную квартиру в Черемушках, где жила с мужем Израилем Иосифовичем и дочерью Мирой. Остановка автобуса называлась улица Бабушкина. Приходили, наедались до отвала (селедочный фаршмак, сырный салат, жаркое, творожная ватрушка или сладкий пирог с яблоками) и шли отоспаться в маленькую комнату. Оля в большой комнате всех, кто был в доме, заставляла с ней играть, петь, водить хоровод. Это всегда вспоминали Мирины подружки. Оля однажды сказала, что живут бабушка с дедушкой богато, посмотрев на маленький сервант с рюмками и двумя хрустальными ёмкостями. Когда приходили к ним в гости, всегда повторялся ритуал: входили и спрашивали, не пришла ли Олечка, которая ждала на лестнице. Бабушка с дедушкой в мнимой панике шли, якобы, звонить в милицию. Ребенок тем временем прятался на вешалке. Из-под пальто торчали ноги. Взрослым тоже иногда приходилось играть в детские игры. Оля часто доедала еду только после обещания бабушки принять ее в команду чистых тарелок. В 1965 году для того, чтобы я побыстрей написала кандидатскую диссертацию, Лёня, пожертвовав собой, поехал с Олей и с последней нашей няней Марфой Никаноровной летом в Светлогорск под Калининградом на Балтийское море. До обеда время проводили на пляже, купались и играли всегда в одну и ту же очень интеллектуальную игру: Лёня прятал в песок палочку, а Оля должна была ее найти.Пока она ее искала Лёня отдыхал, а потом все начиналось сначала. После обеда Лёня ходил в магазин, а затем играть в волейбол. Олю брала на себя Марфа Никаноровна. Она иногда мне снилась, даже когда мы уже приехали в Америку. Мы с ней хорошо ладили. Потом она ухаживала за моей бабушкой Любовь Петровной до ее кончины. Я за этот месяц совсем перетрудилась. Отдав читать диссертацию Сосу Исааковичу, я решила, что если он сделает хоть одно замечание, то я уже исправлять ничего не смогу. Он вернул мне мою работу без замечаний. Не исключено, что у него просто не было времени ее читать. Правда, недавно Софья Захаровна Миндлин в нашу с ней последнюю встречу в Бостоне в 2015 году сказала, что он прочёл мою работу. Просто он читал очень быстро. Стали искать типографию, чтобы напечатать автореферат. Помог Лёнин двоюродный брат Зиновий Абрамович Фонштейн, крупный полиграфист, директор большой типографии. Он был очень родственным, но к Лёниным родственникам ходил один, без жены. В типографии сказали, что если завтра мы не принесём автореферат, то все откладывается на месяц. Автореферат еще не был написан. Пришли домой и сели в холле, где всегда работали дома по вечерам, его писать. Я часов в 12 ночи отключилась, так как совершенно не могла работать ночью. Лёня, иногда манкируя, мог потом работать сутками. Будучи еще растительным, а не микробным генетиком, он за одну ночь из экземпляра моей диссертации нарезал готовый автореферат. Пометавшись за подписями, я сдала его в типографию на следующий день. На защите кандидатской диссертации на Ученом Совете биофака МГУ закончился мой первый этап работы с актинофагами и актиномицетами. Тематика лаборатории С. И. Алиханяна в Институте Атомной Энергии кардинально изменилась. Селекционеры, главным образом, включились в получение высокопродуктивных бактериальных продуцентов аминокислот. Генетики стали работать с модельными микрооганизмами — бактериями и бактериофагами, более генетически изученными, чем актиномицеты и актинофаги. Организовалась наша маленькая группа, Александр Николаевич Майсурян и я по изучению нонсенс-мутаций бактериофага Т4. Их отличительной особенностью являлось то, что они возникали во всех генах бактериофага, что позволяло маркировать мутациями большое число фаговых генов. Получение мутаций в гене, как известно, является первым и необходимым этапом при изучении его функций. Помогала нам опытная лаборантка Мария Иосифовна. Саша Майсурян увлекся анализом особенностей генетического кода, а мы с Марией Иосифовной ставили по несколько экспериментов в день, избегая нумеровать один из них тринадцатым номером. Когда Олечка болела и я, бюллетеня, не выходила на работу, Саша вскользь замечал, что в нашей жизни главное работа. Работали дружно, опубликовали несколько статей. Недавно в журнале «Молекулярная биология» был опубликован список работ авторов, которые уже больше не печатаются в журнале. Среди них упоминалась работа С. И. Алиханяна с соавторами. В названии этой работы, которое я хочу привести, отразилось содержание наших исследований: Ломовская Н. Д., Майсурян А. Н., Алиханян С. И., 1968., «Межаллельная комплементация как показатель завершения синтеза полипептидных цепей при супрессии амберных мутантов бактериофага Т4», Молекулярная биология, т. 6, 764–768. Название не для людей других специальностей. Во время одного из летних отпусков я так отвлеклась от работы, что забыла последовательность нуклеотидов в нонсенс кодоне, который возникал при амбер-мутации. Я испугалась такому провалу в памяти и больше никогда старалась так сильно не отвлекаться. Этот период работы явился школой получения количественных оценок процессов инфекции бактериофагами, как основы генетических экспериментов. Наверное, в 1966 году С. И. Алиханян договорился об организации в Тбилиси в Институте вакцин и сывороток экспериментальной школы по генетике бактериофагов. После школы был запланирован и генетический симпозиум. От учеников не было отбоя. Генетикам разных специальностей было очень интересно пощупать руками бактериофаг как объект, который завоевал умы генетиков и биохимиков мирового научного сообщества. В основном, среди учеников были москвичи и ленинградцы, образованные генетики и биохимики, среди них Костя Квитко, Сергей Инге-Вечтомов, Тыну Сойдла, Вадим Никифоров, Юра Зограф, Галя Нестерова, Валерий Сойфер, Лёня Фонштейн. Надеюсь, что читатели ещё не забыли, что последний был моим мужем. Как я уже упоминала, основой курса было получение количественных характеристик процесса инфекции в классическом эксперименте по одноступенчатому циклу развития бактериофага для отнесения мутантов фага к одному и тому же или к разным генам. Преподавателями школы были сотрудники сектора С. И. Алиханяна Т. С. Ильина, В. Н. Крылов, А. Н. Майсурян и я. Мужчины предпочли, чтобы всю подготовительную работу взяли на себя женщины. Мы с Тамиллой Сергеевной везли с собой некоторые приборы, реактивы для приготовления питательных сред, бактерии, бактериофаги. Ультратермостаты (емкости для поддержания фиксированной температуры) довозили и ученики, в том числе и Лёня, который на этих курсах тоже пребывал в учениках. Тбилисский институт вакцин и сывороток имел уникальную историю своего возникновения и существования. Георгий Элиава — врач и бактериолог, работавший в Тбилиси, в начале 20-х годов несколько лет работал во Франции в знаменитом и сейчас Институте Пастера. Там он познакомился с микробиологом французско-канадского происхождения Феликсом Д. Эреллем, которому принадлежала честь открытия в 1917 году бактериофагов, как я уже упоминала, вирусов вызывающих лизис и гибель бактерий, в том числе и бактериальных патогенов. Так, впервые Д. Эррелль описал бактериофаг, лизирующий дизентерийную бациллу. Яркая биография Д. Эрелля как исследователя, пытавшегося внедрить свое открытие в медицину, подробно описана в интернете, правда, с некоторыми расхождениями. Подробно описаны также и тернии на пути внедрения в медицинскую практику и терапия с помощью бактериофагов. Основываясь на ряде положительных результатов излечения инфекций с помощью фаговой терапии, оба ученых свято верили в ее эффективность, особенно в эру отсутствия антибиотиков. Представляется, что на пути фаговой терапии в те далекие годы их открытия стояла очень слабая изученность бактериофагов в связи с непреодолимыми техническими трудностями при их характеристике как объектов, не видимых даже в мощные световые микроскопы. Эра электронных микроскопов еще не наступила. В ряде работ, опубликованных сотрудниками института в Тбилиси, упоминается об успешном лечении с помощью бактериофагов во время Второй мировой войны инфекций, полученных участниками войны в результате ранений. Можно подумать также, что большим препятствием в развитии фаговой терапии явилось полное отсутствие интереса генетиков к бактериофагам как к генетическим объектам в ранние годы после их открытия. Как это ни парадоксально, работы в области фаговой терапии не развивались даже тогда, когда бактериофаги, начиная с 40-х годов, стали уже одним из главных объектов генетики. В данном случае основную роль, по-видимому, сыграло открытие и быстрое внедрение в медицинскую практику, без сомнения, более эффективных в борьбе с инфекционными заболеваниями антибиотиков. В далекие 1920-е Г. Элиава и Ф. Д. Эрелль стали энтузиастами изучения бактериофагов, планируя создание мирового центра для их изучения в Тбилиси. Проект поддержал С. Ордженикидзе, и началось строительство нового здания института, которое было запланировано, как точная копия института Пастера. Д. Эрелль присылает из Франции оборудование, приборы, библиотеку. Он приезжал в Тбилиси дважды, в 1933 и 1934 годах, получил приглашение от Сталина работать в Советском Союзе. На территории института для него был построен жилой коттедж и Д. Эрелль предполагал переехать в Грузию. В 1935 году в Грузии была издана его книга «Бактериофаги и их клиническое применение», которую он посвятил Сталину. Однако в 1937 году Г. Элиава и несколько его соратников были арестованы и расстреляны, книга Д. Эрелля была изъята из обращения, а сам Д. Эрелль больше никогда в Советский Союз не возвращался. По данным интернета, в его коттедже разместились службы КГБ. Несмотря на тяжелые испытания, изучение бактериофагов в Тбилисском институте вакцин и сывороток продолжалось, так же как и изучение возможностей их клинического использования. Было налажено и производство бактериофагов, которые использовались как препараты против вспышек дизентерийных и других инфекций. Эти работы долгие годы в силу ряда обстоятельств, включающих, в частности, и отсутствие статистических данных, оставались не доступными для обсуждения их результатов. Всю организацию экспериментальной школы по генетике бактериофагов взял на себя зам. директора института Таймураз Чанишвили. Он часто приезжал в Москву, и мы его хорошо знали. О нем говорили, что во всем институте только он живет на зарплату, все остальные имеют дополнительные доходы, даже сторож в проходной института. Об этом сразу поведали Т. С. Ильиной, которая не уставала интересоваться обстановкой на новом месте нашего пребывания. Приехав в институт, мы обнаружили, что там до сих пор работают термостаты и другие приборы ещё со времен Д. Эрелля, красивые, из красного дерева, но все такие старые. И нам как генетикам представлялось, что без внедрения генетических методов невозможен был прогресс в такой сложной проблеме, как использование бактериофагов в качестве лечебных препаратов. И в Советском Союзе в это время антибиотики играли главную роль в борьбе с инфекциями. Надо сказать, что все-таки использование антибиотиков, в силу многих причин, в Советском Союзе, наверное, не было таким бесшабашным, как, например, в Америке, где устойчивость патогенных бактерий к антибиотикам стала очень скоро большой проблемой при их широком использовании и до сих пор очень трудно решаемой. Конечно, эта же проблема существовала и в Советском Союзе и существует и сейчас в России. Генетики бактериофагов во всем мире так до сих пор по-настоящему и не заинтересовались фаговой терапией, хотя без генетических подходов её внедрение в практику представляется не реальным, конечно, вкупе с остальными исследованиями, необходимыми для внедрения новых лекарственных препаратов. Так что получается, что блестящие идеи открывателей бактериофагов, высказанные в начале прошлого столетия, еще не нашли своего реального воплощения в течение многих десятков лет интенсивного изучения бактериофагов. Сейчас ряд американских небольших фармакологических компаний тесно сотрудничает с Тбилисским институтом, имеющим большой опыт в лечении ряда инфекций с помощью бактериофагов. Достижения советских ученых в этой области были суммированы в большом обзоре, автором которого является Нина Чанишвили, по-моему, племянница Таймураза Чанишвили. Т. Чанишвили стал директором Института вакцин и сывороток в 1977 году и оставался им в течение всех неимоверно трудных и даже трагических для судьбы института периодов вплоть до своей кончины в 2007 году. Вернусь к нашей экспериментальной школе по генетике бактериофагов в 1966 году. Подготовка к ней была напряженной. Мы очень волновались, удастся ли нашим ученикам проделать запланированные эксперименты и получить результаты, которые можно было бы обсудить. Все-таки у большинства из них не было опыта микробиологической работы, да и условия нашей работы были не привычными. Но, в целом, все прошло успешно, и ученики были довольны. Мы с Тамиллой Сергеевной жили в большом гостиничном номере на двоих, а все ученики — в общежитии для артистов цирка. Иногда к нам по вечерам приходили ленинградцы и до глубокой ночи вели интеллектуальные беседы, содержания которых я не помню. Завтракали ученики в хинкальной и шли на занятия. После школы состоялся симпозиум, на который приехали и более именитые персоны. В благодарность за нашу работу институт предоставил нам машину с шофером для однодневного путешествия по Военно-грузинской дороге. Поехали Роман Бениаминович Хесин, Тамилла Сергеевна и мы с Лёней. Я, как всегда, чувствовала большой пиэтет по отношению к Роману Бениаминовичу и неловкость при общении с ним. Да и он не отличался коммуникабельностью. Но в общем, поездка была прекрасной. Подходили к горе, по которой широким водопадом лился нарзан, пытались войти в бурную горную реку, любовались уникальными красотами Кавказа, вкусно поели в придорожном ресторане. В конце нашего пребывания в Тбилиси Соса Исааковича пригласили на ужин в грузинскую семью. Сын очень хотел поступить в аспирантуру к Сосу Исааковичу. Сос Исаакович, как всегда, взял всех нас с собой. Посредине стола красовался поросенок, и было бесчисленное множество других яств. Вино пили из рога. Такой рог, подаренный когда-то моему папе на 60-летний юбилей, сохранился у нас. Но из него никогда не пили. Тамада сказал, что он еще не видел не-грузина, который бы так профессионально произносил тосты, как это делал мой подвыпивший муж. Не помню, приняли ли мальчика в аспирантуру. А жизнь продолжалась… Летом 1967 года поехали отдыхать диким образом на Черное море в Коктебель. Поехали сначала вдвоем с Олей. А потом к нам присоединился Лёня. В первый же день чуть не утонули. Олечка заставила меня пойти в море, которое штормило. Волны затягивали нас обратно в море. Чудом выбрались на берег. Это уже потом я научилась выходить из моря при довольно большой волне. Но с морем шутки плохи. Возвращались усталые после пляжа, а ребенок требовал читать ей взятую с собой книжку «Джура», подаренную когда-то дядей Эммой с надписью «Гип-гип, ура, у Наташи есть Джура!» о революционной борьбе с басмачами в Средней Азии. Нам так надоело читать Оле вслух, что мы, против всех педагогических правил, как только она выучилась читать по слогам, больше ей вслух не читали. Но она стала читать запоем, что и продолжает делать по сей день. Коктебель, с его далёкими морскими бухтами, особенно Карадагом, был прекрасен, но быт, туалеты и общественные столовые не выдерживали никакой критики. На глазах у очереди отдыхающих суп в столовой разбавляли сырой водой. Мы все трое сильно отравились и с сожалением решили покинуть теплое и теперь уже такое ласковое море. С очень большим трудом достали билеты на самолет, чтобы провести остаток отпуска в Киеве. Летели в совершенно пустом самолете. Несколько летних отпусков провели на Украине под Черкассами в деревне Дахновка на Днепровском море. Одно лето снимали комнату в доме рыбака, который много лет провел в плену у немцев. Напившись, говорил только по-немецки. В другой раз нас пустила на постой повар местной больницы. Жили дружно. Ходили с ними строить дом для их родственников с последующим застольем. Я была на подхвате и считалась большим специалистом по разделыванию селедки. Пили самогон, пели украинские песни, ели свежую рыбу (рубль штука вне зависимости от размера). В. Черкассах жили Лёнины родственники. Его тетя Аня учила меня, как экономить деньги, но я, за неимением времени, ее советами не воспользовалась. А она оставила своим детям довольно крупную по тем временам сумму. Однажды под ее руководством, поддавшись соблазну, сварили ведро вишневого варенья, запаковали его в полиэтиленовые мешки и пошли с тележкой, чтобы отправить варенье в Москву по почте. В середине центрального проспекта Черкасс тележка развалилась и все пакеты вывалились на мостовую среди машин. Мы подумали, что хорошо, что нас в этот момент не видят наши коллеги по работе. Примерно то же самое я переживала, будучи уже завом большой лаборатории, когда застревала в грязи по пути на работу в институт. Не могла идти ни вперед, ни вернуться назад. Правда, утром и вечером ходил институтский автобус. Но об этом речь впереди. Большими событиями в нашей жизни был богат 1968 год. Отдыхали в Пирите под Таллином в компании родственников и друзей. Обе Олины бабушки по очереди нас сменяли. Чету Гойзманов тоже подстраховывали их родители. По соседству жили Ждановы с сыном Кириллом. Погода нас не баловала. От ветра на пляже спасались, вырывая в песке глубокую яму и в ней загорали при редком солнце. Однако Лёне удалось так загореть, что в Таллинском баре в сумраке негр принял его за своего собрата. Придя в магазин в Таллине с Олей и дочкой Эдика Наташей, безуспешно пытались их утихомирить, глядя на чинное поведение эстонских детей. В конце августа 1968 года состоялся очередной 12-й международный генетический конгресс в Токио. С. И. Алиханян, А. Н. Майсурян и Н. И. Жданова вошли в состав советской делегации, а еще несколько человек из лаборатории Соса Исааковича, в том числе и я, поехали на конгресс с докладами в качестве научных туристов, за собственные деньги, которых у меня не было, и за меня заплатила моя мама. Тогда эта форма участия в международных форумах позволяла обойти строгие формальности при ограниченном числе делегатов, выезжающих за рубеж. Добирались до Токио длинным путем, более дешевым, чем прямой самолет из Москвы в Токио. Летели самолетом до Хабаровска. По-моему, тогда только недавно начали летать скоростные беспосадочные самолеты Москва — Хабаровск. 8 часов в полете почти через всю Россию. Помню впечатление от того полета: какая же Россия громадная! Вечером сели в ночной поезд до морского порта Находка. Красотами пути удалось полюбоваться только вечером. На следующий день нас ожидала посадка на пароход, который должен был нас доставить в Японию, порт Йокогама через двое суток морского плавания. Высадившись в порту, увидели маленькое и довольно утлое суденышко. Трудно было представить, что оно поплывет в такое дальнее плавание. Провожали пароход очень торжественно, совсем не так, как поезд. Вскоре после того, как мы отчалили, выяснилось, что совсем недавно на море был сильный шторм и мы оказались жертвами подводных волн. Всех стало сильно укачивать. Находиться можно было только на палубе, да и то большинство пассажиров сильно страдало приступами морской болезни. Я не была исключением. О вкусной еде в ресторане можно было и не мечтать. Входя в каюту вечером, стремглав кидались занять горизонтальное положение. И это все при отсутствии видимых волн. Автобус из порта доставил нас в Токио. Придя в отель, поразились большому числу полицейских и лиц в штатском, не вызывающих сомнения в их принадлежности к спецслужбам. В вестибюле нас встретили уже прилетевшие раньше наши соотечественники и сообщили о том, что Советские войска вошли в Чехословакию. Мы все очень расстроились и сразу подумали, что, наверное, на следующий день придется возвращаться домой и только С. И. Алиханян вызвался проводить нас, чтобы взглянуть на Токио. Но никаких инцидентов на конгрессе не было, все, кому было положено, сделали свои доклады, правда, чешские коллеги не здоровались. Около Советского посольства, расположенного недалеко от нашего отеля, проходили многочисленные демонстрации протеста. На улицах еще было очень много женщин, одетых в кимоно, много религиозных шествий, домишек из какого-то несусветного материала, мелких лавчонок наряду с современными высотными зданиями банков, универмагов, отелей. Один японец (не помню его имени), работающий в фармацевтической фирме, рассказывал, что он никогда не ходит в отпуск, боясь перепоручить свою работу кому-то другому на время своего отсутствия. Когда мы приехали работать в Америку, то тесно общались с молодыми японскими коллегами, работающими в лаборатории Ричарда Хатчинсона. Общение с ними было для нас комфортным и продуктивным, надеюсь, что и для них. Некоторые из них или еще не родились в тот далекий 1968-й или были совсем маленькими детьми. Так что я видела Японию раньше их. Но, конечно, это видение было совсем поверхностным. У нас и сейчас на книжной полке стоят две дешевенькие японские куколки, купленные в той далекой поездке, но никто не обращает на них внимания. Возвращались в Москву тем же путем. Наш пароходик за это время попал в настоящий шторм, все окна и двери в нем отсутствовали. Провожали его из Йокогамы так же торжественно. Он весь был окутан длинными лентами, которые кидали с берега. Плыли при полном штиле и с большим аппетитом после японской еды ели борщ и жаркое. Когда приплыли в Находку, были потрясены различиями в пейзажах двух стран. Нас окружила совершенно первозданная природа. На обратном пути несколько часов провели в Хабаровске, и мамина подруга Лена Фишер встречала меня на перроне. Я уведомила ее телеграммой, что хотела бы увидеться с Н. И. Рябовым, моим отцом, с которым всегда хотела встретиться. Тут же на перроне она мне сказала, что он скончался два месяца тому назад и протянула мне газету с некрологом. Незадолго до этого ему исполнилось только 60 лет. Единственное, что оставалось, это поехать на кладбище. Весь обратный полет я проплакала. Так было горько, что он умер так безвременно и что мы никогда с ним не повстречались. Вернулись в Москву и вскоре стали свидетелями и участниками образования нового института ВНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов при Министерстве микробиологической промышленности СССР. Директор и организатор института — С. И. Алиханян. Несмотря на то, что институт принадлежит отраслевому министерству, в верхах оговорено наличие в его составе, наряду с селекционными подразделениями, теоретических лабораторий, где бы разрабатывались генетические основы селекции. Соединение теории и практики в одном учреждении было своего рода уникальной ситуацией, даже не только по нашим отечественным меркам. В постановлении планировалось и строительство нового здания института в Москве. Пока все ютились, в основном, на площадях бывшего сектора Алиханяна в РБО. Правда, в начале 70-х институту предоставили здание, построенное по стандартному школьному проекту, расположенное в глубине промышленной зоны на Варшавском Шоссе. От Варшавского шоссе к институту вела плохая, разбитая грузовиками дорога. Утром и вечером сотрудников по ней привозил и отвозил к общественному транспорту институтский автобус. В другое время дня приходилось добираться до работы часто по грязи и в сопровождении бродячих собак. Строительство нового здания института оказалось долгостроем. Даже стыдно сказать, что въехали в него только в 1986 году, через 18 лет после образования института. Несколько сотрудников С. И. Алиханяна, в том числе С. З. Миндлин и Т. С. Ильина, а также Э. С. Каляева и Е. Соколова приняли решение не переходить в новый институт, и их взял в свою лабораторию Р. Б. Хесин. Это был тяжелый и неожиданный удар для Соса Исааковича. По-моему, он их долго уговаривал остаться, но они были непреклонны. Проходил довольно жесткий раздел имущества и территории. Со временем это событие утратило остроту. Все они остались нашими близкими коллегами, активными участниками совместных семинаров, школ, членами Ученого Совета института. Перешла на кафедру генетики МГУ и С. В. Каменева, тоже старая и опытная наш коллега, с которой мы тесно общались. Я рассчитывала на должность старшего научного сотрудника в лаборатории А. Н. Майсуряна. При обсуждении этой перспективы дома Лёня советовал выбрать какое-то другое направление исследований. Считал, что Саша, может быть, и невольно, подавляет мою научную инициативу. И буквально, почти сразу же Сос Исаакович предложил мне возглавить лабораторию, где объектами генетического изучения были бы актинофаги и актиномицеты. Первое время лаборатория называлась лабораторией генетики актинофагов, а впоследствии — генетики актинофагов и актиномицетов. Так я и мои коллеги, в основном, ученики Соса Исааковича в своем молодом возрасте, по стечению обстоятельств, стали руководителями лабораторий, развивающих разные направления микробной генетики. Актиномицеты и актинофаги на протяжении многих лет были главными объектами генетического изучения и практической селекции в большой лпборатории С. И. Алиханяна. При организации Института генетики и селекции промышленных микроорганизмов генетическое изучение актиномицетов и актинофагов сосредотачивается только в одной нашей (моей) лаборатории большого института. Объектами практической селекции они остаются в лаборатории В. Г. Жданова. И так случилось, что в эти и последующие годы наша лаборатория, практически, была единственной в стране, где объектами генетики были актиномицеты и актинофаги. В конце 1968 года произошло еще одно событие, изменившее нашу жизнь. Мы вступили в жилищный кооператив и в самом начале 1969 года въехали в собственную малогабаритную трехкомнатную квартиру в 9-тиэтажном блочном доме в спальном районе Москвы Беляево-Богородское. Нашла этот вариант моя мама. Как мы увидим в дальнейшем, у нее был и большой талант к очень популярной тогда среди москвичей трансакции — обмену квартир. Все квартиры в доме были уже фактически проданы, оставались свободными квартиры на первом и последнем этажах. При жеребьевке этих квартир Лёне повезло. Он вытянул квартиру, практически расположенную на 3–м этаже, под ней размещалось 2–хэтажное помещение небольшого магазина. В шутливом скетче, который был зачитан в 2012 году на Лёнином 80-летнем юбилее, я так описала эту ситуацию (в каждой шутке, как известно, есть доля правды): ответ на вопрос, как в течение одной минуты получить в подарок деньги на первый взнос за трехкомнатную кооперативную квартиру оказался очень простым: надо нечаянно опрокинуть на пол таз со всей посудой, включая взятую на прокат, в квартире тещи после празднования 60-летия со дня рождения тестя. Это был не первый случай. Друзья по Тимирязевке вспоминали, как Лёня на занятиях, конечно, случайно, разбил очень дорогой стеклянный импортный прибор. В те ещё сталинские времена за это могли свободно и посадить. Но пронесло. Жили мы вместе с моими родителями в течение 10 лет. В начале 1969 года мы въехали в новую квартиру, оставив у мамы в возмещение морального ущерба все наши книги и посуду, которую не успели разбить. Юра Дьяков в это время был озабочен обменом двух комнат в коммуналках на отдельную квартиру. Стояли с женой Таней на 5-м этаже хрущевской 5-тиэтажки без лифта, и Таня вдруг сказала: «Смотри, в доме напротив живет Лёня», и Юра немедленно отреагировал: «Меняемся!» Так, начиная с 1969 года, мы и стали жить по соседству. Жили они в этой квартире больше 40 лет, и только в 2010-м году Московский Государственный Университет предоставил своему заслуженному профессору большую современную квартиру на проспекте Вернадского. Переезжали в январе в трескучий мороз, когда дом еще был практически не заселен, лифт не работал. Лёня со скарбом и всей честной компанией, ехал по морозу в открытом грузовике. Ну, ничего, дома отогрелись. Оля срочно заболела воспалением легких, и в один из первых дней нашего заселения у нас в квартире прорвало батарею и горячая вода хлынула на паркетный пол. Хорошо, что слесарь оказался рядом. Да, за несколько дней до въезда мы должны были отметить недостатки, которые имелись в квартире после ее сдачи строителями. Только при выходе из квартиры заметили, что в ней просто нет входной двери. Потом долго боролись с крысой, забивая ее нору битым стеклом. Ночью она спокойно его отодвигала и разгуливала по квартире, громко стуча лапами. Ее экскурсии прекратились только тогда, когда Лёня закрыл нору толстой металлической пластиной. «В честь» нашего переезда и очередного Лениного дня рождения открыли новый маршрут автобуса № 196, который без пересадки довозил его до работы и обратно. Мой долгий путь на работу был не такой безоблачный. Мы блаженствовали, потихоньку обживались. Денег катастрофически не хватало. Мой маленький стаж работы не позволял получать зарплату, полагающуюся мне по должности. И Лёня продолжал работать в лаборатории Д. М. Гольдфарба младшим научным сотрудником без видимых перспектив стать старшим. Жизнь продолжалась. Под нами открыли магазин «Кулинария», который нас очень выручал многие годы. Рядом была прачечная, почта, продовольственный магазин пока еще с продуктами. Телефона у нас дома не было до 1978 года. Каждый божий день вечером ходили звонить на телефонный пункт в соседнем доме родителям и, по мере надобности, коллегам. Хорошо, что на пункте было тепло и имелась разменная монета. Купили небольшой холодильник и телевизор «Рекорд,», оба служили безотказно многие годы. Книги, конечно, были в большом дефиците, но Лёня стал их активно доставать, начал с нуля, а собрал обширную библиотеку. Мира, Лёнина сестра, помогала доставать (конечно покупать) книги из серии «Памятники мировой литературы», которые издавало издательство «Наука», где она работала редактором долгие годы. Выписывали художественные журналы — «Новый мир», «Иностранную Литературу» и др. и начали переплетать понравившиеся в них произведения. Переплетов накопилось за долгие годы тоже очень много. Оля начала собирать красивые марки с изображением животных и растений. Почему-то их тогда в магазинах было много. Торговля марками с рук и обмен марками тоже процветали. Такая коллекция большой ценности не представляла. Правда, когда Оля вышла замуж, они с ее мужем Мишей продали эту коллекцию и на вырученные деньги съездили на недельку в Чехословакию. Вскоре после нашего переезда рядом с нами открылся магазин с югославскими товарами «Ядран». Для Москвы это была большая редкость. Вся Москва туда ездила за покупками. Сохранились до сих пор у нас остатки красного кофейного сервиза и несколько рюмок из хорошего хрусталя. Лоджия нашей спальни выходила на большой яблоневый сад, который не вырубили до сих пор. Яблок мы там никогда не собирали. Яблони сильно постарели и в 2010-м году выглядели совсем печально. Сад часто служил местом для выпивки на троих. Один раз я с работы прошла мимо женщины, которая сидела и совершенно виртуозно ругалась. Такого я не слышала ни до, ни после. Кроме Юры Дьякова, жившего с семьей по соседству, нашими соседями оказались и другие наши друзья: Ирма Расс с семьей, семья Фрейзонов, Юра Винецкий и Нора Мкртумян с семьями. Для Москвы это была довольно редкая ситуация. Обычно, чтобы попасть в гости надо было ехать через всю Москву. Мы регулярно ходили в гости к Юре и Тане Дьяковым. Таня по всем правилам винодельческого искусства заготавливала на зиму наливку под названием «Тёща», основным потребителем которой был Лёня. Наши с Юрой Дьяковым дочки до 8-ого класса учились в одном классе, а Леня с Юрой сидели за одной партой на родительских собраниях. Я в Олину школу никогда не ходила. Оля после нашего переезда в новую квартиру почти перестала болеть, закаляясь на уроках физкультуры. Всегда на лыжных прогулках бежала впереди всех, за что ее ценил учитель физкультуры. Оля в это время также играла в футбол с мальчишками, училась играть на гитаре, домашние задания успевала сделать в школе. Правда, потом, когда в девятом классе поступила в школу с биологическим уклоном, стало ясно, что она имеет большие пробелы в школьном образовании. За два месяца усиленных занятий ей удалось эти пробелы ликвидировать. Рядом с нашим домом был расположен довольно большой лесопарк, тогда еще не застроенный домами, и мы ехали туда на лыжах прямо от собственного подъезда. Приезжали Лёнины родители помогать нам по хозяйству, и я часто была избавлена от постоянного приготовления еды в этот короткий промежуток нашей жизни. В первые годы образования лаборатории на мне лежала большая ответственность, и когда приходила пора отпуска, я как лошадь, выпряжанная из упряжи, слабела и заболевала. И так продолжалось несколько лет подряд. Мы каждый год отмечали Лёнин день рождения и этот день стал довольно традиционным. Все знали, что всегда могут встретиться у нас в этот день. После нашего отъезда в Америку наши друзья в Москве встречались каждый год в день Лёниного дня рождения 11 февраля и пили здоровье именинника. Не помню, чья это была первоначальная идея, но в течение четверти века, начиная с 1968 года и до нашего отъезда в Америку почтальон в этот день приносил к нам домой телеграммы с пометкой «текст верен», и с предложением из слов с первыми буквами Лёниной фамилии, а иногда и имени и отчества. Привожу пример такой анаграммы:«Факультет охотоустроения напоминает штатным телепатам ежегодный йомкипур наносу Любящие Москвичи (11- 2-73)»или:
«Факты отъезда начинают шириться товарищи ежегодно йомкипуряют напропалую лови момент (10-2-90)».Кто-то особенно наглый посылал телеграммы в Беляево-Богородское на имя барона Фон Штейна. Изобретали даже химограммы. Телеграммы приходили и в Америку. Письмо с такой телеграммой в 90-е не дошло. Наверное, цензура не пропустила. Кто-то потом привез эту анаграмму фамилии и имени отчества, сочиненную семьей Дьяковых:
«Фондируй отечественные напитки штатах точка ессентуки йод нарзан Лимонад естественно отбрось надо итти деревни Менять американские консервы самогон отправлять вразлив или чекушками.»Коллекция телеграмм практически вся у нас сохранилась.
 Олечке, нашей с Лёней доченьке, одиннадцать с половиной месяцев (февраль, 1961 г.). Гуляет на Патриарших (уже тогда, наверное, Пионерских) прудах с мамой (Н. Л.). Снимает, конечно, мой папа.
Олечке, нашей с Лёней доченьке, одиннадцать с половиной месяцев (февраль, 1961 г.). Гуляет на Патриарших (уже тогда, наверное, Пионерских) прудах с мамой (Н. Л.). Снимает, конечно, мой папа.
 Оля уже над чем-то серьезно работает. Её бабушка, Эмма Григорьевна Ломовская, смотрит с изумлением.
Оля уже над чем-то серьезно работает. Её бабушка, Эмма Григорьевна Ломовская, смотрит с изумлением.
 Мы с Лёней на незабываемой экскурсии (первая половина 60-х) по золотому кольцу России. Не знаю, кто мог спасти от разрушения после Октябрьской революции прекрасные церковные здания в городах европейской части России: Сергиев Посад, Переяславль — Залесский, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир.
Мы с Лёней на незабываемой экскурсии (первая половина 60-х) по золотому кольцу России. Не знаю, кто мог спасти от разрушения после Октябрьской революции прекрасные церковные здания в городах европейской части России: Сергиев Посад, Переяславль — Залесский, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир.
Глава 14 Напряжённые рабочие будни и праздники
В 1969 году начал функционировать ежегодный теоретический семинар по микробной генетике, который организовал С. И. Алиханян. В течение 16-ти лет каждый год без перерыва семинар (школа Алиханяна) собирал своих слушателей. Последние заседания состоялись в 1985 году уже после кончины С. И. и были посвящены его памяти. Первые несколько лет школы проводили в академическом поселке Мозжинка, потом в академгородке Пущино на Оке, школа в 1979 году была в г. Луге под Ленинградом. В работе по организации семинара участвовали сотрудники нашего института ВНИИ генетики, лаборатории Р. Б. Хесина, кафедр генетики МГУ и ЛГУ, института общей генетики АН СССР, института эпидимиологии и микробиологии им. Гамалеи АМН СССР, лаборатории С. Е. Бреслера (Ленинградский институт ядерной физики), Политехнического института (Ленинград), института цитологии АН СССР (Ленинград). Программа школ разрабатывалась Оргкомитетом. Каждый год на школу приглашалось около 250 участников всех возрастов и рангов не только из Москвы и из Ленинграда, но и из Новосибирска, Ростова, Саратова, Казани, а также Украины, Белоруссии, Эстонии, Литвы, Латвии, Армении, Узбекистана, Казахстана и других республик Советского Союза. Большую роль играл куратор каждого заседания по определенной проблеме. Он же и приглашал докладчиков и направлял дискуссию. На вечерних заседаниях с лекциями выступали лидирующие в данной выбранной области ученые. Организовывались также и круглые столы, где участники могли обсудить свои экспериментальные данные. Впоследствии возникла и секция «Новости науки». Помню, что в последующие годы, когда Лёня уже работал в НИИ по БИХС, он курировал заседание по проблемам генетической безопасности. Себя помню только как постоянного и благодарного слушателя этих школ. В течение многих лет на школах обсуждаются ключевые проблемы генетики микроорганизмов: репликация, репарация, рекомбинация ДНК, мутагенез, транскрипция и трансляция генетической информации, лавина данных о плазмидах, транспозонах, перспективы использования генетических методов в селекции промышленных продуцентов, а впоследствии, и открытий в области генной инженерии. Все участники школ всегда ждали их с нетерпением. Это были и своего рода зимние каникулы на прекрасной природе подмосковья. Можно было урвать часок для лыжной прогулки, да и послушать интересные доклады тоже доставляло удовольствие. Конечно, не все докладчики были опытными лекторами. В. Мозжинке школа размещалась на дачах, принадлежащим когда-то академикам, не оставившим наследников. Летом там был академический дом отдыха. В центре поселка высилось большое здание с колоннами — Дом Ученых с хорошей столовой, помещением для заседаний, биллиардной, где в шкафах стояли персональные кии академиков. Вечером крутили кино, но я помню только вечерние прогулки и посиделки. Все были молодыми и хорошо веселились. Однажды двум уже известным ученым поздно вечером захотелось поиграть на рояле. Дом Ученых уже был закрыт. Остается тайной, как им удалось снять с петель тяжелую дубовую дверь массивного дома. Проишествие замяли. Жители поселка, в основном, приезжали на дачи летом или по выходным, так что веселые компании по вечерам никого не беспокоили. Как-то в одну из школ вклинился посередине Международный день 8 марта. Утром следующего дня на первый доклад пришло всего несколько человек. Докладчик хладнокровно заметил, что слушатели, которые пришли на его доклад, обладают активной алкогольдегидрогеназой, в отличие от остальных участников школы. Этот список происшествий можно было бы продолжить, эти истории запоминаются легко и надолго, как охотничьи рассказы, но я оставляю их за кадром. В мае 1968 года С. И. Алиханян и С. З. Миндлин участвуют в международной конференции по генетике и селекции стрептомицетов — актиномицетов рода Streptomyces в Югославии. Там Сос Исаакович впервые лично знакомится с Дэвидом Хопвудом и его семьей. Д. Хопвуд в то время уже является признанным лидером в генетическом изучении стрептомицетов на ставшем уже модельном штамме Streptomyces coelicolor A3(2). Там же Сос Исаакович обмолвился Хопвуду, что собирается в новом институте организовать лабораторию по генетике актинофагов и упомянул мою фамилию. На этой конференции по инициативе ученых из Чехословакии было решено основать международный симпозиум по генетике промышленных микроорганизмов (GIM) с периодичностью один раз в 4 года. Доктор З. Ванек и его чешские коллеги в это время лидируют в области изучения биосинтеза антибиотиков. 1-ый GIM симпозиум состоялся в Праге в 1970 году. С тех пор эта традиция сохраняется вот уже сорок лет. Примерно в эти же годы был организован международный симпозиум по биологиии актиномицетов (ISBA), правда, сейчас в его тематике превалируют микроорганизмы, не принадлежащие к роду Streptomyces. В 70-х годах изучение генетики актиномицетов рода Streptomyces, продуцентов большинства антибиотиков, было сосредоточено в странах Европы — Англии, Италии, Югославии, Польше, ГДР, ФРГ, Чехословакии и СССР. В каждой стране — в одной или нескольких лабораториях. Ученые этих лабораторий общались и на других конференциях и хорошо знали друг друга. В. Америке с актиномицетами в то время работали фармацевтические фирмы, предпочитающие не публиковать и не обнародовать имеющиеся результаты. Вацлав Шибальский, организовавший симпозиум по генетике актиномицетов в Нью-Йорке в 1959 году (хорошо помню тоненький сборник докладов этого симпозиума), похоже, всерьез ими не интересовался. Это была крепость, требующая длительной осады. Уже в Америке, работая в Висконсинском университете в Мадисоне, мы с Лёней часто встречались с В. Шибальским на семинарах и лыжных прогулках. Он был уже совсем пожилым человеком, но еще оставался на высокой должности главного редактора журнала Gene. Он вспоминал свои встречи с Алиханяном. Помню, как, наверное, в 70-м году Лёня единственный раз в жизни попался на первоапрельскую шутку. Юра Винецкий принес Лёне сфабрикованное письмо — приглашение от В. Шибальского участвовать в конференции в Австралии. Якобы, В. Шибальский проявил интерес к его статье, недавно опубликованной в немецком журнале. Лёня поверил, но до дирекции все-таки не дошел, остановили. Другая первоапрельская шутка, на которую попался сам Юра, обошлась ему значительно дороже. События конца 60-х и 70-х годов были невероятно спрессованы. Наверное, это были самые активные годы в нашей с Леней научной карьере. Несмотря на научные успехи, рассчитывать на получение даже должности старшего научного сотрудника Лёне в академии наук не приходилось. Правда, почти в таком же положении были и многие сотрудники академических институтов, имеющих в анкете «плохой» пятый пункт. В 1972 году в Москве открылся новый институт по биологическим испытаниям химических соединений (НИИ по БИХС). Моя подруга и коллега Элеонора Пирузян была женой директора вновь организованного института Льва Арамовича Пирузяна. Я её попросила о встрече Лёни с Львом Арамовичем. Встреча состоялось. Лёню зачислили в институт старшим научным сотрудником-генетиком, а через полгода он стал заведующим генетической лабораторией, в которой поступающие в институт химические соединения, в том числе, и с уже выявленной биологической активностью должны были быть проверены на мутагенную активность. Лёня сменил специальность в третий раз и через два года стал заведующим крупным отделом безопасности лекарств из 8 лабораторий и 100 сотрудников. В это время в число проверяемых на безопасность химических веществ стали входить и новые лекарства, которые предполагалось вводить в медицинскую практику. Теперь без тщательной и многосторонней оценки в отделе безопасности лекарств потенциальные лекарства не поступали в лечебную сеть. Работа была очень напряженной и ответственной, ведь ошибки в оценке безопасности лекарств могли стоить очень дорого. Лёня на этом терял своё собственное здоровье. Сейчас в интернете до сих пор можно найти многочисленные ссылки на методические рекомендации по оценкам безопасности лекарств, основанные на комплексных подходах, разработанных в отделе, которым руководил Лёня. Поступив в НИИ по БИХС, Лёня не смог поехать в отпуск летом 1972 года и мой папа, как член Дома Ученых, достал нам троим (маме, мне и Олечке) путевки на турбазу Дома Ученых в Карпатах под Ясенями. Все население турбазы жило в палатках. Нам досталась комната в единственном деревянном доме на территории турбазы. Я со страхом смотрела на окружающие нас горы и была уверена, что не смогу подняться ни на одну из них. Все быстро перезнакомились. Среди приятной публики было много опытных туристов. В результате мы с Олечкой в хорошей компании покорили невероятно живописные соседние вершины, включая и самуювысокую гору Гаверлу. День ходили в горы, день отдыхали. Упивались сервисом в столовой. Еду готовили повара из Московского дома Ученых. Впервые за долгие годы не надо было в отпуске заботиться о пище насущной, и она была такая вкусная. Вспоминается директор турбазы, которая очень хорошо организовала все наше там пребывание. Например, несколько дней вся турбаза ела блюда, приготовленные из купленного ею по случаю теленка: и холодец, и печеночный паштет, и жаркое. Оле персонально приносили тарелку жареной картошки. Такой удобный непритязательный клиент. Повара готовили блюда и из даров леса — собранных нами прекрасных свежих грибов. На три дня поехали на экскурсию по городам Закарпатья и только и мечтали вернуться к себе на турбазу, так нам хорошо там жилось. После каждого похода в горы нас встречали торжественным обедом с пирогами. Для нас, не избалованных, это было просто чудо. Однажды поехали на грузовике смотреть новое место для турбазы. Обратно должны были в тот же день вернуться пешком. Две девушки поехали просто в купальниках. У нас с Олей в рюкзачках были свитеры. К вечеру стало ясно, что на обратном пути заблудились. Началась сильная гроза. Поздно ночью набрели на леспромхоз. Там спросили документы, все-таки пограничная зона. Единственным документом с фотографией на всех был чей-то проездной билет на московский транспорт. Сердобольные работники леспромхоза пустили нас переночевать. Оказалось, что мы перевалили через горный хребет и попали в Ивано-Франковскую область в Прикарпатье. Завтракали в ресторане, еще не прибранном после вчерашнего ужина, в красивом стилизованном деревянном доме, вкусно поели, взяли несколько такси и поехали длинным окружным путем домой. Путь был длиной в 140 км, благо, что такси стоили тогда не дорого. На турбазе уже была паника. Через час должен был подняться в воздух вертолет на розыски группы ученых, находящихся в приграничном районе. Час полета уже стоил бы для нас большие деньги. А в это время в Москве была необычная сильная жара. Под Москвой горели торфяные болота и Москва окуталась сильным дымом. Лёня уже работал в Купавне под Москвой и тратил на поездку на работу более 2-х часов в один конец. Так продолжалось в течение последующих 15 лет. Правда, иногда удавалось доехать на работу с оказией. В соседнем с нами доме жил шофёр зам. директора института А. С. Назарова, который всегда просил его заехать за Лёней по пути в Купавну. Как-то так случилось, что в следующем, 1973 году мы поехали в отпуск в Среднюю Азию во Фрунзе. Леня всегда хотел снова попасть в город, где провел несколько лет в эвакуации. У меня такого желания никогда не возникало. Правда, вспоминались мамины и папины рассказы о довоенном Фрунзе. Во Фрунзе жили Лёнины родственники, которые поддерживали связь с родственниками в Москве. С нами поехала и Лёнина сестра Мира. Ехали во Фрунзе поездом. Тогда предпочитали, если возможно, не летать. Трое суток в пути. С нами к себе домой во Фрунзе ехал Лёнин троюродный брат, тоже Лёня. Он работал главным врачом в железнодорожной больнице во Фрунзе. По этому поводу в нашем вагоне, единственном из всего поезда, включили кондиционер. Значительная часть пути проходила по пустыне. Выйдя там из вагона, погружались в невообразимую жару. А местные ребятишки выбегали к поезду поглазеть, все без головных уборов. Запомнились дома, наполовину врытые в землю, и исхудавшие верблюды с пустыми и висевшими по бокам горбами. Через пару дней после приезда во Фрунзе поехали на несколько дней на турбазу, расположенную на берегу Иссык-Куля. На следующий день мы оттуда уехали. Условия жизни там были из рук вон плохие: по 20–30 человек в палатке, какие-то жидкие каши в грязной столовой. Единственное, что навсегда запомнилось, — это как на небе зажигались звезды. Такого больше нигде увидеть не удавалось. Несколько дней провели в городке на берегу Иссык-Куля, Чолпан-Ате. Все та же неустроенность, плохая еда в местной столовой, столовые приборы вылавливали из таза с кипящей водой, приготовить что-то самим было негде и не из чего. Озеро, конечно, очень красивое, теплое, так и хотелось там пожить подольше. Удивлялись тому, как всё там было неустроено. Вернувшись во Фрунзе, несколько дней провели на даче в крошечном домике в горах у другого Лёниного троюродного брата, Володи. Ели великолепный плов, купались в быстрой горной реке. В ней было такое естественное углубление в виде бассейна, где можно было удержаться и полежать в теплой прогретой солнцем воде. Правда, в первый день нашего пребывания на прогулке кто-то нес авоську с бутылками минеральной воды. Одна бутылка вдруг взорвалась и осколок попал Лёне в ногу. Настоящее ранение. Шрам до сих пор виден. Хорошо, что имели при себе опытного медика. Все-таки поехали на мотоцикле в ближайший фельдшерский пункт, и фельдшер обработал рану. Несколько дней Леня нам завидовал, когда мы купались в реке. С тех пор мы не оставляли бутылки с минеральной водой под давлением. Последние несколько дней отпуска провели в жарком Фрунзе (более 40° по Цельсию). Лёне, как всегда, жара была ни по чем, а я страдала. Наши еврейские родственники договаривались между собой, и каждый вечер, когда жара немного спадала, кормили нас разными среднеазиатскими национальными блюдами. Было вкусно, и общаться с почти незнакомыми людьми было легко. Теперь во Фрунзе никого из наших родственников нет. Совсем старшее поколение, которое мы еще застали, и поколение перед нами уже давно ушли. Наше поколение — в Израиле и в Америке. Трудится там, в основном, сейчас поколение наших детей и внуков. Все устроены, уезжали из страны в 90-х через Москву, останавливались у Миры. Но она и сейчас главная по связям с родственниками в Америке и Израиле. В. Киеве и в Черкассах тоже никого не осталось: кто в Америке, кто в Германии, кто в Израиле. Опять и на нашем веку евреи снялись с насиженных мест. Сейчас, правда, в Америке можно встретить и много русских, совсем не евреев. Наверное, так же и в Европе. Железный занавес неожиданно для всех открылся в самом конце 80-х. Один из Лёниных внучатых племянников из Фрунзе, И. Б., появился в Москве в конце 80-х. Долго жил у Миры. Молодой, красивый, обходительный. Был несколько раз и у нас в гостях. Однажды принес бутылку прекрасного, по тем временам, ликера, который мы, два доктора наук, до этого и в глаза не видели, не то что пробовали. Однажды, при общем дефиците, принес заграничное пиво, поглядывал на нашу внучку Анечку. Я даже боялась, как бы он её не украл. Потом он умудрился продать с парковки около дома машину Мириного соседа, назанимал деньги у родственников и знакомых, украл из тогда еще совсем бедной Мириной квартиры золотую цепочку и исчез. Больше мы его не видели и не знаем, как сложилась его судьба. Мы жертвами его мелких мошенничеств не стали. Наверное, уважал.Глава 15 Обнаружение и изучение умеренного актинофага, действующего на модельный штамм генетики актиномицетов
Сейчас хочу вернуться в 1968 год и немного рассказать про организованную в нашем институте ВНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов лабораторию генетики актинофагов, впоследствии генетики актиномицетов и актинофагов, которой я руководила в течение почти 25 лет вплоть до отъезда в Америку. Непрофессионалов в области генетики актиномицетов, образующих большинство используемых в медицине антибиотиков, прошу не расстраиваться и просто пропускать куски непонятного текста вследствие неспособности автора писать по возможности популярно. Напомню, например, что наиболее генетически изученными, так называемыми «модельными» объектами генетики бактерий и бактериофагов являлись бактерия Escherichia coli K12 и действующие на неё вирулентные бактериофаги Т-серии и умеренный бактериофаг лямбда. Впоследствии к ним стали присоединяться и другие многочисленные объекты генетики микроорганизмов и бактериофагов. Примерно с середины 50-х годов «модельным» объектом генетики актиномицетов стал штамм Streptomyces coelicolor A3(2). Выбор этого штамма был сделан в лабораториях Д. Сермонти (Италия) и Д. Хопвуда (Англия), главным образом, за красоту выделяемого этим штаммом яркого синего пигмента. По признанию Д. Хопвуда, он в то время не рассматривал в качестве объекта генетического изучения штаммы Streptomyces, образующие уже известные антибиотики. В конце 60-х и в 70-е годы были сделаны кардинальные открытия в генетике актиномицетов с использованием активно изучаемого генетически штамма Streptomyces coelicolor А3(2). При выборе объекта нашего исследования, конечно, заманчивой была идея использовать в качестве хозяина актинофага модельный штамм Streptomyces coelicolor А3(2), который в то время уже стал основным объектом генетики актиномицетов. Предыдущие предпринимаемые попытки выделения актинофага, действующего на штамм Streptomyces coelicolor А3(2), были безуспешными. Задача усложнялась тем, что мы хотели иметь в своих руках умеренный фаг, способный не только лизировать, но и лизогенизировать актиномицетный штамм-хозяин. Интересно, что эта, как бы лежащая на поверхности идея пришла мне в голову почти в первый час, после того, как Сос Исаакович предложил мне заведовать лабораторией актинофагов. Этот момент, очень важный, стоит у меня перед глазами по прошествии уже почти полувека. Долгие годы у нас в стране классификацией и систематикой актиномицетов занимались в лаборатории Николая Александровича Красильникова. Лаборатория обладала большой коллекцией «синих» актиномицетов, к которым принадлежал и штамм S. coelicolor А3(2). В 1968 году коллекция из почти сотни штаммов оказалась бесхозной, и нам предложили забрать ее к себе. Это был подарок судьбы, который свалился на нашу голову буквально в первые же дни основания лаборатории. И тут уже не требовалось большого ума для того, чтобы не попытаться изолировать умеренный фаг из возможных лизогенных штаммов этой коллекции, действующий на штамм Streptomyces coelicolor А3(2). Экземпляры коллекции были изолированы из почв Казахстана и охарактеризованы Майей Хажетдиновной Шигаевой, бывшей аспиранткой Н. А. Красильникова. Их видовые характеристики были подробно описаны в книге Н. А. Красильникова «Актиномицеты — антагонисты и антибиотические вещества» М., Из-во АН СССР, 1950. Мне больше помнится название его предыдущей книги «Лучистые грибки и родственные им организмы» того же издательства, вышедшей в 1938 г. Не исключено, что мы пользовались ее переизданием. Так сложилось, наверное, не без участия Серикбая Каримовича Абилева (для нас он на долгие годы остался просто Серёжей), что Лёня в 70-ые и 80-ые годы поддерживал научные контакты с кафедрой микробиологии Казахского Университета в Алма-Ате. (С. К. Абилев был одним из первых, кто после окончания кафедры генетики МГУ пришел работать в Лёнину лабораторию во ВНИИ по БИХС. Слава богу, уже был образованным генетиком). Заведующей кафедрой микробиологии Казахского университета долгие годы была Майя Хажитдиновна Шигаева, чья коллекция «синих» актиномицетов по велению судьбы оказалась в моей лаборатории. В конце 70-х годов на этой кафедре была организована экспериментальная школа по выявлению мутагенов окружающей среды. Руководил этой школой мой муж Лёня Фонштейн, преподавателями были сотрудники его лаборатории А. А. Шапиро, С. К. Абелев, Н. Г. Облапенко, Ю. А. Ревазова, Н. Н. Локницкая. Лёня потом часто ездил туда оппонировать защиты кандидатских и даже докторских диссертаций. Мне так и не удалось лично познакомиться с Майей Хажетдиновной. Уже давно работая в Америке в Висконсинском университете, в конце 90-х годов мы встретились с семьей, приехавшей из Алма-Аты, которая сняла квартиру по коридору напротив нашей квартиры. Дочь приехала по приглашению Висконсинского университета для изучением казахской диаспоры в Америке. Ее сопровождала мать — вдова Главного архитектора Алма-Аты, который, пройдя войну, по существу, изменил облик Алма-Аты. И мать, и дочь хорошо знали Майю Хажетдиновну, принадлежащую, как и они, к казахской аристократии. Обе женщины были очень удивлены и обрадованы нашим соседством. Полгода мы с ними жили в полном согласии, и мама кормила нас казахскими блюдами. Как память о них у нас остался набор хороших кастрюль, которыми мы пользуемся и по сей день. Вся зарплата дочери за полгода работы в США ушла на покупку подарков их родственникам в Алма-Ате. Их там тоже ждал торжественный прием. Помню, что в Алма-Ате они жили в доме на 3-м этаже без лифта, а мама уже была очень больна. С ними мы передали привет Майе Хажетдиновне. Вернусь к началу работы в лаборатории по поиску фага, действующего на ставший уже модельным и наиболее генетически изученным штамм S. coelicolor А(3)2. Как это ни парадоксально, первоначально фаг, действующий на коллекционный штамм S.lividans 66 был изолирован из жидкой культуры штамма S. coelicolor А(3)2. Этого мы уж никак не ожидали. На сам штамм S. coelicolor А(3)2 этот фаг не действовал. Мы предположили, что штамм S. coelicolor А(3)2 сам является дефектным лизогенным штаммом, устойчивым к фагу, который он содержит. В дальнейшем это предположение не подтвердилось. На индикаторном штамме S.lividans 66 фаг образовывал красивые большие мутные негативные колонии (пятна лизиса или бляшки). Вторичный рост культуры актиномицета внутри бляшек указывал на то, что изолированный фаг может быть умеренным. Но это предстояло еще доказать. Очень скоро нам удалось получить варианты штамма S. coelicolor А(3)2, чувствительные к изолированному фагу, обозначенному нами phiC31. Так он под этим названием и существует до сих пор. Авторами первой публикации, описывающей свойства этого фага, действующего на модельный штамм S. coelicolor А(3)2 (журнал Генетика, 1970, том 6, стр. 135–137) были Н. Д. Ломовская, Н. М. Мкртумян и Н. Л. Гостимская. Хорошо помню, как я тогда в шутку сказала, что нам уже больше ничего не надо делать и все будут все равно упоминать, что фаг phiC31, действующий на штамм S. coelicolor А(3)2, был изолирован Н. Д. Ломовской и ее коллегами. Так и случилось. Но впереди нас ждали долгие годы очень напряженной работы по генетическому и молекулярно-генетическому изучению фага phiC31, взаимодействию этого и других актинофагов со штаммами актиномицетов. По болезни я не могла присутствовать на 1-ом симпозиуме GIM-70, который проходил в Праге, мой доклад по изоляции и характеристике фага phiC31 был зачитан А. М. Борониным, бывшим аспирантом С. И. Алиханяна, а впоследствии многолетним директором Института физиологии и биохимии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина в Пущине. Помню, что я была у него оппонентом на кандидатской диссертации и сделала довольно много замечаний, дав положительный отзыв. Через него я послала письмо Дэвиду Хопвуду с просьбой прислать генетически маркированные, имеющие мутации в разных генах, штаммы S. coelicolor А(3)2 для локализации (определения места положения на хромосоме) этого штамма профага phiC31. Дэвид немедленно откликнулся на нашу просьбу, но в ответ попросил прислать ему фаг phiC31 и индикаторный штамм актиномицет S.lividans 66, на который действовал фаг phiC31. Конечно, мы могли потянуть с отправкой фага и штамма, но я предпочла этого не делать, несмотря на вероятность сильной конкуренции с лабораторией, являющейся лидером в изучении генетики актиномицетов. Не хотелось оставаться в полной изоляции от мирового содружества ученых. Фаг и штамм были сразу посланы в отдел, возглавляемый Д. Хопвудом, в Институт Д. Иннеса в Англию, г. Норидж. На отправку фага и штамма было получено разрешение в инстанциях Министерства микробиологической промышленности, т. к. в просьбе указывалось, что никакого практического значения ни фаг, ни штамм не имеют. Так началось наше многолетнее тесное сотрудничество с Д. Хопвудом и его коллегами. В ту пору актинофагами интересовался сотрудник его отдела Кит Четер. Представляется, что в течение многих лет сотрудники Д. Хопвуда, несмотря на наличие в их распоряжении нашего фага, все-таки пытались изолировать свой собственный актинофаг, действующий на штамм S. coelicolor А(3)2. Кроме того, работа с фагом требовала многолетнего опыта, который имелся у нас. И только в самом конце 70-х годов, когда актиномицеты стали объектами генно-инженерных исследований в лаборатории Д. Хопвуда, К. Четер и его коллеги продемонстрировали способность ДНК фага phiC31 к трансфекции штамма S.lividans 66 и начались работы по конструированию на основе фага phiC31 векторных молекул, способных к переносу чужеродной ДНК. Не могу тут не упомянуть, что штамм S.lividans 66, посланный нами в начале 70-х годов в отдел Д. Хопвуда, оказался практически самым оптимальным реципиентом изолированной ДНК, который в течение многих лет используется для этих целей во всех лабораториях, занимающихся клонированием генов актиномицетов. При этом он и сам стал предметом пристального генетического изучения, в том числе, и сравнительного анализа его генома с геномом штамма S. coelicolor А(3)2. В 70-ые годы в отделе Д. Хопвуда были сделаны выдающиеся открытия в области генетики актиномицетов, заложившие основы для широкого использования методов генной инженерии для изучения генов, контролирующих биосинтез антибиотиков с последующим определением полной последовательности оснований в геноме штамма S. coelicolor А(3)2. Все эти годы я ощущала большую моральную поддержку Д. А. Хопвуда и его коллег. Правда, мне тогда казалось, и не без оснований, что наши достижения не являются такими уж существенными по сравнению с открытиями, сделанными Д. Хопвудом и его коллегами, и я всегда удивлялась, как внимательно следили они за нашими публикациями. Помню, как к очередному моему докладу в институте, как по заказу, приходил отттиск от Д. Хопвуда с опубликованными результатами их работ. И только сейчас я сформулировала представление о том, что наша лаборатория была не только единственной в нашей стране, но и единственной во всем мире, изучающей генетику актинофагов, вирусов актиномицетов. Впоследствии векторы, сконструированные на основе фага phiC31, имели одно, но очень большое преимущество при изучении генов биосинтеза антибиотиков. Фаговые векторы, несущие чужеродные фрагменты для получения мутаций в генах биосинтеза антибиотиков, довольно легко конструировались в хорошо разработанной модельной системе, а потом конструкция переносилась в изучаемый штамм просто с помощью фаговой инфекции. В полной мере нам удалось это осуществить только по приезде в Америку. В своей обзорной статье, опубликованной в журнале Microbiology (1999) 145, 2183–2202 «Forty years of genetics with Streptomyces from in vivo through in vitro to in silico» в числе важных открытий в области генетики актиномицетов (the in vivo years 1955–1981) Д. Хопвуд упоминает и открытие фага phiC31, и выход на мировую арену из нашей лаборатории штамма S.lividans 66, сыгравшего впоследствии главную роль в разработке и использовании методов генной инженерии в применении к актиномицетам. Там же упоминается и почти одновременная демонстрация генетической рекомбинации у актиномицетов в нескольких лабораториях, включая и лабораторию С. И. Алиханяна. Кроме того, отмечается и еще одно важное открытие, сделанное в 1967 году в Советском Союзе, — выделение и идентификация химической структуры в лаборатории А. С. Хохлова А-фактора, активирующего образование стрептомицина и споруляции у штамма S. griseus, образующего стрептомицин. Позволю себе процитировать фрагмент этого обзора Хопвуда: «A second highly significant development also took place in Moscow in the late 1960s. This was the penetrating work of Natalia Lomovskaya and her collaborators on the OC31 temperate bacteriophage (Fig. 9; Lomovskaya et al., 1970), which also launched its favourite host Streptomyces lividans 66 on the world stage. Her generous sharing of her work and strain with Western scientists — including in particular Keith Chater at John Innes — at a dififcult time for Russians geneticists has had far-reaching benefits». Более подробно о наших научных и личных контактах с Д. А. Хопвудом и его коллегами описано в книге Д. А. Хопвуда: David A. Hopwood, «Streptomyces in Nature and Medicine. The Antibiotic Makers.» Oxford University Press, 2007. 97-101, 105. На титульном листе подаренной мне Дэвидом книги надпись от руки: «To Natasha for many years of friendship, David. January 2007». В течение всех 70-х годов основные мои усилия и усилия сотрудников лаборатории были направлены на генетическое изучение актинофага phiC31 и его взаимоотношений с актиномицетами. На этом пути нас ожидали очень большие методические трудности, которые приходилось преодолевать на каждом шагу. Они были связаны с очень сложным жизненным циклом хозяев фага — актиномицетов, проходящих в своем развитии несколько стадий дифференциации, начиная от спор и кончая образованием многоклеточного мицелия. Продуктивная инфекция фагом проходила только на стадии прорастания спор, которые к тому же прорастали не синхронно. Однако, после многих ухищрений удалось получить количественные оценки процесса инфекции, охарактеризовать фаг phiC31 как умеренный фаг, количественно оценить частоту лизогенизации и, на первых порах, спонтанной индукции профага лизогенными штаммами. С использованием генетически маркированных штаммов S.coelicolor А(3)2 удалось локализовать сайт интеграции профага на генетической карте S.coelicolor А(3)2. При этом были использованы методы генетического анализа скрещиваний, разработанные в лаборатории Д. Хопвуда. Было также получено значительное число разнообразных мутантов фага и с помощью модификации методов комплементации и рекомбинации была построена генетическая карта фага phiC31. Интересно, что в разработке этих модифицированных методов мне помогал Леонид Фонштейн, мой муж, имевший уже опыт работы с бактериофагами и вообще был шибко умным. Я не помню, чтобы когда-нибудь, работая в Москве, он обращался ко мне за каким-нибудь советом, даже в начале его работы с бактериофагами. Зато в Америке я на нём отыгралась. Лаборатория генетики актиномицетов и актинофагов в институте ВНИИ генетика (ориентировочно 1979 г.). Слева направо: И. Бирюкова, Е. Н. Чиркова, А. Перова, Т. А. Чинёнова, С. Косова, Г. Муравник, Н. Д. Ломовская, Т. А. Воейкова. До запрешения посиделок в лабораториях ещё далеко. Интересно, можно ли догадаться по лицам, кто же возглавляет лабораторию?
Лаборатория генетики актиномицетов и актинофагов в институте ВНИИ генетика (ориентировочно 1979 г.). Слева направо: И. Бирюкова, Е. Н. Чиркова, А. Перова, Т. А. Чинёнова, С. Косова, Г. Муравник, Н. Д. Ломовская, Т. А. Воейкова. До запрешения посиделок в лабораториях ещё далеко. Интересно, можно ли догадаться по лицам, кто же возглавляет лабораторию?
 А вот и ещё одна фотография отыскалась. Бывший аспирант нашей лаборатории Геннадий Сезонов. Сейчас уже долгие годы работает во Франции.
А вот и ещё одна фотография отыскалась. Бывший аспирант нашей лаборатории Геннадий Сезонов. Сейчас уже долгие годы работает во Франции.
 За неимением фотографий, привожу список фамилий остальных сотрудников и аспирантов лаборатории, которые трудились в ней в разные годы её существования.
За неимением фотографий, привожу список фамилий остальных сотрудников и аспирантов лаборатории, которые трудились в ней в разные годы её существования.
 В этот список входят и сотрудники, которые приезжали в лабораторию из других институтов разных стран. Этот список имеется в оглавлении книги, вышедшей в Москве в 1992 году (см. слева).
В этот список входят и сотрудники, которые приезжали в лабораторию из других институтов разных стран. Этот список имеется в оглавлении книги, вышедшей в Москве в 1992 году (см. слева).
Перевод всех статей на английский выполнен Н. М. Мкртумян. Статьи из нашей лаборатории можно увидеть в оглавлении. Их соавтором является Н. Д. Ломовская.
 1981 г. Преподаватели и помощники при организации всесоюзной школы «Микробиологические тест-системы для оценки мутагенной активности химических срединений», организованной Л. М. Фонштейном (четвертый слева) на базе кафедры микробиологии Казахского государственного университета. Зав. кафедрой доктор биологических наук Майя Хажетдиновна Шигаева (третья слева). Активный организатор школы Серикбай Каримович Абилев (крайний слева).
1981 г. Преподаватели и помощники при организации всесоюзной школы «Микробиологические тест-системы для оценки мутагенной активности химических срединений», организованной Л. М. Фонштейном (четвертый слева) на базе кафедры микробиологии Казахского государственного университета. Зав. кафедрой доктор биологических наук Майя Хажетдиновна Шигаева (третья слева). Активный организатор школы Серикбай Каримович Абилев (крайний слева).
Глава 16 Использование плодов нашего интенсивного изучения актинофага phiC31 и возникновение на этой основе тесного рабочего сотрудничества с английскими коллегами
Только в конце 70-х годов в нашей лаборатории начались работы по установлению соответствия между генетической и физической картами актинофага с целью конструирования на основе этого фага векторных молекул для клонирования и дальнейшего переноса актиномицетных генов в различные штаммы актиномицетов. В работу по конструированию векторов на основе нашего фага в это время стремительно и активно включился К. Ф. Четер. Надо отметить, однако, что сотрудники К. Ф. Четера впоследствии вспоминали работы по клонированию актиномицетных генов на фаговых векторах почти с ужасом, настолько сложной была разработанная ими схема отбора актиномицетов, несущих клонированные гены. Только в Америке мы с Лёней довольно быстро подсуетились и разработали простой и быстрый метод переноса актиномицетных генов, клонированных на фаговых векторах, практически, в любой штамм актиномицетов, включая продуценты антибиотиков и других биологически активных соединений. При этом надо отдать должное фаговым векторным молекулам, сконструированным К. Ф. Четером и его коллегами, которыми мы активно пользовались. Правда, в отличие от коллекции К. Ф. Четера, в нашей коллекции были также и фаги, несущие гены резистентности к двум антибиотикам, и в то же время, не утратившие способности к лизогенизации культур актиномицетов. Эти фаги играли решающую роль на первом этапе работы по определению действия фага на интересующий нас штамм актиномицета, в который с помощью фагового вектора необходимо было ввести отклонированные на нём актиномицетные гены. Вернусь в ранние 70-е. В 1973 году С. И. Алиханян организовал конференцию по генетике промышленных микроорганизмов на горном курорте Цехкадзор в Армении. Были приглашены и ученые из Европы, в том числе работающие с актиномицетами. Д. А. Хопвуд не смог или не захотел принять приглашение и предложил вместо себя кандидатуру Кита Четера. Эта была первая поездка Кита Четера в Советский Союз. Собственно, Цехкадзор был тренировочной базой для спортсменов, тренирующихся для участия в Олимпийских играх. Зал, где проходила конференция, не отапливался. Участники и докладчики не снимали пальто, но все были полны энтузиазма. Кормили очень хорошо, по олимпийским нормам. Кит приехал легко одетым и делал доклад в костюме. Потом мы его немножко приодели. Годами у него сохранились теплые шерстяные носки, подаренные Лёней. Приодели и Джузеппе Сермонти. Когда я сделала доклад, у меня было такое ощущения счастья, что я помню его до сих пор. После заседания поехали на подъемнике в горы. Болтались в креслах высоко над землей. Курорт был действительно высокогорный. Каждый вечер до поздней ночи упивались игрой джаза, состоящего из репатриантов. Танцевали до упаду. Джаз был великолепным. По-моему, Кит не представлял, что попадет в компанию таких интеллигентных и образованных людей, и мне кажется, что даже прослезился при прощании. Так началось наше многолетнее с ним сотрудничество и настоящая дружба с элементами конкуренции. В этом же 1973 году я познакомилась с Дэвидом Хопвудом, когда в составе большой делегации советских генетиков приняла участие в работе Международного генетического конгресса в Калифорнии в университетском городе Беркли, США. С. И. Алиханян опять пробил через почти не пробиваемые бюрократические препоны возможность участия своих учеников в этом престижном международном форуме в качестве научных туристов. Деньги на путевку опять дала мама. Могла ли я тогда, в 1973 году предположить, что сейчас будем жить совсем недалеко, в получасе езды на машине от Беркли! Добирались из Москвы в течение более, чем двух суток, пять раз меняя самолеты. В. Милане переезжали с одного аэропорта на другой под конвоем вооруженных полицейских, т. к. у нас не была оформлена итальянская виза. Милан в выходной день был совершенно безлюден. Проехали мимо знаменитого собора Святого Павла. Удивлялись ярко одетой публике в аэропортах. В. Сан-Франциско ночью нас никто не встретил, сели в такси, у кого-то были деньги и помчались по шоссе с пятью или шестью полосами для машин в одном направлении, разделенными, как нам тогда казалось, яркими электрическими лампочками. В отеле, посмотрев на программу, я с ужасом увидела, что мой доклад должен состояться меньше, чем через час. Сделав его, я совершенно отключилась и не могла прослушать доклад Хопвуда. Так мы с ним и познакомились. На следующий день он пригласил меня пообедать. Все тротуары были заполнены толпами хиппи в расхристанных одеждах. Тогда Беркли был главным центром этого движения. Я стала бояться, но Дэвид меня успокаивал, что они никого не трогают. Студенты загорали на газонах и лестницах при входах в аудитории и нигде не висело табличек «По газонам не ходить!» Мой разговорный английский при общении с Дэвидом Хопвудом совсем испарился. Пришлось обсуждать с ним научные проблемы, переписываясь. С. Четером общаться было значительно легче. Мне было стыдно. В конце нашего пребывания в Беркли С. И. Алиханян организовал для своих учеников визит к знаменитому ученому в области популяционной генетики Феодосию Добжанскому. Уж кто-кто, а Сос Исаакович хорошо знал его заслуги в этой области генетики. Ф. Добжанский в 30-х годах не вернулся в Советский Союз из командировки в США и продолжал в США работать и развивать идеи, заложенные его учителем, С. С. Четвериковым. Он же впервые перевел на английский и опубликовал основополагающую статью С. С. Четверикова, до этого не известную на Западе «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения эволюционной генетики». Работая в Америке, Феодосий Добжанский стал очень знаменит. В 1937 году был опубликован один из главных его трудов «Генетика и происхождение видов». В 1973 году на конференции Национальной ассоциации учителей биологии он выступил с докладом «Ничто в биологии не имеет смысла кроме как в свете эволюции». Сейчас о нем можно узнать очень много интересного в интернете, не то что в годы, предшествующие нашему визиту к нему. Сос Исаакович, конечно, знал о его заслугах, но тоже не распространялся. Может быть, думал, что мы более образованны в истории биологии. Но в отношении меня, например, он сильно ошибался. Ф. Добжанский ушел из жизни в 1975 году в результате острой сердечной недостаточности. Остались его труды и память потомков. Туристическая фирма выдала нам деньги на питание, которые показались нам очень большой суммой — 300 долларов. На питание старались почти ничего не тратить. Хватило денег всем на подарки — джинсы для Оли (потом жалела, что не купила две пары), для нее же большой пакет жвачки и игрушечных индейцев. Мальчик, который приходил к нам домой на урок по игре на гитаре, украл и жвачку и индейцев. Жвачку, конечно, не вернул, побожившись, что всю её уже изжевал, а часть индейцев мне удалось вернуть, напугав его милицией. Лёне достались рубашки, хватило и на сувениры родственникам и сослуживцам. Эта же туристическая фирма в возмещение морального и материального ущерба за то, что не встретила нас по приезде в аэропорту, провезла нас по достопримечательностям Сан-Франциско и вкусно накормила в дорогом китайском ресторане. Потом в план поездки входило посещение Лос-Анжелеса, Вашингтона и Нью-Йорка. В. Вашингтоне провели целый день в знаменитой национальной картинной галерее; не могли уйти оттуда, такие там были собраны картины выдающихся художников со всего мира. Несколько залов занимали картины Пикассо. Такой богатой коллекции я никогда не видела, тем более, что картины импрессионистов, постимпрессионистов, русского авангарда в эти времена у нас в стране еще лежали в запасниках и ждали своего часа. Там же в Вашингтоне выстояли совсем небольшую очередь и попали на экскурсию в Белый Дом, который тоже произвел большое впечатление. Особенно, конечно, запомнились портреты президентов и такая возможность просто придти в главное здание страны. Там же купили прекрасно изданную книгу с портретами всех президентов. На следующий день уже в Нью-Йорке долго шли пешком с Норой Пирузян, чтобы попасть в Метрополитен-музей, но его закрыли перед самым нашим носом. Впечатление от Америки осталось как от страны больших городов, и мы совсем не видели прекрасную американскую природу. В 1974 году в Шеффилде (Англия) состоялся второй международный симпозиум по генетике промышленных микроорганизмов (GIM — 74). Я была туда приглашена с оплатой пребывания в качестве докладчика и сопредседателя секции по генетике актиномицетов. Я очень волновалась, как я смогу везти эту секцию, но Дэвид Хопвуд успокоил меня: в мои обязанности входило, в основном, соблюдение докладчиками регламента. Участниками симпозиума из нашего института были также Элеонора Суреновна Пирузян, Виктор Николаевич Крылов, Анатолий Иванович Степанов. Прилетели в Лондон почему-то с Виктором Крыловым. С большим трудом нашли дорогу до вокзала, чтобы ехать поездом до Шеффилда. Проехали большое расстояние по Англии, которая запомнилась прекрасными мирными сельскохозяйственными пейзажами. Меня поселили как-то отдельно от всех остальных в другом конце университетского общежития. В первый день, завтракая, я машинально положила на свой поднос много еды и на меня с удивлением поглядывали. Опекал меня Кит Четер, я его понимала лучше других, и он переводил мне дискуссии в кулуарах. Прием для участников симпозиума устроил мэр Шеффилда в разбитом по этому поводу громадном шатре. Прием был очень торжественным. Нарядные официанты разносили подносы с едой в больших шкафах-термостатах, чтобы, не дай бог, ничего не остыло. Английская еда мне тогда очень понравилась. Единственное, что меня расстраивало, что у меня на все эти приемы было только одно очень простое платье и одна сумка, которую я купила себе в Америке, и много лет потом ее носила. Дэвид даже однажды меня спросил, почему я хожу всегда с одной и той же сумкой. Я удивлялась его способности быстро все видеть и надолго запоминать. Прощальный прием был устроен в музее. Много танцевали, в том числе английские народные танцы. Думаю, что эти танцы впоследствии обошлись мне дорого, т. к. меня длительное время, с 1974 по 1980 годы, перестали выпускать на конференции в капиталистические страны. При этом на конференциях в социалистических странах мы продолжали активно общаться со всем стрептомицетным сообществом. Кит Четер за это время несколько раз приезжал в Москву, встречались с ним и на конференциях в ГДР. В лаборатории доктора Ноака в ГДР двое сотрудников Ганс Крюгель и Зигфрид Клаус тоже начали работать с актинофагом, но не с phiC31, а с SH10 и часто приезжали в Москву. С. Гансом мы до сих пор переписываемся и встречались с ним и его дочерью Анастасией, когда он приезжал в Мэдисон по пути на конференцию в Канаду. Возвращались из Шеффилда с приключениями. Ночевали одну ночь в Лондоне в районе Гайд парка. Лондон, конечно не видели, хотя очень хотелось. Рано утром на следующий день отправились на посольском автобусе в аэропорт Хитроу. Мы уже волновались, что автобус пришел за нами с большим опозданием, но водитель нас успокаивал. В результате больше двух часов простояли в пробке и видели как наш самолет поднялся без нас. Денег на отель не было. Посольству пришлось с большим неудовольствием оплатить отель. Это дало нам возможность провести еще половину дня в Лондоне. На следующий день нас с большим трудом отправляли в Москву на разных самолетах. Некоторые мужчины из нашей делегации, несмотря на присутствие женщин, очень хотели попасть на ближайший рейс. Я всегда обращала внимание, что за границей, а может быть, просто при более близком общении, сразу открывался характер человека. Отвлекусь поневоле от любимых актиномицетов и актинофагов. В том же 1974 году над нашей лабораторией вдруг неожиданно нависла угроза полной смены актиномицетной тематики. Очень большой завод в Казахстане, сотрудники которого жили в закрытом городе, фактически остановился. Завод выпускал энтеробактерин — экологически чистый препарат против насекомых-вредителей, состоящий из спор бактерии Bacillus thuringiensis. Споры распыляли над полями и они, прорастая в насекомых-вредителях, вызывали их гибель. Гигантские ферментеры на заводе подверглись инфекции фагом, и завод не мог выпускать свою продукцию. Необходимо было срочно получить бациллу, устойчивую к фаговой инфекции, да еще чтобы у нее была такая же продуктивность, как и у исходного фагочувствительного штамма. Последняя задача была особенно сложной. Характер Соса Исааковича к тому времени сильно изменился. Власть и большая ответственность, наверное, всегда связаны с появлением диктаторских черт в характере личности. Он настаивал, чтобы все силы нашей лаборатории были брошены на работы по получению этой фагоустойчивой бациллы. Это означало полное прекращение работ с актинофагами и актиномицетами в период их интенсивного развития. Когда он заведовал лабораторией, он иногда ставил перед сотрудниками задачи, которые казались им трудновыполнимыми. При этом, если у них появлялись результаты в другом направлении, он не настаивал на своем. В результате усилиями двух сотрудников лаборатории В. И. Звенигородского и И. Изаксон получили фагоустойчивый штамм, и весной 1975 года я поехала на завод, чтобы попытаться внедрить его в производство. При этом я всерьез подумывала, что после возвращения из командировки, буду пытаться найти работу в другом институте. Летела на самолете до Петропавловска, от которого нужно было много километров еще добираться до завода на машине. Никто не встретил. Только к вечеру появился шофер на Виллисе, и мы поехали ночью по степи без всякой дороги. Был такой сильный туман, что даже на расстоянии метра не было видно ни зги. Было совершенно непонятно, как шофер ориентировался в этом бездорожье и тумане. Остановилась в хорошей гостинице закрытого города. Таких городов было много в ту пору. Завод, действительно, был очень большим. Работали там квалифицированные инженеры и микробиологи. Стали проводить пробные ферментации с нашей бациллой. Она действительно была устойчивой к фагу в производственных условиях, но не дотягивала по продуктивности до исходного фагочувствительного штамма. На завод постоянно сверху спускали повышенные планы по производству продукции. В дальнейшем завод при появлении фаговой инфекции переходил на работу с нашим штаммом, освобождающим ферментеры от фага, и потом опять использовал исходный фагочувствительный штамм. Удивительно, что в те далекие времена нам почему-то не приходило в голову провести работу по селекции на повышение продуктивности полученных нами устойчивых к фагам штаммов. В этой работе всегда была большая спешка, потому что останавливались целые заводы, охваченные фаговой инфекцией. Но всё равно я считаю это нашей большой ошибкой. Можно было, отправив на завод фагоустойчивый штамм с низкой продуктивностью, продолжать работу по селекции на повышение продуктивности такого штамма. Но прошлого не воротишь. Помню, что этот завод так и не заплатил нам за внедрение нового штамма, все другие заводы тоже, как правило, нам ничего не платили. Во время моего пребывания на заводе в Казахстане цвела степь. Зрелище совершенно фантастическое. Степь цветет в течение очень короткого периода весной, потом все выгорает. Только энергия Соса Исааковича позволяла нашим селекционерам, постоянно внедряющим на заводы новые штаммы с более высокой продуктивностью антибиотиков, получать авторские гонорары. Правда, один из заводов в г. Берске близ Новосибирского Академгородка все-таки выплатил нам по тем временам значительную сумму за внедрение фагоустойчивого штамма, образующего энтобактерин. Полученный мной единственный раз гонорар мы потратили на свадьбу нашей дочки Оли и на покупку её отцу Лёне нового костюма. В маленьком, совершенно изолированном от внешнего мира закрытом городе было много по тем временам дефицитных товаров, и я жалела, что у меня с собой не было денег. За несколько дней до моего возвращения из командировки позвонил из Москвы Лёня и через В. И. Звенигородского передал, что Алиханян больше не директор нашего института. Это было как гром с ясного неба и звучало почти так же, как впоследствии известие о снятии М. С. Горбачева с должности руководителя нашего государства. Причины снятия Соса Исааковича с поста директора института так и остались нам не известными. Он продолжал работать в институте в качестве заведующего большим отделом и оставался Председателем Учёного Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций вплоть до своей кончины в 1985 году. Чувствовалось, что он очень переживал все это время, считал, что остался не у дел и не было выхода его необыкновенной энергии. В то же время его отдел, как и весь институт, основанный им, продолжали продуктивно работать. Симпозиум по генетике промышленных микроорганизмов. Армения, Цехкадзор, 1973. Актиномицетная команда: Кит Четер (Англия) крайний слева; рядом с ним Боронин, А. М. (СССР), в будущем член-корр РАН; Зденек Гоштялек (Чехословакия) третий слева; в центре Джузеппе Сермонти (Италия), внесший первым значительный вклад в изучение актиномицетов; затем Мацелюх, Б. П. и Ломовская, Н. Д., генетики актиномицетов из Киева и Мосвы; крайний справа заведующий лабораторией по генетике актиномицетов из Восточной Германии Д. Ноак.
Симпозиум по генетике промышленных микроорганизмов. Армения, Цехкадзор, 1973. Актиномицетная команда: Кит Четер (Англия) крайний слева; рядом с ним Боронин, А. М. (СССР), в будущем член-корр РАН; Зденек Гоштялек (Чехословакия) третий слева; в центре Джузеппе Сермонти (Италия), внесший первым значительный вклад в изучение актиномицетов; затем Мацелюх, Б. П. и Ломовская, Н. Д., генетики актиномицетов из Киева и Мосвы; крайний справа заведующий лабораторией по генетике актиномицетов из Восточной Германии Д. Ноак.
Глава 17 Наши будни и тяжёлая утрата в нашей семье
В 1975 году вышла замуж Лёнина сестра Мирочка. Лёня организовал свадебную церемонию. По совету ее мужа Ефима поехали отдыхать в г. Немиров на Украине, где он родился. Лёня поехал в отпуск после сильного бронхита. В общем, отдых не очень удался. Олечка, окончив восьмилетку по соседству с домом, поступила в новую школу с биологическим уклоном на Ломоносовском проспекте. Уровень учеников и учителей в этой школе сильно отличался от уровня в ее предыдущей школе. Там, учась хорошо, ей удавалось все домашние задания делать во время уроков, а дома только читать и играть на гитаре. Играть она научилась очень хорошо, пела много бардовских песен, ее исполнение пользовалось большой популярностью вплоть до отъезда в Америку. В новой школе ей пришлось в течение пары месяцев непрерывной работы догонять своих новых одноклассников. Тут мы почувствовали, как много значит школьное окружение. Лёня почти каждый вечер ходил встречать ее на автобусную остановку, чтобы она не шла домой одна. Нашим друзьям Фрейзонам в школьные годы наша дочка запомнилась играющей в футбол с мальчишками. В 1975 году у Миры родилась дочка Наташа. Жили они все вместе с Лёниными родителями в крошечной квартире в Черемушках. В начале 1976 года скончалась Лёнина мама, Анна Абрамовна Фонштейн, в возрасте 72 лет в результате тяжелого осложнения после перенесенного ею гепатита. Она очень любила своих детей Лёню и Миру, и они платили ей тем же. Лёня и Мира так же сильно были привязаны друг к другу. Как-то Мира по телефону из Москвы в Америку рассказала, что Наташе, её дочке, приснился ее дедушка и Лёнин отец в течение многих лет Израиль Иосифович, который просил передать Лёне и Мире, что они с мамой их очень любят. Миру и ее семью мы вызвали в Америку, и они с Наташей получили американское гражданство. Но сейчас они живут в Москве. Ефим работал начальником большого строительного треста, а Мирочка каждый годнавещала нас с Лёней, Олей и Аней, нашей внучкой, а теперь навещает только женщин нашей семьи. Вот и сейчас мы ждем ее приезда. На дворе середина 2016 года, почти два года, как с нами нет Лёни. Я уже описала, как мы провели наш отпуск с друзьями в 1976 году в краткой биографии Лёни, подготовленной ко дню его 80-летия в 2012 году. Привожу этот текст. Поехали целой компанией с семьей Юры Дьякова, Ниной Фонштейн с сыном Мишей, который скоро станет мужем Олечки, на турбазу в 30 км от Боровичей в край непуганых птиц. Вскоре к нам присоединился из Ленинграда Марк Левитин с женой Ирой и собакой Чарли. Их поселили в отдельный дом с пианино. Марк играл, а собака ему подпевала. Жили мы в добротных деревянных срубах. Кормили нас очень хорошо. На этой турбазе мы познакомились и подружились на всю оставшуюся жизнь с Владиком и Инной Фишманами. Они и их дети уже долгие годы живут в Америке, обзавелись большим числом внуков. Очень печально сознавать, что Инна скончалась в 2013 году после продолжительной борьбы с раком. Мы с Лёней, Олей и двумя Юриными детьми Машей и Максимом отправились вместе с группой других туристов в трехдневный поход по системе озер. Из озера в озеро лодки тащили на себе. Оказалось, что сухой паек на три дня староста группы взял водкой. Она кончилась к вечеру 1-ого дня и мужики (в основном представители научно-технической интеллигенции) поехали на лодке в деревню пополнять ее запас. Я была в смятении. С нами были дети. Но все было тихо и мирно. На следующий день съели два ведра белых грибов в собственном соку, приготовленных Инной Фишман. За этот поход каждый из нас в торжественной обстановке получил значок водного туриста СССР. Это была, пожалуй, единственная Лёнина государственная награда, не считая медали выставки ВДНХ, полученной за районирование сортов зерновых на целине. Возвращались в Москву, беря поезд штурмом, как во время эвакуации. Поезд Москва — Ленинград стоял на станции 1 минуту. Все мы были нагружены к тому же бидонами с перекрученной с сахаром малиной. Хочу еще вспомнить отпуск на Украине под Чернобылем. Там тогда только начиналось строительство Чернобыльской атомной станции. Посоветовала поехать туда Лёнина двоюродная сестра Нэлла, которая в качестве начальника почвенной экспедиции объехала всю Украину. (Сейчас она уже много лет живет с семьей дочери в США, в городе Спрингфилде, штат Иллинойс.) Рукой было подать до очень живописной и полноводной реки Сула. Обедать ходили в хорошую столовую для строителей атомной станции. Однажды наловили в местном пруду на удочки целое ведро карасей. Они хватали крючок без всякой наживки. Хватило всем соседям, нам и соседским кошкам. Навсегда запомнились украинские ночи с необыкновенной луной. При сравнении луны на разных континентах она всегда проигрывала украинской. Помню, что я там однажды заметила, что поехать отдыхать в Чернобыль мы уже никогда не сможем. Так и случилось. Свадьба Лёниной сестры Миры и Ефима Грингруза, молодожёны пятая и шестой слева. Все присутствующие, к сожалению, не уместились на этой фотографии.
Свадьба Лёниной сестры Миры и Ефима Грингруза, молодожёны пятая и шестой слева. Все присутствующие, к сожалению, не уместились на этой фотографии.
Глава 18 Полная событий в научной и личной жизни
В 1976 году я была занята написанием докторской диссертации. В лаборатории были защищены к этому времени, по крайней мере, пять кандидатских диссертаций: Н. Л. Гостимской, Т. А. Чиненовой, Л. К. Емельяновой, Т. А. Воейковой, М. М. Найденовой. Интенсивно работали с актинофагом phiC31 в эти годы также Н. М. Мкртумян, В. И. Звенигородский. Вскоре В. И. Звенигородский перешел в лабораторию В. Г. Жданова. В первые годы после прихода в нашу лабораторию с фагом работал и В. Н. Даниленко. К написанию докторской диссертации я относилась очень серьезно и, как мне казалось, привела там много новых объяснений и гипотез при анализе полученных многолетних результатов. Думаю, что ее никто не читал, кроме оппонентов, хотя в нее было вложено много труда. Правда, как правило, любой труд даром не пропадает, хотя сейчас я почему-то в этом сомневаюсь. Тогда казалось, что вот достигну потолка и можно будет расслабиться и почивать на лаврах. Ничего подобного, всё равно каждый день и после защиты надо было доказывать, что ты не верблюд. Главным образом, на основе этой диссертации мы совместно с Китом Четером и Норой Мкртумян написали большой обзор по генетике и молекулярной биологии актинофагов, опубликованный в 1980 году в американском журнале Microbiological Reviews, 1980, 44, 206–229. Этот обзор в дальнейшем цитировали в большом числе статей. Недавно в интернете увидела, что моя кандидатская диссертация продается. Забыла, по какой цене. Кажется, очень дешево. Докторскую диссертацию «Генетическое изучение актинофагов и их взаимоотношений с актиномицетами» в конце 1976 года я защищала на докторском совете в нашем институте. Моими оппонентами были Д. М. Гольдфагб и Лев Владимирович Калакуцкий, которого я тоже хорошо знала как коллегу по изучению актиномицетов. Он является крупным специалистом в области систематики, изменчивости и экологии актиномицетов. Третьим оппонентом был Борис Николаевич Ильяшенко, хорошо известный своими работами по бактериофагам. Не помню, сделали ли оппоненты существенные замечания. До эры борьбы с алкоголизмом было еще далеко. Отмечали дома. Сначала в узком кругу, потом с лабораторией, потом с друзьями. Юра Винецкий жарил уток. Мама подарила мне красивое кольцо с бриллиантом, которое я очень любила. Я уже давно подарила его Оле. Наша дочь, в отличие от меня в её возрасте, имела уже чёткое призвание стать молекулярным биологом и собиралась поступать на биолого-почвенный факультет МГУ. 1977 год. Государственный антисемитизм никто ещё не отменял, а Оля носила по обоюдной глупости её родителей фамилию Фонштейн. Сменить фамилию на Ломовскую можно было только в 18 лет, то-есть, через год. Мы волновались. Последний год в школе она много занималась, по математике даже брали репетитора. Конечно, среди наших знакомых на факультете было много влиятельных фигур, просил за Олю и Лев Арамович Пирузян. По математике ей всё равно поставили тройку. По остальным предметам были пятёрки, и наша дочь Ольга Фонштейн поступила на биофак. Через пару лет, у нас дома после защиты Лёней докторской диссертации Оля отблагодарила Льва Арамовича, приготовив еду, которая пришлась ему по вкусу. В качестве подарка за поступление в университет по глупости поехали на Кавказ покорять Клухорский перевал. Нас уверяли, что это будет совсем легкая прогулка по горной дороге, построенной немцами еще во время войны. Предложила нам поехать туда Лёнина двоюродная сестра Нина, которая сама поехать не смогла. Мы, дураки, поехали впятером, мы с Олей и Нинин муж Юра с сыном Мишей, который уже год назад тоже поступил на биофак МГУ, по-моему, без всякого блата. Несколько дней жили в Домбае, базе альпинистов. Лёня, как я его ни уговаривала, даже не пытался немного потренироваться перед предстоящим нам походом. Присоединились к группе туристов. Мы были нагружены вещами, а группа шла налегке, планируя пройти весь путь за один день. Отстали сразу же. Никто на нас даже не оглянулся. По дороге наверх постепенно освобождались от консервных банок с кабачковой икрой. Поднявшись почти на самый верх, заблудились, но зато увидели прекрасный водопад. Наверху был ледник, который требовал хотя бы минимального альпинистского оборудования. Оля и Миша легко прошли его с вещами, а мы не могли дальше сдвинуться с места. Сидели, ругали Нину, которая нас втравила в эту поездку. Лёня говорил, что если пройдем ледник будет весь оставшийся отпуск пить. Так и случилось. Шучу. Пришлось детям возвращаться и взять наши вещи. Вначале мы тоже планировали добраться до Южного приюта за один день, но пришлось заночевать в пристанище местных пастухов. Бог миловал, что в горах не было дождя. Долгий спуск оказался не менее трудным, чем подъем. Тут запаниковала я, т. к. узкая тропинка во многих местах шла по самому краю пропасти, а я боялась высоты. Тут уже Лёня меня успокаивал и страховал. Правда, таких красот мы, наверное, никогда больше не видели ни до, ни после этой поездки. Прошли все растительные зоны от ледников до субтропиков. Спускались в долины и думали, что уже пришли, а внизу еще было множество таких же долин. Ночевали в Южном приюте на постелях с грязным бельем. Нарзан пили из ведра. На утро на старом дребезжавшем автобусе поехали к морю в Пицунду. Дорога вилась над пропастью. В окно смотреть не могли. Доехали, сняли большую комнату, перегороженную занавесками; на пляже целыми днями играли в покер. Миша обижался, что обыгрывали Юру. Завтракали и обедали в подпольной столовой у тети Нади. Пароль дала Нина. Потом встречали знакомых, тоже пользующихся этой столовой. Еда была очень вкусной, особенно на фоне полного отсутствия продуктов в магазинах. Одновременно там питалось человек 30. Ели сколько хотели, но запрещалось выносить еду с собой. Осенью 1977 года в Ереване в Армении была организована советско-американская конференция по генетике бацилл и актиномицетов в рамках недавно заключенного соглашения между США и СССР по микробному синтезу биологически активных веществ. Американскую делегацию возглавлял очень крупный ученый в области молекулярной биологии Джеймс Шапиро. В составе делегации был и Арнольд Демейн, выдающийся физиолог и биохимик, прекрасно разбирающийся и в проблемах генетики актиномицетов. Он приехал на конференцию с женой и дочерью, высокими, красивыми американками. Правда, их прически были похожи на наши шестимесячные завивки. В то время Европа лидировала в области генетики актиномицетов, и американцы стали внимательно следить за этими исследованиями, в том числе и за работами, проводившимися в Советском Союзе. Американским ученым с гордостью показывали достопримечательности Армении, архитектурные памятники, библиотеки с древними рукописями. Ездили на озеро Севан и ели там жареного сига. Его завезли на Севан из озера Байкал, он оказался хищником и съел всю севанскую форель, но был тоже очень вкусным. Вечерами любовались, как Демейн танцевал со своей женой. Таких традиционных американских танцев нам еще видеть не приходилось. В конце Джеймс Шапиро со скрытым юмором заметил, что Армения, наверное, самая знаменитая республика в СССР, а, может быть, и во всем мире. Вернувшись в Америку Демейн уговорил своего друга, профессора Эдварда Каца, послать к нам в лабораторию на годичную стажировку своего бывшего аспиранта Тома Труста, и летом 1978 года Том Труст приехал к нам в институт. 1978 год был полон событиями. Нам через десять лет после переезда в Беляево в результате долгих хлопот, наконец, поставили телефон. Жизнь совершенно изменилась. Мы сделали хороший ремонт в нашей квартире. В этом году я получила приглашение принять участие в качестве докладчика в 3-м Международном симпозиуме по генетике промышленных микроорганизмов (GIM 78), который должен был состояться в Америке, в г. Мэдисоне, штат Висконсин. Но моя поездка по неизвестным мне причинам не состоялась. Мой доклад, однако, был опубликован в трудах симпозиума в 1979 году. Вдруг в начале лета 1978 года Олечка нам объявила, что она выходит замуж за Мишу Фонштейна, своего троюродного брата, и ждет от него ребенка. Я была довольна, т. к. очень жалела, что мы в свое время не завели своего, а тут, пожалуйста, ребенок, и к тому же его и рожать не надо. Олины документы с просьбой сменить фамилию Фонштейн на Ломовскую еще лежали в Загсе, а она вдруг подает заявление в тот же Загс с просьбой зарегистрировать ее брак с Михаилом Фонштейном. Лёне долго пришлось объяснять сотрудникам Загса желание невесты остаться Ломовской. Так наша дочь и осталась Ломовской. Свадьбу сыграли в начале лета. Гостей собрали в ресторане «София» на площади Маяковского. Мы любили там фирменное блюдо этого ресторана — рагу из барашка. Были, в основном, родственники со стороны Фонштейнов и университетские друзья Оли и Миши. В середине вечера эта «фронда» поднялась и начала петь израильский гимн. Взрослые были в панике. Гимн допели до конца. Все прошло без последствий. Миша сказал, что будет любить Олю до самой березки. Я поверила. Ближе к осени в Москве в 1978 году состоялся 14-ый Международный Генетический конгресс. Долгих 40 лет его ждали отечественные генетики. Многие не дождались. Съехалось много знаменитостей, в том числе и из Америки. Наверное, было не менее двух тысяч его участников. Заседания проходили, в основном, в Главном здании Московского университета. Часто на заседания мы ходили вместе с Олечкой, одетой в моё платье. В свои она уже не помещалась. Приехали и европейские коллеги-актиномицетчики, в их числе и Кит Четер. С ним мы обсуждали детали готовящегося к печати совместного обзора по генетике и молекулярной биологии бактериофагов Streptomyces. Обзор был опубликован в американском журнале Microbiological Review, 1980, vol. 44, p. 206–229. Его соавторами были Ломовская Н. Д. и Мкртумян Н. М. (Lomovskaya N., Chater K., Mkrtumian N.). Заключительное заседание съезда проходило в кремлевском дворце съездов. После заседания состоялся грандиозный банкет. Помню сидящего в кресле Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского, поздороваться с которым выстроилась большая очередь из иностранцев. На следующий день вся наша актиномицетная компания поехала на экскурсию в бывшую усадьбу Голициных, а впоследствии Юсупова, Архангельское. Кто ее организовал, не помню. Провели там целый день, утомились и проголодались. Вечером добрели до ресторана. Там в отдельном кабинете нас ждал роскошный стол с блюдами русской национальной кухни. Кто за это все платил, не помню. Ели, пили, много танцевали. Злые языки потом говорили, что Кит Четер даже опоздал на утренний самолет домой в Англию. В это время Том Труст уже приехал в Москву из Вашингтона и стал работать в нашей лаборатории. Решили, что он присоединится к исследованию, начатому Валерием Даниленко, по идентификации генетических признаков плазмиды SCP2, изолированной из штамма Streptomyces coelicolor A3(2) в лаборатории Д. А. Хопвуда. Том нам всем очень нравился, работал четко, ни на что не жаловался, несмотря на то, что, наверное, вся обстановка была для него более, чем необычной. Жил он в маленькой тесной комнатке в гостинице на Мичуринском проспекте, часто, как и все мы, ходил пешком по грязной дороге в институт в больших ботах, надетых на ботинки. Его семья была родом из Эстонии, но он всегда твердо говорил, что он не эстонец., а американец. Зима 1978 года была очень суровой и холодной. В самые холодные дни под Новый 1979 год он поехал в Эстонию навестить своих родственников. Когда я приглашала его в гости к себе домой, там обязательно должен был присутствовать кто-то из официальных лиц. Жили мы с ним по соседству. Добираться до работы и обратно надо было с пересадками на трех троллейбусах. Часто после работы брали такси у метро Варшавская, доезжали до моего дома, я расплачивалась и давала ему еще один рубль, и он на этой же машине ехал к себе домой. Такси тогда еще стоили дешево. Денег, наверное, у него было немного. Довольно часто он ездил в Американское посольство на Садовой, рассказывал, что оно обставлено старинной и очень красивой мебелью. Мне иногда казалось, что вернувшись в Америку, он напишет свои впечатления о жизни в Москве. Но он, слава богу, ничего не написал, и я ему была очень благодарна. Как-то он мне вскользь упомянул, что все, что он слышит здесь по радио, наверное, вещание на заграницу, т. к. русского языка он не знал, — сплошная пропаганда. Да, еще он рассказывал, что его мать — очень опытный врач, постоянно повышает свою квалификацию, следит за научными открытиями в своей области. Единственное, что меня очень утомляло во время его пребывания, это постоянное ощущение слежки. Как ни странно, после общения с ним в течение целого года мой разговорный английский почти не улучшился, т. к. общение, в основном, касалось научных проблем. В конце его годового визита мы написали большую статью, и она была опубликована в американском журнале Journal of Bacteriology, 1979, v. 140: 359–368.Соавторами статьи были Т. Р. Труст, В. Н. Даниленко и Н. Д. Ломовская. Был материал и для второй статьи, и ее даже написали, но решили, что надо еще кое-что проверить и не стали посылать для публикации. В моей памяти и в памяти сотрудников нашей лаборатории Том остался как прекрасный человек и опытный и удачливый экспериментатор. Когда я приехала в Америку в 1991 году, Арнольд Демейн организовал мне турне с лекциями в ряде американских университетов и фармакологических фирм. В. Вашингтоне меня встречал Эдвард Кац, бывший руководитель Тома Труста. После моей лекции в университете, в котором он работал, он, ничего не говоря, привез меня в дом Тома Труста. Оказалось, что Том практически сразу после приезда из Москвы полностью сменил свою специальность, получив медицинское образование. Он стал крупным хирургом-отолярингологом, имел уже очень симпатичную жену и троих детей. Мы прекрасно провели время в его доме с коллегами из лаборатории Эдварда Каца. Так я еще раз повидалась с Томом Трустом. С. Эдвардом Кацем переписывались, когда уже приехали в Америку, и вдруг я получаю письмо от его жены Ольги, что он неожиданно скончался от сердечного приступа. Ушел из жизни прекрасный, доброжелательный человек, известный ученый и педагог. Как-то не очень давно мне рассказала Оля, что сын А. А. Нейфаха и Елены Лазовской, близкой Олиной подруги, Илья должен был оперироваться у отоляринголога. Жил и работал в то время Илья в Вашингтоне. Когда он пришел на консультацию к хирургу, первое, что тот у него спросил, не знает ли он Наташу Ломовскую. Хирургом оказался Том Труст. Илья сказал, что знает, но больше знаком с Ольгой Ломовской. Том сказал, что он знает и Ольгу. Я чувствую свою вину перед Томом в том, что столько лет не давала о себе знать в суматохе вживания в новую жизнь и даже не уверена, что он знает, что мы уже давно живем в Америке. Мне представляется, что у него остались незабываемые впечатления о времени, проведенном им в Москве почти 40 лет тому назад. Вот какие в жизни бывают приятные неожиданности. За всю жизнь их, может быть, можно на пальцах пересчитать. Я сразу же написала Тому большое письмо. Он мне ответил, написал о себе и своей семье, вспомнил о нашей последней встрече в его доме в Вашингтоне, пригласил в гости в случае, если я окажусь поблизости. Вернусь в 1978 год. Моя мама с присущим ей талантом уже несколько лет как поменяла квартиру на Филях на большую квартиру на Молодежной улице около метро Университет с видом на главное здание МГУ и университетские часы. На работу на биофак даже иногда ходила пешком. В 1978 году, по состоянию здоровья, ей пришлось уйти на пенсию, о чем она очень жалела всю оставшуюся ей жизнь. В ожидании Олиного ребенка она героически предложила нам с молодой семьей въехать в их большую квартиру, а самой с папой поехать жить к нам в Беляево. Мы, конечно, согласились и, как обычно, перевезли их с квартиры на квартиру. Лёня был почти профессиональным организатором всех наших переездов. Прожили они в Беляево недолго. Мама выменяла нашу маленькую трехкомнатную квартиру в Беляево путем сложного многоступенчатого обмена на прекрасную большую двухкомнатную квартиру в соседнем с нами доме по Молодежной улице, на которую смотрели окна нашей спальни. Так мы стали жить совсем по соседству. 9 ноября 1978 года у Оли с Мишей родилась дочка. Назвали Анной в память Олиной и Мишиной бабушек. Обеих звали Аннами. Нам это имя очень нравилось. Три года жили все вместе. Оля взяла академический отпуск в университете, быстро научилась готовить, часто кормила всю семью, хотя это было совсем не просто. По вечерам Оля с Мишей всегда уходили, говоря нам: «ну вы же все равно сидите дома». Я с Анечкой много гуляла по субботам и воскресеньям, и она стала громко называть меня бабой. Мне было только 43 года, и Оля научила ее звать бабушку и дедушку «Татик» и «Лёник». Так мы с Лёней и остались для Ани и Оли под этими смешными именами. Оля серьезно тренировалась в университетской команде по бадминтону, и тренер предлагал ей подумать о спортивной карьере, но она, поразмыслив, выбрала все-таки научную. В 1979 году, отсидев положенное с Аней время на подмосковной даче, мы с Лёней достали по блату путевки в дом отдыха завода им. Хруничева на Рижском взморье. Отдохнули прекрасно, купались в бассейне с минеральной водой. В самом конце 1979 года Лёня защитил докторскую диссертацию, чем окончательно завоевал уважение своей тёщи. Защита проходила в нашем институте, т. к. среди тестов на безопасность лекарств значительное место составляли тесты на микробах в качестве первичной оценки наличия или отсутствия у них мутагенной активности. Чудом у нас сохранился автореферат его диссертации, и поэтому я знаю ее название: «Исследование мутагенного действия лекарственных препаратов и других биологически активных соединений с помощью микробных тест-систем». Работа заведующего отделом безопасности лекарств была очень напряженной и ответственной. Ошибки совсем не допускались, т. к. речь шла об их влиянии на здоровье людей. У Лёни было довольно много недоброжелателей, как среди крупных ученых, претендующих на главную роль в области этого важного в теоретическом и прикладном плане направления исследований, так и среди авторов лекарств, которые не получили положительной оценки на безопасность. В отделе оценки безопасности лекарств в институте Л. А. Пирузяна, которым заведовал Лёня, были сосредоточены крупные силы по комплексной оценке безопасности лекарств. Отдел состоял из семи больших лабораторий. В это время были выпущены методические указания по оценке безопасности лекарств, которые до сих пор используются и цитируются учеными в России, работающими в этом направлении. На защиту приехал Л. А. Пирузян. Оппонентами у Лёни были С. Г. Инге-Вечтомов, А. С. Кривицкий и Г. Д. Засухина. Ленинградские генетики во главе с С. Г. Инге-Вечтомовым всегда поддерживали Лёню и давали высокую оценку его работам. Защита прошла успешно. Черных шаров никто не бросил. Коллег и друзей собрали, как всегда, у нас дома в 1-ый день 1980 года. Всем объявили, что будут только легкие вина и фрукты, т. к. все наверняка переели и перепили накануне при встрече Нового года. Столы, полные еды, накрыли в самой большой комнате нашей квартиры и плотно закрыли дверь. В столовой действительно выставили вина и фрукты. Шутка была не новая, но все купились и через короткое время поскучнели. Мы не стали долго испытывать терпение наших дорогих гостей, и все с большим удовольствием сели за нарядный банкетный стол. Одна из редких фотографий Н. Д. Ломовской, сделанных на работе в институте ВНИИ генетика с 1968 по 1992 годы.
Одна из редких фотографий Н. Д. Ломовской, сделанных на работе в институте ВНИИ генетика с 1968 по 1992 годы.
 Генетический конгресс в Москве 1978 г. В центре Э. С. Пирузян, справа Н. Д. Ломовская.
Генетический конгресс в Москве 1978 г. В центре Э. С. Пирузян, справа Н. Д. Ломовская.
Глава 19 Итоги работы сотрудников лаборатории актиномицетов и актинофагов
Теперь мне хотелось бы, по возможности кратко, подвести итоги продолжавшихся почти четверть века исследований во время моей работы в лаборатории генетики актиномицетов и актинофагов, а также вспомнить сотрудников, в то время работающих в нашей лаборатории. Стремительно развивающаяся генетика и молекулярная биология бактерий уже продемонстрировала, какую важную роль играют бактериофаги (главным образом, умеренные) в изучении модельных бактериальных штаммов, таких, например, как E.coli, Salmonella thyphimurium и другие. При этом совершенно необходимым этапом являлось генетическое изучение самих бактериофагов, о котором уже были опубликованы большие обзоры и целые книги. Актинофаг phiC31 мог бы сыграть такую же важную роль в изучении актиномицетов, образующих большинство используемых в медицине и ветеринарии антибиотиков. Как я уже упоминала, результаты по генетическому изучению актинофага phiC31 и первичному изучению его ДНК были подробно описаны в большом обзоре «Genetics and Molecular Biology of Streptomyces bacteriophages» («Генетика и молекулярная биология Streptomyces бактериофагов»), опубликованном в американском журнале Microbiological Reviews, June 1980, p. 206–229. Авторами обзора были Н. Д. Ломовская, К. Ф. Четер и Н. М. Мкртумян. В этот обзор вошли данные по генетическому изучению и физической характеристике генома актинофага phiC31, полученные в нашей лаборатории в период между 1968 и 1979 годами. Первые данные по изоляции и изучению фага phiC31 были получены Норой Манвеловной Мкртумян, Натальей Львовной Гостимской и мной. Мы с Норой Манвеловной были первыми в нашей лаборатории и проработали вместе с 1968 по 1992 годы, вплоть до моего отъезда в Америку. В 70-ые годы она опубликовала не менее десятка работ, посвященных генетическому изучению актинофага phiC31. Нору в лаборатории все любили. Она создавала особый климат во взаимоотношениях между сотрудниками лаборатории. Кроме того, она была прекрасным профессиональным переводчиком с русского на английский, что было редкостью. Норины переводческие способности необычайно способствовали появлению наших статей в англоязычных журналах в Америке и Англии. Работать вместе с ней над ее переводами было одно удовольствие. Условием посылки статей за рубеж была их предварительная публикация сначала в отечественных журналах. Кроме того, статья должна была пройти через ряд экспертных комиссий как в институте, так и в министерстве. Поэтому публикация за рубежом требовала значительных усилий, и проходил большой срок от получения результатов до появления их в зарубежной печати. В какое-то время мы даже перестали посылать статьи за рубеж, и наши иностранные коллеги говорили с юмором, что собираются учить русский. Но не собрались. Почти одновременно с Норой в лабораторию пришли Н. Л. (Наташа) Гостимская и чуть позже Лидия Константиновна (Лида) Емельянова, Татьяна Александровна (Таня) Чиненова, Татьяна Александровна (Таня) Воейкова — все молодые выпускники Московского университета, а также дипломник кафедры генетики МГУ. Валерий Николаевич (Валерий) Даниленко. С ними со всеми мы проработали в лаборатории долгие годы. Правда, в современном послужном списке В. Н. Даниленко это не упоминается. Нашими первоочередными задачами по генетическому изучению фага phiC31 было получение количественных параметров инфекции чувствительных к актинофагу вариантов штамма Streptomyces coelicolor А(3)2 и индикаторного штамма S.lividans 66 в одноступенчатом цикле развития (ОЦР) фага, когда оценивается количество фаговых частиц, освобождающееся из каждой инфецированной клетки. Путь к получению количественных параметров процесса инфекции оказался достаточно тернистым. Получение количественных оценок в опытах ОЦР является основой всех генетических эеспериментов. Эта задача осложнялась несинхронным прорастанием спор актиномицетов, что затрудняло определение стадии развития актиномицетного штамма, чувствительной к фаговой инфекции. После преодоления ряда методических трудностей актинофаг phiC31 был охарактеризован в количественном отношении как умеренный фаг, способный к лизису и лизогенизации. Были оценены число фаговых частиц, образующихся при лизисе одной инфецированной прорастающей споры, частота лизогенизации чувствительных штаммов, параметры спонтанного и индуцированного образования фага лизогенными культурами (журн. Генетика, 1971, том 7, стр. 108–112 и J. Virology, 1972, v. 9: 258–262). Авторами первой статьи были Н. Д. Ломовская и Н. М. Мкртумян, а второй — мы же и соавторы, Н. Л. Гостимская и В. Н. Даниленко. Представляется, что прежде такие параметры процесса инфекции и образования фага лизогенными культурами не были известны ни для одного из изучаемых актинофагов. Наташей Гостимской и Таней Чинёновой в процессе получения и характеристики с-мутантов актинофага phiC31, не способных к поддержанию лизогенного состояния и образующих прозрачные бляшки в отличие от мутных, образуемых фагом дикого типа, были изолированы cts-мутанты, которые являлись с-мутантами только при высокой температуре. Лизогены, содержащие в качестве профага cts-мутант были использованы, в частности, как удобная модель для более точного определения стадии в развитии актиномицета, чувствительной к фаговой инфекции. Н. Л. Гостимской (теперь уже Н. Л. Новиковой) с соавторами О. Н. Капитоновой и Н. Д. Ломовской (ж. Микробиология, 1973, том 17, стр. 713–718) были осуществлены эксперименты по термоиндукции (краткая инкубация при высокой температуре) лизогенов, несущих в качестве профага cts-мутант, находящихся на разных стадиях развития. При этом происходило более синхронное образование фагового потомства, чем при инфекции фагом прорастающих спор. Эти эксперименты позволили показать, что продуктивная индукция фага у таких лизогенов происходит в спорах с короткими проростками. Эта же стадия оказалась чувствительной и к фаговой инфекции. Параллельно с этими работами шла серьёзная подготовка к осуществлению экспериментов по определению локализации профага на генетической карте штамма S.coelicolor А(3)2, которая была осуществлена Лидой Емельяновой. К этому времени мы уже имели генетически маркированные штаммы S.coelicolor А(3) 2, присланные нам Д. А. Хопвудом. Предварительно Норой Мкртумян были получены мутантыфага, отличающиеся по частоте лизогенизации и по морфологии негативных колоний. В скрещиваниях были использованы лизогенные генетически маркированные штаммы, несущие в качестве профагов эти мутанты. В начале работы необходимо было освоить методы скрещивания актиномицетных штаммов, что потребовало больших усилий. Не вдаваясь в значительные трудности и даже ошибки на этом пути, сайт интеграции профага в хромосому актиномицета был локализован между двумя соседними генами uraA1 и pheA1, расположенными на генетической карте штамма S.coelicolor А(3) 2 (J. Gen. Microbiol., 1973, v. 77: 455–460). Статья опубликована в соавторстве Н. Д. Ломовской, Л. К. Емельяновой, Н. М. Мкртумян и С. И. Алиханяна). Было также продемонстрировано явление зиготной индукции при скрещивании лизогенных и нелизогенных штаммов актиномицетов (Генетика, 1973, 9:103–110, статья в соавторстве Н. Д. Ломовской и Л. К. Емельяновой). Разработка методов получения количественных данных, характеризующих процесс инфекции актинофагом phiC31 чувствительного штамма S.lividans 66, позволяла приступить к подготовке экспериментов по построению генетической карты этого актинофага. Как правило, для картирования фаговых геномов получают большой набор условно-летальных мутантов, например, температурочувствительных мутантов (ts), которые образуются практически во всех генах, имеющихся в геноме фага. К нашему огорчению, сам фаг phiC31 оказался неспособен расти на высокой (37 °C) температуре и сам был ts-мутантом. Но довольно скоро удалось получить фаг, способный расти при 37 °C. Он и явился объектом всех дальнейших исследований. Вся эта работа, включая и построение генетической карты актинофага phiC31, в основном, выпала на долю Тани Чиненовой. Оглядываясь назад, нельзя переоценить тот вклад, который она внесла в изучение генома phiC31, построение его генетической карты. Пришлось разрабатывать специальные приемы для получения данных по комплементации (отнесения мутантов к одному или разным генам) и рекомбинации (расположению мутантов на генетической карте фага) в несинхронизированной по выходу фага системе. Статья, в которой были представлены данные по построению первой генетической карты актинофага phiC31 была опубликована в 1975 году в журнале Генетика, том 11, стр. 132–141. Соавторами этой статьи были Т. А. Чиненова и Н. Д. Ломовская. Все ts-мутанты и другие различные по фенотипу мутанты, за исключением одного, были расположены в линейном порядке по одну сторону от с-мутанта. Для дальнейшего генетического изучения структуры генома фага phiC31 необходимо было охарактеризовать его физически. Это было сделано Ириной Алексеевной Сладковой, нашей многолетней коллегой, физиком по образованию. В статье, опубликованной в журнале Генетика, т. 13, стр. 342–344, 1977 г. в соавторстве И. А. Сладковой, Н. Д. Ломовской и Т. А. Чиненовой, было показано, что геном актинофага phiC31, также как и геномы большого числа бактериофагов, представляет собой линейную молекулу дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), которая была детально охарактеризована и в двух последующих статьях И. А. Сладковой, опубликованных в журн. Молекулярная Биология, 1980, т. 14, стр. 1131–1136 и 1137–1141. В конце 1970-х годов мы попытались изолировать дополнительно фаги, действующие на штаммы S.coelicolor А(3)2 и S.lividans 66, из имеющейся у нас большой коллекции родственных штаммов актиномицетов, т. к. после обнаружения фага phiC31 мы не предпринимали таких попыток. Два лизогенных штамма были обнаружены Таней Чиненовой. Анализ строения ДНК фагов, образуемых этими лизогенными штаммами, проводился И. А. Сладковой, а их фенотипические и генетические признаки вместе с Таней изучали Лиля Васильченко, Нора Мкртумян, а впоследствии и Ольга Клочкова. Оба обнаруженные фага phiC62 и phiC43 по данным гетеро-дуплексного анализа оказались практически гомологичными фагу phiC31. Фаг phiC31 отличался от фага phiC62 только наличием небольшой делеции. Фаг phiC62 был идентичен фагу phiC31 и по всем проверенным фенотипическим признакам. А вот изучение фага phiC43 принесло нам много интересных фактов. Этот фаг тоже был практически гомологичен фагу phiC31, но имел в отличие от него чужеродную вставку в несущественной для литического развития фага области генома, которая была обнаружена с помощью гетеродуплексного анализа. Образованные в результате спонтанной индукции лизогенного штамма мутные негативные колонии phiC43 имели разную морфологию. Этот признак, как оказалось, отражал наличие у этих вариантов фага различий в структуре их ДНК. Кроме того, практически все они обладали важным фенотипическим признаком — отсутствием способности к лизогенизации чувствительных штаммов. Так мы впервые столкнулись с появлением актинофаговых мутантов, не способных к интеграции в хромосому актиномицета. Оказалось, что чужеродная вставка включалась в фаговый ген, контролирующий синтез фермента интегразы. (ж. Генетика, 1979, стр. 1953-62. Соавторы статьи И. А. Сладкова, Т. А. Чиненова, Н. Д. Ломовская и Н. М. Мкртумян). Конечно, мы сразу стали изучать возможность появления делеционных мутантов, образующихся в результате утраты фрагментов фагового генома среди вариантов фага phiC31, изолированных после обработки фага хелатирующими агентами, в том числе, и не способных к поддержанию и к установлению лизогенного состояния. Получение и характеристика большого набора делеционных мутантов фага phiC31, в том числе не способных к поддержанию лизогенного состояния с-мутантов и к установлению лизогенного состояния lyg-мутантов, стало настоящим подарком наших генетиков И. А. Сладковой, блестящему специалисту в области гетеродуплексного анализа ДНК. Первые полученные результаты по локализации делеционных мутантов на физической карте ДНК актинофага phiC31 были опубликованы в журн. Молекулярная Биология, 1980, том 14 стр. 918–915 и 916–921. Соавторами первой статьи были И. А. Сладкова, Л. Г. Васильченко, Н. Д. Ломовская и Н. М. Мкртумян, а второй — И. А. Сладкова, Т. А. Чиненова. Л. Г. Васильченко, Л. Б. Пельтс и Н. Д. Ломовская. Каким же урожайным на публикации статей по физическому и генетическому изучению фага phiC31 оказался 1980 год! Нашими генетиками в дальнейшем было получено и изучено генетически большое число делеционных мутантов актинофага phiC31, различающихся по фенотипам. Представители делеционных мутантов различного фенотипа были локализованы на генетической карте актинофага phiC31 (журн. Генетика, 1981, том 17, стр. 1967–1974, статья в соавторстве Л. Г. Васильченко, Н. М. Мкртумян и Н. Д. Ломовской). Это позволило установить соответствие генетических и физических карт этого актинофага и расположить на физической карте не только делеционные мутанты, но и температурочувствительные и другие мутанты этого фага. Гетеродуплексный анализ ряда делеционных мутантов фага позволил идентифицировать в геноме фага непрерывную, значительную по длине область фагового генома, не существенную для его литического развития. В этой области среди делеций были локализованы на молекуле ДНК и мутанты в гене, контролирующем синтез фермента интегразы. Идентификация такой несущественной для литического развития фага области его генома открывала большие возможности для конструирования на его основе фаговых векторов, в которых эта область могла быть замещена актиномицетными или другими генами. Неоспоримым преимуществом таких фаговых векторов перед векторами, полученными, например, на основе плазмидных геномов, являлось то, что гибридный фаг, полученный в модельной системе в результате трансфекции гибридной фаговой ДНК штамма S.lividans 66, мог с помощью простой инфекции доставлять чужеродные гены в другие штаммы актиномицетов для осуществления разнообразных задач, таких, например, как идентификация генов антибиотикообразования в штаммах-продуцентах, получения мутаций в этих генах, замены одних генов на другие в геноме актиномицетов и т. д. Итак, представляется, что в Москве были заложены фундаментальные основы для использования актинофага phiC31 в качестве объекта генной инженерии и конструирования на его основе фаговых векторов. Повторюсь, что начиная с 1977 года была выпущена серия работ по подробной характеристике молекулы ДНК фага phiC31, составляющей его геном. Кроме того, впервые для получения делеционных мутантов была использована обработка фага phi31 хелатирующими агентами. Полученные делеционные мутанты были подробно охарактеризованы и локализованы на физической и генетической картах актинофага phiC31, что позволило установить соответствие физической и генетической карт актинофага phiC31. Изучение фага phiC43, гомологичного фагу phiC31, несущего в составе своего генома чужеродную вставку, позволило сделать выводы о максимальной длине молекулы ДНК, которая может быть упакована в фаговую оболочку. Кроме того, в геноме актинофага phiC31 была идентифицирована значительная по длине непрерывная область, не существенная для литического развития актинофага, которую можно было замещать клонированными генами. В конце 70-х годов актиномицеты прочно завоёвывают свои позиции в качестве объектов генной инженерии в отделе Д. Хопвуда. Первой ласточкой оказалась работа по успешной трансформации плазмидной ДНК штамма S.lividans 66. Этот штамм был послан нами Д. А. Хопвуду в далеком 1970 году вместе с фагом phCi31 в качестве уникального чувствительного к этому фагу индикаторного штамма. В результате этот штамм оказался самым удобным реципиентным штаммом для введения в него изолированной плазмидной ДНК. Прошло ровно десять лет с тех пор, как актинофаг phiC31 был послан нами в отдел Д. Хопвуда. Имея в своем распоряжении наш богатый багаж генетического и физического изучения генома актинофага phiC31, Кит Четер, наконец, выбрал в качестве основы для конструирования фаговых векторных молекул актинофаг phiC31. Настоящим прорывом в решении задачи конструирования и использования фаговых векторов на основе фага phiC31 стала демонстрация трансфекции протопластов штамма S.lividans 66 с помощью изолированной ДНК этого актинофага. Это позволяло манипулировать с молекулой фаговой ДНК, а после трансфекции отбирать нужные жизнеспособные фаги, несущие в своем геноме чужеродные клонированные фрагменты. Эта работа была опубликована Д. Зуаресом и К. Четером в том же продуктивном на статьи по фагу phi31 1980 году (Zuares J. E. and Chater K. F., J. Bacteriol. v. 142: 8-14). После этого Кит Четер и его коллеги семимильными шагами начали конструировать фаговые векторы различного назначения на основе актинофага phiC31. Мы от этого тоже имели большие преимущества, так как Кит Четер присылал нам все свои фаговые конструкции в течение последующих лет. Помимо работ по генетическому изучению фага phiC31 как такового, в лаборатории интенсивно проводилось изучение взаимоотношений фага phiC31 и других актинофагов с актиномицетами. Ведущая роль тут принадлежала Тане Воейковой, которой, наряду с большой экспериментальной нагрузкой, вместе с Норой Мктрумян удавалось помогать мне руководить большой лабораторией. После моего отъезда из России руководство лабораторией перешло к Тане Воейковой, и я думаю, что подготовила себе неплохую замену, если эта лаборатория существует и по сей день, пройдя все сложности и перипетии постсоветского существования науки в России. (Нужно иметь ввиду, что я кончила писать эти мемуары уже довольно давно, в 1913 году.) Я про себя всегда считала Таню Воейкову везучим научным сотрудником. Ей, на первый взгляд, легко удавались сложные эксперименты. При этом она уделяла большое внимание своей семье, каждый год вся семья проводила отпуск в походах со сложными туристскими маршрутами. Таня начала с освоения скрещиваний между производными А(3)2 различной фертильности, потом разрабатывала методы получения межвидовых гибридов. Особенно продуктивной оказалось работа по получению отдаленных гибридов между штаммами S.coelicolor А(3)2 и S.griseus Kr.15-продуцентом антибиотика стрептотрицина (в общем употреблении «гризина») и изучению их свойств в отношении их чувствительности к фагам phiC31 и Pg81, действующим только на один из родительских штаммов. После завершения этой работы нам представлялось, что при необходимости мы можем получать гибриды между всеми штаммами актиномицетов рода Streptomyces, которые пожелаем скрестить, хотя эта работа требовала большой сноровки и специальных знаний. Получение гибридов, в частности, расширяло возможности изучения их взаимодействия с актинофагами, т. к. можно было, например, в данном случае, получать гибриды, образующие антибиотик гризин и устойчивые к фагам, лизирующими этот продуцент при промышленном производстве гризина. Статья, описывающая получение и свойства таких отдаленных гибридов была опубликована в журнале Генетика, 1976, том 12, стр. 106–113, а в 1977 г. в журнале Journal of General Microbiology, v. 98: 187–198. Соавторами в ней были Ломовская, Н. Д., Воейкова, Т. А. и Мкртумян, Н. М. В конце 70-х Таней Воейковой, Леной Славинской и Андреем Ореховым был начат цикл работ по идентификации у актиномицетов систем рестрикции и модификации с помощью актинофагов. Мне представлялось, что мы имели приоритет в этом направлении исследований, однако, в 1977 году мы опубликовали только тезисы на эту тему, а в 1978 году вышли одновременно наша статья по идентификации систем рестрикции и модификации у актиномицетов с помощью актинофагов и статья К. Четера с соавторами, описывающая выделение рестриктазы из штамма Streptomyces albus. Вернусь еще к одному аспекту изучения имеющейся у нас коллекции актиномицетов, которая была проверена на устойчивость к большому числу антибиотиков (соавторы В. Н. Даниленко, Г. Г. Пузынина. Н. Д. Ломовская). Работы были опубликованы только на русском языке. Было продемонстрировано,что каждый штамм из коллекции обладал множественной устойчивостью к большому числу антибиотиков. Порывшись сейчас в интернете, обнаружилось, что такой вывод был впервые высказан в этих работах. Кроме того, в полученных результатах нас привлекло то, что каждый штамм коллекции, без исключения, имел свою индивидуальную характеристику в отношении признаков чувствительности и устойчивости к антибиотикам по аналогии с неповторимыми отпечатками пальцев у человека. Помню, что в этих статьях были также представлены интересные статистические данные. В 70-ые и все последующие годы нас также интересовали проблемы генетической нестабильности многих признаков актиномицетов. Мы понимали, что дальше изучения генетических феноменов мы в то время еще двигаться не могли, но все же начали работы по картированию генетически нестабильных признаков на хромосоме штамма S.coelicolo-rA(3)2. Молодожены Оля и Миша Фонштейны на выходе из родильного дома с крошкой Анной на руках у отца.
Молодожены Оля и Миша Фонштейны на выходе из родильного дома с крошкой Анной на руках у отца.
 Такая спокойная милая наша девочка Анечка Ломовская, доченька Оли и Миши. Тут уж мы с Лёней подсуетились и Анечка стала Анной Ломовской как и пять прелыдущих поколений по женской линии в нашей семье.
Такая спокойная милая наша девочка Анечка Ломовская, доченька Оли и Миши. Тут уж мы с Лёней подсуетились и Анечка стала Анной Ломовской как и пять прелыдущих поколений по женской линии в нашей семье.
 Анечка Ломовская — взрослеем!
Анечка Ломовская — взрослеем!
Глава 20 События в начале 80-х годов прошлого столетия
Наступил 80-й год, год нового десятилетия очень интенсивной работы и больших испытаний, выпавших на долю нашей семьи. В 1983 году ушла из жизни Марианна Петровна Шаскольская, в 1985 году умерла моя мама Эмма Григорьевна Ломовская, в том же 1985 году умер папа Миры и отчим Лёни (а фактически его отец на протяжении многих лет жизни) Израиль Иосифович Семеновский, тяжело заболела наша внучка Анечка Ломовская, Лёня перенес две тяжелых операции и я одну. В 1984 году прекратил свое существование ВНИИ по БИХС, руководимый Львом Арамовичем Пирузяном. Леня после мытарств в полностью реорганизованном институте вернулся в Институт общей генетики АН СССР, свою Альма-матер. Ну, а теперь обо всем по порядку. После выхода в печать нашей статьи с Томом Трустом о новых свойствах плазмиды SCP2, которая была изолирована и изучалась в лаборатории Д. А. Хопвуда, В. Н. Даниленко пригласили в лабораторию Д. А. Хопвуда для обсуждения и подтверждения в эксперименте новых свойств плазмиды, а меня — для получения совместных данных по использованию методов генной инженерии в применении к фагу phiC31. Приглашение пришло в конце 1979 года. На меня, как я понимала, еще распространялся запрет на поездки в капиталистические страны. 1980 год был годом начала многолетней войны в Афганистане. Начало этой войны вызвало большие протесты за рубежом. Война не была популярна и в нашей стране. Многие страны объявили бойкот советским ученым, отменив их приглашения на зарубежные конференции и командировки в научные центры. Приглашение на двухмесячную работу мне и В. Даниленко в лаборатории Д. А. Хопвуда оставалось в силе. Наши инстанции, наверное, были довольны отсутствием бойкота и дали нам быстро разрешение на эту поездку. Так мы в феврале 1980 г. приехали в Англию в г. Норидж, в Ботанический институт Джона Иннеса. Институт был организован в начале 20-го века на деньги, завещанные Д. Иннесом, и в течение всего этого времени существует благодаря этому фонду и по правилам, обусловленным в завещании. Институт расположен за городом, поблизости от большого университета, в котором по совместительству преподают многие сотрудники института. При таможенном досмотре в Москве у Валерия изъяли деликатесы (икру, колбасы, водку). К большому огорчению таможенников Лёня, который нас провожал, забрал все себе. Мой чемодан с досады они почти и не досматривали, хотя я везла большую коллекцию штаммов актиномицетов и актинофагов, необходимую для совместных экспериментов. У меня, правда, было на них разрешение, но таможенники могли придраться. Валерий еще вез в подарок англичанам небольшой электрический самовар, который не отобрали. Этот самовар всем в отделе Д. Хопвуда очень понравился и много лет стоял там в общей комнате. Я тоже везла небольшие сувениры. Они пригодились, т. к. нас часто приглашали в гости, а идти с пустыми руками было неудобно. Рядом с институтом стоял уютный дом для гостей. Там нас и разместили. Больше никаких зданий вокруг не было. У меня была отдельная квартира со спальней и комнатой с телевизором, плавно переходящей в кухню с газовой плитой. Электрический чайник на кухне сам выключался, когда закипал. В. России мы таких еще не видели. Это было очень удобно. Погода в феврале, по сравнению с московской, была очень теплой, редко шли дожди и уже цвели крокусы. Первые ночи я долго не могла уснуть из-за абсолютной тишины вокруг. В открытое окно не доносилось ни одного звука. Это было непривычно для меня как коренной москвички. Каждое утро у двери лежала свежая газета. Мне казалось, что авторы всех статей были абсолютно уверены, что русские танки вот-вот войдут в Англию. Англичане, конечно, задавали мне вопросы на эту тему, и я отвечала, что мне думается, что у нашего правительства нет таких намерений. Здание института было одноэтажным, но очень большим по площади. Я до конца нашего там пребывания так и не могла в нем толком сориентироваться и про себя всегда смеялась, что вот разведчик из меня никогда бы не получился. Все мое внимание, в основном, концентрировалось на научных экспериментах. До этого я всегда была рассеянной. Например, никогда не запоминала названий переулков, окружающих Малую Бронную, плохо знала Москву, в которой жила всю жизнь. В здании института поддерживалась идеальная чистота, дети некоторых сотрудников помогали за небольшую плату убирать широкие коридоры. В коридорах везде висели картины с изображением разнообразных растений, все-таки институт был ботаническим. Как-то, когда мы уже жили в Сан-Франциско, Джойс и Дэвид Хопвуды при очередном визите в Калифорнию, подарили нам небольшую картину с точным изображением луковичного растения. Она всегда напоминает мне мой замечательный визит в Англию в 1980 году. Идя по коридору на работу, все здоровались. Помимо перерыва на обед (ланч), два раза (в 11 и в 5 часов) все пили чай, в основном, с молоком. Кто-то проходил по лаборатории и распевал: tea time, tea time (время чая). И все шли с удовольствием выпить чаю, просто поговорить или обсудить полученные результаты. Меня эти перерывы как-то отвлекали, и я не всегда отрывалась от работы на чай. На ланч многие, в том числе и Кит, приносили бутерброды из дома. Я тоже старалась экономить на еде. Королевское общество, которое дало деньги на нашу командировку, не было очень щедрым, хотя, конечно, оно не могло учитывать, что мне надо было что-то из вещей привезти в Москву. Там уже начинался большой дефицит необходимых товаров. Режим работы в лаборатории был напряженным. Работали с утра и вечером уходили домой поужинать. Добирались домой на велосипедах, редко кто на машине, а после ужина опять приезжали работать до позднего вечера. Семья Кита Четера растила четырех детей, старшую дочь Алису и трех сыновей. Хлеб (булочки из готового теста) пекли в духовке, овощи и ягоды выращивали в маленьком саду. Даже запасали кое-что на зиму в большом холодильнике. Жена Кита Джейн работала в школе, заменяя больных учителей. Остальное время посвящала детям. Как-то я спросила Кита, не тяжело ли им воспитывать 4-х детей, он удивился и сказал, что для них это удовольствие! В семье Хопвудов было трое взрослых детей, которые уже покинули родительский дом. Всех приезжающих на работу в лабораторию чета Хопвудов традиционно приглашала в гости в начале и в конце их пребывания. Кроме того, каждую неделю, без исключения, в их доме проходил семинар по генетике, на котором делали доклады приглашенные докладчики. Семинар собирал много народу из отделов института и из соседнего университета. Каждый вносил небольшую сумму на легкие закуски. В доме Хопвудов на 1-ом этаже был большой зал и места всем хватало. Лаборатория Хопвуда была интернациональная, но при всем при этом мы с Валерием были все-таки персонами экзотическими, и нас часто приглашали в гости. Как-то раз ужинали в гостях у Джина Сено, который приехал в Англию с семьей из знаменитой американской фармацевтической компании Илай-Лили, и я подружилась с ним на долгие годы. Он был прекрасным, добрым человеком с большим чувством юмора, я тоже любила пошутить. Мы потом часто пересекались с ним на международных конференциях и поддерживали дружеские отношения в течение почти 30-ти лет вплоть до его безвременной кончины. Побывали мы в гостях и у многолетней секретарши Дэвида Мэрибэс, которая много лет знала меня заочно, так как занималась корреспонденцией Д. Хопвуда. Они с мужем сами построили за городом комфортабельный дом с большим числом спален на втором этаже. Их мечтой было сделать из дома небольшой отель. Не знаю, осуществилась ли эта их мечта. Они оба уже были довольно пожилыми людьми. Опекала нас и заведующая прекрасной библиотекой института. Я была там частой гостьей. Она жила одна с дочкой 7-ми или 8-ми лет и чувствовала себя одинокой. Мы с ними несколько раз в выходные дни ездили на пикник на берег моря. Все там напоминало Прибалтику. Было еще холодно, но ее дочка бегала босыми ногами по воде. Были мы в гостях и у Мервина Биба, который недавно вернулся из Америки, проведя довольно продолжительное время в лаборатории Стенли Коэна в Стэнфордском Университете. Там и была совместно с отделом Хопвуда разработана методика трансформации ДНК в применении к актиномицетам. Реципиентом ДНК был «наш» штамм S.lividans 66. Так актиномицеты попали в семью микробных объектов генной инженерии. В скором времени Д. Зуаресом, коллегой из Испании, и Китом Четером были опубликованы в 1980 году две статьи с демонстрацией трансфекции штамма S.lividans 66 с помощью ДНК фага phiC31. Позже на одной из конференций в Германии я познакомилась с Зуаресом. Он какое-то время продолжал работать с фагом phiC31. Мы оказались с ним за одним столом на обильном банкете и славно пообщались. Больше я его никогда не видела. Забыла сказать о главном. Мы в течение многих лет работы с генетически маркированным штаммом S.coelicolor А(3)2 продирались сквозь большие трудности при изучении взаимодействия фага с этим штаммом. Правда, и о штамме S.lividans 66 никогда не забывали. Приехав в Англию, я обнаружила, что все работы по трансформации и трансфекции ДНК осуществляются только с использованием штамма S.lividans 66, который мы когда-то послали в Англию. Этот штамм также стал и сам предметом интенсивного генетического изучения и в других лабораториях во многих странах. Как реципиент ДНК он обладал абсолютными преимуществами по сравнению со штаммом S.coelicolor А(3)2, и мы во все последующие годы работы, включая и работу в США, использовали его во всех экспериментах с ДНК. Однако штамм S.coelicolor А(3)2 оставался самым генетически изученным штаммом актиномицетов, на котором были сделаны крупные открытия, перечислять которые не входит сейчас в мою задачу. В частности, в нашей лаборатории был подробно изучен генетически феномен ограничения размножения фага phiC31 в штамме S.coelicolor А(3)2. На хромосоме S.coelicolor А(3)2 были картированы гены, функционирование которых приводило к ограничению развития фага в этом штамме. Этот механизм и поныне продолжает изучаться в генноинженерных экспериментах в ряде лабораторий Англии и США. Я, конечно, из первых рук записала все тонкости осуществления опытов по трансформации и трансфекции. Это позволило быстро освоить их сотрудниками нашей лаборатории. Это, пожалуй, было главным результатом моего пребывания в лаборатории Хопвуда. Не помню, чтобы удалось сделать что-то интересное за такой короткий срок. Правда, быстро получила фагочувствительные варианты штамма S.coelicolor А(3)2, необходимые для работы Кита. Он, в свою очередь, снабдил меня имеющимися в его коллекции первыми векторными вариантами фага phiC31. Поместили их в термос, забитый льдом, с широким горлом, который потом долго жил у нас дома. Поглощенная своей работой, я как-то не очень интересовалась, как идут дела у Валерия. Замечала только, что работает он немного, стал смотреть на меня как-то свысока, иногда даже говорил что-то резкое. Я, как всегда, сначала не реагировала, а потом пришлось все-таки с ним поговорить. Во всяком случае, работы с плазмидой SCP2 у нас в лаборатории больше не проводились, хотя данные, опубликованные в нашей совместной работе с Томом Трустом, казались мне вполне достоверными. Как-то Дэвид подошел ко мне и заметил, что надо делать и какие-то перерывы в работе и они вместе с Джойс повезли меня в Кембридж. На обратном пути из этого признанного храма университетской науки осматривали и еще многие достопримечательности. Замки-музеи все-таки уступали великолепию многих дворцов, постпренных ещё во времена царской России. Джойс, с которой мы впоследствии часто встречались, говорила мне, что в моем поведении при этом первом знакомстве чувствовалась скованность, особенно, если разговор касался политики. А на политические темы англичане говорили очень охотно. На самом деле я впервые почувствовала большую внутреннюю свободу и значительную разницу в стилях жизни в Англии и в СССР. Помню, как я запросто повязала на голову косынку по-деревенски на городской улице, чего не могла бы сделать в Москве, и никто не обратил на меня ни малейшего внимания. Вообще, стиль одежды был очень простым и удобным. В. Москве еще не вошли в моду куртки, которые здесь носили все. Однажды Кит пригласил меня на симфонический концерт, и я пошла туда в единственном длинном нарядном платье. Кит ничего мне не сказал, но я быстро почувствовала себя белой вороной. По пути подобрали Джейн, которая как и вся остальная публика была в куртке и в брюках. Двое их младших детей слушали очень внимательно. В 2004 году на юбилее у Кита двое молодых взрослых мужчин подошли ко мне, как к старой знакомой. У меня сохранилась одна единственная фотография, сделанная в лаборатории Д. Хопвуда во время нашего визита. Конечно, я не помню фамилий многих, кто там изображен, и, как всегда, не записала по горячим следам. Сидят в первом ряду Д. Хопвуд и Силия Брайтон (многолетний лаборант и соавтор К. Четера). Ещё две женщины на фотографии — я и Д. Вард. Слева в клетчатой рубашке Чарльз Томпсон, Д. Сено, В. Даниленко, за ним почти не виден немецкий коллега, с которым мы сидели за одним столом в комнате Четера и который помогал мне осваивать азы генной инженерии, за ним Тобиас Кейзер и Кит Четер. В конце нашего пребывания в Англии должна была состояться интересная конференция. Я позвонила в институт с просьбой продлить наше пребывание в Англии на несколько дней и получила категорический отказ, когда институт запросил министерство. Тайком я даже всплакнула. Накануне отлета в Москву уезжали поездом в Лондон. Нас снабдили небольшими деньгами, чтобы переночевать в дешевом отеле, и билетами на спектакль, почти премьеру «Иисус Христос — суперзвезда». Театр был похож на сарай, все сидели в верхней одежде или она висела на спинках кресел. Многие актеры были в джинсах. Но музыка и исполнение были великолепными. Я везла с собой маленькую люстру в кабинет нашей квартиры. Лампочки, которые я к ней прикупила, казались мне очень дорогими, но они так и прослужили нам вплоть до конца нашей жизни в Москве. На пути в Москву в самолете с нетерпением ждала встречи со своей семьей, и жизнь вошла в привычную колею. В мае того же 1980 года состоялась советско-американская конференция только по генетике актиномицетов у нас в Крыму. Доклады по основной тематике конференции были представлены, главным образом, сотрудниками нашей лаборатории. Я в последний момент перед отправкой самолёта в Симферополь, совершенно запыхавшись, вбежада в аэропорт Внуково. Перед выходом из дома я в спешке жарила Лёне котлеты на время, когда я буду отсутствовать дома. В аэропорту на секунду остановилась и подумала, кто же я на самом деле, в конце концов, мужнина жена или ответственный участник конференции. Однако, времени на такие раздумья уже не было, и я помчалась выполнять свои научные обязанности. Возглавлял американскую делегацию очень известный ученый в области бактериофагии G. Bradley (Г. Брэдли). Вот уж на этой конференции мы наелись полной «свободы». Такого еще не было на других международных конференциях, устраиваемых в нашей стране, на которых я присутствовала. В составе нашей делегации было несколько человек из нашего министерства, которые были очень довольны, что им удалось вырваться в такую необременительную поездку. Мы все были под неусыпным контролем с их стороны, что создавало для нас большое напряжение. Американцы, конечно, сразу их всех вычислили и посмеивались. Джери Инсайн через много лет уже при встрече в Мэдисоне в 1992 году вспоминал об этих сопровождающих нас лицах. Поселили нас на государственной даче тогдашнего министра сельского хозяйства В. В. Мацкевича, расположенной в Никитском ботаническом саду, которая в это время года пустовала. Красота вокруг была необыкновенная. В. Никитском ботаническом саду все цвело; к морю, ещё холодному, но соблазнительному, спускались на лифте. Американцы тоже искренне восхищались крымскими красотами. Все доклады синхронно переводились Юрием Георгиевичем Гаузе, сыном Георгия Францевича Гаузе, выдающимся генетиком, а впоследствии и многолетним директором института новых антибиотиков. Юра так переводил, что доклады выглядели гораздо лучше и логичнее, чем приготовленные самими докладчиками. От нашего института доклады сделали я, Таня Воейкова и, по-моему, Ирина Сладкова. Были также докладчики из института новых антибиотиков, Юрий Васильевич Дудник, директор института, и его сотрудники, а также сотрудники из института микробиологии АН СССР. В состав Американской делегации входили Ричард Балтс, занимающийся внедрением генетических методов в селекцию продуцента тилозина, из крупнейшей американской фармакологической компании Илай-Лили, англичанин Мервин Биб, работавший в это время в лаборатории Стэнли Коэна в Стэнфордском университете, от которого мы живем в пяти минутах езды на автомобиле уже почти 10 лет, Джеральд Инсайн из Висконсинского Университета г. Мэдисона и еще несколько человек из крупных американских фармацевтических фирм. Вино лилось рекой. Никто не отказывался. Было впечатление, что наши сопровождающие все время были навеселе. Мне было не по себе. В конце конференции состоялся банкет в Ялте, и у меня сохранились записи наших гостей, написанные на меню мне и Норе Мкртумян, с трогательными прощальными пожеланиями. После конференции американская делегация летела в короткую увеселительную поездку в Сухуми и Тбилиси со всеми сопровождающими с нашей стороны лицами. Взяли еще только меня, наверное, потому, что я знала всю американскую делегацию и могла со всеми объясниться. Полет был коротким. Я думаю, что случайно в пассажирском салоне был слышен разговор летчиков с землей. Связь была постоянной и не прерывалась ни на одну минуту и никакой ненормативной лексики. В. Сухуми и в Тбилиси были уже совсем сплошные банкеты. Я расстраивалась, а американцы, казалось, относились к этому спокойно, ведь пили и ели на халяву, кто же откажется от хороших вин и вкусной еды? В последний день представитель нашего института пригласил всех в дом своего старого друга — прокурора Г. Рустави. Подошли к красивому трехэтажному дому, где жила семья прокурора. Для хозяина это было, как будто, неожиданностью, но стол был полон снеди. Один из американцев, Лин Энквист, войдя в дом и увидев красивые медные перила, ведущие на третий и первый этаж дома, сразу сказал, что он хочет жить при социализме. В нижнем этаже был бассейн и комната с музыкальной аппаратурой. Американцы сразу оценили, что такая аппаратура в Америке стоит очень дорого. На следующий день американцы улетали, а я летела другим самолетом. Выйдя из автобуса в аэропорту, они выстроились в ряд и я поочередно стала прощаться с каждым из них. Все говорили стандартную фразу о том, что если мне что-то понадобится, то они будут рады мне помочь. Я, конечно, как всегда, поверила. Через много лет я, действительно, искала работу в Америке и позвонила паре человек, с которыми познакомилась в Ялте, спрашивая о возможности устройства на работу, но в ответ ничего не услышала. Но я, конечно, не была на них в обиде, просьба была уж очень трудно осуществимая. Но не надо было обещать. Теперь продолжу жизнеописание 80-х годов и в большинстве случаев постараюсь быть краткой. Это были последние 12 лет нашей жизни и работы в Москве, но мы, конечно, об этом и не догадывались, и в эти годы никогда об этом не думали. Совершенно абстрактно строили планы, как будем жить, когда выйдем на пенсию. Все эти годы были отмечены многими печальными событиями, событиями повседневной жизни, очень интересной и трудной работой, постоянным участием в конференциях дома и за рубежом. Наступали также глобальные революционные перемены в жизни всей страны, которые коснулись и нас. А пока мы жили в большой благоустроенной квартире на Молодежной улице около метро Университет в блочном доме первых построек с высокими потолками, тремя большими комнатами и просторной кухней. Окна двух комнат и кухни смотрели на главное здание университета, из окна были видны университетские часы. Напротив, через улицу Коперника, на просторной территории расположилось новое здание детского музыкального театра Наталии Сац, в который мы часто ходили с Анечкой, нашей внучкой. А наискосок от нашего дома было большое здание нового цирка — мечта всех московских детей, хотя взрослые предпочитали старый цирк. Молодая семья, Оля, Миша и Анечка, переехали в маленькую двухкомнатную квартиру, которая досталась им от Мишиной бабушки. Как всегда, в первые годы для ребенка снимали на все лето дачи под Москвой. Все бабушки, дедушки и даже прабабушки проводили какое-то время на этих дачах. Помню, как в одно из наших дежурств на даче по Киевской дороге к нам в гости приехали Элла и Илья Лаврецкие, многолетние Лёнины коллеги по институту НИИ по БИХС и ставшие нашими близкими друзьями. Проснувшись утром, увидели Илью, который уже входил в дом с полной корзиной грибов. Леня, как заядлый грибник, просто побледнел и уже стал одеваться, чтобы бежать в лес, которого близко и не наблюдалось. Конечно, никаких грибов в округе не было. Это был очередной розыгрыш Ильи. Он просто купил их на рынке вместе с корзинкой. Впоследствии он также разыгрывал своего зятя и внука, заядлых охотников, предъявляя им дичь, якобы убитую им, когда они возвращались после неудачной охоты. Как всегда, возникала проблема, где провести летний отпуск. Два года подряд нам помогал справиться с ней Урхан Аликперов. Он был аспирантом в Институте общей генетики и дружил с Лёней. В начале 80-х он стал директором Института ботаники АН. Азербайджанской ССР. Он и достал нам путевки в дом отдыха в поселке Загульба на Каспийском море. Летом там отдыхала азербайджанская знать с семьями, а в сентябре туда приезжали их дальние родственники, и мы попали в их число. Отдыхающие жили в отдельных квартирах. Правда, дома были построены на скорую руку и плохо отделаны. Но все равно мы в таких условиях никогда не отдыхали. Рано утром не ленились и спускались к морю смотреть рассвет и искупаться в теплом море. Иногда ездили в Баку, жители которого в те времена гордились своим интернациональным городом. Осетра ловить в море запрещалось, но в ресторане по очень большому знакомству подавали этот деликатес. Урхан в один из дней пригласил нас на дачу к своим родственникам. На участке этой дачи рос особый сорт столового винограда Шаны. На рынке он стоил очень дорого, был изумительно вкусный и сладкий. Его лоза стелилась прямо по горячему песку и гроздья зрели на земле. Живя в Загульбе, мы заметили, что большинство отдыхающих обращают внимание на Лёню и шушукаются за нашими спинами. Оказалось, что Лёня очень похож на Гейдара Алиева тогдашнего генсека Азербайджана. Потом некоторые стали подходить и выяснять степень Лёниного родства с Алиевым. А вообще с Лёниной внешностью и в Средней Азии он легко сходил, например, за узбека или таджика, и к нему там всегда обращались на их родном языке. На следующий год опять отдыхали в Загульбе, на этот раз уже небольшой компанией с Лаврецкими, их другом Володей Шпитальником (крупным хирургом-нефрологом) и его женой Зиной и с нашим старым коллегой и приятелем Владимиром Наумовичем Гершановичем, известным микробиологом из института Гамалеи. Постоянно смеялись над остротами двух Володей и Ильи, пили хорошие вина. Лаврецкие и Шпитальник не отказывали в просьбах о медицинских консультациях, и иногда их увозили в Баку. Володя Шпитальник давно живет в Америке, и ему не составило труда стать известным психиатром, имея прирожденную харизму и многолетний опыт взаимодействия с больными. Как-то на пляже к нашей веселой компании присоединилась приятная женщина. Она оказалась майором милиции из соседнего санатория МВД. Мы даже ходили к ней в гости, а потом какое-то время с ней переписывались. Но курортные встречи редко переходят в длительное знакомство, хотя и такое иногда случается. Однажды мы поехали на экскурсию смотреть древние наскальные рисунки. Кажется, сам экскурсовод не очень верил, что рисунки действительно старые. Обильно пообедали в соседнем ресторане. Шоферы боялись везти обратно веселую компанию. А потом посадили Леню в переднюю машину на переднее сиденье и уверили всех, что ни один милиционер нас не остановит в связи с Лёниным сходством с первым человеком Азербайджана. Сработало. Через некоторое время, когда мы все уже вернулись в Москву, Илью Лаврецкого попросили проконсультировать жену очень высокопоставленного человека в местных структурах власти Азербайджана. Конечно, все расходы на поездку были оплачены. Когда он вошел в дом, то увидел, что одна из многочисленных комнат является точной копией овального кабинета Белого дома в Вашингтоне. Единственным отличием были фигурки амуров на потолке. В начале 1982 года отметили 50-летие Лёни. Но никакой из юбилеев не мог сравниться с его 30-летним юбилеем, который так и остался эталоном и навсегда запомнился нам и нашим друзьям. 11 февраля 1982 года прямо в Лёнин день рождения торжественно отпраздновали 10-летие со дня образования ВНИИ по БИХС в актовом зале Министерства медицинской промышленности на Новом Арбате. Лёня, как руководитель большого отдела института, делал один из 8-ми основных докладов. Доклады он готовил быстро, не то, что я, и привык выступать перед самыми разными аудиториями. За сценой уже был готов стол для руководителей министерства и института, а на сцене выступал Михаил Жванецкий. Зал был очень доволен, хохотал, поглядывал на кислую реакцию людей из администрации министерства. Но смеяться пришлось недолго. Этот 10-летний юбилей был пиком в жизни института, казалось, что ничто не угрожает институту и его сотрудникам.
Институт Джона Иннеса, Норидж, Англия, 1980 год; прием по случаю избрания новых членов. Лаборатория, которой руководит Дэвид Хопвуд, третий слева, в недалеком будущем — сэр Давид Хопвуд. Звание сэра он получил из рук английской королевы Елизаветы за выдающиеся достижения в области генетики актиномицетов, продуцентов большинства антибиотиков. Валерий Даниленко и я, Наталия Ломовская, приглашены в лабораторию Д. Хопвуда на двухмесячную стажировку. Деньги (небольшие) нам выделило Английское королевское общество. Справа на столе русский самовар, подаренный лаборатории Валерием. Всем самовар очень понравился.
Глава 21 Наша жизнь в период функционирования слабеющей Советской власти
Власть в стране сменилась после кончины Л. И. Брежнева в 1982 году, но была советской, и её ещё никто не отменял. У института НИИ по БИХС и у его директора было много недоброжелателей в политических структурах и академической среде. Скандал был хорошо подготовлен и грянул на очередном съезде партии в 1984 году. В докладе председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС М. С. Соломенцева институт на всю страну был подвергнут разгромной критике. Утверждалось, что руководство института затратило огромные средства и не обеспечило выпуска новых лекарственных препаратов, хотя выпуск новых лекарств не входил в задачи института, которые состояли в выявлении биологических активностей тысяч химических соединений, синтезируемых в стране. В институт нагрянула комиссия Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Члены комиссии были вежливы, улыбались, соглашались с доводами докладных записок руководителей разных подразделений института. Но выводы комиссии были предрешены, и ничто их не могло поколебать. Л. А. Пирузян был уволен с поста директора и остался руководить отделом в своей Альма-матер, институте химической физики АН СССР. Одним из пунктов криминала было то, что Ученый совет института, по крайней мере, наполовину, состоял из евреев. Мельком упоминалось, что крупным отделом по проверке безопасности лекарств руководил человек с агрономическим образованием, то-есть Леонид Максович Фонштейн, кто не запомнил, это мой муж. Все это я описываю, конечно, с его слов. Не буду упоминать сотрудников института, которые в эти тяжёлые дни повели себя не должным образом. В 1985 году институт был реорганизован, его директором стал почему-то А. И. Степанов, много лет работавший в нашем институте ВНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов. Вскоре и он был снят с должности директора. Институт был вновь реорганизован, сокращен и в дальнейшем переименован. Отдел Лёни под его руководством продолжал функционировать ввиду важности тематики. Лёня безумно устал еще в предыдущие годы от громадной ответственности, которая лежала на нем: не пропустить препараты с нежелательными свойствами на медицинский рынок, устал от большого давления авторов препаратов, в большинстве своём очень влиятельных ученых. В 1983 году Лёня перенес тяжелую операцию по удалению желчного пузыря, набитого камнями. Нам эти камни даже подарили. Мы с Мирой, Лёниной сестрой, сидели много часов в коридоре 1-ой Градской городской больницы, пока его из операционной не перевезли в реаниматорскую. Это было 7-го марта, и врачи, наверное, тихо матерились, что зав. отделением академик В. С. Савельев настоял на срочной операции перед всенародным праздником. Потом, когда Лёня уже лежал в общей палате на 17 человек, я пробиралась в любое время в своем белом лабораторном халате через служебный вход, который имеется в каждой больнице и не запирается. Через некоторое время он опять попал в ту же больницу, по-видимому, по причине тяжелых переживаний, связанных с судьбой института. Но тут на меня махнули рукой и не выгоняли из больницы даже ночью. Мужики в палате после тяжелых операций умудрялись есть и пить, не соблюдая никаких диет. Ничего, выживали. Кстати, тяжелые заболевания не миновали в этот период и других руководящих сотрудников института. Лёнина больничная эпопея была отмечена в одной из очередных телеграмм ко дню его рождения: «Фунт обломков найден широком теле. Ежедневно йоту нарзана». Жестокая и незаслуженная расправа с институтом НИИ по БИХС при практически полном попустительстве академической администрации оставила глубокую рану в душах Л. А. Пирузяна, его жены Э. С. Пирузян и сотрудников института. Разгром шел по накатанному пути. Сначала в институте нашли иностранного шпиона, потом завели, так называемое, «яблочное дело». Некоторые младшие сотрудники института, чтобы немного подработать для оплаты квартир, которые они снимали в частном секторе, брали разрешения у заведующих лабораториями прибавить к отпуску несколько дней без сохранения содержания, собирая яблоки в соседних с Купавной совхозах. Многим заведующим лабораториями было предъявлено обвинение в том, что они брали взятки за добавление этих нескольких дней к отпуску сотрудников. Так как Лёня руководил несколькими лабораториями, то он оказался среди главных обвиняемых. Его даже вызывали в прокуратуру к следователю по особо важным делам, заодно пытаясь взять у него компромат на других сотрудников института. Проведя со следователем целый день, Лёня у неё, наконец, спросил: «Неужели в таком серьезном учреждении нет более важных дел?» на что женщина-прокурор ему ответила, что нет. «Яблочное дело» и другие гонения были в одночасье прекращены, наверное, по указанию тогда уже крупного партийного деятеля А. И. Лукьянова, который вскоре стал председателем Верховного Совета СССР. В НИИ по БИХС в то время работала его жена, доктор биологических наук Л. Д. Лукьянова. Шли годы. В 2000 году Л. А. Пирузяна избрали академиком РАН. Лев Арамович и его жена Элеонора Суреновна в 2000-е годы совершили подвиг. С присущей им обоим необыкновенной энергией они издали фундаментальный труд в 2-х томах об истории организации, функционирования и разгрома института НИИ по БИХС. В основу книги «Медицинская биофизика, биологические испытания химических соединений» легли научные статьи Л. А. Пирузяна и его сотрудников, сопровождаемые воспоминаниями о работе в уникальном учреждении бывших сотрудников института, а также документы, представляющие неоценимую объективную ценность для историков советской науки в период ее заката. Первый том книги «Медицинская биофизика, биологические испытания химических соединений», Москва, Издательство «Медицина», 844 стр. с подзаголовком «Уроки истории» был издан в 2005 году, а второй том с подзаголовком «Документы», 752 стр. был издан в том же издательстве в 2006 году. Лева и Нора подарили их нам с дарственной надписью: «Дорогим Наташе, Лёне! Обнимаем, целуем. Всегда Ваши Нора и Лёва Пирузяны». Мы в эти годы уже давно жили и очень напряжённо работали в Америке. Эти два объёмных тома привезла нам в Америку Лёнина сестра Мира, везла она их в ручной клади, но чего не сделаешь для родного любимого брата! Лёня вспоминает о своей дальнейшей работе после разгрома НИИ по БиХС: «К концу 1986 г. работать в реорганизованном институте с новым директором стало практически невозможно, и я принял решение о переходе на другую работу. С большим трудом мне удалось вернуться в свою Альма-матер, Институт общей генетики АН СССР, несмотря на то, что к этому времени я уже в течение многих лет был членом Ученого совета института, а также членом специализированного совета по защите докторских диссертаций при этом институте. Кончились изнурительные поездки в Купавну. Вместо 2-х с половиной часов пути на автобусах и электричке в один конец, попадал на работу в течение 15-ти минут пешей прогулки». Вскоре Лёне предложили должность Ученого секретаря института, и он согласился. Статус этой должности в институте поднялся. Склоки, которые существовали в институте практически со дня его основания, прекратились, думаю, что не без Лёниных усилий. В секретариате АН стали говорить, что они никогда еще не сталкивались с таким Ученым секретарем, который им тоже успевал давать массу ценных советов. Печальные события этого 80-летия продолжались. В 1983 году на 70-м году жизни умерла Марианна Петровна Шаскольская, которая была постоянным и желанным гостем в доме моих родителей и с которой была тесно связана значительная часть и моей жизни. Безвременно ушёл из жизни крупный советский учёный. Марианна Петровна входит в список 40 самых выдающихся в мире учёных женщин. Международные конференции её памяти ежегодно проводятся в Москве. Слава богу, остались ещё люди, которые её хорошо помнят и ценят её заслуги. 23 мая 1985 года ушла из жизни моя мама, Ломовская Эмма Григорьевна, когда ей было 75 лет. Последние годы ее жизни мы жили совсем рядом, прогуливались с ней по Молодежной улице, она никогда не выглядела старой (а, может быть, мне это казалось) по сравнению с другими пожилыми женщинами, которых мы встречали. Она, в отличие от папы, уже хорошо понимала обстановку в стране и говорила мне об этом. В последние годы они с папой каждый год ездили отдыхать или в университетский дом отдыха в Красновидово или на турбазу Дома ученых в Прибалтике. Папа писал там стихи и баллады на темы жизни на турбазе и читал их перед отдыхающими, которые принимали их благосклонно. Папа в конце жизни очень хотел передать свое членство в Доме ученых мне. Но уже настали другие времена, и всем было не до этого. В 1982 году состоялся съезд генетиков и селекционеров в Кишеневе. Лёня поехать не смог. Папу пригласили за счет организаторов съезда как старого генетика и они с мамой поехали. Там же была и Ксения Алексеевна Головинская, вдова Д. Д. Ромашова, с которой мои родители дружили всю жизнь и на съезде так и ходили всегда вместе. Я там делала доклад и на него пришел мой старый знакомый Борис Николаевич Вепренцев. Он работал в Пущино, и мы с ним не пересекались много лет. И с тех пор вплоть до его безвременной кончины больше не виделись. С. Юрой Дьяковым поехали в село под Кишенёвым познакомиться с матерью Вани, мужа Юриной дочери Маши. Встретила она нас не очень любезно, но потом как-то оттаяла. Оказалось, что ее вместе с четырьмя маленькими детьми в одночасье выслали в Сибирь и она сумела сохранить жизнь всех четырех своих детей. Угостила нас молодым молдавским вином из собственного винограда. Уехали мы все равно расстроенные. Мама угасла буквально за два месяца. Диагноз не установили, даже после вскрытия. В. Измайловской больнице для научных работников, куда я ее привезла вторично уже перед самой кончиной, царило хамское отношение к пожилым людям, как у среднего медицинского персонала, так и у врачей. Она была в полном сознании до последней минуты, и вдруг я ясно увидела как ее душа отлетела и все было кончено буквально через час после нашего приезда в больницу. Ее даже не поместили в реанимационное отделение, хотя все показатели указывали на необходимость этого шага. Ее смерть на моих глазах осталась навсегда глубокой раной в моем сердце. В этом, 2016 году исполнилось 106 лет со дня её рождения. Теперь, кроме нас с Олечкой, Веры Шаскольской и нескольких моих школьных подруг уже, практически, о ней почти и вспомнить-то некому. Помнит мою маму и внучка С. Н. Скадовского, Мария Николаевна Строганова, с родителями которой Николаем Сергеевичем Строгановым и дочерью С. Н. Скадовского Ниной Сергеевной Строгановойс мама дружила долгие годы, работая на биолого-почвенном факультете МГУ и вспоминая часто с ними старые добрые времена расцвета генетики в Советском Союзе до наступления долгой эры лысенкоизма. Мама и Николай Сергеевич кончали один и тот же вуз. Можно, как я уже упоминала, сейчас найти её несколько научных статей в интернете. В память о ней останутся и эти мои воспоминания, если они когда-нибудь увидят свет. Приведенные в этих воспоминаниях письма моей мамы своим родителям в Москву из Хабаровска в начале 30-х годов, а особенно, её письма моему папе Д. В. Шаскольскому в Германию в 1948 и 1949 годах, по моему мнению, представляют историческую ценность. Они написаны не как воспоминания через много лет, а прямо по горячим следам событий. Сейчас эти письма вместе с некоторыми другими документами и фотографиями истории нашей семьи, начиная с начала 20-го века, хранятся в архиве Гуверского института при Стэнфордском университете. После маминой кончины я несколько раз слышала, как она меня звала «Тусёк», и я считала, что ей хочется забрать меня с собой. И я, действительно, вскоре попала в больницу, но выкарабкалась. Летом 1985 года скончался Израиль Иосифович Семеновский — преданный отец Миры и отчим Лёни с 1938 года. Он был ровесник века и жил бы ёще, если бы не неудачная операция. Он вырос в маленьком еврейском местечке Смелы на Украине, потом работал в Москве по снабжению военных пошивочных ателье, хорошо разбирался в тканях. Всегда, конечно, только дома с тоской вспоминал дореволюционные времена и цены. Лёня мальчиком этих разговоров не одобрял. Израиль Иосифович очень любил свою жену, во всем ей подчинялся, помогал по хозяйству, очень любил обоих своих детей и внучек и они, особенно Наташа, с которой они вместе жили, платили ему тем же. У нашей дочки Оли были две родные бабушки, моя и Лёнина мамы и два неродных дедушки, которые ее очень любили. Мой папа был очень образованным человеком, и Оля любила его и умела с ним общаться. Эта ее способность общения с некоммуникабельными людьми всегда мне нравилась, т. к. сама я была начисто лишена этого свойства и всегда об этом жалела. В начале 1985 года скончался Сос Исаакович Алиханян, не дожив до своего 80-летия. Не выдержало больное сердце. Многие годы после его кончины нас, его учеников, в день его рождения приглашала в гости его жена Татьяна Семеновна и семья их сына Андрея. Сос Исаакович очень любил своих внучек, но, конечно, всегда мечтал о внуке. Он увлекался и хорошо разбирался в живописи и имел дома хорошую небольшую коллекцию картин. Столы ломились от вкусной армянской еды, приготовленной Татьяной Семеновной и ее невесткой в память хозяина дома. В институте жизнь Соса Исааковича — основателя такого уникального учреждения, в котором были совмещены теоретические и прикладные исследования по генетике и селекции микроорганизмов, продолжалась в жизни и работе его многочисленных учеников. Конечно, наука развивалась, приходили новые люди, становились заметными фигурами в институте, возникали совершенно другие методы селекции в связи с бурным развитием генной инженерии, которую поддерживал морально и финансово и развивал многолетний директор института, теперь уже академик РАН В. Г. Дебабов (Генная инженерия — осуществление манипуляций с изолированными генами и введение их в другие организмы). Но память о Сосе Исааковиче всегда сохранялась. В 2006 году Институтом генетики и селекции промышленных микроорганизмов, как в былые времена, совместно с пущиновским Институтом микробиологии и физиологии микроорганизмов была организована школа-конференция «Генетика микроорганизмов и биотехнология», посвященная 100-летию со дня рождения С. И. Алиханяна. Мои московские коллеги прислали мне много фотографий с этой замечательно организованной конференции и рассказы о ней. Я послала на эту конференцию своё выступление, и Таня Воейкова его зачитала. В этом же году вышел журнал «Генетика», полностью посвященный памяти С. И. Алиханяна. Все статьи о нем как основоположнике генетики микроорганизмов в Советском Союзе, написанные его учениками и последователями, читались с большим интересом. Я уже не была свидетелем деятельности нашего института в 90-х годах. Представляется, что на плечи его многолетнего директора В. Г. Дебабова и его окружения легла почтинепосильная ноша усилий по продолжению успешной работы института. Нельзя забывать и о потере большого числа квалифицированных молодых кадров, которые сейчас живут и работают в Европе и США. Кроме того, часть престижных генно-инженерных лабораторий, которым в течение многих лет шла значительная часть денег, поступающих в институт из государственного бюджета, воссоединилась с Японской фирмой, построившей свое современное здание в Москве рядом со зданиями нашего института. Но институт продолжал функционировать. В. Г. Дебабову долгие годы удавалось сохранять в институте и теоретические лаборатории, которые непосредственно не занимались селекцией и получением более высокопродуктивных штаммов методами генной инженерии. Думаю, что изменения в судьбе института стали особенно очевидны, наверное, по совпадению, а скорей всего по объективному стечению обстоятельств, после того, как отдали последнюю дань памяти его организатору. Я, про себя, думала, что душа Соса Исааковича после того, как отметили 100-летнюю годовщину со дня его рождения, покинула институт. Я уже не говорю о том, что В. Г. Дебабов примерно в это время остался только научным руководителем института, новым директором института в это время стал М. Ю. Бебуров, который много лет назад работал в нашем институте в должности младшего научного сотрудника, а в 90-е годы вырос в успешного бизнесмена. Мы с Лёней, наконец, смогли приехать в Москву жарким летом 2010 года после получения необходимых документов. Процедура их получения с годами заметно упростилась, да и мы стали жить по соседству с российским консульством в Сан-Франциско. Я, конечно, пришла в свой институт, в котором проработала со дня его основания. Выглядел он и снаружи, и внутри обшарпанным, как будто его с тех пор, как построили в 1984 году, так никогда и не ремонтировали. Встречи с друзьями и коллегами были очень волнительными и совершенно неожиданными для сотрудников моей бывшей лаборатории. Татьяна Александровна Воейкова звонила им из своего кабинета и просила придти к ней, не говоря зачем. Делились впечатлениями о своём житье-бытье. Конечно, всем было интересно послушать о том, как мы живем в Америке. Многие, кого мне хотелось бы увидеть, были в отпуске. Тепло пообщались с В. Г. Дебабовым и В. Н. Крыловым. Немногим бывшим моими сотрудниками Тане Воейковой, Лиде Емельяновой, Тане Чиненовой, Лене Славинской, Ире Бирюковой я рассказала о своих планах написать статью о многолетней работе нашей лаборатории с упоминанием их фамилий. Всем идея понравилась, но впоследствии мне показалось, что им это стало почти безразлично. Я всё-таки написала такую статью и так и не знаю, будет ли она опубликована в каком-то из российских журналов. Но после значительных усилий с моей стороны и помощи моих ленинградских коллег статья под моим авторством была опубликована в журнале Историко-биологические исследования, 2017, том 9, № 3, Санкт-Петербург. Эта статья, которая называется «История выхода на мировую арену актинофага phiC31 и актиномицета Streptomyces lividans 66» теперь уже находится на моем веб-сайте, куда будут помещены и эти мои воспоминания. Крупные реорганизации в институте начались уже давно, но в 2012 году стали закрываться многие лаборатории, в том числе и генетические. В общем, пришли совсем другие, новые времена. Надо сказать, что я начала свою работу по генетике актиномицетов и актинофагов почти у истоков развития этой области знаний и теперь оказалась свидетелем почти полного окончания золотой эры этих исследований. Слишком дорого обходятся поиски биологически активных веществ, образуемых природными изолятами. Практически все крупные американские фармацевтические компании закрыли отделы по поиску и изучению биологически активных природных соединений и необдуманно освободились от больших коллекций микроорганизмов, которые собирались в течение долгих десятилетий. Упомяну только, хотя я внимательно уже и не слежу за этой ветвью научной литературы, о попытках заставить заговорить молчащие кластеры генов, которые в значительном количестве содержатся в хромосомах актиномицетов. Вот и выбрасывай после этого институтские коллекции природных изолятов! Правда, используемые продуценты какого-то антибиотика тоже содержат молчащие кластеры биосинтеза других антибиотиков. В этом мы убедились на собственном опыте, работая с продуцентом рапамицина уже в Америке. Попробую сейчас, если получится, вернуться к более последовательному, по годам, описанию нашей жизни. Отмечу только, что в отпуск летом 1985 года никуда не ездили, лишь провели неделю на даче у Дьяковых под Москвой. В магазине при соседней фабрике уже ничего не было, в деревне, где стоял их дом, у жителей не могли купить не только молока, но даже и картошки. Все шло на пропитание семей и никаких излишков на продажу не оставалось.Глава 22 Бурное развитие микробной генетики за рубежом
80-ые годы, несмотря ни на что, были годами активных международных научных контактов и очень напряженной, и, как мне представляется, результативной работы сотрудников нашей лаборатории в области генетики актиномицетов и актинофагов уже с элементами селекции, а также, по мере возможностей, с использованием в применении к этим объектам методов генной инженерии. В июне 1982 года в г. Киото (Япония) состоялся Международный симпозиум по генетике промышленных микроорганизмов (GIM82). С. И. Алиханян с начала организации этих симпозиумов в 1970 году был постоянным членом Международного комитета по генетике промышленных микроорганизмов (GIMIC), который направлял работу этих симпозиумов. В разные годы в его состав входили известные ученые в этой области исследований. Ученые, которые по каким-либо причинам уже не могли участвовать в работе комитета, имели право предложить вместо себя другую кандидатуру, которая должна была быть утверждена действующими членами комитета. Я была приглашенным докладчиком на этом симпозиуме. В состав нашей делегации входили Владимир Георгиевич Дебабов, директор нашего института, Сергей Михайлович Навашин, директор института антибиотиков, и его заместитель Э. В. Барташевич, Александр Михайлович Боронин, уже тогда, по-моему, директор Пущиновского института биохимии и физиологии микроорганизмов. Сос Исаакович Алиханян по состоянию здоровья уже не мог поехать на этот симпозиум. В письме, адресованном GIMIC комитету, он предложил рассмотреть в качестве члена этого комитета мою кандидатуру. На заседании комитета (GIMIC) в начале работы симпозиума в комитет были кооптированы восемь новых членов. От нашей страны в него были включены А. М. Боронин и я. Я, практически, хорошо знала всех членов комитета как ученых, внесших значительные вклады в генетику промышленных микрорганизмов. Для большинства из них это было признание их научных заслуг. О своей роли я не задумывалась, а просто всегда работала, и это не рисовка, а чистая правда. Я была членом комитета (GIMIC) с 1982 года до начала 1990-х. Потом для меня наступили новые времена, и больше в работе этих симпозиумов я участия не принимала. Таким образом, за мою научную карьеру я участвовала в работе GIM74 (Англия), GIM82 (Япония) и GIM86 (Югославия) в качестве приглашенного докладчика. Мои доклады как приглашенного докладчика были также опубликованы в трудах GIM70 (Чехословакия) и GIM78 (США), на которых я по разным причинам не присутствовала. Вот уже 43 года проходят симпозиумы по генетике промышленных микроорганизмов (GIM), но я теперь не слежу за их работой. Из Москвы на симпозиум GIM82 прилетели в Токио беспосадочным рейсом за 12 часов. Как же изменился Токио с 1968 года! Ни ветхих построек в центре города, ни женщин в кимоно на улицах, ни маленьких палаток с сувенирами, ни торжественных религиозных шествий. Нас встретил представитель одной из японских фармацевтических фирм, с которой имел тесные контакта С. М. Навашин. Вот уж мы напробовались очень вкусных гигантских креветок с жареной картошкой, которые очень любил Сергей Михайлович. Разговорились. Наш гид упомянул, что он никогда не уходит в отпуск, т. к. боится перепоручить свою работу кому-то другому во время своего отсутствия. Мы с Лёней дружили со многими японскими коллегами, когда работали в Америке. И сейчас с некоторыми продолжаем переписываться. Конечно, у нас с ними были только дружественные и научные контакты и мы не спрашивали у них, как изменилась Япония за последние десятилетия. Но впечатления у меня остались, что теперешнее поколение японцев другое, более раскованное, да и удивляться тут совершенно нечему. В общем, как-то так получалось, что и мы много пользовались советами наших молодых японских коллег при работе в Америке и мы им тоже помогали осваивать актиномицеты и актинофаги и генетические методы работы с ними. Интересным для меня было то, что я видела, конечно, мельком — ту Японию, когда мои японские коллеги еще не родились или были совсем маленькими детьми. В. Киото из Токио ехали на поезде, который шел с такой скоростью, что рассмотреть окружающий ландшафт не удавалось, кружилась голова. В первый же день встретились с Д. Хопвудом и Джимом Шапиро, который тоже в 1982 году стал членом GIMIC. Зашли перекусить. Я все время расстраивалась, что не могла активно участвовать в быстром разговоре. Потом с Джимом поговорили о транспозонах, в изучении которых он в то время лидировал, а наши данные указывали на присутствие у варианта фага phiC31 чужеродной вставочной последовательности. И я, конечно, сразу почувствовала, насколько он более эрудирован в этой проблеме, чем я. К тому же он подарил мне пластинку с произведениями Малера. Он им очень увлекался и удивился, что я не слышала его произведений. На следующий день я сделала свой доклад, было много вопросов, оттиск этого доклада, опубликованного в трудах симпозиума, у меня сохранился. Мой доклад «Genetic approaches to the development of phage cloning vectors in Streptomyces» (Генетические подходы к конструированию фаговых векторов для клонирования у актиномицетов), опубликованный в трудах GIM82 (Proceedings of the IV-th International Symposium on genetics of industrial Microorganisms, 1982) в соавторстве с И. А. Сладковой, О. А. Клочковой, А. В. Ореховым, Т. А. Чиненовой и Н. М. Мкртумян подводил (повторюсь) итоги наших предыдущих исследований актинофага phiC31, содержал подробные данные по корреляции генетической, физической и рестрикционной карт ДНК этого актинофага. С помощью многочисленных делеционных мутантов фага была идентифицирована большая, размером 7,5 кв, несущественная для литического развития область ДНК актинофага. Это позволяло включать в эту область фрагменты чужеродной ДНК, например, ДНК актиномицетов, то есть использовать фаг в качестве переносчика генов актиномицетов или других микроорганизмов. В этой же области, как уже упоминалось, нами был идентифицирован ген, ответственный за синтез фермента интегразы, обеспечивающего встраивание генома актинофага phiC31 в хромосому актиномицета. Как и в случае с самим фагом phiC31, генно-инженерные опыты с геном интегразы начались только спустя десять лет после его идентификации в наших работах. Создание плазмидных векторов, несущих изолированный фаговый ген интегразы, — очень важный этап в генной инженерии актиномицетов. Я думаю, что мы и сами могли бы раньше подсуетиться с переносом гена интегразы на актиномицетную плазмиду. Наверное, это подсознательно тормозилось низким уровнем освоения нами методов генной инженерии. А может быть, мы просто в то время не сообразили это сделать. Единственное, что успокаивало, это то, что мы были такие несообразительные в хорошей компании с Китом Четером, а ученым из компании Илай-Лили потребовалось значительное время (те же заколдованные 10 лет), чтобы начать и осуществить эту работу. Сейчас уже в течение многих лет стало совершенно очевидным, что ген интегразы фага phiC31 играет уникальную роль не только в генной инженерии актиномицетов, но и генной инженерии других микробных, растительных и животных объектов. Начало изучению уникальных свойств интегразы фага phiC31 положили многолетние пионерские работы Маргарет Смит и сотрудников её лаборатории. Вернусь к содержанию нашего доклада, опубликованного в трудах GIM82. В докладе также подводились первые итоги работ по обнаружению и функционированию в геноме фага phiC43, родственного фагу phiC31, мобильной чужеродной последовательности, которая внедрилась в геном фага из хромосомы актиномицета. Впоследствии было показано, что эта последовательность содержится в хромосоме актиномицета, из которого был изолирован фаг phiC43 в количестве 5-ти копий. По одной копии ее содержали и модельные штаммы S.coelicolor A3(2) и S.lividans 66. Симпозиум очень интенсивно работал четыре дня. В последний день был устроен банкет для членов комитета GIMIC. Вот тут уже все было в традиционном японском стиле. Сидели за низкими столиками, подавали бесчисленную очень вкусную еду японки в кимоно. Киото почти не видели, а из Токио сразу улетели в Москву. В 1983 году я в последний раз участвовала в работе Международного Генетического конгресса, который состоялся в Дели. А всего на протяжении 15 лет подряд я была участницей Генетических конгрессов в Японии (1968 г.), США (1973 г.), в Москве (1978 г.) и в столице Индии Дели (1983 г.). От нашего института на Генетический Конгресс в Индию послали нас вдвоем с Нелли Исааковной Ждановой. Мы с ней и ее мужем Виктором Григорьевичем Ждановым работали в одном институте и часто общались. Оба они заведовали лабораториями в нашем институте, были выдающимися селекционерами и снабжали микробиологическую промышленность страны высокопродуктивными штаммами микроорганизмов — продуцентов биологически активных веществ. Как я уже упоминала, даже за несколько дней, проведенных в тесном общении, узнаешь человека лучше, чем за годы знакомства. В данном случае надо было немного подстроиться друг к другу. В первый же день состоялся торжественный ужин. Когда проглотили первый кусочек еды, рот как будто стал объят пламенем от большого количества перца и никакая вода не снимала этого состояния. Решили попробовать очень аппетитные на вид вегетарианские блюда, которых было очень много, но они оказались еще более острыми. Так что мы ушли с этого ужина голодными. Пришлось несколько дней довольствоваться московскими плавленными сырками с крекерами. Воду пили и чистили зубы только из запечатанных бутылок. Водопроводную воду в рот брать не полагалось. Жили мы в современном большом отеле. Там же проходили и заседания конгресса. Мой доклад в соавторстве с Т. Воейковой, А. Ореховым, и О. Клочковой, в основном, был посвящен анализу и получению гибридов между штаммами S.coelicolor A(3)2 и S. lividans 66 с целью получить оптимальный реципиентный штамм для молекулярного клонирования, совмещающий способность к эффективной трансформации и трансфекции плазмидной и фаговой ДНК штамма S. lividans 66 и имеющий удобные генетические маркеры от штамма S.coelicolor A(3)2. Но впоследствии мы этот штамм не использовали. Просто как-то не пришлось. Комнаты обслуживающего персонала отеля выглядели неопрятно. Из наших окон виден был длинный высокий забор, с утра вдоль него выстраивались мужчины, чтобы прямо на улице справить малую нужду. Продолжительные периоды года в воздухе города носились инфекции, и никто не был от них застрахован. Рикши, по-моему, передвигались на мотоциклах, а может быть, на велосипедах с прикрепленными к ним экипажами для двух пассажиров. Мы как-то избегали этого вида транспорта и ходили пешком. Торговцы раскладывали свой товар прямо на тротуарах, публика ела и отдыхала там же. В ювелирных магазинах было очень много красивых, сделанных с большим вкусом ювелирных украшений. Правда, мне было совершенно непонятно, настоящие ли они или поддельные. После долгих размышлений (с проблемой выбора у меня всегда проблемы) я все-таки купила себе небольшое кольцо с изумрудом. Хотела оценить его в Москве, но как-то так и не решилась. Так и ношу его иногда с удовольствием. Еще в последний момент купила себе платье шелковое, зеленое, оригинального фасона. Оно служит мне вот уже ровно 30 лет. Лёня его очень любил, хотя мне оно поднадоело. В середине конгресса нас опять пригласили на ужин. Вся еда была очень соблазнительной, особенно высокие красивые торты. Ужин мне обошелся дорого. На следующий день нас повезли на экскурсию, чтобы посмотреть одно из семи чудес света Тадж Махал. Что со мной творилось! По дороге ни одного туалета. Наконец, на одной из остановок ворвалась в туалет со строгой надписью: Только по малой нужде! Но тут уж было не до надписей. Поехали дальше. Вдоль всей дороги до конца нашего пути стояли какие-то подобия жилищ с нарами, открытые со всех сторон и только с ветхими крышами над головами, и в них ютились семьи с детьми. Это было тяжелое и незабываемое впечатление. Я удивилась, что не почувствовала такой драматической реакции со стороны своих коллег, англичан. Это все-таки была их бывшая колония. Наконец, подъехали к пункту назначения. Мавзолей-мечеть Тадж Махал был построен потомком Тамерлана императором Джаханом в память умершей от последних родов любимой жены. Сейчас в интернете есть подробнейшие описания этого Мавзолея, прекрасные фотографии и видеосъемки даже с самолета. Вид Тадж Махала превзошел все наши ожидания. К нему вела широкая аллея парка, которая почти от главных ворот при входе в парк переходила в широкий канал с фонтанами. С аллеи сразу открывался божественный вид на Мавзолей на фоне ослепительно синего неба. Дворец как-будто парил в небе. В общем, это зрелище запоминается на всю жизнь. Когда мы подошли ближе, фонтаны не работали, и можно было любоваться точной копией дворца — его отражением в прозрачных водах канала. Мавзолей весь как-будто светился, так как был построен из совершенно особого сорта мрамора, меняющего цвет в разное время суток и при разной погоде. Когда мы вошли внутрь, то увидели, что все стены дворца инкрустированы разнообразными полудрагоценными камнями. С тыльной стороны дворца внизу текла полноводная река Джамна, по которой плыл плот с покойником. Вернулись в Дели потрясенные увиденным. Конечно, остальные бесчисленные красоты Индии нам были не доступны. Но мы вполне довольствовались увиденным. На конгрессе часто общались с Дэвидом и Джойс Хопвудами. Они жили в другом отеле, и мы как-то раз поужинали вместе почти по-европейски. Проходя мимо доски с объявлениями в фойе конгресса, я заметила записку с моим именем с просьбой встретиться. При встрече я увидела перед собой китайца — участника конгресса. К сожалению, теперь я не помню ни его имени, ни фамилии. Мы с ним быстро выяснили на моем родном русском языке, что я — дочь Эммы Григорьевны Ломовской, у которой он учился в 50-х годах несколько лет в Московском университете и даже делал у нее дипломную работу. Он прекрасно говорил по-русски, хотя покинул Россию, наверное, больше тридцати лет тому назад. Тяжелые годы репрессий в Китае ему удалось пережить, так как он уехал в очень отдаленный от центра район. Работал там над выведением новых сортов риса, которые уже в то время широко использовались и давали высокие урожаи. Он стал видным ученым, профессором. Мою маму он вспоминал с уважением и любовью, передал ей письмо и сувениры. Когда я вернулась в Москву, мама сказала, что это был ее лучший ученик за все годы ее педагогической деятельности, и она была несказанно рада, что он жив, что помнит ее и что она получила от него такую теплую весточку. Оставалось два дня до окончания конгресса. И вдруг ко мне подошел незнакомый участник конгресса и сказал, что Дэвид и Джойс по пути в какой-то крупный научный центр на легковой машине попали в ужасную автомобильную катастрофу. Больше всех пострадала Джойс, которая после этого инцидента долгое время находилась в Дели в Британском госпитале. Дэвид отделался переломами. Я послала им свои соболезнования с надеждой на их скорое выздоровление. В последний день конгресса перед его участниками с большим, почти профессиональным докладом-приветствием выступила премьер министр Индии Индира Ганди. Кто мог предположить, что через короткое время она станет жертвой убийцы. Улетали мы в Москву на следующий день вечером. С борта самолета, когда он взлетел, видны были бесконечные костры на улицах Дели, у которых ночевали и грелись бездомные в уже холодные сентябрьские ночи. Наша дочка Оля в 1983 году завершила учебу в МГУ на кафедре молекулярной биологии. Молодые специалисты, окончившие эту кафедру, получали прекрасное образование и высоко ценились, как потом выяснилось, за рубежом. После окончания Университета Оля поступила в аспирантуру в лабораторию Романа Бениаминовича Хейсина в Институт молекулярной генетики АН СССР и была его последней аспиранткой, проводила на работе массу времени. Женщины, сотрудники лаборатории Романа Бениаминовича, по-моему, сокрушались, что по характеру Оля не похожа на свою маму. Роман Бениаминович безвременно, в 63 года, скончался летом все того же 1985 года, унесшего жизни стольких близких или тесно связанных с нашей жизнью людей. Наша внучка Анечка все первые классы ездила в школу на метро, пристраиваясь к какой-нибудь тёте. Я не помню, знали ли мы о том, что родители не провожали её в школу. В 1984 году совершенно неожиданно, я получила приглашение от Виктора Николаевича Крылова, заведующего лабораторией бактериофагов в нашем институте, сделать доклад на секции бактериофагов на Вирусологическом конгрессе в г. Синдае, Япония. В. Н. Крылову был предложен пост председателя этой секции с привилегией составить ее программу, и он включил в программу мой доклад по генетике и молекулярной биологии актинофагов. Я всегда относилась с большим уважением к научным достижениям Виктора Николаевича и особенно к тому, сколько новых феноменов ему и его сотрудникам удавалось открыть в области, в которой трудилось так много выдающихся бактериофагистов. С ним лично у меня не было тесного научного общения, но работали мы значительную часть нашей жизни в одних и тех же научных учреждениях. Я была польщена его выбором, т. к. давно известно, как трудно быть пророком в своем отечестве. Как представляется, г. Синдай был выбран для проведения в нем Вирусологического конгресса в честь названия именем этого города вируса, изолированного в 1952 г. японским вирусологом Н. Курога. В. Японию мы летели втроем: академик Виктор Михайлович Жданов, директор Института вирусологии АМН СССР, Виктор Николаевич Крылов и я. Первый раз за рубежом у меня оказалось много свободного времени. Работа секции закончилась в первые дни, и я посещала только общие обзорные доклады по животным и растительным вирусам. Город на берегу океана был очень живописным, правда, расположенном в дождливом и влажном районе Японии. Такого оригинального, но такого трудоёмкого спопоба ходить сухим целый день под дождем я еще не встречала. Весь центр, а может быть и значительную часть города покрывала стеклянная крыша. На нашей секции было много докладов по вирусам сбраживающих микроорганизмов, вообще направленность секции была прикладная. Докладчики приехали из многих стран. У меня даже сохранилась фотография всех докладчиков нашей секции, но фамилий я вспомнить не могу. В честь окончания секции нас пригласили в ресторан, где стол был уставлен разнообразными блюдами, приготовленными из сырой рыбы. В этот день почти ничего попробовать не удалось, хотя есть очень хотелось, но потом нам привил вкус к сырой рыбе сотрудник советского посольства, который по долгу службы сопровождал нашего академика Виктора Михайловича Жданова. Он же и упомянул, что сырая рыба составляет значительную часть рациона сотрудников советского посольства. Послушать мой доклад пришла Джейн Вестфелинг — американский генетик актиномицетов, с которой мы познакомились во время моего визита в лабораторию Д. Хопвуда в 1980 году. Ей мой доклад понравился. Она тогда еще не работала с актинофагами, и ей было интересно узнать сразу всю сумму данных, полученных за последние годы в нашей лаборатории по изучению актинофага phiC31. Джейн была красивая, очень коммуникабельная, она недавно вышла замуж и приехала на конгресс с мужем. Пара очень хорошо смотрелась. В тот же вечер они пригласили меня в ресторан вместе с Ральфом Кёрби, тоже нашим коллегой-актиномицетчиком. В то время он работал в Кейптауне в Южно-африканской республике. В. Синдае он глотнул настоящей японской экзотики, поселившись в отеле, который снимали японцы. К тому же это было и дешевле. В ресторане мы сидели на подушках за очень низким столом, а в соседнем зале японцы сидели за обычными столами. Это, конечно, удобнее. Ели здоровую пищу, обмакивая на очень короткое время тонкие куски сырого мяса и овощей в чан с кипящей водой. На следующий день улетали в Токио. Оба Виктора с удовольствием переложили на меня все переговоры о нашем дальнейшем пребывании в Токио. По прибытии нашего такси к отелю его очень долго осматривали на предмет наличия в нем бомбы. Организаторы конгресса не поскупились на деньги для докладчиков, и я купила двухкассетный магнитофон очень хорошего качества. Тогда в Москве все пользовались кассетами, о дисках еще и не помышляли, хотя вскоре они появились неожиданно быстро. Магнитофон честно служил нам и нашим знакомым, любителям качественных записей. Не исключено, что там было и место для прослушивания дисков. В конце лета 1985 года я участвовала в симпозиуме по биологии актиномицетов (ISBA) состоявшемся в Венгрии. О своей юбилейной дате (50-летии) по секрету сказала только Киту Четеру. Конечно, я свой доклад подготовила, но когда мы обсудили наши и его данные, то решили сделать один доклад на двоих и его, конечно, сделал Кит Четер. После доклада ко мне подошла одна участница симпозиума и поинтересовалась, как это мы, работая в разных странах, можем так координировать наши исследования. В последний день симпозиума всех актиномицетных генетиков пригласил к себе Ш. Биро, который какое-то время был на стажировке в отделе Д. Хопвуда, а недавно продолжительное время работал в лаборатории Ричарда Хатчинсона в Виснонсинском университете. Я ему завидовала белой завистью, потому что он, работая в Америке, освоил метод определения нуклеотидных последовательностей актиномицетных генов и очень этим гордился. Международный симпозиум по генетике промышленных микроорганизмов, Киото, Япония, июнь 1982 г. Слева направо сидят Н. Д. Ломовская, В. Г. Дебабов и С. М. Навашин. Все довольны.
Международный симпозиум по генетике промышленных микроорганизмов, Киото, Япония, июнь 1982 г. Слева направо сидят Н. Д. Ломовская, В. Г. Дебабов и С. М. Навашин. Все довольны.
 Торжественный приём по случаю избрания новых членов в орг. Комитет Международного Симпозиума по генетике промышленных микроорганизмов, 1982 год. Слева Хильда Шремп, ФРГ, справа Наташа Ломовская, СССР. Фамилию мужчины в центре вспомнить не могу.
Торжественный приём по случаю избрания новых членов в орг. Комитет Международного Симпозиума по генетике промышленных микроорганизмов, 1982 год. Слева Хильда Шремп, ФРГ, справа Наташа Ломовская, СССР. Фамилию мужчины в центре вспомнить не могу.
 Международный вирусологический конгресс, секция бактериофагов, докладчики на секции. Во главе секции В. Н. Крылов, пятый справа. Крайняя справа Н. Д. Ломовская.
Международный вирусологический конгресс, секция бактериофагов, докладчики на секции. Во главе секции В. Н. Крылов, пятый справа. Крайняя справа Н. Д. Ломовская.
 Академик Медицинской Академии Наук СССР. Жданов, профессора Н. Д. Ломовская и В. Н. Крылов. Справа сотрудник Советского посольства, который научил нас есть сырую рыбу. Всё Советское посольство увлекалось этой полезной едой. Академиков полагалось сопровождать сотрудниками посольства.
Академик Медицинской Академии Наук СССР. Жданов, профессора Н. Д. Ломовская и В. Н. Крылов. Справа сотрудник Советского посольства, который научил нас есть сырую рыбу. Всё Советское посольство увлекалось этой полезной едой. Академиков полагалось сопровождать сотрудниками посольства.
Глава 23 Ох, уж эта вторая половина 80-х! Дома и на работе
По возвращении из Венгрии отметили дома мое 50-летие сначала с друзьями, а потом пригласили к нам домой сотрудников моей лаборатории. Они подарили красивый батик, который до сих пор на протяжении стольких лет и перемещений еще висит у нас дома, но уже в Америке. В это время в СССР уже началась вовсю антиалкогольная компания. Гости что-то пили, но совсем немного. Позже пришел муж Норы Мкртумян Мурад с бутылкой коньяка и устыдил нас всех. Как мне говорили мои сотрудники, в каждой лаборатории института обязательно имелся осведомитель, но я до сих пор так и не знаю, кто же это был. Не помню также, кто мне рассказал, что и кабинет директора нашего института тоже всегда прослушивался. Сидя вместе в моём кабинете на работе мы с Норой Мкртумян уже давно привыкли обсуждать мировые проблемы вне его стен. В общем, уже в середине 80-х, когда казалось, что наступает время перемен, большинство жителей нашей страны продолжали, как и прежде, как овцы, послушно выполнять решения властей. Так в это время была выкорчевана по указке сверху виноградная лоза ценнейших сортов крымских вин, вино вообще исчезло с прилавков магазинов, за водкой выстраивались гигантские очереди, пока на нее не ввели талоны. О жизни по талонам чуть попозже. Вообще постепенно из магазинов все стало исчезать, начался период товарообмена. Т. к. у нас в руках никакого товара не было, то мы раньше других стали ощущать наступающий дефицит, несмотря на высокие зарплаты, которые мы еще продолжали получать. Мы с Лёней нарисовали кривую, которая должна была указать, когда же исчезнут все продукты из магазинов. Вышло все точно по этой кривой. А власть провозглашала необходимость построения социализма с человеческим лицом. В начале 80-х мы перестали снимать подмосковные дачи. В последнее подмосковное лето еле унесли ноги с дачи, хозяином которой оказался наркоман. Дачу сдала его жена, которая потом исчезла. Уехали с дачи, прихватив бедную, не кормленную хозяином маленькую собачку. Ее взяла к себе Анина няня. Все последующие годы Анечку летом попеременно пасли в Прибалтике — Эстонии или Литве. Жили обычно около озер, в красивых местах, хорошо питались и даже кое-что покупали из того, что уже давно нельзя было купить в Москве. Пару раз в 80-е по 10–12 дней отдыхали зимой по блату (путёвки туда нам доставала подруга Миры, Лёниной сестры) в доме отдыха санаторного типа, принадлежащего крупному авиазаводу. Рабочих и нас вместе с ними еще хорошо кормили. Мы (особенно, конечно, я) наслаждались лыжными прогулками, ходили по темному лесу в кино в соседний санаторий. Каждую субботу и воскресенье в нашем доме отдыха в отдельном корпусе отдыхало заводское начальство, а мы пользовались буфетом, который приезжал вместе с ними, покупая там, главным образом, уж самый дефицит, банки с консервированными ананасами. В 1987 году я поехала вместе с Олей, Анечкой и Мишей на горнолыжную станцию в Карпатах. Только там я почувствовала, что отношения между Олей и Мишей стали портиться. Мы всегда относились к Мише хорошо. И вдруг я неожиданно увидела, как плохо он стал относиться к Оле, и ее многочисленные усилия сглаживать конфликты ни к чему не приводили. И действительно, после почти десяти лет совместной жизни они разошлись по Мишиной инициативе. Он не претендовал на их квартиру, и она впоследствии по сложному обмену досталась папиному внуку Володе, сыну старшей Наташи. Оля с Анечкой переехали в квартиру моего папы, а папа после первого инсульта переехал жить к нам. Мы, фактически, вдвоем в нашей последней московской квартире и не жили. Сначала несколько лет жили с молодой семьей, потом даже с Аниной няней, а потом много лет с нами жила моя родная тетя Валя, сестра моей мамы, когда она ушла на пенсию. Папа прожил у нас недолго, и опять приехала к нам совсем одинокая тётя Валя, которая жила у нас до нашего отъезда в Америку. Ее родная дочь, моя двоюродная сестра Галя, уже очень давно жила с сыном в Швеции, переехав туда из Израиля. Один раз Валя ездила в Швецию уже в 80-х. Связь с дочерью поддерживалась в письмах и небольших посылках. С разрывом менее чем в два года (в 1986 и 1988 годах) мы с Лёней оперировались в онкоцентре, сначала я, а потом и он. Оба раза нас туда мгновенно устраивал Николай Павлович Бочков. Он в течение многих лет был директором Института медицинской генетики и занимал различные высокие административные посты в президиуме АМН СССР. Я с Николаем Павловичем Бочковым познакомилась в далеком 1965 году на симпозиуме в Чехословакии, посвященном столетию со дня открытия законов Менделя. Потом периодически виделись уже в Москве на разных научных конференциях, встречались, как старые знакомые. С Лёней и в 70-е, и в 80-е годы у Н. П. Бочкова были частые деловые контакты и очень непростые рабочие взаимоотношения. После моей операции в онкоцентре в 1986 году я на какое-то время впала в глубокую депрессию и уж не знаю как, но вывел меня из нее Миша, забежав на минуточку к нам домой. Я была ему очень благодарна. Когда мы неожиданно узнали в 1988 году, что и Лёне предстоит онкологическая операция, мы просто не могли поверить, что на нас опять свалилось такое несчастье. Но хирурги в обоих случаях вернули нас к жизни. Оля защитила кандидатскую диссертацию в 1988 году и, наверное, впервые в жизни надела на банкет в честь защиты юбку, которую Лёня привез ей из Чехословакии. Банкет, конечно, был у нас дома. Мужчины, присутствующие на банкете, были в шоке, т. к. были приятно удивлены, увидев Олю в совершенно новом обличье. Лёня в это время был в очередной командировке, т. к. курировал одну из научных программ по взаимодействию со странами СЭВ. Оля тогда уже в течение многих лет была исполнительницей бардовских песен. Она знала их бесчисленное множество и производила на аудиторию сильное впечатление своим прекрасным исполнением. Пели на банкете по очереди с Сережей Миркиным, который долгие годы работал в лаборатории Р. Б. Хейсина, и Оля дружила с ним и его женой Леной. Вскоре Оля поступила на работу в институт микробиологии АН СССР, правда, там не было абсолютно никаких условий для работы молекулярного биолога. Ситуация в стране стала молниеносно меняться и неожиданно стал приоткрываться железный занавес. Оля сразу, ничего нам не говоря, послала свое резюме в разные страны и готова была ехать даже в Австралию, куда её немедленно пригласили. А научная жизнь в мире, в том числе и в области микробной генетики, продолжала интенсивно развиваться. Как всегда, функционировал Международный симпозиум по биологии актиномицетов (ISBA). Сначала на этих ISBA симпозиумах превалировали доклады по актиномицетам рода Streptomyces, которые образовывали большинство используемых в медицине антибиотиков. Поэтому на обоих симпозиумах присутствовала практически одна и та же стрептомицетная публика. Я участвовала в работе 4-х симпозиумов по биологии актиномицетов в 1985 году (Венгрия), в 1989 году и в 1991 году (США, Денвер и Мадисон) и в 2001 году (Канада). В 1994 году ISBA должна была состояться в Москве, и я была выбрана председателем московского симпозиума. На последнем заседании симпозиума в Мэдисоне в 1991 году мне пришлось выступить и пригласить всех присутствующих принять участие в московском симпозиуме. В момент, когда раздались аплодисменты, я как-то вдруг почувствовала, что это мой звездный час. Но это состояние продолжалось совсем недолго. Так случилось, что в 1992 году я уже приехала работать в Америку, и мы с профессором Ричардом Хатчинсоном, который пригласил меня к себе в лабораторию в качестве приглашённого профессора вместе с супругом, приготовили и отправили в Москву несколько сот экземпляров первого информационного письма. Но я уже не смогла участвовать в этом московском симпозиуме из-за сложности оформления документов для выезда из Америки в Москву. Теперь тематика этих симпозиумов резко изменилась и доклады, в основном, посвящены актиномицетам других родов. На последнем таком симпозиуме в 2012 году выступал с докладом Сергей Зотчев, мой молодой коллега еще по Московскому институту, наш коллега и близкий друг по работе в Мадисоне. Несколько лет после работы в лаборатории Р. Хатчинсона он стал заведующим лабораторией в Транхейме (Норвегия), а теперь с семьей живет и работает в Германии, и мы при оказии видимся с ним, его женой Ольгой и дочерьми Катей и Наташей. Да, как-то стало труднее писать. Наверное, потому, что не просто выкроить время, чтобы продолжить эти воспоминания. И еще давит груз того, что надо это все отредактировать. Тревожат мысли, надо ли было вообще за все это браться. Хотя представляется, что в данный момент, как это ни удивительно, для меня сейчас это самое интересное занятие. И совершенно невозможно представить, как сложится судьба этих воспоминаний и найдутся ли вообще хоть какие-нибудь читатели. Да, и еще я всегда очень сожалею, что не обладаю зорким зрением, поэтому отношусь с большим пиететом к людям, которые все вокруг замечают. Кумиром в этом отношении у меня всегда был писатель Иван Бунин. К ним относится и Дэвид Хопвуд, выдающийся ученый и человек. Но если бы я обладала этим даром, то воспоминания сильно бы увеличились в объеме. Моя зоркость, как мне кажется, распространилась исключительно только на мою научную работу и только в период моей активной научной деятельности. Ладно, все равно, отступать некуда. В 1986 году осенью состоялся очередной международный симпозиум GIM86 в г. Сплит в Югославии. Меня пригласил сделать доклад на своей секции Джузеппе Сермонти. Я уже упоминала о нем как об одном из двух родоначальников генетики актиномицетов. Он дружил с С. И. Алиханяном, приезжал в его лаборатория вместе со своей женой и коллегой Изабеллой Спада-Сермонти еще в 60-х годах, посылал ему и мутанты модельного штамма S.coelicolor A(3)2. В день приезда в Сплит было жарко, и я неосторожно выпила залпом стакан холодной воды и совершенно охрипла. Ни искупаться в роскошном море, которое плескалось в нескольких метрах от отеля, ни пообщаться толком. Правда, на следующий день после нашего приезда ко мне подошел Гриша Ениколопов из Московского института молекулярной биологии и заметил, что он еще никогда не видел советского ученого, который бы пользовался такой популярностью на зарубежном симпозиуме. Конечно, он преувеличивал. Помню, что Дэвид Хопвуд познакомил меня со знаменитым Стэнли Коэном из Стэнфордского университета, рядом с которым мы сейчас живем. Он мельком скользнул по мне взглядом, хотя уже несколько лет работал с актиномицетами. В этот вечер все долго веселились и танцевали под зажигательную музыку югославского оркестра. На следующий день я все-таки искупалась. К докладу голос почти восстановился. В докладе, где моими соавторами были старожилы нашей лаборатории Нора Мкртумян, Таня Воейкова и Лида Емельянова, были представлены данные конструирования фаговых векторов с использованием и без использования методов генной инженерии. Разнообразные варианты последних были отобраны в фаговом потомстве лизогенных штаммов, содержащих в своей хромосоме два профага. Эти векторы, образованные в результате рекомбинации между двумя профагами, в дальнейшем были нами широко использованы для изучения взаимодействия фага phiC31 с продуцентами антибиотиков. Эти исследования заложили основу для использования в наших с Лёней работах уже в Америке фаговых векторов, сконструированных на основе фага phiC31 в качестве переносчика клонированных актиномицетных генов не только в модельные актиномицетные штаммы, но и в продуценты антибиотиков, используемые в медицине. Это имело большое значение для идентификации генов антибиотикообразования в актиномицетных хромосомах и для последующего изучения функций этих генов, чем мы и стали активно заниматься, уже приехав в Америку. Много общались на этом симпозиуме с югославскими коллегами, которые многие годы очень успешно работали с актиномицетами Марией Алачевич, Владимиром Деличем, Ясенкой Пигач, с которой мы подружились и переписывались. Югославская фармакологическая компания Плива была одной из ведущих в Европе в области селекции высокоактивных продуцентов антибиотиков. Улетала я в Москву из аэропорта в Дубровнике. Дорога из Сплита вилась вдоль моря. Автобус выехал рано, хотелось спать. Но невозможно было оторвать глаз и пропустить красоты моря и многочисленных островов на всем протяжении пути. Живописным был и город Дубровник. Во время симпозиума я спросила у Дэвида Хопвуда, не хочет ли он все-таки когда-нибудь приехать в Москву, и вдруг он сказал, что хочет. Вернувшись домой, я написала директору нашего института В. Г. Дебабову, как и полагалось, бюрократическим стилем, докладную о большой целесообразности приглашения для посещения института с докладами двух крупных английских генетиков Д. А. Хопвуда и К. Ф. Четера с супругами. В министерстве согласились и выделили деньги для их визита. Визит Джойс и Дэвида Хопвудов и Джейн и Кита Четеров состоялся в 1988 году. Сначала поехали впятером на несколько дней в Ленинград. На кафедре генетики ЛГУ нас встретил ее заведующий Сергей Георгиевич Инге-Вечтомов, которого я хорошо знала долгие годы просто как Серёжу. Ленинград — отдельная вотчина, что сразу почувствовалась в том, как откровенно Сергей Георгиевич стал рассказывать нашим гостям о положении в стране. Я бы в то время еще не решилась. Попросил он сопровождать нас Никиту Николаевича Хромова-Борисова (наверное, потому, что он тоже имел двойную фамилию), одного из ведущих сотрудников кафедры. Мы об этом ни разу не пожалели. Для нас, конечно, он все время был просто Никитой. Дэвид сразу оценил его достоинства. Поселили нас в роскошном отеле для иностранцев с видом на Финский залив. Меня, правда, запихнули в комнату рангом ниже, но я не стала качать права. Кормили по буфетной системе, очень вкусно. Каждая еда стоила только один рубль, т. е. ничего не стоила. Как же мы много увидели в Ленинграде за этот короткий визит! Никите помогали сотрудницы кафедры. Побывали во всех пригородах. Помимо дворцов и музеев, открытых для публики, проникли во дворцы, которые обычной публике еще не были доступны. В одном из дворцов, по-моему, Шереметьевском, который давно уже был превращен в учреждение и весь был перегорожен на комнатушки, началась реставрация и уже был реставрирован прекрасный концертный зал, и нам разрешили остаться в нем на симфонический концерт. Дэвид абсолютно уверовал, что Никита может все устроить. Попали благодаря Никитиным стараниям в Мариинский оперный театр в царскую ложу. Билеты он достал только для нас, но Дэвид сказал, что он бьется об заклад, что мы увидим Никиту, сидящего в паркете. Так и случилось. Какой балет смотрели, не помню. Помню только, что хороший. Вернулись в отель, и Джойс с Дэвидом признались, что сегодня годовщина их серебряной свадьбы. Скоро в Никитиных руках возникла бутылка шампанского, и мы уселись в каком-то уютном уголке и ее распили. Было очень весело, каждый блистал юмором. Пожалуй, квинтэссенцией был рассказ Хопвудов о том, что познакомились они в кинотеатре, по-моему, в Ливерпуле, при просмотре картины С. Эйзенштейна «Александр Невский». Парадоксы жизни и пример взаимопроникновения культур, несмотря ни на какие преграды. Еще же был такой плотный железный занавес в 60-ые! И все-таки картина гениального русского режиссера, безвременно ушедшего из жизни, — в Англии! Правда, в Москве в 1961году состоялся Международный биохимический конгресс и Джойс принимала в нем участие как биохимик по образованию. Там она познакомилась с известным ученым Рудольфом Салгаником и удивилась, как свободно они с ним говорили на некоторые политические темы. Когда она его об этом спросила он ответил со смехом, что он уже живет в Сибири. Единственное, что не удалось организовать в Ленинграде, так это собрать публику на доклад Д. Хопвуда. Но он сделал доклад в полном объеме. Больше всех информации досталось, конечно, мне. Возвращались в Москву в вагоне с двухместными купе. Моим соседом был молодой мужчина, священник высокого сана. Мы с ним проговорили почти всю ночь. Он работал по международным связям Московской патриархии и чувствовалось, что будет подниматься по служебной лестнице. Мне казалось, что я запомнила его имя, но сейчас в этом не уверена. Киту Четеру, на удивление, больше нравилась Москва, может быть, потому, что она уже была ему больше знакома. В. Москве и Кит, и Дэвид уже выступали перед полной аудиторией в нашем институте, посмотрели несколько лабораторий. Кстати, в своей недавно опубликованной книге «Streptomyces in Nature and Medicine: The antibiotic Makers» Oxford University Press, 2007, Дэвид Хопвуд описал почти детективную, по тогдашним советским меркам, историю. Им для определения нуклеотидной последовательности актиномицетной ДНК был необходим фермент рестриктаза, расщепляющий специфическую последовательность актиномицетной ДНК, который они не могли найти в фирмах, специализирующихся на синтезе и продаже этих ферментов. И вдруг в разговоре с одним из сотрудников нашего института выясняется, что в нашей лаборатории имеется микроорганизм, образующий эту рестриктазу и сама рестриктаза. Дэвиду, конечно, очень хотелось сразу просто попробовать, подходит ли этот фермент для их целей. Конечно, на передачу даже просто рестриктазы без ее продуцента требовалось разрешение. Гости какое-то время оставались в холле института, хотя на них уже подозрительно поглядывал представитель спецслужбы. Наконец, появился сотрудник, обладатель фермента, попрощался с гостями и мы уехали в другой институт. При рукопожатии маленькая пробирочка с нужным ферментом оказалась между пальцами Кита Четера. Полученная таким способом рестриктаза действительно расщепляла необходимую специфическую последовательность в актиномицетной ДНК. Это позволило провести все предварительные эксперименты. Через некоторое время американская фирма выделила и стала продавать аналогичный фермент, который и использовали в дальнейшей работе. В этот же день наши гости побывали в институте биоорганической химии АН СССР им. М. М. Шемякина, теперь имени Шемякина и Овчинникова. Не могу вспомнить ни одного примера, когда бы институт или другое учреждение было имени сразу двух людей. Я могу ошибаться, но, по-моему, наши гости восприняли этот институт как потемкинские деревни и сразу оценили, какие громадные деньги были вложены в его оборудование и другое оснащение. Потом все вместе поехали в Институт антибиотиков АМН СССР, где директором был С. М. Навашин, долгие годы работал С. И. Алиханян и куда я пришла на работу после окончания университета. В памяти, к сожалению, ничего не сохранилось об этом визите, зато есть две единственные фотографии в память о визите Хопвудов и Четеров в Москву, сделанные в кабинете директора и у входа в институт антибиотиков. Джойс и Дэвид Хопвуды писали, что они послали письмо с московскими фотографиями из Англии в Москву, но оно где-то осело и до меня не дошло. В. Н. Даниленко организовал поездку в Суздаль, достал где-то большую машину, и мы все в ней поместились. И дорога на Суздаль, и сам город произвели большое впечатление. Мне казалось, что в Суздале очень много сохранилось церквей и других очень старинных построек и активно велись реставрационные работы. В магазинах было много красивых русских сувениров, рассчитанных уже на иностранцев. И, конечно, в те годы на них еще не было написано, что они сделаны в Китае. Русские сувениры из Москвы сейчас сплошь имеют эту отметочку «Made in China». Когда мы в 2013 году году побывали на Аляске, то абсолютно все многочисленные сувениры с символикой Аляски были сделаны в Китае. В один из последних дней визита мы пригласили наших гостей и директора нашего института В. Г. Дебабова с супругой к себе домой. Не обошлось и без присутствия представителя иностранного отдела. Я ей заметила, что у нас в гостях будет же директор института, но и ему не было полного доверия. Надзор продолжался. Прощаясь в аэропорту, Дэвид заметил вскользь «It could not be better». Так эта фраза и сохранилась в моей памяти. Пишу и одним глазом поглядываю на телевизор. Сегодня, 13 марта 2013 года произошло крупное событие для всех католиков земли в количестве 1,2 млрд человек. Над Сикстинской капеллой в Ватикане появился белый дым, возвещающий об избрании нового Папы римского. Им стал кардинал из Аргентины Хорхе Марио Бергогльо. Это первый в истории прецедент избрания папы римского не из Европы. Новый папа римский, именуемый теперь Франсисом I — первый папа римский из Южной Америки, где проживают 500 млн католиков. Все американские телеканалы транслируют репортажи торжественной церемонии перед папским дворцом на площади Святого Петра, где собрались тысячи людей. В толпе много молодежи, развеваются флаги разных стран, все под зонтами, идет дождь. Интервьюируют молодых американцев. Они вовсе не католики, но просто они рады присутствовать на таком важном историческом событии. Начинается парад папских войск, возглавляемый большим военным оркестром, потом идут гвардейцы с копьями и другие виды войск, включая матросов. Все они выстраиваются сбоку от балкона, где должен появиться новый папа римский. Толпа ликует при его появлении. Мы с удовольствием в эти минуты вспоминаем как в 2000-м году имели возможность побывать в Ватикане на площади Святого Петра и в его, наверное, самой прекрасной обители, Сикстинской Капелле. Теперь вернусь к тем событиям 80-х, практически, последнего десятилетия нашей московской жизни, о которых еще не успела рассказать. Д. А. Хопвуд и К. Ф. Четер с визитом в Москве, 1989 год. По бокам от Дэвида слева Нора Мкртумян, справа Наташа Ломовская. Посетили Всесоюзный Научно-исследовательский институт антибиотиков.
Д. А. Хопвуд и К. Ф. Четер с визитом в Москве, 1989 год. По бокам от Дэвида слева Нора Мкртумян, справа Наташа Ломовская. Посетили Всесоюзный Научно-исследовательский институт антибиотиков.
Глава 24 Как сладки научные остатки!
В общем, конечно, все 80-е годы в нашей лаборатории были посвящены очень напряженной работе в разных направлениях. Вплоть до 1987 года публиковались работы, связанные с дальнейшим генетическим изучением фага phiC31, физическим изучением его ДНК и его взаимоотношениями со штаммами актиномицетов, образующих антибиотики и другие биологически активные вещества. Очень существенный вклад по получению делеционных мутантов фага phiC31, определению их фенотипов, картированию их на генетической карте phiC31 внесла Л. Б. Васильченко. Большая работа по изучению генетических свойств вариантов фага phiC43, несущих вставочную последовательность IS281 в районе гена интегразы фага phiC43 и отличающихся по морфологии негативных колоний в зависимости от длины вставки, была осуществлена Т. А. Чиненовой и О. А. Клочковой. Помню, как мы с Олей Клочковой (две довольно эмоциональные личности), рассматривая различную морфологию негативных колоний фага phiC43, предсказывали, какие структурные изменения они имеют в своем геноме, молекуле ДНК, и оказывались правы. Все работы по картированию полученных генетиками делеционных мутантов на физической карте ДНК актинофагов phiC31 и phiC43, а также подготовка этих материалов к печати была осуществлена И. А. Сладковой. По-существу, ее работа в тесном контакте с сотрудниками нашей лаборатории продолжалась с 1977 по 1984 год. Трудно переоценить ее вклад в эти исследования, также как и точность полученных ею результатов. Эти работы были направлены целиком на изучение возможностей конструирования на основе этих фагов векторов различного назначения для молекулярного клонирования чужеродных генов. Мне представляется, а может быть, это проскользнуло в нашем с ней разговоре, что она в своей работе могла бы обойтись и без нас. Как-то у нее в связи с важностью полученных ею результатов, может быть, утратилось чувство реальности, что она анализировала структуры ДНК фагов, которые перед этим подробно изучались генетически, и только после этого мы решали, следует ли анализировать структуру их ДНК. Мы-то очень хорошо понимали, что большая работа по корреляции генетических и физических карт актинофага phiC31 и определению функций большого числа фрагментов фаговой ДНК могла быть осуществлена только в результате наших совместных усилий. Я выделила Ирине Алексеевне отдельную комнату на этаже, который занимала наша лаборатория, и больше, наверное, в силу большой занятости, уже не интересовалась ее работой. Кроме того, в этот период середины 80-х К. Ф. Четером и его коллегами в отделе Д. А. Хопвуда, в связи с быстрым освоением методов генной инженерии в применении к актиномицетам, были сконструированы векторы на основе фага phiC31, и теперь уже Кит Четер стал посылать их нам. Как я уже упоминала, нам удалось, воспользовавшись одним из векторов Кита Четера, отобрать целую серию новых разнообразных векторов среди потомства двойного лизогенного штамма S.lividans 66, не прибегая к конструированию фаговых векторов с помощью генной инженерии. Это называется «Голь на выдумки хитра». Некоторые из этих векторов мы использовали, уже работая в Америке. В 1982 году мы с Т. А. Чиненовой и Н. М. Мкртумян опубликовали статью в журнале Генетика, т. 18, № 12, 1425, «Генетическая характеристика нового признака фаговой резистентности у штамма S.coelicolor A(3)2». Мы не публиковали материалы этой статьи в зарубежных журналах, но ее содержание стало известно, так как журнал «Генетика» в течение многих лет уже издавался на английском языке. Феномен ограничения развития фага phiC31 в модельном генетически изученном штамме S.coelicolor A(3)2 мы стали изучать спустя 10 лет после того, как нами же был изолирован фаг phiC31. Вот мы сами и поучаствовали в этом странном явлении, когда какой-то факт становился известным, а изучать его начинают через довольно продолжительное время. Наверное, каждый раз по разным причинам. Как я уже упоминала, когда мы изолировали фаг phiC31 и послали его в лабораторию Д. А. Хопвуда, его там стали изучать приблизительно спустя 10 лет. Итак, сразу после изоляции фага phiC31 становится очевидным, что фаг не действует на исходный штамм S.coelicolor A(3)2, не образует зон лизиса и негативных колоний на газоне этого штамма. Правда, можно было легко выделить варианты штамма S.coelicolor А(3)2, чувствительные к фагу и работать с ними, что мы и делали весьма продолжительное время. Начиная изучать феномен фагоустойчивости штамма S.coelicolor А(3)2, мы обозначили его фенотип как Pgl+ (phage growth limitation, по-русски — ограничение развития фага). Каждый полученный факт этого исследования приводил нас в изумление. Оказалось, что фаг не только адсорбируется на штамме S.coelicolor А(3)2 Pgl+, но и образует нормальное фаговое потомство (около 40 частиц) освобождающихся после лизиса и гибели инфицированной прорастающей споры штамма А(3)2 Pgl+. Кроме того, с высокой частотой образуются и лизогенные варианты штамма S.coelicolor А(3)2 Pgl+, у которых фаговая ДНК интегрирована в хромосому штамма S.coelicolor А(3)2 Pgl+. Значит, фаг phiC31 свободно проникает в прорастающие споры штамма S.coelicolor А(3)2 Pgl+ и или их лизирует, убивает, образуя фаговое потомство, или встраивается в хромосому. Однако фаг, размноженный однажды в штамме S.coelicolor А(3)2 Pgl+, уже был не способен ни к лизису этого штамма, ни к его лизогенизации. Оставалось предположить, что фаг, прошедший один цикл размножения в штамме S.coelicolor А(3)2 Pgl+, изменяется (модифицируется) таким образом, что больше не способен размножаться в этом штамме. На основании этих данных мы предположили, что в механизме ограничения размножения фага в штамме S.coelicolor А(3) Pgl+ участвуют, по крайней мере, продукты двух генов. Один из них модифицирует фаговую ДНК, а другой препятствует размножению модифицированного фага в штамме S.coelicolor А(3)2 Pgl+. Оба гена, обозначенные как pal и pgl, были локализованы нами в одном и том же участке хромосомы штамма S.coelicolor А(3)2 Pgl+, отличном от локализации участка интеграции профага в хромосому. Можно было предположить, что система Pgl+ могла функционировать в качестве защиты от действия актинофагов целой популяции клеток актиномицетов, а не отдельных её представителей. В этой же статье подтверждалось, что фенотип Pgl+ является генетически нестабильным, то есть у штамма S.coelicolor А(3)2 Pgl+ с высокой частотой возникали варианты S.coelicolor А(3)2 Pgl, чувствительные к фагу phiC31. Из последних, в свою очередь, можно было легко изолировать варианты S.coelicolor А(3)2 Pgl+. Частота возникновения Pgl вариантов у штамма Pgl+ и Pgl+ вариантов у штамма Pgl была значительно выше, чем частота точечных мутаций. То есть, мы прибавили К довольно значительному числу генетически нестабильных признаков у актиномицетов, включающих и такой важный признак как способность к образованию антибиотиков, еще один. Механизмы явления генетической нестабильности у актиномицетов могли быть детально изучены только в результате изоляции отдельных генов с последующим изучением их структуры и функций с помощью методов генной инженерии. Так и остался ждать своих магических десяти лет для последующего изучения открытый нами новый феномен ограничения развития фага phiC31 в штамме S.coelicolor А(3)2. Насколько мне известно, такой механизм не был описан при изучении взаимодействия других бактерий с бактериофагами. Только в 1989 году в отделе Д. Хопвуда было решено продолжить изучение этого феномена. В конце 1990 года в нашу лабораторию приехали наши английские коллеги Марк Баттнер и Кэрол Лейти для ознакомления со всей проблемой в целом. Мы к этому времени подсуетились и изолировали из нашей коллекции синих актиномицетов штаммы, которые по своему поведению по отношению к фагу phiC31 были сходны со штаммом А(3)2. Марк сказал, что изучение этой проблемы может дать большую пищу для ума. Марк и Кэрол приехали зимой, мы предоставили им теплую большую московскую Олину квартиру. Оля уже почти год работала в Америке, а Аня, ее дочка и наша внучка, жила у нас. Времена изменились, Кэрол и Марк свободно ходили к нам в гости, Кэрол подружилась с нашими молодыми сотрудницами. У. Кэрол на Арбате цыгане украли деньги. Она перенесла потерю очень мужественно. Мы, конечно, все были расстроены и, насколько я помню, постарались эти деньги возместить. По-моему, даже милиция что-то ей вернула. В последующие годы мы периодически встречались и с Марком и с Кэрол и её будущим мужем Шелдоном. Кэрол защитила диссертацию по характеристике Pgl системы в 1992 году. В 1993, 1994 и 1995 году появились статьи по изучению системы Pgl, соавторами которых были Марк Баттнер, Кэрол Лейти, Кит Четер и другие сотрудники из отдела Д. Хопвуда. В статье, опубликованной в 1995 году в Journal of Bacteriology сообщалось о характеристике двух изолированных генов, контролирующих механизм резистентности штамма S.coelicolor А(3)2 к фагу phiC31. Вскоре систему Pgl стали изучать в лаборатории Маргарет Смит, которая работала тогда в университете в Глазго. Статьи из этой лаборатории стали появляться в 2002, 2003, в 2007 годах с подробным описанием структуры и функций генов, обуславливающих фенотип Pgl+. Не могу останавливаться на анализе полученных результатов. Нашла статью, опубликованную и в 2009 году. Со дня опубликования нами первой статьи о феномене Pgl прошло более 30 лет. Повторюсь, что в этой первой статье мы выдвинули предположение, что актиномицет, жертвуя очень незначительной частью своей популяции, которая гибнет в результате первичной фаговой инфекции, спасает остальную популяцию. Модифицированное фаговое потомство, образующееся в инфицированных клетках, утрачивает способность к продуктивной инфекции клеток с фенотипом Pgl+ или их лизогенизации, не утрачивая способности к действию на клетки Pgl. Так и существуют вместе эти враги, актинофаг и его хозяин актиномицет, и никто не остается побежденным в этом поединке. Вообще актиномицеты, как и другие бактерии, имеют несколько барьеров против инфекции актинофагами (бактериофагами). К ним относится, например, отсутствие рецепторов для адсорбции актинофагов в клеточной оболочке актиномицетов. Другим барьером является присутствие внутри клеток актиномицетов разнообразных систем рестрикции и модификации фаговой ДНК. Попадая внутрь актиномицетной клетки, фаговая ДНК расщепляется рестриктазами, ферментами рестрикции, и не способна к образованию фагового потомства. Лишь небольшая часть фаговой ДНК может избежать рестрикции в результате того, что сайты рестрикции у нее защищены с помощью функционирования другого фермента, метилазы. И опять нет побежденных. Каждый из компонентов этой системы жертвует частью популяции для сохранения собственного вида. А уж лизогенное состояние — это вообще целая симфония. Оба, и фаг и бактерия (актинофаг и актиномицет), выживают: фаг в части популяции лизогенных актиномицетов в интегрированном в хромосому актиномицета состоянии, а лизогенная бактерия (актиномицет) становится устойчивой к повторной инфекции фагом. Как в песне «У попа была собака». Вскользь отмечу, что отличительной особенностью актинофага phiC31 является то, что он действует на очень большое число актиномицетных штаммов и это являлось еще одним основанием для конструирования на его основе фаговых векторов. Ох, пришло на ум, как в статье Маргарет Смит и ее соавторов, посвященной определению полной нуклеотидной последовательности ДНК актинофага phiC31, среди 18 процитированных в библиографии статей не нашлось места хотя бы для одной ссылки на наши работы, как первооткрывателей фага phiC31, посвятивших много лет его генетическому изучению. Я, конечно, расстроилась, Лёня, как всегда, не поддержал моих амбиций. Я обмолвилась об этом Кэрол Лейти, на что она мне ответила «Да, что вы, мы, например, читали и анализировали вашу статью о феномене Pgl, как библию». Ну, тут я успокоилась. До Маргарет, наверное, как-то дошло мое замечание, и в последующих ее статьях появилось, может быть, даже чересчур много ссылок на наши работы, хотя они были опубликованы уже много лет тому назад. Наиболее полные данные, полученные в лаборатории генетики актиномицетов и актинофагов в московском институте ВНИИ генетика, были опубликованы в нескольких обобщающих статьях. Одна из них, «Генетика актинофагов и их взаимоотношения с актиномицетам», была опубликована в биологическом журнале Армении, т. 38, № 11, 966–975, в 1985 году, в год кончины С. И. Алиханяна, который сохранил актиномицетную тематику в институте ВНИИ генетика. Авторами статьи были Н. Д. Ломовская, Н. М. Мкртумян, Т. А. Воейкова, Г. Л. Муравник, Е. В. Перова. Статья до сих пор иногда мелькает в ссылках в интернете. Вторая статья, тоже подводящая итоги изучения актинофага phiC31, опубликована в менее доступном издании «Генетическая инженерия штаммов, образующих антибиотики» — сборнике статей, опубликованном в Москве в 1992 году на русском и английском языках. Соавторами статьи «Фаг phiC31 — модель для молекулярно-генетического изучения фагов Streptomyces», были Т. А. Воейкова, Л. М. Исаева, А. П. Болотин, Н. Кудрявцева, Н. М. Мкртумян и Н. Д. Ломовская. В этой статье описывается также конструирование и свойства плазмиды pZAT22, имеющей в своем составе фаговый интегразный ген и способной встраиваться в хромосому актиномицетов по сайту интеграции профага phiC31. В этом же сборнике сотрудниками нашей лаборатории были опубликованы еще четыре статьи, подводящие итоги исследований нескольких предыдущих лет. Насколько я помню, инициатором этого издания был В. Н. Даниленко, который в то время уже работал в институте антибиотиков, а мы с Норой Мкртумян были вместе с ним составителями и научными редакторами этого сборника. Он сохранился в моем архиве и помогает вспомнить результаты, которые не удалось опубликовать в периодических журналах. В заключение этой сложной для понимания саги об актинофаге phiC31 хочется отметить главное преимущество использования фаговых векторов для клонирования актиномицетных генов. Важно, что фаг, содержащий актиномицетные гены или их фрагменты, может быть отобран в результате трансфекции штамма S.lividans 66. Трансфекция, то-есть, проникновение фаговой ДНК в протопласты штамма S.lividans 66, происходит очень эффективно. Это позволяет легко отбирать фаг, несущий требуемый актиномицетный фрагмент. Перенос в другой актиномицетный штамм можно легко осуществить просто с помощью инфекции таким фагом. Этот метод мы с Лёней модифицировали, уже работая в Америке, и широко использовали для идентификации в хромосомах актиномицетов сцепленных антибиотических генов, а также при изучении структуры и функций большого числа генов, участвующих в биосинтезе даунорубицина и доксорубицина. Непосвященным в генетику актиномицитев читателям придется еще совсем немного потерпеть. Для них есть очень хороший выход из положения. Можно просто пропустить эти страницы. Я пишу их, главным образом, для того, чтобы упомянуть сотрудников нашей лаборатории, которые участвовали и внесли свой вклад в наши исследования. Читая на интернете раздел по истории нашего московского института не перестаю удивляться, как из этого раздела исчезают фамилии моих коллег и всех ученых, которые работали в институте уже после моего отъезда. В последней редакции этого раздела остались только две фамилии С. И. Алиханяна и В. Г. Дебабова. Это неправильно. Страна (Институт) должна помнить своих сотрудников, которые внесли значительный вклад в те направления исследований, в которых они работали долгие годы. Я бы даже назвала отдельные помещения института, например, конференц-зал и, может быть, даже этажи в память выдающихся сотрудников института, они это заслужили, и повесила бы доску с перечислением лабораторий, существовавших в институте со дня его основания. Сейчас, наверное, совсем не известно, как сложится дальнейшая судьба института, поэтому очень важно сохранить память о его прошлом и о людях, начавших активно восстанавливать разрушенное здание советской генетики. Это особенно важно для молодых людей, которые будут работать в этом здании, вне зависимости от их специализации. Правда, ради справедливости, нельзя не упомянуть выход в свет журнала Генетика, посвященного памяти С. И. Алиханяна с прекрасными статьями, отражающими историю нашего института. Справедливости ради надо отметить, что сейчас (на дворе 2016 год) в интернете, в разделах, посвященных истории Института генетики и селекции промышленных микроорганизмов, появились имена учёных этого института, внесших значительный вклад в ряд научных направлений генетики, молекулярной генетики, селекции и использования в ней отрасли методов генной инженерии. Мы научились, как само собой разумеющееся в наше время, не интересоваться своим прошлым. Правда, существовали и существуют личности, которые сумели сохранить и донести до общества правду о нашем суровом времени и о людях, сохранивших свой моральный облик. Пик таких публикаций, которые долгие годы ждали своего часа, приходится, наверное, на 90-ые годы. Конечно, сейчас неоценимы услуги интернета, и в него же вкладывают информацию и свои душевные силы люди, которые хотят восполнить длительные пробелы нашей истории и обязательно вспомнить имена и дела людей, которые упорно замалчивались, как тех, кто умер в своей постели, так и тех, кто был без всякой вины уничтожен безжалостным режимом. Вообще-то нельзя, чтобы человек, прожив жизнь, исчезал без всякого следа, но и сам он, по-видимому, должен приложить усилия, чтобы хотя бы остаться на какое-то время в памяти двух или нескольких поколений своих родных, а если повезет, то и в памяти потомков. В конце 80-х уже чувствовался ветер перемен, который влиял и на нашу научную деятельность. Кончалась эра, когда государство давало деньги на науку. Правда, их всегда не хватало на покупку импортных реактивов и оборудования. Необходимо было стремительно искать пути продажи научных разработок. И как же долог и, в большинстве случаев, непредсказуем путь внедрения теоретических исследований в практику. А наша лаборатория, за редким исключением (получение и внедрение в производство совместно с лабораторией В. Г. Жданова фагоустойчивых продуцентов кормового антибиотика кормогризина) занималась теоретическими исследованиями на модельных актиномицетах, которые сами не использовались в антибиотической промышленности. Не помню подробностей, но, наверное, был заключен договор на получение более активных в отношении синтеза антибиотика хлортетрациклина штаммов для внедрения их в производство. Кроме того, начали изучение биосинтеза экологически безопасного гербецида биалофоса. Третьим практически важным объектом остался продуцент гризина (стрептотрицина). При работе с этими практически важными объектами наряду с генетическими были использованы и методы молекулярного клонирования. Наряду со старожилами в лаборатории в этот период работали молодые сотрудники и аспиранты. Продолжали серию работ по изучению генетической нестабильности детерминантов множественной устойчивости у актиномицетов на модельном штамме S.coelicolor A(3)2. Соавторами этих работ, опубликованных в ж. Генетика, 1979, т. 15, стр. 1953–1962, 1988; т. 24, стр. 1768–1776; 1989, т. 25, стр. 2593–2605 и в ж. Молекулярная генетика, микробиология и вирусология, 1985, т. 3, стр. 3-14 были В. Н. Даниленко, В. А. Федоренко, Г. Г. Пузынина, Л. Г. Васильченко, Н. Д. Ломовская, а также сотрудницы В. Н. Даниленко — Л. И. Стародубцева и С. А. Заворотная. Весомый вклад в эти исследования внес В. А. Федоренко. После защиты диссертации он уехал в свой родной город Львов и в течение многих лет объектом изучения в его лаборатории оставались актиномицеты. Не могу не отметить, что феномен множественной резистентности актиномицетов к антибиотикам был впервые описан и охарактеризован генетически в работах нашей лаборатории. Это сейчас очевидно из анализа ссылок, представленных в интернете. Эти работы публиковались нами с 1977 по 1989 год. Даже со дня последней публикации прошло уже почти четверть века. Как бежит время! Большая серия работ, начиная с 1990 года, была опубликована по результатам клонирования и характеристике генов биосинтеза и резистентности антибиотиков хлортетрациклина, стрептотрицина и позднее биалофоса. С продуцентами стрептотрицина и биалафоса работали Г. В. Сезонов, В. Ю. Табаков, Е. А. Кудрявцева, Г. Крюгель (наш многолетний коллега из Германии), И. В. Бирюкова, Л. К. Емельянова. Статьи, суммирующие результаты этих исследований, опубликованы в сборнике статей, о котором я уже упоминала «Генетическая инженерия штаммов, образующих антибиотики», 1992, стр. 72–88 и 89–97. Очень коротко суммирую работы с продуцентом хлортетрациклина, которые сама оцениваю высоко, учитывая, правда, что мы еще не могли использовать ряд методов генной инженерии, которые уже были освоены в других актиномицетных лабораториях (например, определение нуклеотидных последовательностей клонированных генов). Значительная часть этой серии работ легла на плечи Л. М. Исаевой и Г. В. Сезонова, включая генно-инженерные и генетические эксперименты. Результатом этих работ явилось открытие и подробное изучение феномена множественной индуцибельной устойчивости к антибиотикам у штамма, образующего хлортетрациклин. Структурная и функциональная характеристика отклонированных фрагментов хромосомы продуцента хлортетрациклина позволила идентифицировать новые свойства гена устойчивости штамма, образующего хлортетрациклин, к собственному антибиотику ctrA. Ранее было известно, что он обеспечивает устойчивость штамма к собственному антибиотику. Оказалось, однако, что в результате функционирования только этого гена возникает одновременно индуцибельная устойчивость к собственному антибиотику хлортетрациклину и к целому ряду неродственных антибиотиков. Параллельно дополнительные генетические эксперименты и использование суммарных данных позволили получить более активный продуцент хлортетрациклина. Главная роль в этих работах принадлежала Т. А. Воейковой. Было высказано предположение, что в природных условиях присутствие ряда антибиотиков в окружении штамма, образующего хлортетрациклин, активирует работу гена ctrA, функционирование которого обеспечивает устойчивость штамма к этим антибиотикам и инициирует синтез его собственного антибиотика, который вызывает гибель актиномицетов в его окружении, чувствительных к хлортетрациклину. Не помню, когда мы впервые установили факт наличия у актиномицетов множественной устойчивости к антибиотикам. Анализируя по этому признаку большую коллекцию природных штаммов актиномицетов, мы обсуждали причину этого явления. Очевиден ответ, который как будто лежит на поверхности: это необходимо для защиты штамма от антибиотиков, образуемых другими штаммами в окружающей природной среде. Ведь почвы и другие природные субстраты просто напичканы актиномицетами. И вот, наверное, ряд актиномицетов имеют экономные генетические системы, когда один или небольшое число генов обеспечивают устойчивость к значительному числу антибиотиков. Кроме того, есть и реальные возможности приобрести гены устойчивости путем обмена генетическим материалом между разными штаммами актиномицетов. Вот все и вооружаются против всех, на том и существуют. А кто не вооружился, гибнет. Но похоже, что практически все уже вооружены. Следует, может быть, еще раз упомянуть, что такая устойчивость является абсолютно индивидуальной характеристикой каждого штамма, как например, отпечатки пальцев. Быстро взглянула на сайты в компьютере. Похоже, что наши работы по характеристике множественной резистентности актиномицетных штаммов являются приоритетными. На первый взгляд не видно, чтобы эта проблема интенсивно изучалась впоследствии. К сожалению, работы по клонированию и изучению свойств гена ctrA, контролирующего множественную индуцибельную резистентность к хлортетрациклину и ряду других антибиотиков, не были полностью опубликованы в доступных источниках. Результаты этих работ докладывались на международных симпозиумах в Болгарии, США, Германии, опубликованы в виде тезисов докладов и в сборниках докладов, были частично опубликованы в журналах Генетика, 1990, т. 35, стр. 636–646 и Антибиотики и химиотерапия, 1990, т. 35, стр. 7–11. Подробная статья по этим данным была опубликована в Москве в 1992 году в сборнике статей, о котором я уже упоминала «Генетическая инженерия штаммов, образующих антибиотики», стр. 56–71. Соавторы статьи: Н. Д. Ломовская, Л. М. Исаева, Г. В. Сезонов, Т. А. Чинёнова, Т. А. Воейкова. О. А. Клочкова, И. В. Бирюкова, Л. К. Емельянова. По всем этим материалам была подготовлена статья для публикации в зарубежном журнале, но в связи с моим отъездом так и осталась только в моем архиве. Особенно обильным на публикации оказался 1990 год. Под моим авторством опубликована глава «Генетика актиномицетов рода Streptomyces», стр. 35–62 в книге издательства ”Наука“ Генетика промышленных микроорганизмов и биотехнология. Оттисков у меня не сохранилось. Большую помощь в описании работ, вышедших из стен нашей лаборатории, оказал полный список моих публикаций. Когда мы в 1992 году в большой спешке внезапно уехали, как считалось, в годичную командировку в Америку, никакого списка публикаций у меня с собой не было, так же как и оттисков опубликованных работ. Когда наше пребывание в Америке стало продлеваться на неопределенно долгий срок, мы в 1993 году стали собирать бумаги на получение документов (green cards) для постоянного жительства в стране. Тут и понадобился список моих публикаций. Пошли в одну из многочисленных и прекрасных библиотек Висконсинского Университета в Мэдисоне и спросили библиотечного работника, сможет ли она помочь мне достать список моих публикаций из компьютера. Она согласилась и с большим умением, которым мы сами тогда не обладали, стала это делать. Из принтера стала выходить бумажная лента большой длины. У нашей помощницы было такое удивленное выражение лица, которое мне запомнилось. Как это такая, небольшого росточка, неприметная женщина с сильным акцентом, особенно непривычным для жителей Среднего Запада, могла иметь такой список публикаций? Надо сказать, что такого полного списка я сама из компьютера никогда потом достать не могла. Мы попали к очень опытному работнику. Конечно, в этом списке были только публикации, в которых я была автором или соавтором. Но надо сказать, что таких работ было большинство, как я надеюсь, в силу моего активного участия в постановке и анализе экспериментов. В это же время мы сделали копии моих публикаций в зарубежных журналах и в переведенных на английский язык отечественных журналах Генетика и Молекулярная биология. В этих воспоминаниях я не ставила задачи описать все результаты, полученные за долгие годы научной работы, а только хотела вспомнить своих коллег, друзей, учеников, с которыми судьба связала нас на долгие годы. В заключение этого скучного для большинства читателей раздела не могу не упомянуть о парадоксальном явлении, которое, я надеюсь, очевидно из предыдущего короткого описания полученных нами результатов. Все годы моей научной карьеры (особенно это относится ко времени между 1968 и 1992 годами), когда функционировала моя лаборатория генетики актиномицетов и актинофагов, в подавляющем большинстве случаев я пользовалась абсолютной свободой в выборе направлений исследований. Делали только то, что представлялось нужным и интересным. Уверена, что это относилось и ко всем теоретическим лабораториям нашего института. В. Н. Крылов часто говорил, что вот я занимаюсь своим любимым делом, делаю все, что считаю нужным, и мне за это ещё и платят деньги. Правда, когда их стали платить с перебоями, тут уже было не до свободы выбора. И все это сочеталось с жизнью за железным занавесом в условиях несвободы. Книги мы читали между строк, имели большую библиотеку самодельно переплетенных произведений, с трудом пробившихся в журнальную печать, читали Солженицына, Евгению Гинзбург, Шаламова в рукописях. С 1974 по 1980 годы негласно меня перестали выпускать в капиталистические страны, срок долгий для активного научного функционирования. Но актиномицетное сообщество имело крупные центры в социалистических странах, и все ученые актиномицетчики собирались на конференции в Чехословакии, бывшей ГДР, Венгрии, Польше. В это же время в СССР состоялись две советско-американские конференции, о которых я уже упоминала. Не говоря уже о Международном генетическом конгрессе в Москве в 1978 году, на который, конечно, съехалось большинство микробных генетиков. Так что недостатка в контактах с актиномицетным сообществом, практически, не ощущалось. А в 80-е годы властям уже было не до запретов. Приходили другие времена. Конечно, всегда не хватало денег на оборудование и реактивы. Все-таки теоретические лаборатории в институте не были престижными. На первый план вышли лаборатории, интенсивно внедряющие в селекцию промышленных продуцентов методы генной инженерии, которые в первую очередь и обеспечивались импортным оборудованием и реактивами. Практически до 1985 года, когда стал сильно ощущаться недостаток государсвенных субсидий, мы находились в свободном плавании, периодически помогая сотрудникам из лаборатории В. Г. Жданова в получении фагоустойчивых промышленных продуцентов кормогризина (стрептотрицина). Надо сказать, что и с 1985 года, когда в число наших объектов вошли продуценты хлортетрациклина, стрептотрицина (гризина) и биалофоса, мы не испытывали давления и использовали накопленный с годами запас теоретических знаний и результатов бурно развивающейся генной инженерии актиномицетов для увеличения антибиотической продуктивности промышленных продуцентов. При этом удавалось открывать новые феномены, регулирующие активность функционирования генов, контролирующих синтез антибиотиков. Правда, в конце своей деятельности в институте, когда, казалось, железный занавес открылся и появились зачатки свободной жизни, наша теоретическая наука стала снова стремительно двигаться к своему упадку. Я даже ощущала впереди полный тупик в своей дальнейшей работе, подумывая уйти в консультанты. В последний раз отдыхаем втроем под Москвой, 1990 г. Лёня, Аня и я, Н. Л., в пансионате Звенигородский. В следующем году я отвезу Анечку в Америку к её маме Ольге, которая уже работает в г. Бостоне с 1989 г.
В последний раз отдыхаем втроем под Москвой, 1990 г. Лёня, Аня и я, Н. Л., в пансионате Звенигородский. В следующем году я отвезу Анечку в Америку к её маме Ольге, которая уже работает в г. Бостоне с 1989 г.
 Последние денечки вчетвером в нашей любимой Московской квартире. Я (Н. Л.), мой муж Лёня, Анечка, которая дружит с моей тётей Валентиной Григорьевной Ломовской. Она, выйдя на пенсию, живёт у нас, хотя много лет работала и жила в г. Великие Луки. Там весь город знал её как прекрасного, «от бога», врача-рентгенолога и диагноста.
Последние денечки вчетвером в нашей любимой Московской квартире. Я (Н. Л.), мой муж Лёня, Анечка, которая дружит с моей тётей Валентиной Григорьевной Ломовской. Она, выйдя на пенсию, живёт у нас, хотя много лет работала и жила в г. Великие Луки. Там весь город знал её как прекрасного, «от бога», врача-рентгенолога и диагноста.
 Только в 2015 году мне (Н. Л.) удалось сдать довольно значительную часть чудом сохранившихся документов моей семьи в архив Гуверского Института Войны, Революции и Мира при Стэнфордском университете. Этот архив считается самым крупным и престижным в Америке. Он был основан в 1919 г. Какие только ценности в нём не хранятся! А вот и фотография башни (Hoover Tower) здания, в котором размещается этот архив. Можно подняться на вершину башни, откуда открывается вид на много километров вокруг.
Только в 2015 году мне (Н. Л.) удалось сдать довольно значительную часть чудом сохранившихся документов моей семьи в архив Гуверского Института Войны, Революции и Мира при Стэнфордском университете. Этот архив считается самым крупным и престижным в Америке. Он был основан в 1919 г. Какие только ценности в нём не хранятся! А вот и фотография башни (Hoover Tower) здания, в котором размещается этот архив. Можно подняться на вершину башни, откуда открывается вид на много километров вокруг.
Глава 25 Последние московские денёчки
Вернусь к 1989 году. Анечка, наша внучка, учится в английской школе рядом с нашим домом, живет у нас, а конец недели проводит с Олей, которая живет рядом с нами в квартире моих родителей. Папа тоже уже живет с нами после первого инсульта, обитает в кабинете с большим письменным столом и телевизором. Он ждет, когда ему пришлют оттиски его последней статьи, опубликованной в журнале Генетика, и составляет список своих коллег, которым он может их послать. Наша спальня перегорожена шкафом, и Анечка спит на нашей половине. Оля продолжает искать работу заграницей. Сергей Миркин, с которым Оля работала несколько лет в лаборатории Р. Б. Хесина уже уехал в Америку. Во второй половине 1989 года от него приходит сообщение, что он посоветовал Киму Льюису, который работает в Массачусетском институте технологии (MIT) взять Олю в качестве сотрудника, стажирующегося после защиты кандидатской диссертации. Ким Льюис (в «прошлой» жизни Алексей Глаголев) родился в Америке, потом долгие годы жил с матерью, учился и работал в России. В 80-е годы как американский гражданин уехал в Америку. Еще работая в России, приобрел мировую известность и был принят в MIT на должность заведующего лабораторией. Я в это время собиралась ехать в Америку на симпозиум по генетике актиномицетов (ISBA), куда меня пригласили. Разрешения на поездку из министерства микробиологической промышленности, которому принадлежал наш институт, пока нет. В. Г. Дебабов при очередной встрече с министром затронул этот вопрос. Министр спросил, зачем посылать эту старуху одну в Америку? Дебабов ответил вопросом на вопрос: «Что же Вы считаете себя и меня стариками?» Разрешение было дано. Потом почему-то до последнего момента не было американской визы. Не помню кто, может быть, Джон Калом, англичанин, работавший в Германии, был в то время с коротким визитом в нашей лаборатории. Он связался с Госдепартаментом США, и ему ответили, что сейчас у них нет на месте сотрудников, которые оформляют визы. Его удивление возымело действие, визу выдали, и я улетела, правда, с опозданием. Симпозиум проходил на горном курорте под Денвером, штат Колорадо. В. Нью-Йорке пересела на самолет, который почти 6 часов летел до Денвера. Моим соседом оказался молодой американец, который каждую неделю летал из Денвера в самые разные концы Америки. Время в пути прошло быстро, он рассказывал, я кивала. Не знаю, что бы я делала без моего соседа, было уже очень поздно. Он вызвался отвезти меня в горный поселок, где проходила конференция. Сам он жил там неподолёку. В общем, часа в два ночи я была в гостинице. Брони на номер у меня не было, т. к. валюту заранее командированным не выдавали. Вышел заспанный член Оргкомитета конференции Мёрвин Биб, мой английский коллега и друг. Сердечно поздоровались, и меня поселили. Марк Батнер выступил с обоснованием работы по изучению устойчивости штамма S.coelicolor A(3)2 к фагу phiC31, и мне пришлось прямо из зала делать дополнения к его сообщению. Впоследствии я сама убедилась, как трудно рассказывать об этом неподготовленной аудитории. У меня оставалось пара дней до возвращения в Москву, и меня пригласили сделать доклад на фирме Илай-Лили в г. Индианополисе, штат Индиана. На полученный гонорар уже в Филадельфии я купила проигрыватель (плейер) для просмотра видеофильмов. В. Филадельфию мы полетели вместе с Джейн Вестфелинг, я пару дней гостила в ее большом доме, посетила ее лабораторию в университете, куда мы пришли вместе с ее собакой, которую она не хотела оставлять на весь долгий рабочий день одну. Из Филадельфии я улетела в Нью-Йорк и оттуда в Москву. С собой я имела полученное в течение суток по срочной почте официальное приглашение Ольге на работу в лаборатории Кима Льюиса в Массачусетском технологическом институте. Началось оформление её поездки, и ей дали разрешение на выезд за неделю до даты вылета самолёта, на который уже были куплены билеты. Лёне через знакомых удалось поменять билет на самолет, вылетающий буквально на следующий день после получения разрешения. Вот так мы и жили, опасаясь, что через неделю что-то может измениться, и Оля не сможет поехать. Проводили нашу доченьку с двумя небольшими сумками и гитарой: в одной сумке посылки для друзей, которые уже работали в Америке, в другой совсем немного своих вещей. Так мы остались в Москве жить вчетвером, папа, Анечка и мы с Лёней. В MIT работал Арни Демейн, крупный физиолог и микробиолог, с которым, как я уже неоднократно упоминала, я была знакома долгие годы. Вскоре он написал мне письмо, что Оля уже похожа на американку. Через две недели после приезда в Америку Оля на одолженные у Кима деньги купила подержанную машину. Училась водить она еще в Москве, но практики вождения никакой не было. Письма в Америку и обратно шли очень долго и часто не доходили до адресата, поэтому их посылали только с оказией. Связаться по телефону в то время можно было только, поехав на Центральный почтамт на улице Горького и выстояв там длинную очередь. Правда, оказий в то время было довольно много, и мы старались Оле что-то передать со знакомыми и друзьями, уезжавшими в Америку. Да, забыла рассказать, что в 1988 году тихо отметили папино 80-летие еще на их с мамой квартире.Пришли братья: Глеб, Николай с дочкой Машей, старшая Наташа. Сохранилась фотография. В конце апреля 1990 года папа вышел на кухню, покачнулся, и я почувствовала, что это, наверное, второй инсульт. Он никогда не жаловался. Привезли его в больницу, и он на вопрос врача о самочувствии сказал, что чувствует себя хорошо. Врач посмотрел на меня и спросил: «Что, в отпуск собрались?» Так было больно слышать это от врача. Через пару дней был поставлен диагноз обширного инсульта, и этот врач не поднимал на меня глаза. Вот тут я уже стала рваться между домом, работой и больницей. Папа постепенно угасал, но был в сознании почти до самой кончины. Говорил, что любит меня и старшую Наташу. На похороны пришли все московские Шаскольские. Урну с прахом поместили рядом с маминой. Под фамилией и датами написано: Генетик, пчеловод. Оля в память о дедушке собирает коллекцию пчел, а у нас дома висит красивая пчела на металле, которую папа очень любил. Вскоре уехал в Америку с новой семьей Анин отец Миша Фонштейн, и Аня осталась в Москве без родителей, но с бабушками и дедушками с двух сторон. Мишины родители Нина и Юра жили в соседнем с нами доме, и Аня часто проводила время у них. Через несколько месяцев Оля рассказала нам по телефону, что у нее телефонное знакомство, почти роман, как оказалось, — с ее будущим мужем Юрой. Они ещё ни разу не виделись, но перезваниваются почти ежедневно. Юра Родный окончил мехмат МГУ и эмигрировал в Америку с семьей, женой Маргаритой, двумя детьми Алисой и Бенджамином и родителями Ириной Яковлевной и Михаилом Иосифовичем. В. Америке они с женой развелись, и она вскоре вышла замуж. Юрина жена с детьми осталась жить в Бостоне, а Юра с родителями уехал в Сан-Франциско, где он нашел работу. Летом 1990 года мы с Анечкой отдыхали в Мозжинке, академическом доме отдыха. Половина большого и такого знакомого здания (в нем много лет проходили зимние школы по генетике) уже была сдана в аренду для оборудования там люксов для тех, кто мог платить за них большие деньги. Обстановка в нашей стране менялась стремительно. Лёне вот просто так через ОВИР оформили гостевую поездку в Америку на целый месяц август. Оля встречала его в Нью-Йорке, и они ехали до Бостона в старенькой машине с еще не опытным водителем в лице Оли, под проливным дождем в течение всего трёхчасового пути. Ну, ничего, приплыли. Лёне даже удалось провести неделю из этой поездки на другом конце Америки, в Лос-Анжелесе, навестив Эллу и Илью Лавретских, которые эмигрировали в Америку в 1988 году. Мы, провожая их, были абсолютно уверены, что больше никогда их не увидим. Во время Лёниного пребывания в Бостоне туда приехал Юра и впервые познакомился одновременно с Олей и с будущим тестем. На обратном пути в Нью-Йорк Оля совсем заблудилась, и они с Лёней несколько раз попадали на платный мост и каждый раз, переживая, платили. Не могу вспомнить точно в каком году из конца 80-х приехал в Москву Джеймс Шапиро, который в 1979 году возглавлял американскую делегацию на конференции по генетике актиномицетов и бацилл в Ереване. Он планировал посетить институт физиологии и биохимии в Пущино, где его работы находили живой отклик, понимание и общий интерес, и сделать доклад в нашем институте. В аэропорту его встречала я и сотрудник пущинского института. Когда я вошла в аэропорт, ко мне сразу подошел молодой человек и осведомился не я ли Наталья Дмитриевна Ломовская. Я удивилась, а он заметил, что среди посетителей аэропорта не так много людей с интеллигентными лицами. В ресторане академической гостиницы был салат из помидоров, весной! Я обрадовалась, а Джеймс, конечно, нисколько не удивился, и я только потом узнала почему. Накануне его приезда я взглянула на Москву его глазами, в 1979 году мне еще это в голову не приходило, да и был он в Москве проездом. Мы уже давно ко всему привыкли и не обращали внимания на советскую атрибутику. А она, конечно, так бросалась в глаза человеку из другого мира, особенно такому зоркому как Джеймс. Гуляя по Арбату, сфотографировался с картонным Горбачевым, и я послала ему эти фотографии. Очень хотел купить матрешки с лицами наших вождей, но я его отговорила. Конечно, был у нас в гостях уже без надзора, и я кормила его домашними блинчиками. Нора Мкртумян сопровождала его в московскую синагогу. В нашем институте он сделал доклад по регуляции поведения бактерий в популяции бактериальных колоний. Мне доклад понравился. Но многие наши генные инженеры были несколько разочарованы его фенотипическими данными, т. к. ожидали, что он уже решил эту проблему на уровне клонирования регуляторных генов. Тогда я еще и представить себе не могла, что встречусь с ним еще раз, но уже в Америке. Настала эра талонов и заказов на все продовольственные и промтоварные товары, и вообще эпоха простого обмена товар на товар без денежного посредника. У нашей семьи никакого товара не было, одни обесценивающиеся деньги. Талоны распределялись по учреждениям и по месту жительства, и т. к. талонов на всех не хватало, то они разыгрывались как на работе, так и в подъездах. Те, кто не имел возможности выкупить вещь по выигранному талону продавал его по завышенной цене. Водку тоже выдавали по талонам. Часть водочных талонов Лёня менял на сахарные, которые были в большом дефиците. Все, кроме нас, заготавливали варенье и компоты из продукции своих садовых участков, и сахар был продуктом № 1. А мы на сахарные талоны часто покупали любимые сластеной Лёней пастилу и зефир. В институте я неожиданно выиграла талон на чешскую кухню «Арома» и пару лет в Москве мы наслаждались видом нашей новой кухни из натурального дерева и очень красивой. В феврале 1991 года на Лёнин день рождения пришла очередная телеграмма-анаграмма, где первые буквы каждого слова в предложении составляют фамилию адресата («Фонштейн», для тех, кто забыл): «февралем отоваривай нижние штаны талоны есть йоркширов нет». Потрудились, умники. Оля как-то уже обустраивалась в Америке, и настало время отправлять туда Анечку. Я должна была ее туда отвезти. Долгое время добивались получения для нее отдельного заграничного паспорта. Ведь я должна была вернуться в Москву, а она остаться в Америке. Наконец наша вторая бабушка Нина решила этот вопрос радикально, подарив сотруднице ОВИРА небольшой подарок. На следующий день отдельный паспорт для Ани был готов. Планировали поехать в Америку в июле 1991 года. В последний раз в июне мы вдвоем с Аней пару недель отдыхали на турбазе на Волге. Еда в столовой была почти не съедобная. Быстро потратили взятые с собой деньги на покупку клубники, очень вкусной, прямо с грядки. Одолжили деньги просто у людей, с которыми там познакомились, с ними вместе ели черный хлеб, поджаренный на сковородке, очень вкусный. Почти каждый день Аня днем отправлялась смотреть американские детективы, которые крутили на турбазе, а я в это время невдалеке упивалась чтением «Доктора Живаго» Бориса Пастернака и чувствовала себя счастливой. Надо сказать, что когда я через несколько лет вернулась к чтению этой книги, она уже не произвела на меня такого сильного впечатления. Да, 12 апреля 1991 года Оля вышла замуж за Юру. Большую часть дня 12 апреля мы провели на Центральном почтамте, чтобы позвонить и поздравить их, и вот уже 22 года мы каждый год напоминаем им об этой дате. Вскоре появилась возможность звонить в обе стороны по домашнему телефону. Российская система власти качалась, как колосс на глиняных ногах, и уже ничто не могло остановить её распад. Я собиралась пробыть в Америке около трёх месяцев. С 11 по 16 августа в г. Мэдисон, штат Висконсин, должен был состояться очередной симпозиум по биологии актиномицетов, куда я была приглашена. Кроме того, Арни Демейн организовал мне по его собственной инициативе турне с лекциями и семинарами в большом числе престижных американских университетов и фармацевтических фирм. Я заготовила два доклада, один по результатам изучения фага ОС31, а другой по характеристике клонированных генов продуцентов антибиотиков. За время чтения этих лекций я так натренировалась, что чувствовала, что во мне пропал несостоявшийся лектор. Уезжали мы с Анечкой из Москвы в Бостон в середине июля. В аэропорту мы увидели В. В. Познера, моего однокурсника и приятеля университетских лет. Он уже был известным на всю страну телевизионным журналистом и представлялся мне совершенно другим человеком, не тем, которого я знала в юности. Я как-то даже оробела, но Ане очень хотелось с ним познакомиться, и я пошла у нее на поводу. Как только В. В. Познер меня увидел, он сразу стал тем Володей Познером, с которым первые два университетских года мы учились в одной группе и весь первый год сидели за одним столом в зоомузее на Моховой и страдали в том же здании в подвале в анатомичке. Он сразу же стал вспоминать университетские годы и то, как ему помогло в жизни образование, полученное на кафедре высшей нервной деятельности. Попрощались, чтобы больше никогда не увидеться. Нет, я-то его иногда до сих пор вижу по телевизору. Он узнаваем. Мы с Аней имели выгоду от этой встречи с ним в аэропорту. Одна молодая семья, летевшая в нашем самолете в первом классе, весь полет приносила нам вкусную первоклассную еду, заметив, что мы общались со всесоюзной знаменитостью. Добравшись до Бостона, Аня прилипла к телевизору и с помощью мультиков быстро подготовилась к началу школьного сезона. Интересно, что по-русски она писала с ошибками, а по-английски, как мне казалось, ошибок не делала. Вскоре после нашего приезда нас всех троих пригласил в гости Арни Демейн и его жена Джуди, с которой я познакомилась, когда Арни приезжал на конференцию в Армению с женой и дочерью. Зашли к ним в большую квартиру в многоквартирном доме в районе с охраной. Ужинали в ресторане. Арни смеялся, потому что каждый из нас троих по-разному относился к фигуре Б. Н. Ельцина, ставшего вскоре президентом России. Скоро началась моя напряженная поездка с лекциями. Я еще раньше забыла упомянуть, что перед моим отъездом мы с Леней решили, что нам будет трудно жить в Москве без наших девочек, и я собиралась во время моей поездки прощупать, есть ли почва для моего устройства на работу. Вообще-то в это время Москву покидали молодые ученые, а среднее поколение, как правило, не говоря о старшем поколении, к которому мы уже принадлежали, совсем не торопились уезжать и полностью менять свой образ жизни. Не помню точный график своих посещений фирм и университетов. Думаю, что сначала я сделала доклад на фирме Шеринг (Schering Plough Research), успешно внедряющей в медицину новые лекарства, а потом на фирме Ледерле (Lederle Laboratories), в которой одним из объектов был продуцент хлортетрациклина. Во время доклада я чувствовала живой интерес аудитории; объект, продуцент хлортетрациклина, у нас был общий, и чувствовалось, что наши данные их заинтересовали. Перекусить со мной днем пошли сразу несколько человек, и состоялось такое неформальное интервью. По возвращении на фирму мне предложили на ней работать и даже показали мое будущее рабочее место. Я была на седьмом небе от счастья и провела вечер в роскошном небольшом отеле Хилтон. Фирмы не скупились на расходы для иностранных визитеров моего калибра, и я впервые разъезжала в лимузинах. На следующий день был доклад аж в Принстонском университете с его высоким престижем и великолепным кампусом. Мне показалось, что для собравшейся публики мой доклад не представлял большого интереса и был принят к слушанию просто, чтобы поставить галочку о том, что семинар проведен. К тому же публику, по-моему, коробил мой английский. В. Вашингтоне меня встречал профессор Эдвард Кац, который заведовал большой лабораторией в Джорджтаунском университете (Georgetown University). Это из его лаборатории к нам в далеком 1978 году приезжал работать на целый год Том Труст. Как я уже упоминала, Эдвард устроил мне сюрприз и привез меня в гости к Тому Трусту, который уже был известным хирургом-отолярингологом. На следующий день Эдвард показал мне Вашингтов и проводил меня в аэропорт для полета в Чикаго. Там у меня была назначена незапланированная встреча с Джеймсом Шапиро и семинар в его лаборатории. Джеймс предложил мне остановиться в его большом доме, где он жил с женой и двумя детьми-старшеклассниками. День провели в Чикагском университете, днем был неформальный семинар с моим докладом по фагу phiC31. Джеймс много лет работал с бактериофагами, и целый год у него в лаборатории работал В. Н. Крылов из нашего института. Меня удивило, что Джеймс во время моего визита не имел ни сотрудников, ни лаборантов. Работал один в большом помещении, в котором находилась и большая коллекция бактериальных мутантных штаммов. Вечером был званый обед с семьей Джеймса и четой его университетских коллег. Стол сервировался очень тщательно и, по моим представлениям, довольно долго. На следующий день вечером ходили почему-то в приезжий цирк. Следующий последний день выходных я провела с Сережей Миркиным и его семьей. Они мне показали центр Чикаго, свой новый дом. Вечером пошли все вместе с семьей Джеймса в ресторан. Было видно, что Джеймс и Сережа понравились друг другу. Попращавшись с Чикаго, я поехала на конференцию по биологии актиномицетов в г. Мэдисон, штат Висконсин, абсолютно не подозревая, что проведу в этом замечательном городе долгих двенадцать лет своей жизни. Участников конференции поселили в студенческие общежития Висконсинского университета, которые пустовали во время летних каникул. Председательствовал на симпозиуме Чарльз Ричард Хатчинсон, всемирно известный ученый в области изучения биосинтеза антибиотиков. Его лаборатория была одной из самых престижных в Америке в этой области исследований. Будучи по образованию биохимиком, Ричард преодолел барьеры, стоящие на пути решения новых сложных проблем, и очень быстро и эффективно ввел в обиход своей лаборатории генетические и генно-инженерные методы изучения структуры и функций генов, контролирующих биосинтез антибиотиков. Я была знакома с Ричардом, пересекалась с ним на актиномицетных симпозиумах и даже вспомнила, что давно, в 1985 году я ему рассказывала о фаге phiC31. Ричард помнил всё. Во время конференции в доме Хатчинсона состоялся приём, на котором я присутствовала как организатор будущего московского симпозиума по биологии актиномицетов. О возможности работать в его лаборатории я его не спрашивала. После симпозиума мои коллеги из Илай-Лили (Ili-Lilly and company) пригласили меня прочесть лекцию и провести семинар в лаборатории генетики, которой заведовала Бригита Шунер. В лаборатории, в частности, занимались оптимизированием плазмидных векторов, содержащих ген интегразы фага phiC31. В результате функционирования этого гена плазмида с отклонированными на ней актиномицетными генами могла легко встраиваться в хромосомы различных актиномицетов. Вскоре из этой лаборатории вышла статья, описывающая конструкции плазмид различного назначения. В нашей будущей работе в Америке мы сразу стали их использовать и модифицировать для наших целей. Джин Сено, сотрудник лаборатории и мой друг еще с давних 80-х, предложил мне провести выходные с его семьей. Ночевала я в комнате их старшей дочери. На потолке светились звезды ночного неба. Дом находился в живописном пригороде г. Индианополиса, штат Индиана. В воскресенье купались и загорали в клубе-бассейне, и я учила плавать младшую дочь Джина. Рано утром в понедельник на кухню, где мы собирались завтракать, вошел взволнованный Джин и сообщил, что М. С. Горбачева сняли с его должности генсека и власть перешла к организаторам заговора (путча). Мы в Америке, Лёня в Москве. Джин предложил срочно звонить в Москву по телефону компании. Звоню, связь работает, значит революция пока не идет по установленному когда-то порядку: установить контроль над телефонной, телеграфной и железнодорожной связями. Леня грустным голосом сообщает, что по Ленинскому проспекту в двух шагах от нашего дома движутся танки, а по телевизору бесконечно звучит музыка из балета П. И. Чайковского «Лебединое Озеро». Впоследствии все вздрагивали при звуках этой прекрасной музыки, если она вдруг начинала звучать по телевизору. Я готова срочно приехать в Москву, но Лёня говорит, чтобы мы пока оставались в Америке. Звоню Оле. Она, конечно, уже все знает и все последующие дни по несколько раз в день звонит Лёне. Связь по-прежнему работает. Но, как известно, путч провалился, и с экранов телевизоров исчезли испитые и испуганные лица путчистов. Боже мой, кто же был у власти в нашем государстве?! Вскоре известные всем события покатились стремительно, как снежный ком с высокой горы. Из Индианополиса я поехала в г. Коламбус, штат Огайо, где находится один из самых больших университетов Америки. Там я прочла две лекции и как приглашенный лектор имела традиционную встречу со студентами. В разговоре с двумя ведущими сотрудниками лаборатории я обмолвилась, что хотела бы устроиться на работу в Америке. Они могли мне только предложить короткий полугодовой визит с оплатой суточных. Конечно, такие условия меня не устраивали. Но я знаю, что многие молодые русские ученые в тот период времени соглашались работать в Америке за совершенно мизерную зарплату. Я вернулась в Бостон, часто общались и даже собирали грибы с ближайшей Олиной подругой Ирой Архиповой и её семьей. Ира в ту пору уже работала в Гарвардском университете, где и работает до сих пор. Мой бостонский курс лекций, на мой взгляд, был наиболее удачным. Я уже чувствовала себя более раскованной, прочитав несколько раз лекции на одну и ту же тему, и поднялась на одну маленькую ступеньку выше в разговорном английском. В университетах и фармакологических фирмах Бостона я ощущала живой интерес слушателей. Так было, например, в Гарвардском университете в лаборатории Ричарда Лозика и на фирме Нью Инглэнд Байолабс (New England Biolabs), где особенно заинтересовались нашими данными по идентификации с помощью фага phiC31 системы рестрикции и модификации у модельного штамма А(3)2. Кстати, дальше наших генетических данных дело не пошло, так что в данном случае десятилетний срок сильно удлинился. Приехав в Бостон, я не нашла никаких известий из фирмы Ледерле по поводу приглашения меня на работу. Немного подождав, обмолвилась об этом Арни Демейну. Он через какое-то время мне сообщил, что на фирме меня не могут взять из-за конкурентных взаимоотношений между двумя лабораториями. Тут я уже поняла, что радоваться нельзя, не имея письменного подтверждения о принятии на работу. Так я и вернулась в Москву ни с чем и окунулась сразу в московскую жизнь с поездками на работу и обратно на трех троллейбусах. Такси, по-моему, вообще исчезли из обихода. В. Москве наступили неспокойные времена с чувством, что никто тебя не защищает. Появились слухи о частых грабежах квартир. Мы старались быть дома до наступления темноты, но и там чувствовали себя не в полной безопасности. Многие стали укреплять свои квартирные двери и ставить дополнительные двери на несколько квартир. Несколько раз вечером слышали выстрелы с улицы. В магазинах по-прежнему пусто. Быстро приближалось Лёнино 60-летие. Отмечали, как всегда, дома. Оля прислала нам кредитную карточку, и мы отоварились в валютном магазине на Новом Арбате. Переживали, что потратили 40 долларов. Тогда для нас это была значительная сумма. Гостей поразили сыром оранжевого цвета. Кроме того, Лёня достал хороший большой заказ, который выдавали для празднования знаменательных дат получателя при предъявлении паспорта. Как всегда, по тридцатилетней традиции, почтальоны принесли поздравительные телеграммы-анаграммы. Не могу не привести здесь текста двух из них. Первая телеграмма пришла, по-видимому, от Юры и Тани Дьяковых. При расшифровке второй телеграммы оказалось, что их отправители себя обозначили. Текст первой телеграммы гласил: «Фанфарами отмечай наступление шестидесятилетия требуй единения йеменского народа». Расшифровка второй телеграммы гласила: Леониду Максовичу Фонштейну Витя Лена (Рошаль). А вот и сам, пожалуй, самый длинный текст. Наверное, они трудились над ним весь предыдущий год. А может быть, я преуменьшаю их способности: «Ликование единомышленников огромно наконец имеем достойного мужа академии который способен объявить всему изумленному человечеству фимиам оставьте навсегда шаманам требуйте единых йокагамских нелеквидов всегда ищите трогательной ясности любя естественность найдешь апофеоз». Вот уж я точно знаю, что не смогла бы сочинить ни одной такой телеграммы. Правда, я и не пробовала. И вдруг весной 1992 Ричард Хатчинсон присылает письмо, что он остро нуждается в помощи для осуществления совместного с фирмой Эббот проекта по идентификации генов биосинтеза антибиотика рапамицина. С этой целью необходимо было осуществить введение в штамм изолированной ДНК для получения мутаций в генах биосинтеза этого антибиотика. Все их попытки введения в штамм ДНК с помощью трансформации или конъюгации оказались неудачными, и Хатч (все сотрудники его лаборатории так его кратко называли в глаза) вспомнил о возможности использования для этих целей фагового вектора. Я сразу послала ему ответ электронной почтой (тогда на весь наш институт был только один электронный адрес), что я согласна принять участие в этом проекте. Через некоторое время Р. Хатчинсон ответил, что для подписания со мной контракта требуется довольно длительная работа адвокатов. Получив это известие, уже вспоминая свой предыдущий опыт с фирмой Ледерле, решила, что и это предложение не осуществится. В нашем институте начались финансовые трудности, и хотя мы продолжали напряженно работать, чувствовалось, что из-за нехватки реактивов и оборудования работать на современном уровне не удаётся. Я даже начинала подумывать о том, не уйти ли мне в консультанты. Лёня в своем академическом институте, занимаясь в то время, главным образом, административной работой, оценивал свое будущее в институте как относительно стабильное. Первой нашу лабораторию покинула О. А. Клочкова, уехав в Америку вслед за мужем Лёней Якубовым. Все годы жизни в Америке наши пути с Олей и Лёней пересекались. Сейчас мы живем в Калифорнии совсем недалеко друг от друга. Оля состоялась в Америке, как очень успешно работающая в фармацевтической фирме. Геннадий Сезонов тоже стал усиленно искать работу в Европе или в Америке, я пыталась ему помочь. Сначала были какие-то возможности в Германии, и он стал учить немецкий, потом в Америке, переключился на английский и, наконец, нашел работу во Франции и так до сих пор там и работает. Длительное время преподавал в Сорбонне, сейчас тоже уже давно работает в институте Пастера. Встретились мы с ним в Париже в 2001 году и до сих пор переписываемся. Он опубликовал книгу «Биология и генетика Escherichia coli», к моему сожалению, на французском языке, так что пришлось удовлетворяться хорошими иллюстрациями. В начале книги прочла не без удовольствия его благодарность в мой адрес. Во второй половине 1992 года я планировала участвовать в конференции Американского микробиологического общества (ASM), которая должна была состояться в г. Блюмингтоне, штат Индиана, а после конференции навестить Олю и Анечку. В то время Оля уже работала в Калифорнийском Университете в Лос-Анджелесе, куда её пригласил к себе в большую лабораторию А. Варшавский. Все трое (Оля, Аня и Юра) пересекли Америку за 10 дней на машине с остановками, главным образом, у друзей, не забывая об американских достопримечательностях. Все-таки Лос-Анджелес был ближе к Сан-Франциско, где продолжал работать Юра. Он покрывал это расстояние часов за шесть, часто превышая скорость, и один раз поплатился за это значительным штрафом. Перед поездкой я договорилась с Чейтеном Косла (с ним я познакомилась в Норидже в 1991 году) о семинаре в Стэнфордском университете, где он был профессором. Кроме того, наметились контакты с фирмой Экзоген (Exogene). Фирма хотела купить у нас продуцент хлортетрациклина. Территориально она была расположена на той же очень длинной улице, на которой в Пасадине (пригород Лос-Анджелеса) жили теперь Оля и Аня. Аня ездила по этой полной машин магистрали в школу на велосипеде. И вдруг в самом конце августа или в начале сентября Р. Хатчинсон присылает мне все необходимые документы для поездки и работы в его лаборатории. Контракт рассчитан на один год, и начало работы намечено на 1-ое Октября. Да, недооценили мы Хатча по началу! До поездки остаётся на все про все один месяц. И мы решаемся ехать. Для меня это продолжение работы, которой я занималась всю жизнь и на уровне, который я в последнее время мечтала освоить. Делать все от начала до конца собственными руками. В то же время это было довольно рискованно, несмотря на то, что я хорошо знала объект и всегда очень внимательно планировала и анализировала полученные результаты. Конечно, решение ехать очень трудно далось Лёне. Он занимал высокую должность в институте общей генетики РАН, был избран коллективом института членом общего собрания академии наук с правом голосования, координировал работу большого числа теперь уже общероссийских научных программ. И надо было это все бросить и ехать в Америку в качестве сопровождающего лица в полной неизвестности в отношении возможности найти там работу. Но все-таки он решился ехать, и мы стали лихорадочно собираться, сжигая за собой мосты, но не прерывая работу в институтах. Мне разрешили взять с собой все необходимые для начала работы актинофаги и актиномицеты, которые, конечно, нам в дальнейшем очень пригодились. Вылетели из Москвы в Чикаго 9 октября 1992 года. Опекали нас там Олины друзья Андрей Гудков, Оля Покровская и Сережа Миркин. Наши два чемодана, в которые уместилось совсем немногое от нашей прошлой жизни, остались у Оли Покровской. Потом, уже в Мэдисон их нам привезли Оля и Лёня Якубовы. Лёня сразу улетел на пару месяцев к Оле в Лос-Анджелес, а я, не зная, что надо было делать пересадку на другой автобус и, потеряв несколько часов, с трудом добралась до Блюмингтона. После конференции, прилетев в Лос-Анджелес, я неделю провела в лаборатории А. Варшавского с его разрешения, где Оля быстро стала обучать меня азам методов клонирования у E.coli — главного объекта микробной генетики. Это был практически весь мой экспериментальный багаж, с которым я должна была начать новую жизнь. К чему я толком не смогла подготовиться, так это к намеченной заранее лекции в Стэнфордском университете. К этому добавился и страх, когда я среди собравшейся публики увидела несколько знаменитых микробных генетиков, которых знала только по фотографиям. В общем, лекция мне не удалась, и я расстроилась, что подвела пригласившего меня Ч. Кослу. Вскоре я улетела в Мэдисон, а Лёня присоединился ко мне 12 декабря, когда в Мэдисоне уже была настоящая, даже не московская, а какая-то сибирская зима. Через несколько дней после Лёниного приезда и его пребывания в холодной нетопленной квартире я обмолвилась Ричарду, что не знаю, как устроиться на работу Леониду. Ричард, к моему удивлению и радости, сказал, что Леонид может хоть завтра выходить на работу в его лабораторию и предоставил ему рабочее место за старым обшарпанным столом, который поставили в мою половину комнаты. Лёня никогда не видел в глаза актиномицетов, но много лет назад несколько лет работал с бактериофагами в лаборатории Д. М. Гольдфарба. К тому же у него был богатый опыт в течение его научной карьеры полностью менять и объекты, и направления своих научных исследований. Так мы стали жить и работать в другой стране. Но это уже совсем новая жизнь и новая история. На этом я прощаюсь со своими будущими читателями и даже не стараюсь предугадать, какое мнение они будут иметь, прочитав эту книгу. Всё будет зависеть от их индивидуальных вкусов и, конечно, от степени профессионализма новоиспечённого автора этих мемуаров.Об авторе

Автор этой книги воспоминаний — профессор, доктор биологических наук, Наталия Дмитриевна Ломовская — посвятила свою жизнь изучению генетики микроорганизмов. Как ученый, Н. Д. Ломовская имеет международную известность. С докладами о своей научной работе она выступала во многих странах мира на конференциях и симпозиумах. Ее многочисленные научные статьи опубликованы во многих научных изданиях мира. Самым значительным признанием заслуг Наталии Дмитриевны перед наукой является переименование бактериофагов рода (genus) phiC31 в род (genus) Lomovskayavirus. Предложение для переименование в его ратифицирование было проведено Международным Комитетом по Таксономии Вирусов (International Committee on Taxonomy of Viruses — ICTV). Так что она имеет право сказать «exegi monumentum». Воспоминания Н. Д. Ломовской представят несомненный интерес как для широкого читателя, так и для учёных, работающих в разных областях биологии. Как и ее книга «Биолог Леонид Фонштейн», эти воспоминания являются свидетельством, зачастую документированным, о жизни и деятельности представителей российской научной интеллигенции в области генетики. Данная книга охватывает исторический период — от начала ХХ-го века до 1980-х гг.
Последние комментарии
1 день 3 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 9 часов назад
1 день 11 часов назад
1 день 17 часов назад
1 день 17 часов назад