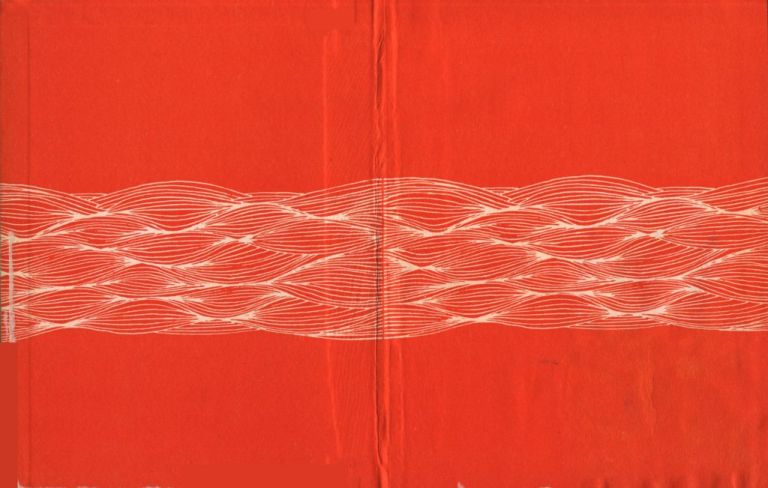
Владас Даутартас
ПИР У ЗОЛОТОГО ЛИНЯ
ПОВЕСТИ

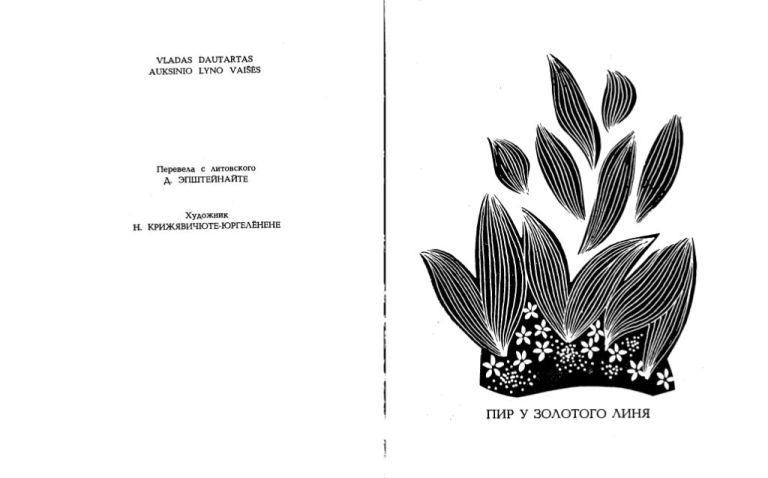 ПИР У ЗОЛОТОГО ЛИНЯ
ПИР У ЗОЛОТОГО ЛИНЯ
* * *
I. ЗАВОДЬ ЛИНЕЙ
В старом русле реки Мелсвойи, в мирной заводи, проживало летом семейство линей — тишайший и мудрейший Трумпис и его славная подруга Ауксе. Жили дружно, не ссорились, потому что Трумпис был нрава кроткого да и Ауксе любила своего спутника и всегда старалась держаться подле него. За пять лет совместной жизни немало довелось испытать этой паре — были радости, были тревоги, а случались и тяжкие дни. Этого не скроешь. Однако Трумпис был не из тех, кто, убоявшись трудностей, ищет лазейки в жизни. И даже не в этом дело. Трумпис любил свой дом и не променял бы его на самые замечательные излучины Мелсвойи. Здесь он родился, вырос, каждый уголок ему был ведом и близок. По правде говоря, жилище линей понравилось бы кому угодно. Небольшой клочок воды со всех сторон обступили густые заросли ивняка. Там, в кустарнике, селились соловьи, а осенью на гибкие ветки опускались стаи странников-скворцов. За ивняком тянулись сочные луга, поросшие петушником. В густой траве сновали коростели. В теплые летние вечера, выкрикивая что-то свое, они добирались до самой заводи. А прямо у воды, в чащобе аира и осоки, жило семейство уток. Спокойное и дружное. В полдень над жилищем линей медленно кружила чайка, а по утрам, прошумев крыльями, на мель опускался длинноногий журавль. Илистое дно реки было покрыто густыми водорослями. В иле и водорослях копошились рачки, улитки, червячки и всякие другие вкусные жители, которых поедали лини. Особенно нравилось Трумпису, что место спокойное. Правда, когда по реке проплывал пароход или баржа, в заводь докатывались мелкие волны. Однако постепенно они унимались, засыпали, усталые… Снова становилось тихо и мирно. Только однажды летом… Или, может, не вспоминать про это? Да, это были и впрямь страшные дни! Прямо напротив заводи остановилась замлечерпалка. Что-то в ней громыхало и гудело так, что жутко становилось. От землечерпалки к самому жилищу линей проложили какие-то странные трубы. Ночью на машине зажглись яркие огни, загремели, зазвякали цепи. С пронзительным скрежетом устремились в речную глубину острозубые ковши, впились в речное дно и стали его грызть. Речной песок вместе с мутной водой потек по трубам в заводь. Он постепенно завалил все лучшие полянки, где любили кормиться лини. Дно стало мелеть. В беде Трумпис никогда не терял голову. Но в тот раз даже он встревожился. Он позвал Ауксе, и они вместе решили выплыть в русло. Однако было уже поздно. Машина накидала столько земли, что наглухо отделила дом линей от реки. И лишь в одном месте, где торчали трубы, можно было проскочить. Но там вода так и кипела, перемешивалась с песком, пенилась и клокотала… Непривычно, неслыханно. Трумпис несколько раз подводил туда свою подругу, но все напрасно. Ауксе вся так и дрожала от страха. И все-таки Трумпис решился. Но как только пара линей приблизилась к страшным трубам, какая-то невидимая сила подхватила их и вместе с речным песком отшвырнула назад. Трумпис еле растормошил онемевшую от ужаса Ауксе. И тогда Трумпис решил не покидать свой дом. К тому же, другого выхода просто не было. Шли дни, полные страха и тревог. Чем дальше, тем тоскливее… Водоросли, насколько хватало линьего глаза, были завалены землей, дно мелело с каждым днем. Но вот однажды грозный гул прекратился. Землечерпалка подняла якорь и ушла вниз по течению. Лини обследовали свои владения. От них ничего не осталось. Все разрушено, завалено непахучей землей. Никакого корма, никаких сочных подводных растений. Кругом один белый тяжелый песок без запаха и жизни. И, как знать, что сталось бы с семейством линей, если бы не щедрая весна. По весне река Мелсвойи выступила из берегов и широко разлилась. В ледоход стремительное течение расширило заводь, нанесло туда вкусно пахнущего ила. Устлало им все дно. То там, то здесь оставляло течение затонувшие почернелые кусты. Льдины проскребли глубокое русло и снова соединили жилье наших рыб с большой рекой. Дни стали теплее. Трумпис подметил, как из черного ила начали проглядывать зеленые ростки. Сперва робко, а затем, глядь, и зазеленело все дно. Нежная перистолистная трава поднялась, словно рута. А в одном месте расправила над водой свои листья белая лилия. Трумпис и Ауксе рылись в иле, как в щедрых закромах. Маленькие, тупые их рыльца с наслаждением извлекали из ила моллюсков, мелких рачков, личинок, всяких жуков, а когда этот корм им надоедал, они решались побаловать себя молодыми побегами водорослей — нежными, от которых сладко пощипывает внутри. Из большой реки прибыла плотва, красноперка, стайка колюшек. Рыбам понравилась заводь, и они поселились там. Рано по утрам заглядывала сюда по своим разбойным делам щука Жрунья. Ауксе радовалась, что в заводи стало больше жителей, а Трумпис только топорщил усы и молчал. Не нравилась линю толчея, не любил он проводить время в пустой болтовне. Но если Ауксе это по душе — пусть. Хорошему соседу всякий рад. Особенно, когда живешь в тихой заводи и в широкий мир не выглядываешь.II. ОТЧЕГО СНОВА ВСТРЕВОЖИЛСЯ ТРУМПИС?
В то раннее майское утро солнце все никак не могло прорвать плотную завесу облаков. Была обложена вся восточная сторона неба. День занимался хмурый, теплый и душный. Прибрежный ивняк едва удерживал на своих ветках тяжелую ношу росы. Ветви гнулись прямо до самой воды. Капли росы тихо скатывались в воду, где весело сновали водяные жуки. Трумпис проснулся рано. Он чувствовал голод. Поплавал вокруг своего жилища — ветвистого затонувшего куста, пощипал молодые водоросли… Остановился и взглянул на свою подругу. Ауксе еще дремала. Она лежала, зарывшись в ил, и, верно, видела во сне что-то очень хорошее — шевелила короткими усиками. Трумпису не хотелось ее будить. Его взгляд словно говорил: «Пусть поспит, понежится». Трумпис любил свою подругу. И она была достойна этого. У нее было круглое плотное тело. Спина — темно-зеленая, бока золоченые, а брюшко беленькое, чуть серебристое. Небольшие красноватые глазки всегда ласково глядели на Трумписа. Тот по своей внешности мало чем отличался от Ауксе — разве что был крупнее да его округлые плавники были длиннее. Трумпис все еще любовался спящей подругой… Внезапно резкими рывками, будто сильно куда-то спеша, промчалась мимо колюшка, выставив свои три колючки. «Должно быть, почуяла что-то», — прошептал Трумпис и легонько ткнул круглым носом в бок спящую Ауксе. Линиха шевельнула хвостом, дрогнули ее плавники. — Что случилось? — спросила она сонно и зевнула. — Все рыбы уже уходят. Пора и нам. Надобно проборонить наши холмики. Как знать, что там завелось? Трумпис каждому закоулку своего жилища дал название. Тут были у линей холмы и овраги, ровные поля и лес перистолистных трав, сад белой лилии и палисадник с зеленой рутой. Трумпис подолгу копошился в своих любимых уголках. Тупой нос его без устали взрыхлял мягкое дно… — Придумал бы что-нибудь поинтереснее… Надоело, — недовольно выпятила губу Ауксе. Трумпис так и разинул рот. Что это произошло с его тихой Ауксе? Может, сон дурной привиделся? А может, порчу кто-нибудь навел? Ведь раньше она так никогда не разговаривала. Тем не менее Трумпис мирно ответил: — Ты голодна, вот и ворчишь. Поплыли. Однако Ауксе не шевелилась. Трумпис помедлил, шевельнул плавниками. Он знал, что Ауксе носит в себе икринки и что в июне, когда зацветет рожь, она отложит их на нежные листья подводных трав. — Тебе что, нездоровится? — озабоченно спросил линь. — Болит что-нибудь? — Я превосходно себя чувствую, — резко ответила Ауксе и внезапно стремительно рванулась вперед, в сторону холмов. Трумпис растопырил усы и поплыл следом. Рыбы шли, огибая леса густых водорослей, настороженно, внимательно высматривая, не попадется ли что-нибудь съедобное. — С добрым утром! — вынырнув из зарослей травы, линей приветствовала красноперка. Ее задранный кверху рот был слегка приоткрыт, а оранжевые с красными пятнами глаза с издевкой поглядывали на Ауксе. Красноперка словно говорила: «Проспали, червяки уже все съедены». Ауксе это чуяла, поэтому поплыла дальше, не удостоив рыбешку и взгляда. — Здравствуй, здравствуй, соседушка, — ответил на приветствие Трумпис, но в пространные разговоры не стал пускаться. Красноперка выпустила несколько пузырьков воздуха изо рта, радостно плеснула хвостом и скрылась в траве. — Не понимаю, чего пристала, щепка этакая? А ты еще болтаешь с ней! — накинулась Ауксе на Трумписа. — А к чему нам ссориться? — Красноперку не знаешь! Она только и знает, что сплетни разносить. — Чем же она тебе досадила? — А ты не знаешь! Вся заводь знает, а он один — нет! — Говорю — не знаю, значит, не знаю, — насупился Трумпис. — В чем дело? Ауксе замялась. — Она пустила слух, будто у меня усы длиннее стали, — всхлипывая, проговорила она обиженно. Трумпис чуть было не улыбнулся. Однако, заметив волнение подруги, уверенным голосом сказал: — Я поговорю с ней. А ты успокойся, Ауксе. Среди холмов пара линей не многим поживилась. Весь ил уже до них кто-то разворошил, козявок и червяков всех растаскали. Даже корни трав обсосаны. И все же Трумпис усердно копошился в иле. Ему хотелось набрести на такое угощение, которое порадовало бы его подругу и развеяло ее угрюмое настроение. Ауксе, оттопырив губу, некоторое время неподвижно лежала на дне и вдруг, задумав что-то свое, ловко юркнула в сторону. Даже Трумпису ничего не сказала. Отплыла она недалеко и вдруг закричала: — Сюда, сюда! Трумпис смыл налипший на рыльце ил, оглянулся. Ауксе, взволнованная, уже плыла к нему. — Там целые залежи! — обрадованно заговорила она. — Трумпис, да поскорее ты! У Трумписа даже дух захватило. На расчищенном лоскутке дна лежали куски червяков, душистых, не виданных прежде белых и розовых, мягких и твердых каких-то галочек. Ауксе так и накинулась на соблазнительные кусочки. Проглотила один, потом еще… — До чего же вкусно, — смаковала она. Трумпис замер на месте. Он словно окаменел. Откуда взялись здесь все эти блага? Ведь он знает свой дом. Нет, тут что-то неладно… — Ауксе, ты поосторожнее! — воскликнул Трумпис. Он легонько куснул кусочек червяка. От того исходил какой-то странный непонятный запах. Запах этот не был знаком Трумпису. Трумпис осторожно стал посасывать червяка. Ничего. Вкусный кусочек был проглочен. Успокоенный, Трумпис повернулся к белой галушке, которая благоухала так, что у линя задрожали усы. Он уже было надкусил ароматный кусочек, как внезапно раздался крик Ауксе: — Ах, Трумпис! Ах, беда! Ауксе вертелась волчком, металась и постепенно поднималась к поверхности воды. Трумпис кинулся к подруге. — Что с тобой, Ауксе? Трумпис никак не мог понять, что происходит с Ауксе. Он же не знал, что вчера по заводи бесшумно прошмыгнул страшный браконьер Ястребиное Око. Он поплавал и высмотрел жилище линей. Трумпис и Ауксе, копошась в илистом дне, крошечными бусинками пускали вверх пузырьки воздуха. Ястребиному Оку этого достаточно. Он поспешно возвратился домой, наварил для линей картошки, взял разваренных пшеничных зерен, кусочки червяков… Схватил удочку и снова направился к заводи. Первой попалась на его хитрую приманку Ауксе. Беда настигла ее совсем неожиданно. Трумпис прямо из себя выходил, не зная, как помочь подруге. — Давай в траву, в самую гущу! — кричал он Ауксе и сам поплыл первый, показывая дорогу. Ауксе послушалась его. Изо всех сил рванулась она к зарослям. Ястребиное Око даже закряхтел от натуги, пытаясь выволочь Ауксе из густо переплетенных водорослей. Трумпис видел, как натянулась, словно струна, белая леска, как на ней затрепетала прикованная Ауксе. — Держись, не поддавайся, — кричал Трумпис подруге. — Ох, не могу больше, — простонала Ауксе и, собрав последние силы, колотя хвостом по илу, снова метнулась в сторону. Какое-то мгновение Трумпис ничего не мог различить. Взбаламученный резким движением рыбы, ил окрасил воду в темный цвет. Трумпису показалось, что он никогда больше не увидит Ауксе, что она исчезла неизвестно куда. Исчезла насовсем. — Ауксуте! — простонал Трумпис. — Ах, сейчас умру, — раздался в ответ тихий голос откуда-то из густых зарослей трав. Трумпис в мгновение ока очутился возле подруги. Она вся дрожала от страха, усталости и боли. На верхней губе ее зияла глубокая рана. — Тебя надо лечить. Скорей домой! — воскликнул Трумпис. Лини вернулись к своему дому. Трумпис успокаивал Ауксе, утешал, пытался как-нибудь разговорить. Но подруга его была мрачна. Весь свет ей был не мил. И даже верный Трумпис. Она зарылась в ил и не желала слушать его речи, даже смотреть вокруг. Трумпис повис подле нее, едва шевеля плавниками. Линь был встревожен. «Что же это творится, а? — спрашивал он сам себя. — Только перестала громыхать землечерпалка, только стала налаживаться жизнь, ушли тревоги, и вот снова… Как быть?» — Больше я в этой дыре жить не стану, — от таких речей подруги еще тревожней стало Трумпису. — Другие рыбы — как рыбы. Поживут и плывут дальше, новое место ищут. Один ты такой… — Кто свой дом бросает, сам никуда не годится, — прошептал Трумпис. — Тебе одному так кажется. Потому что ты… Торчишь тут и только ждешь… моего конца ты ждешь, вот что! — Ауксуте! — Да, ждешь! Слова подруги как ножом резали сердце Трумписа. И что это она болтает? Понятно, губа болит, жжет, но все-таки… Это он-то ждет ее конца? Нет, это уже чересчур. И где это, интересно, найдешь дом лучше? Ведь здесь каждый уголок свой. Нигде больше так не благоухает ил, как в заводи, нигде не найти такой густой и нежной травы. И чем это Ауксе недовольна? — Ты бы, Ауксе, отдохнула, заройся в ил, отдышись… Не могу я слушать, когда ты говоришь, — сказал Трумпис и отпрянул в сторону. — Ах, Трумпис! — вскрикнула Ауксе. — Неужели ты рассердился? Но линь не откликнулся. Пусть побудет одна, пусть…
А тем временем небо заволокли тучи. Солнце так и не выглянуло. Где-то вдалеке перекатывался гром. Все отчетливей и ближе. Затем стало накрапывать. Тогда Трумпис решил выяснить, что происходит в заводи. Прежде всего он направился в сад белой лилии. У лилии набухал бутон. Длинный стебель с шишечкой на конце тянулся кверху, где лениво плавали большие листья. Под этими листьями линь всегда находил вкусных червячков. Он и сейчас поднялся, чтобы полакомиться ими. Поднялся да так и замер. Возле белой лилии покачивалась на воде лодка, а в ней сидел сам Ястребиное Око. Трумпис в страхе нырнул на дно. Успокоился. Он даже принялся было раскапывать ил, пускать пузырьки воздуха. Едва лишь несколько пузырьков вышли на поверхность, как на дно стали падать все те же соблазнительно пахнущие кусочки. Те самые, из-за которых чуть не погибла Ауксе. Медленно опускались на дно кусочки червей, бело-розовые галочки. Прошла еще секунда, и Трумпис перед самым своим носом увидел белую леску. Точно такую же, как та, что захватила в тот раз его подругу. Трумпис от радости чуть не забил хвостом по воде. Теперь-то ему все понятно! И хитер же браконьер Ястребиное Око, ох хитер. И все же… Трумпис глядел, как падают ароматные кусочки, и медленно шевелил усами. Дождь усилился. Раздались трескучие раскаты грома. Завыл ветер. Дождь с шумом полосовал водяную поверхность. Трумпису такая погода была по душе. Он, разумеется, не слышал, как Ястребиное Око сердито выругался и, плюясь, принялся сматывать удочку. Зато Трумпис отлично видел, как таинственная леска стала подниматься кверху и под конец совсем исчезла. Выждав еще немного, линь принялся неторопливо рыть ил возле ароматных кусочков. Когда работа была окончена, Трумпис, довольный, возвратился к Ауксе. — Эй, Ауксе! — Это ты, Трумпис, — обрадовалась та. — Бросил меня одну, — и, подплыв к другу, она выпятила раненую губу. — Сильно болит? — Как огнем жжет. — Зато больше мы не попадем в ловушку. Мне теперь все известно, — радостно заговорил Трумпис. — А чтобы ты не тосковала, давай устроим пир. — Ах, Трумпис, как это было бы замечательно! — встрепенулась Ауксе. Но тут же жалобно спросила: — Только чем же мы станем гостей угощать? Трумпис не спешил выкладывать все новости. Он решил придержать их до поры до времени. — Потерпи, Ауксе. Это секрет, ты узнаешь его потом. Увидишь, не опозоримся. — Какой ты добрый, Трумпис. — Давай-ка подумаем, кого позвать. — Только не эту сплетницу красноперку. — Если тебе не хочется… — Какой ты добрый, Трумпис, — снова повторила Ауксе и прижалась к нему. Ей показалось, что боль стала тише. А Трумпис — тот позабыл, какие обидные слова недавно говорила ему подруга. — Чудесная у нас заводь, Ауксе, — проговорил он тихо. — Ведь здесь так хорошо… — Да, здесь хорошо, Трумпис… А с тобой тоже хорошо, — вздохнула Ауксе и еще плотнее прижалась к своему другу. Оба линя долго слушали, как громыхает гром и как пляшет дождь по веткам ивняка.
III. А ГОСТЕЙ-ТО, ГОСТЕЙ!
Поджидая гостей, Ауксе позабыла о своей больной губе. К тому же, прошло несколько дней, и губа почти зажила. Остался маленький шрамик. Лини решили встретить приглашенных возле своего жилища. Тут можно будет побеседовать, слегка закусить, а потом двинуться к саду белой лилии. Гости должны были прибыть к вечеру, когда солнце начнет собираться на отдых, а в кустарник слетятся соловьи. Лини любили теплые ночи — и лунные, и темные, глухие. До темноты еще было время. Лини хлопотали вокруг своего дома. Точнее, трудился один Трумпис, а Ауксе тщательно прихорашивалась. Линю хотелось, чтобы его подводный дворец понравился всем, чтобы гости чувствовали тут себя, как дома, и даже, может быть, еще лучше. Носом взрыхлил он ил вокруг затонувшего куста, разгладил нежные побеги трав. Обмотал ими торчащие во все стороны ветки куста, облепленные ракушками. Десятка два ракушек Трумпис стряхнул с веток и сложил под кустом, у корней. Если кому-нибудь из гостей захочется отведать — пожалуйста. Переплетенные корни затонувшего куста образовали целые комнаты, нарядные залы, запутанные лабиринты. Трумпис местами почистил ил, местами нарыл его побольше, а в некоторых комнатах раздвинул переплетенные ветки, чтобы получились окна для гостей. А что, если им захочется посмотреть вдаль — вдруг они это любят? Как по заказу, солнце, клонясь к горизонту, бросило последний взгляд на дно заводи. Заглянуло и обрушило на дворец наших рыб ворох огненных лучей. Заискрились убранные ракушками башни замка, заблестели переливчатые, словно золотистые ленты, растения подводного леса. Ауксе, пристроив среди веток серебристый осколок ракушки, наводила красоту. Смотрелась в ракушку, вертелась, виляла хвостом. Замечательно выглядела Ауксе. Это видел Трумпис, и это должны были заметить все гости. — Трумпис, скажи, пожалуйста, дорогой, это правда, что у меня усы стали длиннее? — обеспокоенно спросила Ауксе. Она гляделась в зеркало и недовольно поводила носом. — Ты прекрасна, Ауксе. Не слушай ты никакой болтовни. У тебя очень красивые усики. И вообще. Трумпис не успел закончить. На одетую листьями ветку ракиты села сорока. Она уселась, пригнув ветку к самой воде, и гаркнула как могла громко: — Рыбы, слушайте меня! Новость! Лини пир устраивают! Слушайте новость! Лини устраивают пир! — Ну и болтунья! Уже растрещалась! — сердито засопел Трумпис и стрелой кинулся в сторону ракиты. Несколько метров он крался, скрываясь в траве, чтобы сорока не заметила. А той и дела мало. Сгорбившись от натуги, она орала: — Пир у линей! Пир у линей! Трумпис резко повернулся, шлепнул широким хвостом по воде и обрызгал весь пестрый сорочий наряд. — Вот тебе, трещотка! — Разбойник! Злодей! — завопила сорока и взмыла вверх. — Так тебе и надо! — смеялся довольный Трумпис. Однако, возвратившись к своему дому, он снова сделался озабоченным. — Теперь не только соседи, но и жители большой реки все узнают. Что же это будет? — Не понимаю, к чему нам скрытничать? Ну и пусть знают, даже лучше будет. — А если Жрунья слышала? — Ты что, щуки испугался? — Да видишь ли, как тебе сказать… Лучше все-таки держаться от нее подальше. — А что ты ей сделаешь? Вздумается ей — вот и приплывет. Ну и пусть. Только мне вот что не нравится. Я уже раньше говорила и еще скажу: надо было всю нашу родню, всех рыб нашей семьи пригласить. И язя, голавля, усача… — Да будет тебе… Куда ты их всех денешь? И потом, чем, скажи, хуже других такая рыба, как лещ, рыбец или карась, сазан… Ведь это тоже наши карповые… — Чего доброго, еще позовешь подуста, пескаря, уклейку!.. — А почему бы и нет? Всю родню — так всю родню. — Нет, ты прав, дорогой. Слишком много получится… — наконец согласилась Ауксе. Потом подумала еще и прибавила: — Может, это даже и лучше, когда своих меньше. Ах, как я жду хариуса. Он такой интересный… Трумпис посмотрел на Ауксе, нахмурился, но ничего не сказал. А та все болтала: — Как ты думаешь, Трумпис, приплывет он или нет? Не загордится ли? А вдруг ему у нас не понравится? Ведь он такого знатного рода. — Ну и глупости ты несешь! Весь вечер перед зеркалом вертишься. — Трумпис, ты что — рассердился? — Опять ты за свое… Лучше смотри, не видно ли гостей. А то проглядишь, а они уже тут… И верно! Не успел линь трижды обогнуть свой дом, как на небе показалась луна, а в зарослях ивняка подал голос соловей. И тут же, как было уговорено, показались первые гости. Говорят, кто ближе живет, того дольше хозяин ждет. Однако на этот раз получилось наоборот. Первой очутилась возле дворца линей соседка — плотва. Несколько дней назад она отнерестилась и теперь прихварывала. Но когда ее пригласила Ауксе, она не сумела отказаться. И не только потому, что плотва и линь — близкие родственники, из одного семейства карповых. Плотва жила по соседству с линями, и у них были общие радости и общие заботы. Случалось им и поссориться, не без этого, но в целом лини жили в добром соседстве с плотвой. Неплохая она была соседка. Ауксе даже уверяла, что ее сравнить невозможно с этой сплетницей красноперкой. И то правду говорят: хоть в одном лесу деревья, а по-разному растут. Плотва была тихая, спокойная, уживчивая, а красноперка — только и гляди, как бы не насмеялась, не насплетничала, не пустила какой-нибудь слух. Что и говорить, плотва была своя рыба. Ауксе, завидев ее, кинулась навстречу. — Добро пожаловать, соседушка! — приветствовала она и проводила в дом. Плотва качнула туловищем, но не произнесла ни слова. Трумпис сразу заметил, что у соседки во рту был зажат жирный червяк. Плотва повернулась и положила червяка возле груды ракушек. И только после этого, расцеловавшись с хозяйкой, заговорила: — Думала, не смогу быть. Так болит поясница, так ломит… Ах, как у вас нарядно… — Так, немного прибрались… — отвечал Трумпис. — Не стоило, соседушка, гостинцы носить. У нас всего вдоволь, чего уж там… — Что вы, право… Червячок не помешает… Ауксе глядела на плотичку. Та и впрямь была плоха. Бока опали, а красивая серебряная чешуя не блестела. Тяжело пришлось ей во время нереста. Вспомнив, что и ей это предстоит, Ауксе глубоко вздохнула. — Вы поболтайте, а я пойду взгляну, не прибыл ли еще кто, — сказал Трумпис и отплыл в сторону. Далеко плыть не пришлось. Резкими скачками, то и дело оглядываясь, к Трумпису приближался елец. Он нес, ухватив за ножку, большого зеленого кузнечика. — Здорово, старый! — воскликнул елец, выронив при этом кузнечика изо рта. — Еле нашел твою дыру. — Послушай, корбусь… — Елец я, черт возьми, неужто не знаешь? — оборвал его елец и нырнул к поверхности воды за кузнечиком, который уже всплыл и покачивался на воде, раскинув крылышки. Ныряя за кузнечиком, елец добавил: — Ну и вонища, старик, у тебя в заводи, ну и водица… И не надоело тебе в этом черном иле рыться? — Ладно, ладно, корбусь, — улыбнулся в усы линь. Вскоре елец снова подплыл к Трумпису. Он опять держал за крылышко кузнечика. Елец кивнул Трумпису — мол, веди, показывай. Трумпис поплыл впереди, поглядывая одним глазом на гостя. Елец был в ярком, пестром наряде — ну просто франт. До блеска начистил острые плавники, а тело так и переливалось всеми цветами радуги: спина темно-серая, бока сизо-голубые, брюшко серебряное, а плавники отливали то серым, то желтоватым, то оранжевым… «Конечно, не понравится ему у нас, — снова улыбнулся Трумпис. — Он речной житель…» На Ауксе елец произвел хорошее впечатление. А пуще всего восхищалась она гостинцем. — Ах, что же это такое? Как это называется? — спрашивала она без конца. — Зеленый кузнечик, сударыня, — отвечал елец. — А где он живет? — На лугу. На лугу, что у реки, — с достоинством отвечал елец. — А что, он вкусный? — Скоро увидите. — Непременно расскажите нам, как поймали его, — упрашивала Ауксе гостя. — Слышите, непременно! — К вашим услугам. А если еще лучше попросите… — Куда уж лучше, — вмешалась в беседу плотва. Выпучив глаза, она тоже восхищенно смотрела на кузнечика. Король душистых лугов, зеленый кузнечик, и впрямь был прекрасен. Крупный, с длинными ногами, торчащими усами и, самое главное, в длинном зеленом фраке. Трумпис, и тот не видал такого. Линь только догадался: кузнечики, по-видимому, обитают невдалеке от берега реки Мелсвойи. Иначе елец не добыл бы его. — Любезный елец, а зачем ему такие длинные ноги? — интересовалась Ауксе. — Он же знаменитый прыгун. Оттолкнется ногами и летит. — Ах, расскажите же нам… — Дорогая, потерпи, еще не время, — заговорил Трумпис. — Гляди, вот еще гости… Возле дома линей показалась трехиглая колюшка. Трумпис знал, что эта маленькая рыбешка ловка, жадна и до отчаяния смела. Однако даже Трумпис, глянув на колюшку, оторопел: на острых спинных колючках она тащила огромную личинку. Скинув ношу, рыбка несколько раз глубоко вздохнула. — Ух, уморила, проклятая, — сказала она и принялась здороваться с гостями. Елец и плотва без особой радости отвечали на приветствие колюшки. Откровенно говоря, эта рыбка не пользовалась доброй славой среди речных обитателей. У многих своих соседей колюшка не раз поедала икру, нападала на только что вылупившихся мальков. А уж назойлива была колюшка невыносимо. Всюду она совала свой нос, все-то она первая должна была узнать, посмотреть, попробовать. Рыбы считали колюшку вредной рыбой и надавали ей всяких кличек. Звали ее и рогаткой, и колючкой, и жгучкой, рогулькой и приставучкой, шипицей, троешпоркой, шильницей, шнырой, шпилявкой, печкуром, торчком, тычком и всякими другими прозвищами. Трумпису, разумеется, все это было известно, но он был покладистый, терпеливый и незлопамятный, поэтому, сзывая гостей, не обошел и колюшку, которая считалась жительницей заводи. И потом, колюшка почему-то нравилась Ауксе. «По-моему, она красивая, — говорила линиха. — На вид очень хороша. Не похожа на остальных рыб». И правда! На теле у колюшки не было ни единой чешуйки. Вместо этого у нее были цветные костяные пластинки, а вместо брюшного плавника — две острых, выгнутых колючки. Колюшка носила такие шипы и на спине. Дотронуться, и то страшно. Со всех сторон шипы, колючки. Удивляться тут нечему — в семействе колюшек все такие. Родственница речной трехиглой колюшки — морская — носит на спине девять игл и ничуть не добрее своей кузины. Короче говоря, появление колюшки не слишком обрадовало гостей. Сначала все молчали. Ауксе первой почувствовала неловкость этого молчания. — Взгляни, колюшка, какой подарок принес нам елец! — заговорила она, обращаясь к колюшке. Но вышло еще хуже. — Ну и что в нем особенного? — дернулась рыбка. — Обыкновенный луговой кузнечик, только и всего… Тогда нахмурился елец. — Тогда, может, гражданка колюшка нас чем-нибудь необыкновенным удивит? — произнес он довольно язвительно. — Может, ваша сухая шкурка — что-нибудь особенное?
Колюшка рассердилась. Она была вспыльчивая и не умела скрывать свой гнев. А как только она рассердилась, ее брюшко и нижняя челюсть стали багрово-красными, спина сделалась оранжевой, а глаза — зелеными, горящими и необыкновенно злобными. Все рыбы заметили, что колюшка в гневе. Трумпис решил прекратить ссору. — Уважаемые рыбы! — воскликнул он. — Вы же наши гости, и все ваши подарки хороши, они украсят нашу трапезу. — Ну, конечно, конечно… Надо уважать себя и хозяев, — заступилась плотва. — Я ничего ей не сказал, — отмахнулся елец. — И вообще, черт знает что… — Ты же свой, корбусь… Будь мужчиной, — тихо шепнул ему Трумпис. — Опять ты со своим корбусем… Ну тебя ко всем… — Ой, Трумпис, хариус! — взволнованно вскрикнула Ауксе. К жилищу линей несколько высокомерно, но вместе с тем и сдержанно приближался красавец-хариус. Он поставил свой большой спинной плавник, похожий на разноцветный парус, а его серебряное веретенообразное тело ярко блестело в лунном свете. Хариус принадлежал к славному и знатному роду лососевых рыб. Все жители реки Мелсвойи почитали его. За его благородный и мечтательный нрав, за храбрость и ловкость. Хариус был простодушным созданием. Не похвалялся своей знатной родней. Правда, он недолюбливал сборища, как и все незаурядные личности. Хариус жил на стремнине реки, где самое быстрое течение. В заводь он не заглядывал. Трумпис, отправляясь к нему с приглашением, чувствовал себя очень скованно. Трумписа терзало течение. Оно несло его, толкало на камни. Трумпис не ожидал, что хариус согласится посетить его, совсем не ожидал… — Милости просим, — чуть выплывая вперед, приветствовал хариуса линь. — Для нас большая честь принимать вас в нашем доме. — Приветствую всех, — сдержанно ответил хариус и, озираясь, добавил: — О, как здесь прекрасно! Какой у вас замечательный дом! — Ни черта ему тут не нравится, сплошное притворство, — позабыв недавнюю ссору, шепнул колюшке елец. — Он же любит чистую воду, знаю я… Ауксе — та не могла оторвать от хариуса взгляда. Вначале у нее даже голова закружилась. Она почувствовала слабость. Пришлось ей прислониться к плотичке. — Ты вся дрожишь, — тихо сказала ей соседка. — Ах, плотичка, друг мой, он такой удивительный… — Видала, этот барчук даже гостинца не соизволил притащить, — снова шепнул колюшке елец. У колюшки уже весь гнев прошел. Она снова приобрела свою привычную окраску. — Задирает нос, сразу видно, — буркнула она. Трумпис, как и подобает хозяину, предложил гостям осмотреть его дворец. Рыбы принялись плавать между ветвей затонувшего куста, разглядывать комнаты, залы… Особенно восхищалась плотва. Все ей нравилось. Хариус тоже похваливал жилище линей. Однако, усмехнувшись, признался, что ему больше по душе жить прямо в водовороте у камня или у пучка трепещущей на воде травы. Елец чихал и, отворачиваясь, отплевывался. Не нравился ему запах ила, и он не скрывал этого. Хоть бы глина была, а то какая-то черная мешанина, В носу свербит… Колюшка молчала. В глубине души она очень даже одобрила дом линей. Любила колюшка черные затонувшие кусты. Возле них всегда можно корм найти. Нравилось ей, но не могла вредная рыбка чужое похвалить. Она вертелась между облепленных ракушками веток, изловчилась слизнуть с зеленых побегов несколько червячков, ныряла и молчала. Как только гости осмотрели дворец, Трумпис решил, что пора приняться за угощение и можно открыть гостям свою тайну.
IV. ТАЙНА ТРУМПИСА. НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
— Почтенные гости! — обратился Трумпис к рыбам. — Мы приглашаем вас поплавать по заводи. Познакомиться с ней. — Тут Трумпис на некоторое время многозначительно замолк, а потом закончил: — Поплавать, то да се поглядеть, а то и узнать что-нибудь новенькое… Гости переглянулись. Плотва и колюшка отлично знали местность. Хариус и елец были тут впервые. Но, подумать только, эта темная вода, ил… Хариус, разумеется, молчал из вежливости, но елец поджал губу, тем самым явно показывая, что у него нет ни малейшего желания куда-либо тащиться. Однако Трумпис сделал вид, что не заметил недовольства ельца. Он хорошо знал своего родича и не слишком беспокоился из-за его капризов. А для того чтобы вызвать любопытство у плотвы и колюшки, Трумпис снова неторопливо повторил: — Говорят же: век живи — век учись. Я-то думал, что уже все тайны омутов да заводей знаю, но выяснилось, что я сильно ошибался. Итак, милости просим, — и линь первым медленно двинулся вперед. — Прошу прощения у гостей, но я должен поплыть первым, — вежливо заговорил Трумпис. — Я буду показывать дорогу к тому месту… а впрочем, скоро сами увидите… За Трумписом, даже можно сказать, почти рядом с ним, плыл красавец-хариус. Плотва держалась поближе к Ауксе. Ельцу, хотел он того или нет, досталась в пару колюшка. — Вовсе спятил старик, — тихо сказал елец колюшке. — Оставили роскошный стол и таскаемся тут неизвестно зачем. Какие в этой мусорной куче тайны?! По-моему, старик тронулся… Колюшка тоже беспокоилась о брошенном кузнечике, личинке, о жирном червяке, ракушках, но любопытство все же взяло верх. Колюшка знала, что Трумпис не пустомеля, слов на ветер не бросает. Маленькую непоседу терзала одна мысль: неужели в заводи что-то произошло, а она об этом ничего не знает? А если так, то нечего слушать воркотню злопыхателя-ельца, а надобно как можно быстрее узнать тайну. И колюшка, покинув ельца, вырвалась вперед, к хариусу и линю. — Сорока любопытная, — проворчал елец и подплыл поближе к Ауксе и плотве. А колюшка, несколько раз ловко перевернувшись на месте, попыталась разговорить хариуса. И вовсе не от того, чтобы он ее особенно занимал. Зато, может быть, в беседе с хариусом Трумпис нечаянно проговорится, выболтает, что же такое произошло? А уж тогда колюшка будет знать, что делать. — Вашу родню я отлично знаю, — умильно заговорила колюшка с хариусом. — Знатное семейство, ничего не скажешь. Не скажу ничего плохого, например, о форели… Вот уж действительно… Хариус помалкивал. Ох, много гадостей натворила эта вредная рыбешка! Зато язык у нее ловкий. Что ж, с такой и разговор должен быть особый. Хариус знал, что колюшка ни его, ни форели не боится. И все же… — Очень приятно слышать, — отвечал хариус на речи колюшки. — А как вам нравится наш родственник лосось? Колюшка резко остановилась. Так вон он куда клонит, барчук этакий! Лосось! На эту рыбину, которая заплывает в реку из моря, колюшка и смотреть не желает. Лосось — жуткий разбойник. Куда ни повернется, там всю колюшкину родню как метлой выметет. А хариус — вот он какой… — Лосось мне не очень-то показался, — прикидываясь равнодушной, отвечала колюшка. — Откровенно говоря, я его мало знаю. В прошлом году всего однажды встретились в большой реке. А вообще-то я не люблю реку. Мне больше нравится заводь. Здесь каждый живет так, как ему нравится. Правильно я говорю, Трумпис? Трумпис сообразил, что колюшка нарочно перевела разговор, но все же ответил: — Ну где же может быть лучше, чем у нас! Со стороны реки в заводь донесся грозный рокот моторки. Рыбы, словно по уговору, замерли на месте. Через минуту рокот стих, но рыбы все стояли, даже плавники не шевелились. Вверху перекатывались поднятые моторкой волны. Они всколыхнули поверхность воды и хлынули к берегу, к ракитовым кустам. Там, в кустарнике, заглушая друг друга, заливались соловьи. Подальше, на лугу, дергал коростель. По небосводу плыл круглый лунный диск. Его белесое сияние достигало дна. Все было видно. Можно было разглядеть каждый стебелек травы, сосчитать мягкие, нежные листочки водорослей, полюбоваться на то, как странствует по дну усердная ракушка, как пишет затейливые письмена водяная улитка. — Не люблю я моторок, — нарушил молчание хариус. — Что ни вечер, смущают покой. — Какое счастье, что в нашу заводь они не могут заходить, — от всей души ликовал Трумпис. — Да, здесь спокойнее, и все же… Хариус не договорил, но все поняли, что он предпочитает стремительное течение, где, возможно, меньше покоя и больше опасностей, где надо постоянно бороться… А Трумпис, конечно, ни за какие блага не отказался бы от своего дома. Это тоже всем было ясно. На воду упал неосторожный ночной мотылек. Его заметили все рыбы. В тот же миг елец решил, что настал его час. — Пардон, любезные синьоры! — бросил он плотве и Ауксе. Крикнул и ловко нырнул к мотыльку. Однако не дремала и колюшка. В несколько резких скачков обогнала она ельца и уже было схватила мотылька. Но тут случилось то, чего никто не ожидал. Ни Трумпис, ни Ауксе, ни плотва не успели как следует разглядеть молниеносный скачок хариуса. Недаром рыбы называют его молнией. Колюшка уже было разинула пасть, чтобы заглотнуть добычу, как рядом вспенилась вода. Обогнав всех, с добычей во рту, хариус возвратился на свое место. — Это вам, — повернулся он к Ауксе. Затем, обращаясь к ельцу и колюшке, добавил: — Я полагаю, вы догадались, что это было лишь ради спортивного интереса. — Ах, какой чудесный подарок! Трумпис, ты только посмотри, — восхищалась мотыльком Ауксе. Трумпис и сам был в восторге от мотылька и от мастерского прыжка хариуса. И действительно! Кто бы мог подумать, что можно с такой легкостью опередить ельца и колюшку, которые находились прямо у самой добычи. Ничего не скажешь, сделано по-мужски. Достойно уважения. Ну, и разумеется, нежные крылышки ночного мотылька, его пушистое тельце тоже заслуживают внимания. — Не знаю, чем вас и отблагодарить, славный хариус, — снова проговорила Ауксе и принялась делить добычу. Одно крылышко отдала плотве, другое колюшке, а себе оставила тельце. Она предложила угоститься и ельцу, но тот, поджав губы, отказался. — Я не пользуюсь чужими услугами. Хотя, если правду говорить, я первым увидел мотылька. Правда, старик? — Мы все его заметили, корбусь, — ответил Трумпис. — Сколько тебе вдалбливать, никакой я не корбусь, черт возьми… — Ладно, ладно, родич, запомню… А теперь поплыли-ка дальше. Трумпис вел рыб к саду белой лилии. Плыть было недалеко. Возле сада белой лилии, как и по всей заводи, царило ночное безмолвие. Только здесь было еще более таинственно и красиво. В лунном сиянии мирно колыхались заросли подводных трав с круглыми и стрельчатыми вершинами. Белая лилия спала. Ее цветок, достигнув поверхности воды, покоился на широком листе и ждал восхода солнца. — Это здесь, — не желая будить лилию, тихо прошептал Трумпис. — Тут мы будем пировать. Рыбы принялись озираться. Пировать? Но чем, как, где? Ни елец, ни плотва, ни колюшка, ни хариус, ни даже сама Ауксе не видели здесь ничего вкусного или просто съедобного. — Как это? — первым не выдержал елец. — И правда, тут же ничего нет! — заявила колюшка. Она так и вертелась на месте, вынюхивая, не пахнет ли едой. Плотва, дрогнув плавниками, толкнула Ауксе в знак того, что она ничего не понимает. — Трумпис! — умоляюще произнесла Ауксе. Трумпис улыбнулся в усы. — Я же сказал, приглядитесь повнимательней, дорогие гости. Колюшка прыгнула вверх, к листьям белой лилии. Схватила оттуда маленькую козявку. Елец принялся шнырять между травами, но ничего не обнаружил. Ауксе и плотва опустились на самое дно. Хариус степенно озирался по сторонам и, стоя подле Трумписа, медленно шевелил плавниками. — Трумпис, сюда! — вдруг вскрикнула Ауксе. — Тс, белая лилия спит, — шикнул на нее линь. — Трумпис, опять… тот запах, помнишь… я чуть не погибла… Трумпис… Но Трумпис не слушал свою подругу. — Внимание! — произнес он и нырнул прямо в ил. Трумпис трудился энергично. Из ила стали возникать кусочки червей, белые и розовые, необыкновенно ароматные галочки. Все рыбы мгновенно оценили ценность внезапно возникшей еды. — Смелее, угощайтесь, пожалуйста, — подбадривал Трумпис. Плотва куснула одного червяка, потом еще, заглотала вмиг несколько галочек. От неописуемо притягательного их вкуса она почувствовала даже слабость. Не ожидая, пока линь достанет из-под ила новую порцию угощения, плотва сама принялась раскапывать ил и даже позабыла о больной пояснице. Колюшка глотала давясь. Она хватала куски крупнее, чем могла проглотить. Обкусывала их своими острыми зубками и глотала изо всех сил… Хариус ел не торопясь, похваливая угощение. Елец трудился на совесть. То хватанет, то рванет, повертится, поворошит ил и все твердит: — Хе-хе, старик, а твой ил, выходит, тоже чего-то стоит. Браво! Брависсимо! Ауксе, выпучив глаза, так и замерла на месте. Она не прикасалась к угощению и от страха не могла ни слова вымолвить. Наконец она пришла в себя. — Трумпис, что ты делаешь, — охнула она. — Никакой опасности, Ауксе, — отвечал Трумпис. — Сейчас ты узнаешь мою тайну. А пока ешь! Бока у рыб круглели. Они все ленивее подбирали корм. Кое-кто уже принялся выбирать куски повкуснее. Первой насытилась колюшка. За ней елец, плотва… Лини тоже перестали есть… — Замечательная у вас кормушка, — похвалил Трумписа хариус. — Жаль, что я перед приходом закусил. Кстати, как вам удалось найти эти золотые закрома? Речи хариуса так и ласкали слух Трумписа. А тут еще остальные рыбы пристали: — Расскажи, Трумпис! — Открой тайну. — Скорее, мы ждем… Трумпис откашлялся. Какое-то мгновение он молчал. Потом, слово за слово, рассказал все, что было в то утро, когда они с Ауксе отправились покормиться. Как Ауксе заметила незнакомое угощение и как их постигла беда. Трумпис, разумеется, умолчал о том, что у них с Ауксе вышла ссора. Зато он пространно рассказывал, как он долго бродил по заводи, пытаясь выяснить, как же это получилось, что Ауксе чуть было не попалась. — Это угощение, почтенные, — ловушка Ястребиного Ока. Он… — Ты что несешь, старик! — сердито выкрикнул елец. — Выходит, ты погубить нас хочешь? — У, вот это обман! — проворчала колюшка. — Да не мешайте же вы говорить! — прикрикнул на шумливых рыб хариус. — Так вот, Ястребиное Око насыпает корм, а потом каким-то образом привязывает рыбу к белой леске, — продолжал линь. — Только приплывает он днем. И белую леску закидывает тоже днем. Ночью корм не опасен. Вот я вам все и объяснил. Вы и сами могли в этом убедиться. — Удивительное дело, — ахала плотва. — А мне ив голову не пришло. — Умно придумано, Трумпис, — снова похвалил хозяина хариус. — Только мне интересно, как же вы умудрились сохранить ко дню пира все эти сокровища? — Я же закопал их в ил! — Ну, старик, ты меня удивил, — уже совсем иным голосом заговорил елец. — Значит, на плечах у тебя все-таки голова, а не камышовая шишка. Молодец, поздравляю! — Ах, Трумпис, я так рада! — ликовала Ауксе. — Значит, мы теперь каждую ночь сможем лакомиться? — Этого я не знаю. Если Ястребиное Око станет чаще приплывать, вкусных галочек хватит для всех, — отвечал Трумпис. Заметив, что колюшка почему-то притихла, он обратился к ней: — Верно я говорю, соседушка? Колюшка несколько раз перекувырнулась и угрюмо ответила: — Может, ты и не врешь, Трумпис. Только странно мне, почему ты заранее не предупредил нас, что Ястребиное Око ловушки ставит? — Тебе, колюшка, нечего дуться. Ведь тебя Ястребиное Око не ловит, — напомнил рыбке Трумпис. — Что было — сплыло! — воскликнул елец. — Старик наш на славу потрудился, а мы до отвала наугощались. Командуй дальше, родич! Зорким своим глазом видел Трумпис, что гости приемом довольны. Одна колюшка хмурилась. И пусть ее! И неужто от зависти? А чему тут завидовать? Ведь не съесть ей одной все угощение! Нельзя же повсюду успеть! Рассудив таким образом, Трумпис весело шлепнул хвостом. Это он так пригласил гостей в свой дворец. Возле дворца рыб ждала еще одна неожиданность. В одной из комнат гости и хозяева увидели странное существо. Рыба не рыба, змея не змея. Существо было длинное, а спина чернее ила. Рыбы переглянулись. — Где-то я видел кого-то похожего, — тихо сказал Трумпису хариус. Трумпис осмелел. Чтобы получше разглядеть незваного гостя, он подплыл поближе. Загадочное существо лежало неподвижно и сверкало глазами. — Это угорь, — обернувшись к рыбам, тихо пояснил Трумпис. А потом громко обратился к незваному гостю: — А вы случайно не заблудились? Это мой дом. Угорь с трудом поднял голову. — Я не собираюсь занять ваш дом, уважаемый хозяин. Я совершаю великое путешествие. Я так устал. Вот и заплыл сюда отдохнуть немного. Не откажите в спокойном уголке. — Двери этого дома всегда открыты для честных путников, — отвечал Трумпис. — Вы можете с нами приятно провести время. — Благодарю. Но я жажду только отдыха. Больше мне ничего не надо, — поблагодарил угорь и опустил на землю свою усталую голову. Рыбы поняли, что угорь говорил правду. Он был усталый. И даже очень. Гости только сейчас заметили, что нетронутыми лежали и кузнечик, и личинка, и червяк. Видать, угорь от усталости даже есть не мог. — Я боюсь его, милая Ауксе, так боюсь, что вот-вот потеряю сознание, — простонала плотва. — Погляди, какой он черный и страшный. Может, лучше пусть убирается? — Молчи… Лини всегда уважают странников, — ответила Ауксе. — Мы будем лакомиться, играть, а он пускай дремлет. — Внимание, внимание! — воскликнул Трумпис. — Объявляется конкурс. Назначаются три премии: зеленый кузнечик, личинка и жирный червяк. Первая премия будет отдана тому, кто расскажет самое интересное происшествие из своей жизни, вторая — тому, кто перечислит больше всех названий рыб, не считая, разумеется, присутствующих, третья — тому, кто лучше всех придумает, как бороться с браконьером Ястребиное Око. Согласны? — Давайте! Давайте! — согласились рыбы. — Берегитесь! Опасность! — внезапно выкрикнул елец и метнулся в сторону от зеленого кустика, возле которого он стоял. Рыбы пугливо заметались. Голос ельца дрожал от страха. — Пропали… — простонала плотва. Она двинулась поближе к Трумпису. Теперь все рыбы видели: в зеленых травах стояла, притаившись, незаметно подкравшаяся щука Жрунья. — Хи-хи-хи! Испугались, — усмехнулась она и щелкнула острыми зубами. Рыбы и впрямь трепетали от страха. Как-то поник, опустил свой роскошный плавник и хариус, уже не говоря о ельце и плотве. Не по себе было и Трумпису и Ауксе. Одна колюшка не растерялась. Она храбро подплыла к щуке. — Просим к нам, что же вы тут одна скучаете, — довольно ехидно проговорила она. — Да, да, конечно, пожалуйста, Жрунья, — опомнился линь. — Бежим, — еле простонала плотичка ельцу. — Сорока сообщила, что тут пируют. Дай, думаю, погляжу, может, интересное что-нибудь увижу, — промолвила щука. — И, кажется, не ошиблась. Конкурсы, стало быть, всякие тут устраиваете. Может, и я что-нибудь выиграю, — и щука снова лязгнула зубами. Ужас, поначалу сковавший рыб, начал рассеиваться. Щука находилась на расстоянии и разговаривала вполне миролюбиво. Может, все кончится добром? — Значит, условия конкурса вам известны, — обратился к ожившим рыбам Трумпис. — Итак, кто первый? Прошу!V. ЕЛЕЦ ПЕРВЫМ ХОЧЕТ ЗАСЛУЖИТЬ ПРЕМИЮ
Не успел Трумпис обвести взглядом гостей, как вперед выскочил елец. Но пристроился он так, чтобы находиться подальше от щуки. Вздыбив плавники, елец глубоко вздохнул. — Синьоры и синьорины! Много я повидал и испытал на своем веку, даже не знаю, о чем рассказывать. Час назад, а то и два любезная Ауксе просила рассказать о кузнечике. Как, старик, не изменяет мне память? Трумпис подтвердил, что рыбам и впрямь хотелось бы побольше узнать о зеленом кузнечике. Однако, чтобы выиграть премию, надо непременно рассказать что-нибудь из своих приключений. Таковы условия конкурса. — Отлично понял тебя, старик. Повторные предупреждения тут, может, и не требуются, — вспылил елец и снова поставил плавники. — Ждем, ждем! — нетерпеливо выкрикивали рыбы. — Пардон, почтенные! Итак, значит, зеленый кузнечик. На вид он довольно забавное существо, а если присмотреться получше, то выяснится, что он проворен, осторожен и поэтому редко достается рыбам на закуску. Вот он, зеленый кузнечик, добытый мною на охоте, лежит в доме у линей. Все мы можем им любоваться… — Ну и болтун! — проворчала колюшка. А сдержанный хариус нахмурился. Ему явно не нравилась болтовня ельца. Однако, как подобает почетному и уважающему себя гостю, он молчал и ждал, что будет дальше. — Зеленые кузнечики живут на лугах и с космической быстротой перескакивают с места на место, — торжественно продолжал елец. — Эти-то прыжки иногда их и губят. Прыгнет, не рассчитав, и угодит прямо в речку, где его и ждем мы, ельцы. Думаете, это так просто — поймать кузнечика? Ошибаетесь. (Кстати, в упоении от собственного рассказа, елец совершенно позабыл, что его слушает хариус, которому принадлежали все рекорды по ловле кузнечиков, мошкары и жучков.) Ошибаетесь, — медленно повторил елец. — Это говорю я, знаменитый мастер по ловле кузнечиков. Да. Кузнечик скачет над водой, как бешеный, да только я действую наверняка. Прыжок, скачок, рывок — и кузнечик мой. Не припомню, чтобы этот прыгун хоть раз от меня убежал. Нет, не припомню. — Хвастун и лгун, — наконец, не вытерпев, шепнул хариус Трумпису. — Кузнечики, попадая в речку, не прыгают. У них намокают ноги, и они покорно плывут по течению. Совсем другое дело поденки. Как мячики над водой. То падают, то подскакивают, то падают, то опять прыгают… Не знает, что городит. Трумпис нахмурился. Все-таки неприятно, когда о близком родиче такое говорит благородный хариус. — Корбусь! — крикнул Трумпис. — Опять ты забыл условия конкурса. — Пардон, старик! Прежде всего я не корбусь, а елец. Во-вторых, попрошу не перебивать. Синьоры и синьорины, я приближаюсь к концу. — Елец резко обернулся. — Вот перед вами кузнечик. Нравится он вам, очень нравится. Сначала я говорил о кузнечике вообще, а теперь поговорю об этом, исключительно о нем одном. Вы узнаете, что в линьем доме лежит не совсем обычный кузнечик. — Уморит он меня, — простонала потерявшая терпение плотва. — Ладно, плотва, пусть говорит. — Повторяю, — продолжал елец, — это вовсе не простой кузнечик. Вы знаете, что нас, рыб, с давних пор всеми способами ловят люди. Особенно преследуют они ельцов. Рыбаки заметили, что мы, ельцы, больше всего любим кузнечиков. И вот один такой, извините за выражение, рыболов наловил кузнечиков и явился на речку. В то время я отдыхал в водорослях недалеко от берега. Поджидал, может, какой-нибудь кузнечик не рассчитает прыжок… Только день был дождливый и кузнечики промокли, так что прыгать не могли. — А я что говорил, — качнув головой, снова шепнул Трумпису хариус. — Бедняга совсем запутался. Хоть и тихо говорил хариус, елец, по-видимому, расслышал. Он бросил сердитый взгляд в сторону благородного гостя и еще более торжественным тоном продолжал: — Жду час, два… Вдруг вижу: на берегу мелькнула тень рыболова, а за ней — так хорошо знакомая тень удилища. Я, разумеется, в траву, спрятался. Но наблюдать продолжаю. Вижу, плывет… И кто бы вы подумали? Кузнечик, большой красивый кузнечик. Я только — шасть — и словно иглу кто-то всадил мне в губу. Я быстренько выплюнул. А кузнечик, гляжу, не по течению, а к берегу плывет… Вот, значит, какое дело… Рыболов хочет меня, ельца, поймать. Не выйдет. Ну, погоди, — елец повернулся к Трумпису, — тебе, старик, не так уж трудно было зарывать в ил пахучие галочки, а вот попробуй снять с крючка зеленого кузнечика. Попробуйте! А я, как только увидел, что кузнечик обратно плывет, немного пропустил его вперед, а потом тихонько догнал и осторожненько отцепил с крючка. И вот этот кузнечик здесь, на нашем столе. Хотите, можете убедиться: он проткнут крючком с головы до хвоста. Ауксе, плотва и колюшка кинулись к кузнечику. Рассмотрели его со всех сторон. — Правда, Трумпис, правда! — воскликнула Ауксе. — Вот смельчак, — дивилась плотва. — А я и не думала. — Не люблю зря языком молоть, — прикидываясь равнодушным, проговорил елец. — Такие смельчаки первыми хребет ломают, — донеслись из водорослей слова щуки. — Ельца стоит похвалить, — сказала колюшка, все еще отчего-то мрачная. — Не каждый из нас отважился бы на такое. — Колюшка почему-то взглянула на хариуса. — Я полагаю, что премию елец заслужил. — Я не ради славы, — холодно процедил елец. Трумпис переглянулся с хариусом. Оба, словно сговорившись, улыбнулись. Конечно, конечно… Кто не знает, елец — рыба проворная и довольно хитрая. Но не секрет, что любит он и прихвастнуть. Да, не без этого… Трумпис видел, что у всех рыб, кроме колюшки, настроение было хорошее, поэтому и сам он был доволен. Что-что, а занимать гостей хозяин должен уметь. Иначе какой это был бы пир! А больше всего нравилось Трумпису, что его милая подруга Ауксе чувствовала себя счастливой при гостях. Она, казалось, вовсе позабыла о больной губе и болтала с плотвой, радовалась, бросала загадочные взгляды на благородного хариуса. А тут еще пьянящая, теплая ночь. Серебристое сияние луны, таинственные тени и отражения… Правда, Ауксе тревожила самозванка-щука, но как радостно было видеть, что в доме отдыхает усталый путник — угорь. В своих дальних странствиях добрым словом помянет он линей. — Ах, Трумпис, что же дальше? Ты уже дремлешь! — весело тормошила своего друга Ауксе. Трумпис и не собирался дремать. Напрасно беспокоилась Ауксе. Он только на мгновение задумался, а потом зашлепал своими толстыми губами: — Продолжаем конкурс. Кто следующий? Рыбы стояли на своих местах, медленно двигая плавниками, но ни одна не отважилась выплыть вперед. Хариус, будучи сдержанным, не торопился вступать в состязание, плотва робко пряталась за Ауксе, колюшка дулась. Трумпис и Ауксе как хозяева не могли участвовать в конкурсе. Щука притаилась в водорослях, и было непонятно, участвует она в конкурсе или нет. — Давай, старик, подбадривай, — подталкивал Трумписа елец. Взгляд линя остановился на плотве. — Ну, соседушка, чем порадуешь? Плотва чуть-чуть продвинулась вперед. — Даже и не знаю… Ничего выдающегося в моей жизни не случилось. Я, право, не знаю… Меня всю жизнь преследует страх… С самого детства. О чем же мне вам рассказывать?.. Может, лучше я назову имена рыб, которые знаю? — И я, и я, я! — внезапно вырвалась вперед колюшка. — Рассказывать мне тоже нечего. И вообще я терпеть не могу болтать. — Замечательно! Значит, вы обе будете соревноваться между собой. — Вот славно! — оживились рыбы. Трумпис догадался, что колюшка хитрит. Она не стала рассказывать только потому, что боялась проиграть. А плотву она надеялась одолеть. Однако не отменять же конкурс. И он сказал: — Плотичка, начинай. Не забудьте условия: имена рыб и к какому семейству относятся. Итак, начали. — Ерш, окунь… Оба из семейства окуневых, обоих отлично знаю, — начала плотва. — А судак, миленькая? Куда судака дела? Разве он не из окуневых? — добавила колюшка и скороговоркой выпалила: — Вьюн, пискун — все из вьюнов. Вот! Колюшка поставила торчком все свои шипы. Она гордилась тем, что побеждает плотву, и так и рвалась дальше. — Щу… щу… щу… ка… — еле вымолвила плотва. — Семейство щу… щу… щу… ко… вых… — и тихо добавила: — Лучше бы такого семейства не было. — Карп, карась, голавль, уклейка — семейство карповых, — торжествовала колюшка. — Нет, голубушка, мы же договаривались, что весь род присутствующих называть не будем, — напомнил колюшке Трумпис. — Прошу дальше. Колюшка разинула рот, но больше ни одного названия рыб не вспомнила. Конечно, можно было бы постараться вспомнить, но она разозлилась и от злости все позабыла. Когда злость берет верх, ума не жди. Так случилось и с колюшкой. — Считаю до трех, — не унимался Трумпис. — Один, два… — Обыкновенный головастик. Живет в реке. Хотя бы и в нашей, Мелсвойи. Семейство головастиковых, — потрясла всех застенчивая плотичка. Колюшка молчала. Выяснив, что она проиграла, рыбешка еще пуще разозлилась и тут же переменилась в цвете. Полыхая зелеными глазами, она приблизилась к щуке и проворчала: — Заговорщики. Они ведь не любят нас, Жрунья. — Ха, ха, ха, — захлопала своей длинной пастью щука. Плотва, светясь от страха, жалась к Ауксе. — Впервые в жизни, в самый первый раз, — твердила она. — Даже не верится. — Ну, что ты, милая, у тебя же отличная память. Я бы нипочем столько не назвала, ни в коем случае, — расхваливала плотичку Ауксе. Но рыбы недолго восторгались прекрасной памятью плотвы. Вильнув своим причудливым резным хвостом, вперед выплыл хариус. Рыбы догадались, что знатный гость желает что-то рассказать.VI. РАССКАЗ БЛАГОРОДНОГО ХАРИУСА
— По-моему, всякая рыба может вспомнить какое-нибудь интересное событие из своей жизни: радостное или грустное, — медленно начал, поставив свой спинной плавник, хариус. — Помню, той весной я готовился, как обычно, к брачному путешествию. Вы, конечно, знаете, что наше семейство лососевых любит чистые реки с быстрым течением. Весной мы уходим на нерест в далекие притоки рек. Это небольшие лесные речушки, быстрые студеные ручьи. Чудесные то бывают путешествия. Новые знакомства, новые преграды и победы. А бывает… — хариус глубоко вздохнул и, помолчав, продолжал: — Так что, в ту весну… Только наша река скинула лед, меня и мою нежную подругу Грёзку внутренний голос позвал в путь. Нам надлежало отправиться туда, где нас ждали пенистые лесные ручьи, где царит тишина, где мирно гудят вершины мохнатых елей, а у их подножия распускаются нежные цветы душистого пухляка… — Ах, плотичка, слышишь? — прошептала зачарованная рассказом хариуса Ауксе. — Мы с Грёзкой не спеша поднимались против течения. Река Мелсвойи возвращалась в свои берега, вода мелела, становилась светлее и прозрачнее. Стало веселей. Мы с Грёзкой нарядились в брачные одежды. Грёзка надела затканный серебром голубоватый хитон, а мой большой спинной плавник заиграл всеми цветами радуги. На пятые сутки, утром, мы достигли устья ручья и начали подниматься вверх. Я мгновенно почуял холодную живительную воду ручья. Она была чиста и насквозь прозрачна. На дне ручья пестрели отполированные течением камешки, чернели воронки от водоворотов. Иногда путь нам преграждали мосты из темных, облепленных водорослями камней. По камням, истекая пеной, катился ручей. Грёзка просила подольше оставаться в таких местах. Ей нравилось нырять среди белых струй. Утомившись, она останавливалась у подножия камня и о чем-то мечтала. Я торопил ее. А она, словно чуяла недоброе, все отвечала: «Не спеши, дорогой, лучше насладись прозрачной струей ручья». И все же нам надо было двигаться вперед. Меня внутренний голос манил к тем местам ручья, где я родился, где каждый камень, каждый затонувший ствол напоминали мне о детских днях… И мы двигались вверх. По берегам ручья высились старые ели, узловатые вязы, толпился ольшаник, свесив к самой воде унизанные золотистыми сережками ветки, распускала почки почерневшая под бременем лет черемуха… Нам попадались старые знакомые — у камней, под затонувшими стволами, жили наши родичи форели, стайками проносились ельцы, то там, то здесь мелькала плотва. Хоть форель и принадлежит к нашему семейству, мы избегали ее. Я видел, как она, притаившись за потонувшим пнем, зорко следила за нами. Тихонько я спросил Грёзку: «Как ты думаешь, чего она уставилась?» — «Моей икры отведать захотелось», — испуганно отвечала Грёзка и уносилась как можно дальше от форели. Я и сам знал, что форель ни в коем случае нельзя подпускать к нерестилищу. Она охотится за икрой. Поэтому мы с Грёзкой уходили все дальше, где, как нам казалось, опасностей меньше. К вечеру я стал узнавать родные места. «Давай тут и остановимся, — предложил я Грёзке. — Ты обожди, а я поплыву на разведку». Отрадно было видеть, что ничего в родных краях не изменилось. Все те же густые, исхоженные лосями заросли, все та же рухнувшая в ручей ель, тот же большой камень, возле которого, на крупном песке, родился я. Я плавал по родным местам и ликовал. Тут еще никто не обосновался, родина словно ждала меня одного и мою Грёзку. Правда, у большого камня мне попался навстречу головастик. Высунув из-под камня свою большую черную голову, он смотрел на меня. Его присутствие не привело меня в восторг. Головастики, так же, как и форели, большие любители икры. А уж пронырливы, прямо как, — хариус спохватился и только посмотрел в сторону колюшки. — Я и говорю головастику: «Это мои родные места. Мы с Грёзкой собираемся нереститься. Мне бы не хотелось, чтобы ты здесь оставался». — «Выгоняешь!» — обиделся головастик. — «Послушай, головастик, — говорю я ему. — Ты же знаешь, что при нересте чужой глаз ни к чему». — «Знаю, хариус, знаю, — затараторил головастик. — Не надо было тебе дуться, но раз уж ты так со мной заговорил, посмотришь…» — и головастик поплыл вниз по течению. Какое-то мгновение я постоял у большого камня. Что хотел сказать головастик? Как понимать «посмотришь»? Я пожалел, что поссорился с головастиком. И не напрасно. Насколько нам всем было бы лучше, если бы мы вели себя разумно. Увы, я был молод и не понимал таких вещей… Хариус умолк. Он съежился, прижал к спине большой плавник. — Дальше, рассказывайте же, что было дальше, — заволновались рыбы. — Наступил вечер. Солнце опустилось за зубчатую кромку леса. Вокруг было тихо, так тихо, что можно было расслышать, как распускались набухшие почки деревьев. У самого ручья цвел пухляк. Его мелкие малиновые цветочки источали пьянящий аромат. Над водой летали поденки и падали в ручей. Мы с Грёзкой их не ловили. Позабыв обо всем на свете, мы гонялись друг за дружкой, играли. Стемнело. Из лесной чащобы вышел к ручью лось в своей ветвистой короне. Он пил студеную воду и величественно мычал. Взошла луна. Такая же серебристая и ясная, как нынче. Мы с Грёзкой все играли и понемногу рыли у большого камня ямку для нереста. Хариус снова умолк. Рыбы видели, что ему нелегко вспоминать события той далекой апрельской ночи. — Ах, умоляю вас, продолжайте, — просила Ауксе, и все рыбы поддержали ее. Даже угорь, который прежде дремал, сейчас приподнял голову. — Я уже говорил, что радость и горе ходят вместе. Мы с Грёзкой, утопая в счастье, забыли об опасностях. Не чувствовали, как надвигается страшная беда. Да… Внезапно дно ручья осветилось каким-то странным сиянием. Мы принялись озираться. Свет был слепящ и влек к себе. Я не успел удержать Грёзку. Словно подстегнутая, кинулась она в сверкающий круг. Я отчетливо видел, как ее пронзили острые зубья остроги. Грёзка застонала, забила хвостом и исчезла… Я стал метаться во все стороны, но тщетно: Грёзки нигде не было. Тут-то я понял, что означали слова головастика «посмотришь». И все же он должен был меня предупредить, что в ручей забрался браконьер Ястребиное Око. Лишившись Грёзки, я вернулся по течению в реку. Теперь я знаю, что никогда больше не увижу свои родные места, никогда… Хариус медленно отплыл в сторонку. Ауксе и плотичка уронили по слезинке. Глубоко задумался Трумпис. С минуту все рыбы молчали. Первой встрепенулась колюшка, которая явно недолюбливала хариуса. — У нас что сегодня — панихида или пир? Трумпис, ты же хозяин! — выкрикнула она. — Верно, старик. Надо какую-нибудь историю повеселее, а то и я, чего доброго, начну реветь, — подхватил елец. — Бессердечные вы, — возмущались Ауксе и плотичка. А тем временем из водорослей вылезла щука Жрунья.VII. ПОЕДИНОК ЩУКИ И ЯСТРЕБИНОГО ОКА
Как только Жрунья задвигалась, рыб обуял страх. К счастью, щука остановилась. Встала на месте и принялась озираться по сторонам. Жрунья была крупная, спина у нее отливала зеленым, а глаза были всегда навыкате. Елец и плотва отодвинулись как можно дальше от хищницы, Трумпис придвинулся к Ауксе, поближе к ним подался и хариус. — Ха-ха, да не бойтесь вы, дурачье, — произнесла щука. — Я совершенно сыта. Совершенно. Тут елец просил историй повеселее. Могу, так сказать, повеселить вас, ха-ха-ха… Бедняжка хариусик боится браконьера Ястребиное Око. А мне вот на него плевать. Кого-кого, а уж меня-то он не первый год подстерегает. Только я его всегда обставляю. Обставляю и мщу ему. — Что-то не верится, Жрунья, — довольно дерзко перебил ее Трумпис. — Ты, Трумпис, существо наивное, поэтому лучше заткнись, — щелкнула зубами щука. — Ты же знаешь, что я ничего не боюсь. Или кто-нибудь не согласен с этим? — Знаем, мы все тебя знаем, — успокоил щуку хариус. — То-то, очень хорошо, хариусище. Вместо того чтобы перебивать, лучше слушайте да учитесь, как обманывать Ястребиное Око. Тогда не надо будет слезы лить. — Да мы слушаем, слушаем тебя… — Тут елец похвалялся, что может рыболова одурачить. Смех, да и только. Что такое рыболов? Чаще всего какой-нибудь хилый неудачник. Сколько блесен я у них оборвала, сколько крючков погнула — трудно и вспомнить. Рыболов… Нашли о ком говорить. Браконьера Ястребиное Око обставить — вот где умение нужно. Он в тысячу, а может, и в миллион раз страшнее рыболова. Ястребиное Око следовало бы утопить в самом глубоком омуте реки Мелсвойи. Жрунья в ярости несколько раз подряд щелкнула своими острыми зубами. Глаза ее злобно горели. Она была крайне возмущена. — Если она кинется на меня, я погибла, — вся трепеща, бледная, прошептала плотва своей подруге Ауксе. Линиха подала знак Трумпису. Тот понял и смело встал между щукой и плотвой. — Ястребиное Око охотится за мной пять лет, — излагала Жрунья. — Хитер подлец, ничего не скажешь. Я, к примеру, люблю поплескаться в глубоких ямах по утрам или под вечер. Ястребиное Око это подметил. Однажды плыву себе и вижу: впереди что-то непонятное: трава не трава, мочало не мочало… Что же это вдруг встало на моем пути? Я поближе, поближе… Вдруг чувствую, как это «что-то» меня подхватывает и держит. Дернулась в одну сторону, в другую и еще больше запуталась. Собрала все силы. Билась, билась и вырвалась. Спряталась в траву и жду, что будет? Гляжу, подплывает на лодке Ястребиное Око. Подплывает и тянет из воды это «что-то». «Вот подлюга! Сеть порвала!» — выругался Ястребиное Око. Его огромный сизый нос от злости так и трясся. А мне — один смех… Ястребиное Око зашил свою сеть и снова закинул ее в воду. А сам отъехал подальше. Ну, меня зло разобрало. Выходит, он, мерзкое существо, хочет меня, Жрунью, погубить. Посмотрим. Разогналась я и нырк в сеть. Огромную дыру пробила. Потом еще и еще. Вот тебе, получай…
Щука резко захохотала. Она была довольна собой. Рыбы слушали внимательно, но смеяться никому не хотелось. Кто знает, правду ли говорит Жрунья? Верить ей не стоит. Подкрадется незаметно, внезапно кинется, а тогда уж пропал как есть. — Если бы вы видели, рыбочки, какое сделалось лицо у Ястребиного Ока, если бы вы только видели! Когда он вытащил свою изодранную, превратившуюся в лохмотья сеть, как он принялся морщиться, сопеть, плеваться, сморкаться да браниться! Ругался он так непотребно, что мне и повторять неудобно. Потом он поехал к дому, и неделю я его не видела. Охотилась себе привольно в яминах, плескалась прямо у браконьера под носом. Но вот однажды утром он снова поставил мне ловушку. Невероятно коварную и хитрую. Ловушка эта так и манила подплыть. Не заметишь, как очутишься в тисках. — Это тебе, Жрунья, браконьер вентерь поставил, — перебил ее Трумпис. — Правда, ловушка опасная и хитрая. — Опасная, да только не для меня, линек. Правда, когда я попала туда, в первое мгновение мне показалось, что это конец. Уж больно ловко там все было запутано. Множество комнат в этом вентере. Только войдешь в дверь, а она, глядишь, и захлопнулась. Назад дороги нет. Долго блуждала я по лабиринтам. Потом разозлилась. Ткнула носом в стенку одной такой обманной комнаты. Проткнула. Выскочила и на свободе давай рвать вентерь зубами. Вот так, вот так… — щука вертела большой головой, лязгала зубами и злобно твердила: «Вот так, вот так…» — Порвала вентерь. В тот раз я не видела Ястребиное Око. Не видела, но отлично представляю себе, как он злился. А вскоре он затеял новую хитрость. Во что бы то ни стало он решил меня погубить. В ту ночь я дремала на речном дне. Вдруг случилось, как рассказывал хариусик, — свет ударил прямо в глаза. Что за штука, думаю. Мгновенное это раздумье меня чуть не погубило. Прямо у самой головы я увидела острогу. Я — шасть в сторону. Зубья остроги вонзились в речное дно. Ястребиное Око ругался. А я с нетерпением дожидалась наступления дня. Дело в том, что днем Ястребиное Око выпускает на речку поплавать старую утку с утятами. Так постепенно, по одному, я их всех переловила. Отомстила сизоносому. — Пардон, почтенная Жрунья, — робко заговорил елец, — я не понял, чем же провинилась утка и утята? — Эх, несмышленыш! Око за око, зуб за зуб — такой у меня закон. И потом, они ведь вкусные, пушистые утятки. Рыбы дивились, качали головами. Да, со щукой шутки плохи. А та, зная все это, еще пуще расхвасталась. — Знайте, рыбешки, я ничего не боюсь. Никого! У нас в реке Мелсвойи никто не сравнится со мной. Никто! Жрунья сердито и в то же время гордо озиралась по сторонам. Трумпис видел, что ей ничего не стоит испортить такой удачный праздник. Тогда линь заговорил сам без приглашения: — От имени всех собравшихся благодарю тебя, Жрунья, за интересный рассказ. Ты смело сражалась с Ястребиным Оком. Мы будем учиться у тебя. Спасибо. Трумпис угодил прямо в цель. Щука была самолюбива и обожала лесть. Она умолкла и снова спряталась в траву. Но Трумпис не был бы мудрейшим линем, если бы не высказал всю правду в глаза. Поэтому он продолжал: — По-моему, всякую рыбу уважать надо. Будь она большая или малая. Бывает, что и крупную, сильную рыбу постигает беда. Помнишь, Жрунья, ту тяжкую зиму, когда ты забрела в заводь и осталась у нас? Ударили морозы, толстым льдом сковало поверхность реки. До самого дна промерз перешеек, и ты не могла пробраться в реку и вынуждена была зимовать у нас. Тогда выпало много снега. — Не понимаю, куда ты клонишь! — откликнулась щука. — Не перебивай, Жрунья, мы тебе не мешали рассказывать, — зашумели рыбы. — Трумпис, говори. — Значит, выпало много снега… Для рыб настала трудная пора. Воздуха не хватало. Мы с Ауксе спали, зарывшись глубоко в ил. Ты, Жрунья, разбудила меня и стала спрашивать совета. Я видел, что еще денек-другой, и ты задохнешься. Отощала страшно, дышала с трудом. В полдень пришел к заводи Ястребиное Око и прорубил во льду прорубь. Но не затем, чтобы дать рыбам подышать воздухом. Ты, Жрунья, еле живая, потащилась к проруби, а там уже с сачком наготове стоял Ястребиное Око. В живых ты осталась только благодаря тому, что послушалась моего совета. Голову ты не высовывала из-подо льда, и Ястребиное Око тебя не заметил. Ведь так оно было, Жрунья, и ты бы должна помнить, как тебе удалось выжить. — А я и помню. Напрасно языком мелешь, — проворчала щука. Трумпис оставил щуку в покое, потому что успел сказать все, что хотел. Он повернулся к колюшке. Та все еще была чем-то недовольна, даже очень недовольна. И Трумпис решил ее утешить. — А вот и наша колюшка. На вид вовсе малая рыбка. Но какая еще рыба умеет так готовиться к нересту, как она? Любо смотреть, как колюшка лепит гнездо для нереста. Вот именно, гнездо, словно она не рыба, а птица. Носит травинки, веточки, сплетает их, склеивает, свивает. И замечательно получается. Гнездо она устраивает круглое, с двумя отверстиями. А в какую красивую одежду наряжается колюшка во время нереста! Сам красавец лосось, и то позавидует. Мало того. Колюшка свой дом отважно охраняет от врагов. Даже крупных рыб не боится. Все это я видел своими глазами, потому и рассказываю. Вот какая молодчина наша колюшка! Оказывается, когда хвалишь другого, немало и сам выигрываешь. Вы бы только поглядели, что творилось с колюшкой, когда о ней с таким восторгом рассказал Трумпис! Она забыла, что проиграла в состязании с плотвой, что хариус несколько раз над ней подшучивал, забыла обо всем. От радости колюшка засветилась яркими красками, прыгнула в одну сторону, потом в другую, а потом, выставив все свои колючки, принялась кружиться на месте. Казалось, она пляшет. — Пора распределять премии, — заговорил снова Трумпис. — Пусть все выскажутся. Прошу! Рыбы долго спорили, кому присудить премии. Мнения расходились. После долгих препирательств первую премию — зеленого кузнечика — отдали хариусу. Его рассказ был признан самым красивым. Вторую премию — личинку, принесенную колюшкой, — получила плотва. А жирный червяк достался Жрунье. Все-таки она захватывающе интересно рассказала, как сражалась с Ястребиным Оком. Однако щука от премии отказалась. Она, видите ли, червей не слишком любит. И жирный червяк достался ельцу и колюшке. Все рыбы были довольны. Хариус отдал ножки зеленого кузнечика Трумпису и Ауксе. Тельце предложил угрю. Тот не стал отказываться. Он ловко проглотил угощение, поблагодарил и сказал: — Правда, во время великого путешествия я не кормлюсь, но уж ради вашего гостеприимства… — Интересно, почтеннейший, куда же вы направляетесь? — полюбопытствовал хариус. Угорь потянулся, вздохнул: — Если не устали, послушайте и черного угря.
VIII. ЧТО РАССКАЗАЛ РЫБАМ ЧЕРНЫЙ УГОРЬ
— Я с восхищением слушал рассказ хариуса, — заговорил угорь. — И правда! Разве может что-нибудь быть дороже родины? Туда, где ты родился, где узнал краски мира, тебя всю жизнь влечет. Я, любезные рыбы, тоже отправляюсь к себе на родину. Только не реки и не озера моя родина, а далекий Атлантический океан. — Пардон, а что такое Атлантический океан? — не выдержал елец. — Атлантический океан? Мне трудно точно определить, объяснить вам, что это такое. Представь себе, елец (ельцу чрезвычайно понравилось, что угорь назвал его по имени), что эта заводь увеличилась в тысячу, а то и в миллион раз. Представь, что в ней появилось множество всяких рыб — огромных, в несколько десятков метров длиной, и совсем крошечных, едва различимых глазом; представь себе, что поднимается буря и встают огромные, словно горы, зеленые пенистые волны. Представь себе… Рыбы обмерли. Перестали даже плавниками шевелить. Таких чудес они еще не слыхали. Правда, оттуда, из далеких океанов, заплывала к ним рыба-лосось, но он все куда-то торопился и в разговоры не вступал. — Почтенный странник, расскажи нам подробнее об этом самом океане, подробнее, — от имени всех рыб попросил угря Трумпис. — Увы, многих тайн я вам не раскрою. Не потому, что не хотел бы удовлетворить ваше любопытство, отнюдь. В Атлантике я только родился, а вырос уже в другом месте, — ответил угорь. — Морское течение принесло меня еще в малом возрасте к берегам Балтийского моря. Здесь я окреп, превратился в маленького угря и отправился в реку. Из нее по быстрым ручейкам пробрался в озеро. Понравилось оно мне. Там я прожил десять лет. Много всякого изведал, однако об этом некогда рассказывать. Одно скажу: хорошо было в том озере. У меня был отличный дом, добрые соседи, вдоволь корма, всего вдоволь. Но вот я почувствовал небывалую тоску по родине. Тогда я понял, что настала пора великого путешествия. Пришло время идти в Атлантику на нерест. И я поднялся. Угорь горько улыбнулся. Всколыхнулся всем телом и заговорил дальше: — Вдруг мне пришла в голову мысль рассказать вам о начале моего путешествия. Говорят: уходя из дома, оглянись, подумай, не забыл ли чего. Я-то, разумеется, ничего не забыл, но подумать все-таки надо было. Угорь — рыба, как все, и у него тоже есть много врагов. Самый страшный враг — это браконьер. Он пронюхал, что я покинул озеро и странствую по малым ручьям, текущим через луга. Интересно рассказывала тут щука, как расправилась она с вентерем, поставленным Ястребиным Оком. Отлично расправилась. В подобный вентерь попался и я. Он был крепкий и густой. Выбраться из него у меня не было сил. Метался, и так пытался, и этак, а все без толку. Силы были на исходе… Я уже думал, что никогда не увижу своей родины. Однако, выходит, никогда не стоит терять надежду. Да… Браконьер пришел ночью, вынул вентерь, поместил меня в корзинку и понес домой. Корзинку он поставил в сарае, а сам улегся на сене. Я принялся понемногу осматриваться. Крышка корзинки не была завязана. Тихо вылез наружу. Нашел щель под дверью и очутился на улице. Сразу же вздохнул с облегчением. Трава была влажная, росистая. А мне только этого и надо было. Глянул на восток, на север и на юг. Понюхал воздух. Почуяв, откуда тянет влагой, быстренько пополз в сторону ручья. — Заливаешь, а сам и не краснеешь, — лязгнула зубами щука. — Много всяких диковинных штук я знаю, а такого не слыхала… — Неужели вы и вправду можете по суше передвигаться? — выкатив глаза, всплеснула плавниками плотичка. — Пардон, тут что-то непонятное, — дернулся елец. — Ага, что-то не так, — заподозрила угря во лжи и колюшка. Хариус молчал, но по всему было видно, что и он сомневается. Оба линя, как и подобает гостеприимным и чинным хозяевам, делали вид, будто ничего особенного не произошло. А угорь спокойно обвел всех взглядом и улыбнулся: — Вижу, придется вам доказать. Следуйте за мной! Угорь юрко поплыл к берегу. Остальные рыбы кинулись следом. Плотва и елец от великого любопытства позабыли, какую опасность таит для них присутствие щуки. Угорь подплыл к берегу. Разбудил дикую утку. Она проснулась, захлопала крыльями, мгновенно окружила себя толпой детишек и, что-то бормоча, повела свое семейство подальше. — Глядите! — воскликнул угорь. — Раз, два… Рыбы превосходно видели, как угорь поднялся на поверхность воды. Доплыв до берега, он уполз по траве в кусты. — Он умрет от жажды, — ужаснулась плотва. — Ах, да он же погибнет, — причитала Ауксе. — На смерть пошел, — простонал елец. Однако рыбы напрасно тревожились. Угорь поползал по берегу, понежился в лунном свете и снова шлепнулся в воду. — Чудеса! — Удивительно! — Неслыханно! Рыбы дивились, вертели головами, а угорь преспокойно объяснил: — Ничего удивительного в этом нет. Угри даже несколько километров могут ползти сушей. Конечно, только по мокрой траве, а не по песку. Песок для нас — смерть. Гости снова вернулись к жилищу линей. Теперь все взгляды были прикованы только к необыкновенному путешественнику. Трумпис гордился, что у него в доме отдыхает такой почетный гость. Рыбы просили угря рассказать еще что-нибудь, умоляли задержаться подольше. — Пора мне, пора, — отвечал на просьбы рыб угорь. — Отдохнул и — в путь. Еще много впереди преград и опасностей, пока я доберусь до родных глубин Атлантики. Там у меня нерест. А потом никогда больше не видать мне этой реки, моего любимого озера… — Как же это так? Что вы говорите? — забеспокоился Трумпис. — Отнерестившись, угорь умирает. Умирает там, где он родился. — Ах, как страшно, — вырвалось у Ауксе. — Ничего страшного. Я умру, а мои дети, которые родятся из икринок, будут жить. Их, так же, как и меня в детстве, течение Атлантики вынесет к берегам Балтийского моря. Они будут странствовать по рекам, ручьям, добираться до озер. Там они будут жить, пока не услышат могучий зов и не соберутся в путь. И опять все повторится снова. Разве это так страшно? Рыбам было странно, что угорь, зная свою участь, был так невозмутимо спокоен. Он даже спешил туда, куда звал его таинственный голос. — Благодарю вас, любезные лини, за домашний уют, за дружеское тепло. Счастливо оставаться! — попрощался угорь и поплыл своей дорогой.IX. ПО ДОМАМ, ГОСТИ, ПО ДОМАМ, ДРУЗЬЯ…
Рыбы, словно зачарованные, провожали угря взглядами. После этого некоторое время все молчали. Молчали и о чем-то думали. — Старик, а не пора ли на отдых? Не разойтись ли по домам? — заговорил елец. — Гляди-ка, уже светает. И правда! Лунный диск таял. На востоке бледнела полоска неба. В кустах затихли соловьи. Пролетела какая-то ранняя птица. Пронеслась тихо, только подняв легкий ветерок крыльями. Возможно, это была чайка, а может, и журавль. Трумпис видел, что рыбы полны впечатлений, что всем пора отдохнуть. Однако линя заботило еще кое-что. Трумпис уже обдумал, как это устроить, чтобы от него рыбы расходились без страха, довольные проведенным временем. Наконец мудрейший Трумпис придумал выход: — Елец думает так. А что скажет Жрунья? По-моему, можно еще повеселиться? Щуке понравилось, что линь спрашивает ее мнения. — Пора отдохнуть, Трумпис, — отвечала щука Жрунья. — Надоела мне эта болтовня. Пришла незваная, непрошеной и уйду. Желаю всем дожить до ста лет. Ха, ха, ха… Щука скрылась. Повернулась у себя в траве и исчезла. Трумпис облегченно вздохнул. Жрунья вызывала у него беспокойство. Она могла испортить праздник. Ей же все ни по чем. Стала бы гоняться за ельцом, плотвой или даже хариусом… Ладно, хорошо, что все обошлось. — Старик, ты как думаешь, Жрунья не подкараулит меня? — озабоченно спросил у Трумписа елец. — Поплыли вместе, — предложил ему хариус. — Нам же по пути. — Вот и отлично! — одобрил Трумпис. Хариус и елец простились с рыбами. — Ты, колюшка, не злись, если и задел, — обратился к маленькой рыбке на прощание хариус. — А чего мне злиться, уважаемый? Ваша икра все равно самая вкусная, — ухмыльнулась колюшка. — Счастливо, елец! — крикнул вдогонку уплывающим Трумпис. — Не загордись, родич, приходи. — Пока! Откровенно говоря, не нравится мне твой ил. Очень воняет, да ладно уж, там видно будет. — Посмотрим, посмотрим, родич, — снисходительно улыбнулся Трумпис. Ауксе расцеловалась с плотвой. Колюшка раскланялась на все стороны и внезапно исчезла, крикнув: — Увидимся! Скоро снова увидимся! Гости разошлись. У своего дома остались одни Трумпис с Ауксе. Трумпис смотрел на свою подругу. Она была счастлива. Усталая, но счастливая, Ауксе совсем забыла о своей больной губе. — Ах, Трумпис, какой праздник! — произнесла она мечтательно. — Это все ради тебя, дорогая. — Ты очень добрый, Трумпис, — и Ауксе прижалась к своему другу. — Даже очень добрый… А я уже хочу спать… Ауксе зевнула и, как только зарылась в ил, сразу уснула. Трумпис стоял рядом с ней. Прислушивался к тому, что происходит в заводи. Что-то сильно плеснуло. Может, хитрая Жрунья? Болтая с детишками, проплыла мимо дикая утка. Светало. Поднимался туман. Пролетел длинноногий журавль. Теперь Трумпис узнал его. Журавль опустился у берега. Трумпис чутко прислушивался к звукам наступающего утра, а мысли его уже были о делах. После отдыха надо будет как следует проборонить ил на холмах. Там должна расти трава. Земля подходящая. Надо только взрыхлить ее. Потом надо будет наведаться в сад белой лилии, в леса перистолистных трав. Потом… Трумпис взглянул на Ауксе. Она спала. Спала и, должно быть, видела во сне прозрачные лесные ручьи, зеленые волны необъятного океана…
 РЕКА НЕСЕТ СВОИ ВОДЫ
РЕКА НЕСЕТ СВОИ ВОДЫ
ОСЕНЬ
I
Небо было пасмурное, земля превратилась в жидкую грязь, деревья стояли мокрые, желтые. Я топтался на берегу разбухшей, угрюмо рокотавшей реки и беспокойно глядел на дорогу, по которой должна была прийти из города мать. Так и не высмотрев ее, я бегом пустился в сторону города. Взбежав на пригорок, я увидел мать — она медленным шагом двигалась к деревне. — Мама, купила? — Дорого, детка, до того все дорого, что и сказать невозможно. Вот, гляди, — и мать достает из кошелки завернутую в бумагу покупку. — Крепкие, ветром не продует, — говорит она и начинает разворачивать бумагу. Я держу в руках новехонькие штаны. — Значит, я опять пойду в школу! — радостно вскрикиваю я. — Босиком долго не проходишь, — охлаждает мой пыл мать. Но я не унимаюсь. — А знаешь, мама, Юшка обещал клумпы выстрогать. — Как отец? Все так же, говоришь. С лекарством-то ничего не вышло… Мать говорит тихо, время от времени проводя языком по иссохшим губам. Только сейчас я замечаю, как она устала. Сгорбившись, она медленно шлепает босыми ногами по склизкой дорожной глине и тяжело дышит. — Мама, ты бы пароходом вернулась. — Пол-лита — большие деньги, детка. Ох, большие. Не по карману нам пароходы. Прямо у реки, в беспорядке разбросанная в небольшой ложбине, лежит, утопая в гуще деревьев, наша деревня. Мы входим в избу уже когда начинает темнеть. Я достаю керосиновую лампу и зажигаю ее. До чего хорошо, до чего радостно на душе — я выкручиваю фитиль как можно выше и, пристроившись поближе к свету, примеряю новые штаны. — Йонас, приверни фитиль. Керосин кончается, — напоминает отец. Тусклая коптилка дает жидкий круг света, с трудом можно разглядеть только внутренность избы. В углу свалена спутанная сеть, дальше — стол, а у стены,поближе к печи, кровать, где лежит отец, совсем худой. Мама, присев на край кровати, прикладывает одну руку ко лбу больного, другой оправляет постель. — Ну-ка, покажи отцу обновку, — зовет она меня. Отец выпрастывает жилистую трясущуюся руку. Берет штаны и некоторое время внимательно их разглядывает. Он всегда так делает, когда мать что-нибудь купит. И всегда ворчит, что можно было бы обойтись и без того. Но на этот раз он молчит. — Лекарства не достала? — спрашивает он, отдавая штаны. — У меня голова кругом идет, не знаю, как и быть. Парнишка в школу просится… Не голышом же идти… В избе тихо. Мать закрывает лицо руками. У отца на лбу еще глубже залегают морщины, а обросшее колючей щетиной лицо словно каменеет. Несколько раз глотнув воздуха, он медленно выговаривает: — Ну, чего ты… хорошие штаны, совсем хорошие… Ночью я сплю тревожно. Кто-то назойливо звонит в колокольчик и зовет: «Йонук, Йонук». Я вскакиваю. В избе темно, как в подвале. Прислушиваюсь и различаю посапывание отца. А так ничего, тихо. Значит, приснилось. Но только начинаю снова засыпать, как все повторяется сначала. Наконец под утро сон меня одолевает. Но на этот раз я действительно слышу голос. Открываю глаза. — Вставай, щепок надо наколоть, — тормошит меня мать. Я поспешно натягиваю штаны. Теперь уже никто в школе не станет смеяться надо мной. Все увидят новые штаны! — Старые надевай. В школу можешь не спешить — зазимок выпал, — говорит мать. Сам не чувствую, как я оказываюсь у окна. Вокруг — словно белое покрывало расстелили. Ивы во дворе покрыты инеем, их листья от мороза почернели и свернулись. Река — и та потемнела и выглядит такой студеной, грозной. — Все равно пойду, — упрямо твержу я. Мать переводит взгляд на отца — его слово всегда решает все. — Босиком в такой мороз? Хватит и того, что меня болезнь треплет. Ни шагу из избы. — Ты же сам обещал… Я и так отстал… Отец приподнимается на постели и устремляет на меня взгляд. — Чего надрываешься? Сам видишь, как со мной вышло… Чего доброго, за хозяина останешься… А жить как станешь? Уже не малое дитя, мог бы подумать… Отец впервые заговорил со мной так. Болезнь съедала его, как огонь свечу, и он поддался, пустился, как обломок льдины, по течению… — Будь на то моя воля, привязал бы камень на шею да и на дно, — говорит он, отворачиваясь к стене. — Отец, отец! — стонет мать. Я вцепляюсь в материнский передник. Она прижимает меня к себе и ласково, как умеют только матери, гладит по голове. — Полно, полно, дурачок, — шепчет она. — Вот принесет Юшка клумпы, тогда посмотрим. Юшка появляется у нас в избе под вечер следующего дня. После торжественного приветствия он ставит посреди избы прямо на пол клумпы. — Примеряй, Йонас. Побольше сделал, чтобы нога с портянкой вошла. А уж скоблил, полировал, мозоли натер… Клумпы и впрямь отличные. Юшка выбрал для них хорошо просушенную ольху, и они такие легкие, что я не чую их на ногах. Обиты они жесткой кожей, а кругом идет медная проволока. Пока я любуюсь клумпами, Юшка улыбается и, уловив момент, подмигивает мне. — На базаре за такие по два лита берут… — То-то же, два лита, то-то… Сам знаешь, Мотеюс, когда рыбак день-другой сеть не замочит, — голод всей семье. А я уж второй месяц, так что… — говорит Юшке отец, глядя куда-то в потолок. — Да я разве что говорю? Пусть носит парнишка. На здоровье. А насчет заработка — сущая правда. Не вовремя ты слег, Юозас, нет, не вовремя. Юшка садится на табурет подле отца и принимается выкладывать деревенские новости. А они невеселые. Если бы шла рыба, все было бы хорошо. Но рыбаки сутками торчат на воде, ничего не ловится. Пранайтис — тот уложил в лодку сеть, бочки для засолки рыбы и вчера направился к морю. Но разве скажешь, что его там ждет? Может, вернется с добычей, а может, и с пустыми руками. Юшка полагает, что нечего шляться бог знает где. Можно было бы и на месте рыбачить, но разве сейчас рыбаки, что они понимают? — Была бы у меня сеть, Юозас, да я бы не одну сотню накопил, пока река не встала, — заканчивает он и начинает смотреть в угол, где валяется наша большая сеть. Я с почтением и одновременно со страхом гляжу на Юшку. Чего только о нем не болтают люди! Никто в деревне не странствовал столько, сколько он. Две войны видел, был в плену у немцев. Сколько Юшке лет — этого никто не знает. Старый он, и жена у него давно умерла, а сам все статен, как солдат, грудь колесом, щеки красные. Зато голову ему словно снегом припорошило — такая белая. Говорят, Юшка был знаменитый рыбак. Другого такого у нас на берегу не знали. Был… А сейчас у него нет ни лодки, ни сети, и он только нанимается к рыбакам в помощники или для заработка вяжет сети другим. Его сети — самые крепкие. Славится Юшка и своими историями. Странные они у него, непривычные для нашего люда. — Говорю, лежит, Юозас, твоя сеть. А ведь заработать можно бы, — произносит таинственно Юшка и слегка привстает.
Отец понимает, куда он клонит. — Нет, Юшка, сеть у меня длинная, тяжелая… Один не потянешь. — Столкуемся насчет быка — сладимся и насчет веревки. У тебя Йонас — вон какой парень. Мне треть улова, остальное вам. Отец с матерью переглянулись. По их лицам нетрудно было догадаться, что предложение Юшки их устраивало. Все произошло так неожиданно, так вдруг, что сперва я не сообразил, чем грозил мне этот уговор. Только ударили по рукам, как Юшка, не мешкая, принялся готовиться к лову. В радостном оживлении он крепко перепоясал веревкой свой ватник, нахлобучил на лоб шапку и, склонившись над сетью, принялся приводить ее в порядок. Мать молча положила передо мной отцовский пиджак, ремень, онучи. В карман сунула краюшку хлеба. У отца мгновенная радость прошла, и он лежал в постели хмурый. Когда Юшка закинул за плечи сеть, собираясь идти к реке, отец предупредил его: — Осторожней с сетью, Мотеюс. Смотри, не напорись на каршу. Когда мы вышли к реке и стали укладывать в лодку сеть, я почувствовал необычайную гордость: вот я уже настоящий рыбак и иду зарабатывать на хлеб. Но едва лишь лодка начала удаляться от деревни, в мое сердце просочилась тоска. Скорчившись на корме, я с трудом сдерживал слезы. Все стало понятно, ясно. Если уж началось, значит, в школу мне в этом году не ходить. А вдруг и вовсе не доведется учиться? — Скис ты, браток, что твоя простокваша. Не люблю я таких. Не хочешь со мной рыбачить, на веревочке держать не стану, — вторгся в мои думы Юшка. — Я не потому, дяденька. Только школы мне уже, должно быть, не видать… — Гм… да… школа… — промычал Юшка. — Не про нас они, Йонас, школы эти. Дали бы жить, тогда бы и учиться можно. Как зерну почва, человеку сносная жизнь требуется. Иначе зачахнет, сгниет на корню… А ведь они что делают? Давят, к земле гнут… Так что — близок локоть, да не укусишь… Юшка мерно гребет и бросает слово за словом медленно; опустив голову, он словно размышляет. Я не совсем понимаю, кто это «они», и, вытаращив глаза, гляжу на Юшку. Внезапно он вспоминает обо мне. — Вижу, не разумеешь ты, братец, — улыбается он. — Подрастешь — поймешь. А теперь садись-ка на весла. Юшка садится на мое место, а я берусь за весла. Темнеет. Осенняя ночь наступает сразу. Река прикрывается черным пологом. Дальние деревья уже растаяли в темноте. Четко видны только одинокие рябины, словно пылающие костры на берегу. Над головой с карканьем пролетают вороны. Они спешат найти себе ночлег и, обгоняя друг друга, опускаются на чернеющий посреди реки остров. Вскоре за бухтой замелькали огни. Это лагерь рыбаков. Юшка встает и приказывает: — Давай к ним, Йонас. Вот туда, на середину реки, где светится буй. Там и закинем.
II
Дождь все льет и льет… Тяжелые, свинцовые тучи медленно ползут над самой землей. Ночи темные, днем туман и сырость. Стремительно катит волны разлившаяся река. — Пустое дело — ваша ловля, — машет рукой отец, когда мы с Юшкой, промокшие до нитки, возвращаемся от реки в избу. — Хоть бы рыба была, а то сами надрываетесь и одежду зря гноите. Юшка разложил у огня промокшую одежду, развесил портянки. Он не соглашался с отцом. — Нечего сидеть сложа руки, Юозас. Долго так не продержится. Еще денек-два, и рыба пойдет, как же иначе! Отец не очень-то верит Юшке. Конечно, пытаться стоит, но будет ли от этого толк… — А как же другие? Неужто и у них ничего не ловится? — спрашивает отец. Юшка хмурится. Если ему не везет, то о других и спрашивать нечего. Через час-два Юшка натягивает еще не просохшую одежду и подгоняет меня. — Давай, давай половчее, Йонук, — и, заметив, что мне никак не удается намотать портянки, беззлобно ворчит: — Эх ты, рыбак, рыбак… Кто же так портянки наматывает? Вот как надобно. Юшка отнимает у меня портянку, берет ее за концы и несколько раз хорошенько натягивает. Сморщенная от тепла портянка почти разглаживается, становится мягче. — А ну-ка, давай ногу на ногу, — учит Юшка. — На себе и наматывай до конца. Теперь у пятки загни, веревкой обвяжи и суй в клумпу. Вторую портянку я наматываю уже без помощи Юшки. Хоть и не слишком плотно прилегает к ноге, но сойдет и так. Все равно скоро промокнет, и надо будет переобуваться. У реки мы останавливаемся возле сушилок и выгребаем из сети мусор. Юшка вытряхивает веточки, вытаскивает водоросли, паклю и кидает на землю, приговаривая: — Этого бы добра поменьше… По реке, волоча за собой вереницу барж, медленно поднимается против течения тягач. Когда вереница оказывается напротив деревни, от последней баржи отделяется лодка и направляется к берегу. — Ишь ты, Пранайтис вернулся! — дивится Юшка. — Пошли узнаем, какие новости. Сушилка Пранайтиса почти рядом с нашей. Мы немного проходим вперед и ждем, пока его лодка врежется в берег. — Бродяга! — кричит Юшка. — Как там дела, у моря-то? Много ли рыбки натаскал? — Хоть бы и много было, тебе бы не показал, — опуская весла, огрызается Пранайтис. — Тут-то рыбы нет, совсем никакой, Казис. Оттого и спрашиваю. — Ты-то откуда знаешь? — Рыбачу вот с Юозасовой сетью, — гордо отвечает Юшка. — Ишь ты… Пранайтис, длинный и сухой, как жердь сушилки, во весь рост выпрямляется в лодке. Лицо его обросло, глаза мутные, воспаленные от бессонницы. Он медленно наклоняется и достает из-под сиденья на корме промокший рваный ватник и кидает его на берег. Потом выкатывает две пустые бочки. — Не пустили, местные рыбаки не дали порыбачить, — бурчит он себе под нес, развешивая на жерди сеть. Заметив из окна, что отец вернулся, на берег выбегает сын Пранайтиса — Костукас. Как обычно, простоволосый, на ходу сунув ноги в клумпы, грудь нараспашку — он останавливается около отца, вопросительно глядя на него большими глазами. — Тащи бочки в дом, — велит Пранайтис. Костукас хватает бочку, но через несколько шагов выпускает ее из рук. Мне Костукаса жалко. Мы, правда, одногодки, но он гораздо меньше меня и слабее. Говорят, он не растет, потому что отец часто бьет его. — Костукас, а ты по земле кати, — советую я ему, видя, как он пыхтит над бочкой. Костукас делает, как я говорю, и, подпрыгивая, катит бочку. Мы с Юшкой возвращаемся к нашей лодке. Как только мы уложили сеть, Юшка надумал плыть туда, где мы еще ни разу не закидывали. Порядочно отдалившись от берега, закинули на глубоком месте. — Если уж тут рыбы не будет, значит, ее вообще нет, — приготовившись тянуть сеть, объявляет Юшка. С каждым перехватом лицо у Юшки становится все более мрачным. — Не понимаю, ничего не понимаю, — отдувается он, кидая в лодку сеть. — Дуры плотвы, и той не видать. Пока мы налаживаем сеть для следующего заброса, небо, только что ненадолго прояснившееся, снова затягивается. Начинают падать крупные, редкие капли. На поверхности воды вздуваются, похожие на мыльные, огромные, прозрачные водные пузыри. — Пузыри — это к тому, что дождь не скоро уймется. Что, Йонас, станем ночи дожидаться? Не получив ответа, Юшка добавляет: — В темноте, что ли, попробуем… Убегая от дождя, мы вытаскиваем лодку на берег и переворачиваем ее днищем кверху. Забравшись под опрокинутую лодку, мы уже не чувствуем дождя. Но зато земля мокрая и холодная. Промокшая одежда почти не греет. Меня начинает знобить, и я прижимаюсь к Юшке. — Давай поближе, теплее будет, — подбадривает он меня. — И в жару, и в холод, в ненастье и в ведро — все на воде да на воде. Ничего, Йонас, привыкнешь. Меня отец тоже не баловал. По восьмому годку на ловлю брать стал. Ну, а тебе-то сколько? — Двенадцатый. Юшка ничего не отвечает. Не расслышал, что ли? Или усиливающийся дождь заглушил мои слова? Но повторять я не стану. Засовываю голову под полу Юшкиного ватника и слушаю, как глухо барабанит дождь по днищу лодки.III
Теперь уже всем ясно: рыба исчезла и, может, не покажется, пока не встанет река. Приближение зимы страшит рыбаков, и они не уходят от реки, хотя ловится совсем ничтожная малость. Мы с Юшкой не отстаем от других. Вздремнув в полдень часика на два-три, только расправив сеть, пускаемся мы на промысел. Рыбачим у самого опасного буя — это единственное место, где иногда попадается щучка, усач, а то и рыбец. У буя, куда сходятся по шесть, а то и по восемь лодок, мы закидываем сеть, когда наша очередь. Те, кто уже закинул, подбрасывают в пылающий возле шалаша костер сучья, а сами валятся на солому и немедленно засыпают. Если бы рыба шла, очередь двигалась бы быстрее. А сейчас никто не торопится. Разбудят рыбака, когда наступит его очередь закидывать, он еще погреется у костра, попыхтит трубочкой, а после, медленно направляясь к лодке, обронит на ходу: — Только сети драть… По мне — лучшей ловли быть не может. Я зарываюсь в ворох гороховых стеблей, прижимаюсь к Юшке и сплю в шалаше, как убитый. А когда Юшка в хорошем настроении, он такое рассказывает, что волосы дыбом встают, пот прошибает. И сон не берет. — Всем видно: рыба не ловится, — и на сей раз повернувшись ко мне спиной, бормочет Юшка. — А почему ее нет, почему, а? Никто не отвечает — рыбаки, тесно прижавшись друг к другу, крепко спят, и в шалаше слышно только тяжелое их дыхание. Остро пахнет рыбой и тиной. — Не знаете, то-то. А я вот расскажу вам, — продолжает Юшка. — Разбойники мы, а не рыбаки. Рыбешка едва с палец величиной, а уж ловят ее, на рынок тащат. В прежнее время, если попадется такая в сеть, за борт выкидывали, чтоб подросла. Вот я и говорю: чем дальше, тем меньше рыбы становится. Да и та какая? Не то, что прежде… Юшка долго рассказывает, какая в старину рыба водилась. Не простое дело — эта река-кормилица, ой, не простое. И чего только не случалось при ней! Когда Юшка был молод, в конце деревни, там, где сейчас река обмелела, был остров. Остров как остров — зарос вербой, плосколистым белокопытником, бледными хвощами. В знойную пору загонял пастух на остров коров, а сам голавлей на леску ловил… Однажды вечером подняли бабы крик: у трех коров кто-то молоко выдоил. А когда через несколько дней опять такое случилось, вся деревня пастуха обвинять стала. Тот божился, клял всех, открещивался как мог. Да разве этим свою невиновность докажешь? — Помню, жаркий был день, до того жаркий, что и в тени задохнуться можно, — размеренно продолжает свой рассказ Юшка. — Прибегает ко мне пастух, весь запыхался. «Укладывай невод в лодку, — говорит, — да только поскорей, Мотеюс. Страшная рыбина неподалеку от коров шныряет». И что бы вы сказали? Как доплыли до острова, у меня самого дух захватило: так и вижу — забрели коровы в воду, а возле них какая-то огромная рыбища. Потихоньку окружили мы ее сетью. Когда стали гнать из воды коров, рыба испугалась да как пошла воду молотить, а сама так и ринулась в глубину. Не почуяла, бесовка, что в засаде. Тянем мы сеть, сажень тянем, другую. Только вдруг как саданет в мою сторону, даже сеть вырвало из рук. Только разве я отпущу? Уже, кажется, и до берега недалеко, да вода вдруг как вспенится, как закипит, словно котел на огне; хвост, широченный, как лопата, наружу показался — и все… Вытаращились мы на рваную сеть, а в ней дыра размером с лодочное днище. Тут-то меня и осенило, кто коров выдаивал. Сеть вся в слизи была — значит, сом это. И до чего хитер, а? Коровы в полдень к воде, а он — к ним. Пастуху и невдомек, что этакий вор повадился… — Пес столько не набрешет, сколько ты, Юшка, языком намелешь… — спросонок сердито ворчит Пранайтис. После своего возвращения с моря он не упускал случая задеть кого попало. — Да, бывала рыбка, бывала, — не осадив Пранайтиса, продолжает свое Юшка. — Однажды, помнится… — Юшка, эй, Юшка! — раздается со стороны реки. Это рыбак, чья очередь закидывать перед нами. Когда никто не отзывается и не выходит из шалаша, тот ворчит: — Дьявол, а не дед. Разве что из пушки стрелять над ухом, только тогда проснется. Но Юшка не торопится. Он ощупывает мою грудь, лицо, затем, сдавив мне жесткими пальцами нос, бормочет: — Ну, довольно сопеть. Вставай, наш черед. Я притворяюсь крепко спящим. До смерти неохота выходить наружу, в промозглую осеннюю ночь. За стенкой слышны шаги. Кто-то подбрасывает в костер тяжелые поленья. — А не можешь, лучше не ввязывайся, да еще с мальцом. — Не серчай, Антанас, — вылезая из шалаша, говорит Юшка и тут же спрашивает: — Неужто поймал чего, раз так спешишь? — Две коряги — вон, шипят на огне, — раздраженно отвечает рыбак, потом, немного подержав руки над огнем, скрывается в шалаше. До чего хорошо у костра! Мокрые дрова, правда, шипят, но зато их так много, что они поневоле горят, а от них идет тепло. Зато как страшно, когда отступаешь хотя бы на шаг от огня и из светлого круга попадаешь сразу в слепящую тьму. Ступать надо осторожно, потому что не видать, где кончается берег и начинается вода. Наощупь находим мы нашу лодку, весла, сеть. Мне страшно даже руки вперед протянуть. В тяжелой от недосыпа голове путаются Юшкины рассказы. Вот сейчас, кажется, из черной воды возникнет страшный сом, ударит своим могучим хвостом по лодке, и мы — на дне. Или в сеть вцепится скрюченными пальцами синий разбухший утопленник, вроде того, которого Юшка когда-то вытащил. Обмирая от ужаса, я быстро гребу, стремясь добраться до буя, а Юшка стоит где-то рядом со мной, невидимый в темноте, и закидывает сеть. Постукивает подбор, и слышно, как похлопывает озябшими руками Юшка. Когда сеть закинута, можно глядеть по сторонам. Но куда смотреть, на что? По всей реке светятся, уходя за бухту, буи. На берегу пылает, взметая искры, костер. Ветра нет. Но это только к лучшему, а то было бы вдвое холодней. А теперь, пока я гребу, мне тепло, и только руки коченеют, стынут. Неподалеку от лодки раздается какой-то плеск. Я снова замираю от ужаса.
— Крупная рыба играет. Сразу видать, не маленькая, ишь, словно польку пляшет, — слышу я голос Юшки и облегченно вздыхаю. — Йонас, похлопай-ка руками. Сунь в воду, а потом похлопай. Сразу тепло станет, — учит он и сам снова шлепает себя по бокам, даже звон стоит. «Болтай, сколько хочешь, а я в ледяную воду не стану руки окунать», — думаю я, засовывая руки в рукава ватника. Лодка скользит по течению ровно и только изредка вздрагивает, дергается, когда сеть задевает за какую-нибудь мелкую корягу. Я чувствую, как меня укачивает. Голова так и падает на грудь… В глазах мелькают светящиеся круги, дрожат огни буйков, и я скольжу, падаю вниз… — Йонас! Да чтоб ты пропал! Греби давай. Не видишь, что ли, течение сеть заваливает! — кричит Юшка. Я открываю глаза и вначале ничего не соображаю. По привычке хватаю весла и поворачиваю лодку. — Правее бери, правее! Ослеп, что ли? Ведь с моего, а не с твоего конца вперед занесло! Я стараюсь изо всех сил, но теперь не так-то легко выправить. Сна как не бывало, я тружусь покряхтывая. — То-то, вот это дело, — подгоняет меня Юшка и радостно бормочет: — Подумать только, пошла рыбка-то… Ага, и налим затесался… Это уж к зиме, Йонас, к самой зимушке… Наконец сеть в лодке. Присев над ней, мы руками нашариваем добычу. Юшка без труда находит запутавшуюся в сети рыбу, а мне не везет. Осторожно ощупываю сеть и всякий раз вздрагиваю, когда под рукой вскидывается щука или бьет хвостом рыбец. Юшка недоволен, что я так вожусь. — Мелкую ты прямо через ячейки тащи. А то до утра прокопаешься. Так, конечно, удобнее. Ухватив рыбку за голову, я выдираю ее из сети прямо через ячейку, так, что та скрипит. Если рыба не пролезает, я потихоньку освобождаю ячейку, и рыба на воле. Вдруг пальцы попадают во что-то липкое, длинное, я вскрикиваю и дрожу всем телом. — Орешь, как будто тебя режут, — засмеялся Юшка. — Что там у тебя? — Не знаю, рыба какая-то… Юшка подползает ко мне и водит руками по дну лодки. — Налим! — весело выкрикивает он. — Ну и здоровенный, гад, а? — держа обеими руками скользкого налима, Юшка относит его на нос. — Напугался? — спрашивает он, возвращаясь на свое место. Я молчу, будто не слыхал вопроса. — Птенец ты, — похлопывает он меня рукой по шапке. — Раз такие дела, гони лодку к шалашу. Сам выберу рыбу. Вдоль берега, где течение не такое сильное, я гребу к рыбакам. Когда лодка ударяется носом в береговой песок, я первым выскакиваю и несусь к огню.
IV
Юшка не ошибался, когда говорил, что рыба появляется к зиме. Уже которые сутки задувает северный ветер. Ветер-то не сильный, но пробирает насквозь, дерет лицо, уши, несет в глаза водяную пыль, а по реке гонит волны. Днем по низкому небу иногда скользнет солнце, но оно почти не греет. Ночью всходит полная луна и заливает бледным светом поля. Порой набегает одинокая тучка и осыпает землю снежной крупой. Чтобы не упустить ни одного заброса, мы рыбачим и днем и ночью. У шалаша сутки напролет горит костер. Рыбаки сейчас почти не переговариваются, словно языки отнялись. Заспанные, продрогшие, злющие, они роняют слово только тогда, когда надо подогнать очередь. Никто не ходит в деревню обедать или ужинать. Женщины-рыбачки приносят еду в мисках, обвязанных платками, прямо к лодкам. Рыбаки торопливо едят похлебку, дожевывают хлеб, беспокойно поглядывая на реку. Все надеются, что она, кормилица щедрая, не замерзнет еще неделю-две, даст заработать на зиму. Только принимается светать, из деревни начинают приходить женщины за рыбой. Моя мама всегда ходит вместе с Пранайтене. Рядом с высокой мамой мелкая Пранайтене едва поспевает. Зато поднять она может куда больше моей матери. Страшно смотреть, как Пранайтис, наложив огромную корзину рыбы, взваливает ее жене на плечи. Пранайтене, робкая, как голавль, боится перечить мужу. Под тяжестью своей ноши она так и сгибается, пошатывается, но, крепко вцепившись руками в корзину, не выпускает ее и бегом устремляется вперед. Саженей за десять слышно, как хлюпает в корзинах рыба, кряхтят женщины, цепочкой двигаясь в сторону города. У нашей семьи дела идут на лад. Отец, правда, еще полеживает, но мы с Юшкой неплохо зарабатываем. Мама продает рыбу и приносит нам белого хлеба, осыпанного тмином, а иногда и ливерной колбасы. Она даже обещала на скопленные деньги купить не только ботинки, но и сапоги — высокие, как у всех рыбаков. Кончится ловля, и я пойду в школу. То-то будет дело! В сапогах буду разгуливать, как большой! Расхрабрившись, я решаюсь поделиться своими мыслями с Юшкой. — Нехорошо это, Йонас. Где же это видано — сапоги на каждый день? — привязывая к сети оторвавшийся поплавок, говорит Юшка. — Хорошую обувку беречь надобно, хранить. Скажем, есть у меня сапоги. Чистенькие, гладенькие, хоть бери и целуй. Ну, а сколько им лет, как ты думаешь? Не знаешь? То-то же, два десятка исполнилось. Сапоги — для больших праздников, а в будни можно и в клумпах бегать. На то их и придумали люди. Вечно этот Юшка что-нибудь чудное скажет. Разве не лучше было бы ему в сапогах рыбачить? Разве не хмурится он, когда, вынимая из воды сеть, мочит ноги? А когда сушит у костра онучи, вечно ворчит, что клумпы всюду хороши, только не на рыбалке. «Эх, Юшка, вот будут у меня сапоги, — стану их носить, как хочу», — думаю я про себя, вылезая из лодки. Пока Юшка укладывает сеть, я чищу рыбца, которого оставил в кармане ватника, натыкаю его на палочку и пеку на костре. Рыбка постепенно краснеет, как листья граба, тронутые морозом, а от крепкого запаха у меня слюнки текут. Мороз усиливается, нажимает… Солнце проваливается куда-то далеко в пепельное небо, и лучи его не в силах пробиться к земле. Все в природе замерло. Голые деревья застыли, скорченные, угрюмые, и лишь на низких ивах ветер еще ерошит оставшиеся редкие листья. Их шороху вторит тихий скрип забредшей по колено в воду осоки. По реке, взметая искры из трубы, пыхтя, отправляется к зимнему причалу пароход. Набегающие волны подкидывают стоящие на месте лодки, обламывают тонкую ледяную кромку, которую мороз уже успел выложить вдоль берега. — Если сутки еще удастся порыбачить — и на том спасибо! Чего доброго, ночью шуга пойдет, — приседая возле огня, произносит Юшка. — Ну-ка, что тут у тебя? Я разламываю пополам моего рыбца. Себе оставляю хвост, а Юшке отдаю голову. Он вытаскивает горбушку хлеба, соль. Обгладывая рыбью голову, Юшка причмокивает, что-то высасывая из костей. — Голова — она самая вкусная, — смакует он, выплевывая обсосанные косточки. К нам подходит Пранайтис. С минуту он угрюмо глядит на нас, потом сплевывает, приседает на корточки и скручивает цигарку. — Говорю, Казис, скоро лодки на берег вытащим, — замечает ему Юшка. — Брось ты путать, — отмахивается Пранайтис. — Чего уж там, сам погляди. — С голоду подыхать будем, если так рано замерзнет. — Сущая правда. Тяжелая зима подходит. Может, в леса податься? — С караваем там тебя ждут, как же! Я полсвета исходил, а все у реки способнее. — Хорошая у нас река… Только вот, замерзает ведь… Пранайтис повернулся к реке. Можно было подумать, что он впервые увидал ее — так долго и напряженно он вглядывался в воду. Подбородок его почему-то задрожал. — Замерзает, — процедил он тихо. Внезапно разговор прервал сердитый голос: — Кому плыть? Из шалаша выскочил невысокий коренастый человек. Его очередь. — Я закидываю, — неожиданно заявил, поднимаясь от костра, Пранайтис и направился было к своей лодке. — Ты что, в своем уме? — схватил его за плечо коренастый. — Пусти, — взвизгнул, выдираясь, Пранайтис. — Очнись, Казис, ведь моя очередь! — тормошил его рыбак. Пранайтис ткнул его кулаком в лоб и тут же схватил за горло. — Говорю тебе, ершина, моя очередь! — стонал тот. Рыбаки покатились по земле. — Эй, вы, очнитесь, очнитесь же! Ступай в мою очередь! — увивался вокруг них Юшка. Но те уже катались по земле, схватившись, словно лютые враги. Душили друг друга, кусались. Противник Пранайтиса в ярости выхватил нож и ударил раз, потом еще… — О господи! — вскрикнул Пранайтис, тотчас же обмякнув. Сбежались рыбаки, стянули с Пранайтиса ватник. Из ран сочилась кровь. Рыбак, ранивший Пранайтиса, дикими глазами смотрел на его исколотую грудь, исполосованную руку. Внезапно, откинув нож, он схватился за голову и взвыл: — Казис, братишка… Рыбаки молча подняли Пранайтиса и повели к лодке. Я только тут пришел в себя. Юшка — тот вовсе растерялся. Он топтался у костра и бормотал: — Не от сладкой жизни так-то вот… Восемь ртов у Пранайтиса в доме… Но уж и звери… Вскоре все снова налегают на весла, все идет своим чередом. Рыбаки словно онемели. О Пранайтисе будто позабыли. Лишь к вечеру, когда пошла шуга, кто-то проговорил: — А ведь чепуху и взял бы… Слава богу, хоть не насмерть. Столько ребятишек по миру пустить… Никто не ответил. Даже Юшка, который всегда находил нужное словечко, и тот молчал. Он был подавлен, то и дело вздыхал и работал нехотя, часто задумывался. — Хватит, Йонас, поплыли домой, — вдруг предложил он. Рыбачить и впрямь было невозможно. Лодка обледенела, а от сети, едва вытащенной из воды, валил пар, и она тут же застывала. Попробуешь ее переложить, ломкая сетка лопается, прилипает к лодке, потом отдираешь ее, а клочья так и остаются. Понемногу стали мы собираться двигаться домой. Холод забирал все крепче. Юшка все чаще хлопал себя руками по бокам, а его огромный нос посинел от холода. Шуга, отогнанная ветром к другому берегу, шла густая, с тихим шуршанием. Вороны летали высоко, держась против ветра. — Снег пойдет, — предсказывал Юшка. И правда! Вскоре начали падать отдельные, словно их выслали в разведку, снежинки. Проплывая мимо кустов, мы спугнули стайку птиц. С жалобным писком унеслись они в сторону полей, летели низко, над самой землей. Там они скучились над небольшим островком травы и, жалобно щебеча, принялись клевать оставшиеся семена. Развесить сеть не было никакой возможности. Мы просто вывалили ее на жерди и оставили. Пусть, как говорят рыбаки, «вымерзнется». Лодку вытащили на берег и повернули днищем к югу — проглянет солнце и растопит лед. Опираясь на палочку, к берегу вышел отец. Он в тулупе, ноги тепло закутаны, но дрожит весь — страх смотреть. Он наклоняется над сетью и пробует пальцами, крепка ли нить. — Так я и думал. Сеточке конец, — покачивает он головой. — Раз уж добили, придется за зиму новую сплести. — Эге, конечно, сплетем, да еще какую! Правда, Йонас? — кивает Юшка. — Знаешь, что с Пранайтисом? Еще бы отцу не знать, когда вся деревня ходуном ходит. Хотели врача звать, да куда уж там — в кармане-то пусто. Живучий у нас народ, сам оправится. Мы все возвращаемся в избу. Печь вытоплена, тепло, уютно. Мы раздеваемся. Матери все еще нет — из города не пришла. Сами достаем похлебку и жадно едим. Отец ложится в постель. — Гляжу, Йонас у меня окреп, вырос, — скупо улыбается он. — Хороший парнишка, ничего не скажешь. Вот выучу сети вязать — настоящий рыбак будет, — соглашается Юшка. — Можешь хоть сегодня начинать. Велел матери нитей купить. Я чувствую, как что-то хватает меня за горло и сжимает, давит… Я кладу ложку и отворачиваюсь к окну. Снег валит вовсю. Снежинки ложатся на поля, на ветки деревьев, на заборы — такие легкие, чистые, словно пена, которую гонит по Неману ветер. Их так много в воздухе, что трудно разглядеть плывущее по реке «сало». Вдруг раздается жалостное причитание. «У-у-у! Уууууу!» — голосит кто-то. Я узнаю голос Пранайтене. По-видимому, она возвратилась из города и все узнала, а теперь, причитая, спешит к своему мужу. Перед глазами у меня снова возникает соломенный шалаш, костер возле него, разъяренные лица дерущихся, окровавленная грудь Пранайтиса… — Наберешься терпения, Йонас, станешь сидеть до вторых петухов, — будет у нас к весне такая сеть, что все только ахнут, когда увидят, — говорит Юшка, положив руку мне на плечо. А когда я еще крепче наваливаюсь на окно, он добавляет: — Не так уж оно плохо, рыбачье ремесло. Хоть и скупо, а все кормит река-то. Да ладно, чего уж там… Ешь, Йонас, не зевай по сторонам, давай-ка ешь…ЗИМА
V
— Река встала! — Река замерзла! — Лед на реке! Весть эта с самого утра подняла на ноги всю деревню. Все сбежались к реке. Вот что наделал мороз за одну только ночь! Еще вчера по самой середине реки, шурша, плыла шуга, и только у берегов, где течение спокойнее, тянулась ледяная кромка толщиной в палец. Теперь широкие венки шуги стояли неподвижно, словно впаянные. Насколько хватает глаз, лед весь насквозь чистый. Встает сверкающее солнце, осыпая ледяную поверхность бессчетным количеством искр. Вокруг безмолвие. Издалека доносится постукивание клумп — это спешит на берег запоздалый рыбак. Люди, застывшие, точно эта река, стоят молчаливыми стайками. Дети — и то не возятся, не раскатывают лед. Их сдерживают озабоченные лица родителей. Рано, слишком рано встала река. Зима будет долгая, тревожная, голодная. Вдоль реки, подвязав раненую руку, с топором в другой, идет Пранайтис. За ним, опустив голову, семенит Костукас с корзинкой. — Вечно он что-то затевает, — говорит моему отцу Юшка, кивая на Пранайтиса. — Нешто рыбацкое это дело. Отец молчит. Зато Пранайтис, по-видимому, расслышал Юшкины слова и, проходя мимо нас, бросает, сверкнув глазами: — Не суй свой нос в чужой котел! Я подбегаю к Костукасу. Он какой-то задумчивый, совсем бледный и неразговорчивый. Ноги еле волочит, полы отцовского ватника метут землю. — Костукас, я тоже пойду, — шепчу я ему на ухо. Костукас косится на меня и пожимает плечами, словно говоря: «Ну и что, а мне-то какое дело…» За деревней Пранайтис выходит на лед. Двигаясь вдоль самого берега, шаг за шагом, осторожно продвигается вперед. Внезапно он взмахивает топором и ударяет обухом об лед. — Бери, — велит он Костукасу, а сам направляется дальше. Мы с Костукасом кидаемся плашмя на лед, где пробита брешь. Вот она, оглушенная, брюшком кверху, красноперка — в ладонь величиной, с оранжевыми глазами. — Костукас, хватай, а то очнется! — тороплю я его. Однако Костукас, вытаращив глаза, глядит на лед и не шевелится. Что он там видит? Приглядевшись внимательней, я догадываюсь. Расколотый обухом лед заискрился яркими красками. Радужные полоски пляшут перед глазами, сверкают, переливаются в солнечных лучах. — Господи, господи… — остолбенев, шепчет Костукас. — Костас, ты что — примерз? Заслышав отцовский голос, Костукас вздрагивает всем телом. Ловко засучив рукава ватника, он запускает руку под лед и достает рыбку. Швырнув ее в корзинку, он торопливо направляется к отцу, даже не оборачиваясь. — Зачем порезали отца? Теперь он страх какой злой… — шепчет он, когда я догоняю его. Это верно. Вся деревня знала, что раны у Пранайтиса заживали медленно, гноились. Кое-кто поговаривал, что, мол, какой из него теперь рыбак — левая рука-то сохнуть начала. Недаром он ее на перевязи носит. Мы уходили все дальше вдоль берега реки. Рыбу покрупнее так не оглушить. В корзинке лежат несколько штук мелких, похожих на шпульки, щук, крохотные плотички. Но Пранайтис и такой добыче рад. Присев на пучок рыжей осоки, он скручивает цигарку. — Рыбу матери неси, — говорит он и резко поднимается. — Я в лес пошел, за хворостом. Только лишь Пранайтис, раскачиваясь, скрывается за кустами, Костукас оживает, словно рыба, подобранная с песка и кинутая обратно в воду. Весело крича, он принимается кататься по льду. Я не отстаю от него. До самой деревни мы добираемся, раскатываясь на льду, догоняя друг дружку. — Хватит, а то увидят, — еле переводя дыхание, напоминаю я Костукасу и, скинув клумпу, проверяю, не стер ли подметку. Ничего, почти незаметно. На минутку забегаю к Костукасу. Пранайтене радостно выхватывает у него из рук корзинку и тут же принимается чистить рыбу. Младшие братишки Костукаса, как горошины, выкатываются из всех углов и жмутся к матери. Всклокоченные, чумазые, толпятся они над корзинкой и жадно разглядывают рыбу. Братьев Костукас не любит. И как тут любить, если из-за них Костукаса отец лупит. Когда отец с матерью заняты, Костукасу приходится за ребятишками присматривать. Двое побольше, которые в штанах, — те еще полбеды, но вот малыши — вечно они ноют, сами не знают отчего. Не вытерпит Костукас да и шлепнет кого-нибудь. Тот еще пуще надрывается. Ну, а тогда Костукас получает от отца свою порцию. И так каждый день. К тому же братишки таскают всякие железки, которые собирает Костукас, и так их уродуют, что не узнать. — Постой, Йонас, что я тебе покажу, — забираясь под кровать, говорит Костукас. Я приседаю и с нетерпением слежу, как Костукас шарит под кроватью. Что-то он оттуда вытащит? Вскоре Костукас вылезает и, даже не взглянув в мою сторону, кидается к братьям. — Кто взял? Детишки молчат, переглядываются. — Ну погодите, я вам покажу, — не на шутку грозится Костукас и пытается ухватить за вихор самого старшего. — Это не я… Альбинас брал… — Вацюс раз-бил, — оправдывается Альбинас. — Разбил?! — Он врет… Антанюкас под кроватью нашел. — Не браааал я… — плаксиво заводит Антанюкас. — Перестань ты, ирод, детей мучить, — прикрикивает на Костукаса мать. — А чего они мельницу взяли, — не отстает Костукас и хватает Вацюса за вихры. Тот вскрикивает не своим голосом, а Пранайтене хватается за палку. — Ну, постой, отцу скажу, — грозится она. Но Костукас выскакивает за порог, увлекая с собой и меня. — Такая красивая была, — Костукас тяжело дышит, прислонившись к забору. — Знаешь, четыре крыла и вертятся… Дома достается и мне. Столько времени без толку проваландался! Отец ругает меня, а Юшка больше злится на Пранайтиса. Где же это видано, чтобы рыбак да этак рыбу ловил. Добро бы варвар какой, а то… — И чего ты, Мотеюс, ворчишь? Неужели не видишь, от голода человек спасается, — возражает Юшке мать. Юшка, низко склонившись, плетет сеть и не отвечает. Молчат и отец с матерью. С чего они вдруг так примолкли? Мне тоже не по себе. Бесшумно подсаживаюсь к своей части сети и беру челнок. Очень хочется есть, но неловко попросить, пока ничего не наработал. А мама, как нарочно, сама не предлагает… Я сижу, опустив голову, не глядя по сторонам, жду, что скажет мама. А она все молчит…VI
— Сколько раз тебе говорить — крепче узел вяжи. Видишь, петли елозят, — с этими словами Юшка отнимает у меня край сети, который я вяжу, и, всунув в петлю два пальца, раздвигает их. И правда, теперь я и сам вижу, что узлы ездят, ячейки сети раздвигаются, увеличиваются. — Разве это сеть? Воробьев такой сетью ловить, а не рыбу. Вот как вязать надо. Юшка продолжает мой край. Только теперь его руки двигаются медленно, чтобы я успел все заметить.
— Запомни: главное — это как завяжешь узел. Правой рукой накидывай до левого плеча. Потом назад, снова вперед… а пальцами левой придерживай нить. Пока Юшка объясняет, он и сам не замечает, как увлекается и принимается вязать совсем быстро. Правая рука его с челноком так и снует, так и мелькает. Как это он пальцами левой придерживает нить, мне не разглядеть. — Ну, давай дальше. Я беру у Юшки сеть. И правда, вот это узлы! Одинаковой толщины, твердые, плотные, с одинаковыми расстояниями. А какие аккуратные ячейки! Кажется, вот-вот возьмут да и подмигнут, как озорные глазки. Стараюсь и я, чтобы красиво получилось. Только куда мне! И хоть бы Юшка не глядел на меня. А то вяжет, сидя на табурете возле меня, и просто глаз не отрывает от моих рук. На свою работу он вовсе не смотрит. Зато то и дело поучает: — Где у тебя левый указательный, а? Им прихватывай нить-то, указательным… Отец тоже недоволен мной. Он сидит в постели и хмурится: — Учись, учись. Взялся за дело, так уж чтоб в руках горело. Я слушаю попреки, и становится до того обидно! Уж лучше, в тысячу раз лучше ловить рыбу, чем сидеть при коптилке до рассвета и вязать, вязать… По вечерам еще полбеды. Не спит отец, по избе ходит мать, иногда соседи заглядывают. Рыбаки попыхивают трубками, поругивают зиму, жалуются, что, мол, совсем припасы кончаются, и на том расходятся. После полуночи в доме все затихает. Отец с матерью засыпают, и только мы вдвоем с Юшкой, словно прикованные, сидим рядышком. За обледенелым окошком лежит зимняя ночь. Когда звездная, дышащая морозом, когда тревожная, ветреная. — Не тоскуй, Йонас, — догадавшись, видно, по лицу, что меня одолевают грустные мысли, утешает меня Юшка. — Через недельки две не хуже моего вязать станешь. А пока разомнись-ка чуток. Я встаю со стула и тихо, чтобы не разбудить уснувших отца с матерью, гуляю по избе. Юшка ненадолго выходит на улицу. Слышно, как завывает вьюга. Кажется, кто-то бродит вокруг избы, стучится в дверь, стонет, швыряет в окна пригоршни снега. — Тяжелая зима, тяжелая, — возвратившись со двора, говорит Юшка. — Ни тебе выйти, ни вылезть. Тяжело зверюшкам, тяжко и человеку. Но человек — он все вынесет. Юшка вяжет довольно долго, а потом вместе со своим табуретом придвигается поближе ко мне. Теперь наши локти почти касаются. — Рыбкам тоже зимой круто приходится. В реке, понятное дело, ничего. Дремлют, забившись куда-нибудь в глубину, ждут весны. А вот в озерах задыхаться начинают, — говорит он. — Надо бы в Нямунинасе прорубь прорубить. Перед глазами у меня встает Нямунинас — небольшое озерцо неподалеку от реки. Оно все заросло вербой, густым лесом трав, а на более глубоких местах чернеют водяные «глаза». Озеро кажется таинственным и страшным. Нямунинас красив только тогда, когда зацветают кувшинки. Цветок к цветку, головка к головке — все озеро усыпано ими. Кувшинки белые, как первый снег. — Однажды зимой, Йонас, я на Нямунинасе центнер щуки наловил. Задыхались бедняги. Если уж Юшка так собирается рыбу ловить, значит, туго ему приходится. Только он не жалуется, как остальные рыбаки. Я слышал, как отец с матерью говорили, что скоро Юшка уже не будет вязать у нас сеть. Отец, хоть и слаб еще, сам возьмется за дело. Тогда не надо будет кормить Юшку. — Мороз тогда трещал, точно как в эту зиму. Снега целые горы намело. Думаю: надо на Нямунинас взглянуть. Как знать, может, и не зря. Так оно и вышло. Только прорубил прорубь, высовывается из-подо льда одна щучья голова, потом еще… Я только знай хватаю и вытаскиваю на лед. А они все идут да идут к проруби воздуха глотнуть. Так бы и переловил всех щук, кабы не их царица… Изумленный, я перестаю вязать и поворачиваюсь к Юшке. — Царица? — Ну да. Высунула голову — с телячью будет — и глядит на меня большущими глазами, будто спрашивает: «Ты чего смущаешь покой в моем царстве, человече?» Я и остолбенел. Руки, как плети, повисли, а по спине мурашки бегают. Я не из трусливых, Йонас, но такой рыбины в жизни не видал. А главное, на щучьей голове венец сиял. Такой весь прозрачный, как лед. Царица медленно повернулась и ушла под лед. Больше рыба к проруби не тянулась… Видать, предупредила правительница. Ну, а все-таки недурную добычу притащил домой. Уж до чего, помню, радовалась Аготеле, до чего радовалась. Да, водилась когда-то рыба, водилась… Давай, Йонас, на Нямунинас сходим, а? — Ладно, дяденька. Юшка задумывается. Лицо у него строгое, в глазах забота. — А что если предложить отцу под лед сеть закинуть? — Давайте. По-моему, я стараюсь говорить обычно, ноголос почему-то глухой, едва слышный. Я чувствую, что совсем устал. От сидения на месте ноет спина, болит затылок. Глаза словно песком запорошило, так и режет, и я не вижу нити, которая течет и куда-то убегает прочь от меня. Правая рука вовсе онемела, сделалась непослушной. С огромным трудом я поднимаю ее. Я гляжу на Юшку. Он тоже опускает правую руку и помахивает кистью. Передохнув совсем немного, мы снова садимся за работу. Но долго я не выдерживаю. Все болит, словно меня колотили палками, а в голове шумит, звенит. Еще миг, и я повалюсь прямо на пол. — Давай заканчивай ряд и ступай ложись, — слышу я голос Юшки откуда-то издалека. Уже лежа, я вижу, как Юшка встает и начинает мерять край, который я вязал. Измерив, записывает что-то мелом на стене и снова садится на табурет. Петухов еще не слыхать. Только вьюга стонет, воет.
VII
Морозы спали, наступила оттепель. Небо посветлело, погода смягчилась. Мы с Юшкой собираемся ставить подледные сети. Несем с собой шест, топор, совок, веревки. На берегах реки горы снега. Толстый снежный покров лежит и на полях, на реке. Лишь в тех местах, где прошелся сильный ветер, синеет чистый лед. Мы выбираем место и начинаем рубить проруби. Неподалеку от нас трудятся Пранайтис с Костукасом, поодаль возятся другие рыбаки. — Потеплело — и рыба оживет, — с удовольствием ломая лед, размышляет Юшка. Я верчусь около него и совком вылавливаю из проруби ледяные осколки. Мне нравится смотреть, как из-под Юшкиного топора сыплются мелкие, словно стекляшки, льдинки, попадая мне на шапку, воротник. — Хорошее место мы с тобой выбрали, Йонас. Вот тут, саженях в десяти от проруби, — Юшка выпрямляется и показывает рукой в сторону берега, — есть затонувший куст. Весь ракушками облеплен. Его окуни любят. Вот увидишь, будет хлеб, будет сало. Однако, гляди, и Пранайтис хорошо угадал. Там каменистое дно, крупный песок. Налим такое место любит. Прорубив здоровенную прорубь, мы привязываем к концу шеста веревку и запускаем его под лед. Сухой шест прилегает ко льду, и нам хорошо видно, где рубить следующую прорубь. Расколов лед, топором толкаем шест дальше. Потом снова рубим и толкаем. И так до самого берега. Когда веревка в воде, нетрудно и сеть под водой наладить. Юшка привязывает сеть к концу веревки и осторожно опускает ее в воду у большой проруби, а я стою у берега и тяну на себя веревку. — Полегче, полегче! Сеть запутается! — кричит Юшка. Когда тянешь медленно, очень мерзнут руки. Но я все-таки придумываю хитрость. Перекладываю веревку через плечо и черепашьим шагом двигаюсь вбок. Так не холодно и гораздо легче. Но вскоре уже приходится тянуть изо всех сил, потому что теперь почти вся сеть под водой. — Тащи, тащи… Эх, погоди ты у меня! А это еще что? Я оборачиваюсь. Да это же Пранайтис орет на Костукаса. Тот тоже, накинув веревку на плечи, тянет сеть, но никак не вытянет. Мальчишка скользит по льду, спотыкается, а отец уже грозится поркой. Наша сеть уже подо льдом, и я бегу к Костукасу. — Должно быть, зацепилась, — со стоном объясняет он, а сам глаза на меня не подымает. Я обеими руками хватаюсь за веревку. Дергаю раз, потом еще, и сеть поддается. Расставив сети подо льдом, мы делаем передышку. Юшка давно уже не был в таком веселом настроении, как нынче. Он все пытается растормошить мрачного Пранайтиса. — Ну и промерз лед-то. Чуть ли не на сажень. Весной нагонит страху. Слышь, Казис, а что если в Нямунинасе прорубь прорубить? — Без тебя додумались. Кукиш там с маслом. — Глянь-ка, уж и про Нямунинас пронюхали. Кто же это такой прыткий у нас? Пранайтис, не отвечая, подбирает со льда свои инструменты и поворачивает в сторону дома. Костукас остается с нами. — Отец у тебя, Костас, и разговаривать не желает, — с досадой замечает Юшка. — А зачем его ножом порезали, — заводит свое Костукас. Все знают, что дома у Пранайтиса сущий ад. Терпит от мужа Пранайтене, но пуще всего колотят Костукаса. Люди говорят, а как помочь — никто не знает. Кабы не свои заботы, а тут у всех одно — нужда душу выедает. Где уж тут о чужой беде подумать? А мне Костукаса жалко, до того жалко, что и сказать трудно. Поглядишь на него, и кажется, что он и не растет, а все меньше становится, — съежился весь, только и остались на лице что глаза — большие, любопытные. — Йонас, иди-ка сюда, — зовет Юшка. Наклонившись ко мне, он шепчет на ухо: — Наврал Пранайтис, от зависти наврал. Пошли на Нямунинас. Юшка первым спешит к Нямунинасу. Мы с Костукасом идем рядом и беседуем. — Будущей осенью я все-таки пойду в школу, — говорю я ему. — А я не пойду. — Почему? — Неохота. Вдруг Костукас так и замирает на месте. Его грустное личико светлеет. Он разглядывает вереницу заснеженных ракит. — Смотри, какие горы… Перед нами тянутся снежные сугробы. Одни — с острыми зубчатыми гребнями, источенными ветром, другие круглые, пышные. Сугробы наплывают друг на друга, волнами убегают вдаль, нависают над крутым берегом реки. Под ним — как под крышей. — Вот построю себе снежный дом и стану в нем жить один, — говорит Костукас. — Ну и дурак, замерзнешь же. Костукас словно не слышит моих слов. Он все любуется сугробами, не может глаз оторвать. — Вы что там такое увидали? — оборачивается с любопытством Юшка. — Уж не выдра ли след оставила? Мы мчимся к Юшке, а тот объясняет: — Такие крутые берега выдра любит. Выроет под кустом нору и спит себе. Иногда ночью вылезает, побегает, налепит следов — всю пятерню свою отпечатает, — а не поймать ее. Осторожный зверь. Умеет беречь свою дорогую шубку, хитрюга… Подходим к Нямунинасу, и Юшка сразу морщится, словно дикое яблоко надкусил. — И правда, кто-то был. Лед кололи. — Так это же мой папка, — говорит Костукас. — А много ли принес? — Нисколько. — Да врешь! — Как перед богом… — У каждого своя судьба. Попытаем и мы счастья. Юшка прорубает тонкий ледок в том самом месте, где была полынья Пранайтиса. Присев на корточки рядом с ним, мы ждем и глядим на воду. На дне озера видна прошлогодняя трава. Почернелая, занесенная тиной, мертвая. Оттуда выползает черный, как пуговица, жук и, бойко перебирая широкими лапками, приближается к проруби. Рыбы не видать… Однако Юшка еще надеется. — Куда ей деваться, раз воздух пошел. А может, ее и нет тут вовсе, рыбы-то… Не то, что прежде… — наконец задумчиво произносит он. Домой мы возвращаемся унылые. Только у самой деревни Юшка решительно заявляет: — Завтрашний день за все вознаградит. Эх, и заработаем, вот посмотришь!VIII
Медленно ползут зимние дни, ничего нового не приносят они рыбакам. Никому не удается наловить рыбы. Она ушла далеко в глубину и не двигается с места, а где она скопилась — этого рыбаки не знают. Люди, затянув пояса, слоняются по деревне, словно сонные мухи, и не знают, за что приняться. Как нарочно, и весна не спешит. Глухая, студеная, злющая зима держит в плену реку — единственный источник заработка. Однако как-то раз утром Юшка пришел из леса с мешком сосновой коры и заявил: — Идет весна-то, идет. Деру кору и слышу: шумят у сосен вершины, шумят… Стало быть, к перемене погоды… — Если этак долго продержится, спятить можно, слышь, Мотеюс. Монеты кончились, хлеба нет, а жира и запах позабыли, — кряхтит отец. — Уже, уже… уже подходит. Уж и река веселее разговаривает. На отмелях течение пробило лед. Полыньи на версту тянутся. Успеть бы только сеть ссадить. Отец крякает и, встав с постели, подходит к столу. Берет нож, садится на табурет и начинает вытачивать из коры поплавки. По избе распространяется свежий запах смолы. — Сеть я сам ссажу. Окреп уже, могу за дело приниматься, — медленно произносит он, глядя в пол. Юшка в это время наматывает нити для ределя. Заслышав отцовские слова, он перестает работать. — И редель сам вязать станешь? — С Йонасом. — И рыбачить, чай, пойдешь? — Ну да. Юшка несколько раз глотает воздух и отворачивается к стене. — Так вот… тут я записал, сколько мы с Йонасом связали. Его двадцать саженей, остальные — мое. Отец берет со стола моток нитей, предназначенный для ределя, и протягивает Юшке. — Бери, Мотеюс. Весной заработаю, отдам долг. Ну, и не сердись. Сам понимаешь… Юшка резко отворачивается. Почему-то он проводит ладонью по глазам и делает шаг к отцу. — Ничего я не говорю. Сплету парочку вентерей, — проживу, только… — Еще раз прошу тебя, не сердись. И спасибо тебе, что семью от голода спас. Хоть и знал я, что все так кончится, а все равно не мог спокойно слушать. В груди что-то закипело. Мне было страшно жаль Юшку. И тут же я понял другое: отец еще слаб, один рыбачить он не станет. С ловлей я так быстро не распрощаюсь… Юшка взял нити и наклонился над своим ватником в углу. — Мотеюс, ты бы вынул сеть из-подо льда. Гниет только, а пользы никакой, — просит отец. Юшка соглашается. Он сразу забывает обиду и велит мне: — Одевайся, Йонас. Мы забросили, мы и вытащим, как же иначе. Берем санки, мешок на всякий случай, идем за сетью. На улице не холодно, снег плотный, осевший. Гр, гр, гр… Ох, ох, пых… — и снова через минутку: — гр, гр… пых, — набухает, трещит лед, отступая от берега. — Вода падает. Вздыхает реченька, — говорит Юшка и сам вздыхает глубоко-глубоко. Расширив прорубь, проверяем сеть. Сразу находим там двух больших окуней, крупную щуку. — Лед затрещал, напугал рыбу. А то и весну почуяла, — рассуждает Юшка. Нашарив в сети ракушки, хватает их горстями и выкидывает на берег. — А эти чего тут… — Юшка сердит. Ракушки прямо на глазах растаскивают вороны. Они до того наголодались, что уже не боятся людей и дерутся тут же возле нас. Обнаружив рыбу, Юшка колеблется: то ли вынимать сеть, то ли снова расставить подо льдом. Сомнения его разрешает Пранайтис. Он тоже проверяет сеть и, склонившись, все время что-то вытаскивает. Юшка приглядывается повнимательней. Гляжу и я в сторону Пранайтиса. Дело ясное: рыбу достает. Охваченные любопытством, мы подходим поближе. Сеть Пранайтиса прямо бела от рыбы. У самого рыбака дрожат руки, глаза так и горят. — Прочь, прочь от меня! — заметив нас, выкрикивает Пранайтис. Юшка пятится, а мне велит бегом бежать к отцу. Не чую, как влетаю в избу. — Пранайтис прорву рыбы поймал, — задыхаясь, выговариваю я. Отец бледнеет, а мать так и прислоняется к печке. Сначала оба они ни слова не могут вымолвить. Я смотрю на них и не могу понять, отчего они так растерялись: то ли от зависти, то ли оттого, что заработок появился. — Бери вторую сеть и беги к Юшке. Я тоже иду, — первым спохватывается отец. Вскоре уже вся деревня хлопочет на льду. У кого только есть сети, расставляют их подо льдом. Рыбаки стараются опередить друг друга, выбрать место получше. Высматривая, что делают остальные, все, не переводя дыхания, колют лед. Пранайтис никого и близко не подпускает. Делает круг, чтобы никто не видел, и увозит свой улов домой. А река бормочет, вздыхает, расталкивает рыбу, несет рыбакам добычу.IX
Рыба, как назло: показалась и снова исчезла. Через несколько дней мы с отцом проверили сети и ничего там не обнаружили. Не ловится больше и у Пранайтиса, и у остальных. Отец возвращается с реки злющий. Он еще не совсем здоров и, пожаловавшись на головную боль, укладывается в постель. Мать пугается, как бы он снова не слег, и не знает, за что и хвататься. Заваривает корни аира и подает отцу настойку. — Не лезь ты ко мне со своим пойлом. Лучше отнеси завтра в город рыбу. Продашь — купи килограмм сала. Поедим навару — все окрепнем. Отец правду говорит. Пустая похлебка надоела до чертиков. А главное — сил нет. Пока сидишь на месте — ничего, зато стоит только выйти на улицу, особенно в солнечный день, как кружится голова, а в глазах темнеет. Я уже не раз говорил матери, а тут и отец не выдержал. Только она, наша мама, не жалуется. Всегда молчит и даже вздыхает только украдкой, незаметно. Зато отощала она страшно. Лицо у нее вытянулось, скулы заострились, глаза стали блестеть. — Что картошка — есть еще? — не выпив настойки, спрашивает отец. — До тепла как-нибудь дотянем. — А жмых? — Кончился. — Ничего. Весна не за горами. Не за горами? Поди разбери этих рыбаков! Уже с середины зимы только и разговоров, что о весне, хотя в поле еще снега по пояс, мороз в бараний рог все гнет. Но рыбаки заметят, что с крыши каплет, что ель хвою роняет, что колея кривая выкладывается, а санный путь чернеет, что на реке полыньи появляются, — вот им уже и кажется: весна идет. — Полно, что ты… Рано загадываешь, — не соглашается с отцом мама. — Говорю — значит, знаю. Мне много не надо. Вышел во двор и вижу: синичка с куста на куст перескакивает и тенькает весело. Значит, весну возвещает. Мать в ответ на это только рукой машет. Отец же, словно в подтверждение своих речей, встает с постели и принимается строгать поплавки из коры. А я вяжу редель. Редель вязать куда легче, чем межеумок. Нить толстая, ячейки крупные, даже не заметишь, как сажень готова, за ней другая… А главное, сидеть не надо. Встал и иди задом через всю избу. Дошел до стенки — поворачивай обратно, потом все сначала. — Хорошие деньги Пранайтис за рыбу возьмет, — обращается отец к матери. — Уж кому-кому, а им пригодятся. — Всем бы не помешало. Мы молчим. Однако у отца прямо из головы нейдет удача Пранайтиса. — Как ты думаешь, сколько он выручит? Когда мать пожимает плечами, отец прибавляет: — Рыба нынче дорогая. Внезапно до нас доносится жуткий крик. Мы прислушиваемся. Кто-то зовет на помощь, словно тонет. Я выбегаю во двор. Из всех изб высыпали люди, все бегут во двор к Пранайтису. Кидаюсь туда и я. Проталкиваюсь через толпу и замираю от страха. Возле избы на снегу лежит с растрепанными волосами Пранайтене, а муж колотит ее обломками весла. — Ой, ой, ой, люди! — протяжно выкрикивает Пранайтене. Жалобно скулят, перекрикивая ее, дети, — они кучей толпятся в сенях. Двое меньших остались в избе: влезли на подоконник, прижались чумазыми лицами к стеклу и глядят, как избивают мать, по-щенячьи взвизгивая. Пранайтис взмахивает обломком весла, не оглядываясь, тяжело сопя. Когда несколько рыбаков пытаются навалиться на него, он отскакивает в сторону и хватает из сеней топор. — А ну подходи, — рычит он, кривя рот. Смельчаки отступают. Пранайтене с трудом приподнимается и на четвереньках ползет в сени. — О господи, за что это он ее? — Да вот продала рыбу, а денег не принесла. Говорит, не то потеряла, не то обокрали… — Господи, такую-то выручку! — Вот раззява! — И не везет же людям. Пранайтис, немного постояв на месте, швыряет топор, потом поворачивается и быстрым шагом уходит к реке. Несколько человек движутся вслед за ним. Пранайтис выходит на лед и, ускоряя шаг, идет прямо к полынье. — Веревки несите, веревки! Утопится! — вскрикивает не своим голосом откуда-то появившийся Юшка. Первым вдогонку Пранайтису кидается Костукас. — Папа, папочка! — кричит он. Рыбаки, схватив веревки, бегут за Пранайтисом. Бегу и я. По льду бежать трудно. Где снег — еще полбеды, а вот на голом льду скользишь и падаешь. Спотыкаются и Костукас и все остальные. Только Пранайтис идет прямой, все быстрее приближаясь к полынье. Еще несколько шагов, еще, и будет поздно… Однако в последний миг Пранайтис чуть сворачивает в сторону и по узкой тропке между двумя зияющими полыньями переходит на другой берег реки. Там он скрывается в лесу. — Повесится он! — слышу я крик у себя за спиной. — Раз не утопился, то и вешаться не станет, — рассуждает кто-то другой. Я быстро оборачиваюсь. За Пранайтисом больше не гонятся. Люди стоят и спорят. А я смотрю на Костукаса. Что это он делает? Дурак, что он делает? Костукас не свернул на узкую ледяную дорожку по отцовскому следу, а бежит прямо к полынье, словно не видит ее. Сам не чувствую, как я скидываю клумпы и в одних онучах пускаюсь к нему. Хватаю за шиворот и с силой тащу к себе. Костукас откидывается и, повернув голову, смотрит на меня. Лицо у него бескровное, под глазами темные круги, взгляд неподвижный, невидящий. — Что тебе от меня надо? — тихо спрашивает он. Я не знаю, что ему сказать. — Костас, ты что, не видишь? Костукаса. Что это он делает? Дурак, что он делает? мой полыньи, на краю. В нескольких шагах — черная вода разъедает лед, кипит, клокочет. Мы возвращаемся назад. Только сейчас я замечаю, что онучи у меня размотались и сползли, а иду я босиком. Но холода я не чувствую. Я рад, что Костукас рядом. В избе у Пранайтиса как на кладбище. Пранайтене плашмя лежит на кровати, голова у нее обвязана полотенцем. Несколько баб обступили кровать и вздыхают, качают головами. Юшка собрал вокруг себя детишек и развлекает их. Дети слушают его, и только изредка кто-нибудь нет-нет да всхлипнет. — Такие деньги… Уж лучше бы он меня убил, — стонет Пранайтене, по лицу у нее так и катятся слезы. — Думала, куплю чего ребятишкам. — Тут голос ее обрывается, она закусывает губу. Стоит матери заплакать, как малыши тут же принимаются реветь. Юшка не знает, как их и успокоить. — Ай, нехорошо, такой большой, а нюни распустил. Лучше скажи мне, у тебя сколько пальцев на руке, а? — взяв за локотки, спрашивает он малыша. — Тли-над-цать… — А ну давай посчитаем. Давай-ка руки, — и, загибая по одному пальчику, Юшка считает: — Большой, указательный, средний, безымянный, мизинчик. Всего — пять. Ну, а на другой что? То же самое, тоже пять. На одной столько же, сколько на другой, а вместе сложить, будет десять. Теперь сам считай. Малыш не считает, но плакать перестал. Люди понемногу расходятся. Последними выходим мы с Юшкой. Меня так и подмывает расспросить о Пранайтисе и Костукасе, но я не знаю, как подступиться. — Дяденька, а что — умереть страшно? — Смотря кому, детка, смотря кому…X
Рыбаки знали, что говорят: весна и впрямь чувствуется. Все чаще проглядывает солнышко. В полдень снег на солнце подтаивает. Мелкие ручейки, словно змейки, вьются по заснеженным холмам, с крыш свисают длинные сосульки. По ночам подмораживает. Утром выходишь на улицу, обледенелый наст крепко держит — шагай куда хочешь. Река стала красивая. Темно-синий лед очистился от снега и тянется, ровный, упираясь в оба берега. Кажется, не найдется силы, способной сокрушить его мощь, и долго он еще будет держать реку в оковах. Но нет! Там, где чернеют полыньи, течение все стремительней пробивается вперед, все упорнее вгрызается в лед. Река вскипает и гневается. И не зря: что ни день — появляются новые полыньи. Рыбаки заканчивают свои зимние дела. Наша сеть уже ссажена. Остается только выкрасить ее. Не все рыбаки красят сети, но мой отец говорит, что крашеная — она прочнее и дольше держится. Солнечным утром выходим мы в лес за корой молодого дубка. Ею мы будем красить нашу сеть. Плотный наст выдерживает меня, а вот отец местами проваливается по колено. Вытаскивая ноги, он замечает: — Если ударит оттепель, наводнение будет. Еще больше снега в лесу. Овраги сравнялись с берегами. От маленьких деревьев только макушки торчат. К веткам старых елей примерзли обледенелые снежные комья. Кажется, ветви не выдержат тяжести и вот-вот обломятся. Мы находим дубок и срезаем несколько нижних веток. — С одного много срезать не стоит, к чему дерево обижать! — говорит отец, и мы бредем по лесу дальше. Скоро у нас уже большая охапка дубовых веток. Делим ее на две части. Отец обвязывает свою половину веревкой, я — свою. Потом мы садимся отдохнуть. Вдали дятел долбит клювом по сухому стволу. Вокруг тихо, спокойно. — Хруп, хруп, хруп, — кто-то, приближаясь к нам, ломает наст. Приглядываемся. Из еловой чащи выглядывает Пранайтис. Он пугливо озирается и, не заметив нас, проходит мимо. Из-под полы его ватника торчат заячьи лапы. — Силки проверяет, — качает головой отец. — Ох, далеко нужда человека заводит. Дома мы складываем из кирпичей очаг, ставим на него большую бельевую выварку, наливаем туда воды и разводим Огонь. Огонь потрескивает, а мы обдираем с веток кору и кидаем в котел. Вода теплеет и становится красной. Когда котел закипает, отец приносит половину сети и резко окунает ее в бурую воду. Немного продержав ее там, вытаскиваем. Распялив на сушилке, красим вторую половину. Краска темная, а сеть получается светло-желтая. Когда ее развешивают, она дымится, а отец — тот налюбоваться не может. — Вот так покрасили! Беги к Юшке — может, он свои вентери покрасить захочет. Но Юшка не может красить вентерей. Подвесив вентерь под балкой, задрав голову, он навешивает последний круг. — Что, Йонас, нравится? — хлопоча возле вентеря, интересуется он. Еще бы! Деревянные, гладко обструганные кольца растянули вентерь, расплавили все закоулки, где, словно в длинных запутанных переходах дворца, заблудится рыба. А горловина — до чего же хитро устроена! У входа широкая, потом поуже, а в конце и вовсе закрывается, а уж заманчива… Если рыба в нее попадет — назад нипочем не выберется. Я любуюсь вентерем, а Юшка с челноком в зубах расхаживает вокруг. Он останавливается, прищуривается, всматривается в свою работу, приседает, разглядывает снизу, каков вентерь внутри. — Сколько я их за свою жизнь навязал — не счесть. А все думаешь, что лучше бы можно, все что-нибудь не так… Мне нравится у Юшки, но надо домой. Я уже собираюсь уходить, как Юшка говорит: — Поди-ка сюда… Из-под кровати он достает два новых, пахнущих смолой еловых весла. — Снеси-ка отцу. Прошлогодние-то вовсе стерлись. А на сеть взглянуть приду. Назавтра мы чиним и смолим лодку. Снова разводим огонь на улице. Только сейчас на очаг ставим жестянку со смолой. Пока она плавится, я дочиста обметаю днище перевернутой лодки метелкой из еловых веток, а отец раскладывает на дощечках гвозди, паклю, вату, молоток. Старая у нас лодка, совсем старая. Но отец каждый год ее так починяет, что ни капли воды не просачивается в щели. Вот и сейчас он внимательно осматривает днище и, как только обнаруживает малейшую щель, затыкает ее паклей или ватой. Заделывает он щели внимательно, не спеша. И это еще не все. Он залезает под лодку и, лежа на спине, глядит, не просвечивает ли где. Точно так же чинит он борта. Где нужно, прибивает узкую полоску жести. Сняв с огня жестянку, он смолит лодку. Высыхая, смола воняет. Но и отец и я, мы любим этот запах. Покончив с лодкой, мы возвращаемся к себе. Отец оборачивается, еще раз глядит на берег, где лежит перевернутая лодка. — Теперь пусть хоть завтра весна, — довольный, говорит он.ВЕСНА
XI
Весна наступила вдруг. В середине марта задул южный ветер. Небо затянуло тяжелыми тучами. Дождь полил теплый, живительный. Холмы постепенно скинули снежные шапки. Овраги наполнились водой. По склонам, клокоча, помчались в низины ручьи и оттуда устремились к реке. Всюду бурлила вода. Вся деревня с волнением ждет ледохода. Рыбаки разгуливают по деревне, переговариваются, собравшись кучкой, наблюдают за оживающей рекой и гадают, когда же она сломает лед. За работу никто не берется. Все охвачены беспокойством. Несколько дней перед ледоходом — самое вольготное для меня время. Мы с Костукасом не дремлем. Снуем по деревне, точно пчелы. Ни одного уголка не пропустим. Больше всего торчим мы у реки. И кто откажется от удовольствия поплавать на обломке льдины! Мы берем длинные шесты, уходим подальше за деревню, чтоб взрослые не видали, и гоним по течению льдины. Веселое это занятие, ух до чего веселое. — Ту-ту-ту-туууу! — проплывая на своей льдине, подражает Костукас пароходному гудку. Ну и отчаянный! Он отталкивается шестом изо всех сил и на полной скорости мчится на своей льдине ко мне. — Костас, ты что — очумел? Я пытаюсь отогнать свою льдину в сторону, чтобы он проплыл, не задев меня, но уже поздно. Льдина Костукаса с разгона врезается в мою. Сам не замечаю, как шлепаюсь на мокрый лед. Я проворно вскакиваю на ноги и грожу Костукасу. А он уже плывет дальше и от восторга прямо весь заходится. — Ну постой ты у меня, не прощу! Костукас замолкает. Он видит, что я всерьез рассердился. — Можешь стукнуть мою льдину, — предлагает он. — Неохота под лед нырять. А правда, опасную игру задумал Костукас. Если не устоишь на ногах и скатишься со льдины — конец. Сильное течение сразу утащит под лед. Но Костукас об этом вовсе не думает. Он подзадоривает меня и гонит свою льдину дальше, пока не надоедает. Домой еще рано, и мы взбираемся на крутой берег реки. Останавливаемся у старой вербы с потрескавшейся корой. Костукас разглядывает ветки дерева и спрашивает: — Хочешь омелы? Я тоже запрокидываю голову. Ветки осыпаны пушистыми «котятами», но омелы не видно. Костукас — тот уже взбирается по стволу. — Лови! — кричит он мне. На землю падают несколько веток омелы. — И вербы наломай. Мы с Костукасом оба любим цветы. Их еще нет, но зато вербы — сколько хочешь. Наломав охапки, мы идем дальше. На самом обрыве садимся. Отсюда далеко видно вокруг. Внизу — взбухшая река. Рядом — деревня. Крохотные избы, робко теснящиеся в ложбине, словно куропатки, прячутся в разросшихся кустах. Из труб валит дым. Он не поднимается кверху, а стелется понизу. В самом конце деревни — изба Юшки. Покосившаяся, на подпорках, она несмело глядится одним оконцем в реку. Вокруг избы — тьма-тьмущая сирени, а чуть подальше, на краю деревни, стоит огромный клен. Он тянет к небу голые ветки, словно молит о чем-то. За деревней, там, где небо сливается с землей, синеет полоска леса. Я гляжу на Костукаса. Глаза его прямо светятся от радости. Он жадно глядит по сторонам, всматривается, прислушивается… Вдруг он резко подпрыгивает и распахивает полы ватника. — Йонас, я лечу! Придерживая полы ватника, Костукас расправляет руки и, встав на краю обрыва, подпрыгивает кверху, словно намереваясь взлететь. — Перелечу на тот берег реки и сяду на холме. — Через два шага шлепнешься на землю, и все. Ты же не птица. Костукас опускает полы ватника и, задумчиво глядя на меня, садится рядом. — Костукас, а ты кем хотел бы быть? — Не дождавшись ответа, я заявляю: — Я вот — учителем. Кончу школу, потом дальше учиться стану, а потом сам буду ребят учить. — Отец говорит, с этой весны в лодку меня возьмет, — вздыхает Костукас. Я вспоминаю про ловлю, и в горле у меня застревает какой-то ком. Больше и разговаривать не хочется. Мы еще немного сидим, а потом возвращаемся в деревню. Дома переполох. Отец уверен, что будет половодье. Вместе с матерью они выносят из подвала картошку. Ее немного осталось, но и той жаль, если зальет. Мать в подвале — там она ссыпает картошку в корзину, а отец на веревке поднимает ее наверх. Я тоже помогаю им. Покончив с картошкой, мы принимаемся за другие дела. На чердак уносим сети, одежду. Бревна, что валяются во дворе, обматываем проволокой и привязываем к колу, глубоко загнанному в землю. — Теперь пошли к лодке, — велит отец. Переворачиваем лодку и подтягиваем ее поближе к избе. Переносим весла. Ночью в деревне никто не спит. Отец то и дело встает с постели и с фонарем выходит к реке. — Темно, хоть глаз выколи. Такой ночью вор ворует, а река лед ломает, — укладываясь, говорит отец. Вскоре он снова выходит. Выбегаю на улицу и я. Ночь и впрямь черная. Моросит мелкий дождик. В тумане то там, то здесь мелькают огоньки. Слышны приглушенные голоса. Посветив фонарем, мы смотрим, насколько прибыла река. — Вона воткнул — сухо было, а теперь только кончик торчит, — показывает отец на веточку, колеблемую течением. — Если так пойдет, через час вода у забора будет. Мы обходим вокруг дома, еще раз осматриваем все хозяйство, стоим немного во дворе и возвращаемся в избу. Отец велит мне ложиться. Сам он будет следить за рекой, а в случае чего разбудит. Не раздеваясь, я незаметно для себя засыпаю. Будит меня не отец, а какой-то страшный грохот. В несколько скачков выбегаю я во двор. Вокруг бурлит, клокочет, шумит, трещит, шуршит. Множество огней дрожит в темноте. Люди перекрикиваются: — Река пошла! — Река лед ломает! — Река идет!XII
Вторые сутки идет половодье. Река тронулась, но недолго шла. Где-то в низовье лед наглухо смерзся. Вода стала подниматься. Постепенно захлестнула стоявшие поближе к реке избы, подобралась к середине деревни. Некоторые дома стояли по окна в воде, а от Юшкиной избенки одна крыша торчала. Все в тревоге. Что затопило избы — невелика беда. Страшно оттого, что не сломано еще огромное пространство льда, и он по-прежнему крепко вмерз в оба берега. Что будет, когда он под напором реки двинется на деревню и пойдет все крушить? Когда опасность заглядывает прямо в лицо, рыбаки с трудом держат себя в руках. А женщины и вовсе теряются. Носятся, как угорелые, и орут, ломают руки. Отец мой старается виду не подавать, но нам с матерью все равно ясно, что ему не по себе. Пока вода была подальше от избы, он еще надеялся. Но вот вода взревела, приближаясь к порогу, залила весь двор. Отец подгоняет, а мы и так торопимся — хватаем сети, постель, одежду, съестные припасы и грузим все в лодку. Последними садимся сами и гребем к более возвышенному месту. Странно выглядит наша деревня. Там, где всегда ходили люди, теперь, кружа между заборов, плавают лодки. Деревья, опустив в воду нижние ветки, купаются в воде. Вокруг плавают дрова, солома, пакля. Уложив в лодку скарб, усадив детей, подплыл к нам Пранайтис. Костукас, выскочив на сухое, подбегает ко мне. — Вот здорово, — тихонько шепчет он мне. От удивления я даже рот раскрываю. Все стонут, причитают, а ему — здорово. — В голове у тебя помешалось. — Эх, если бы еще лед полез, поглядел бы ты, что бы тут творилось! Нет, с Костукасом не договоришься. У него все не как у людей! — Будет тебе лед, когда без дома останешься. Возле наших лодок останавливает свой челнок и Юшка. — Унесет водица, братики, мою скворешню, — сокрушается он. Общая опасность сближает рыбаков, и все теперь думают, как помочь Юшке. Даже Пранайтис, сдвинув шапку на затылок, что-то обмозговывает. — Давайте возьмем трос и обвяжем, — предлагает он. — Тогда, хоть и смоет, да не унесет. Рыбаки находят толстый металлический трос и плывут с ним к избенке Юшки. Однако не так-то легко обвязать затопленную избушку. Рыбаки покрикивают друг на друга, злятся, ссорятся. Наконец все же удается обвязать домик чуть пониже крыши и прицепить конец троса к стволу старого клена. День тянется на редкость медленно… Вода разливается еще шире, но лед не двигается. Река стоит, тихонько бормоча. Ночь наступает такая же темная, как вчерашняя, полная тревог. Не спится. Малышей матери укачивают, а сами не отходят от мужей. Те садятся в лодки и, не слушая уговоров жен, плывут к своим жилищам. После полуночи лед поддается. И хотя все скрыто тьмой, нарастающий гул, треск ломаемых изгородей, а может, и домов студит кровь в жилах. — Отец где? Где же он? — мечется по берегу, обращаясь не то ко мне, не то к себе самой, мать. Я пытаюсь хоть что-нибудь разглядеть в темноте, но ничего не видно. — Отец, Юозас! — кричит, не в силах терпеть, мама и размахивает фонарем. Никто не откликается. Мать снова зовет, но ее голос теряется в общем шуме. К нашему клочку суши приплывает лодка. Мы кидаемся к ней. — Должно быть, дома вдребезги разнесло, — зловещим голосом произносит Пранайтис. Известие страшное, но мы с матерью сейчас думаем только об отце. Где он? И вдруг: — На по…мо…щь! По…мо…ги…те…! — голос жуткий, голос обреченного. Мать вскрикивает и роняет фонарь. Мне вдруг показалось, что меня так и ударили под коленки. Ноги не держат. Но вот приближается какая-то лодка… Отец! Жив-здоров! — Кто кричал? — приходя в себя, спрашивает мать. — Юшка. Я-то сообразил, что лед пошел, и говорю: бежать надо, а его от избы не оторвешь… От отцовских слов всем становится скверно. Я стою и ничего не соображаю. В висках стучит. — Если лодчонку не перевернет, то выдюжит, — успокаивает нас Пранайтис. Все молчат, а река гонит лед, грозно рыча, унося с собой Юшку… Первая опасность миновала, люди начинают укладываться на ночлег. Мы с отцом остаемся в лодке. Вода прямо на глазах спадает. Не успеваем оглянуться, как наша лодка уже на суше. Отъезжаем чуть поглубже — опять то же. Так мы добираемся до самой нашей избы. Но и здесь воды самая малость. — Вот и все. У кого остался дом, завтра сможет перебираться, — говорит отец. — Давай поглядим, кого беда не миновала. Мы подъезжаем к концу деревни, к жилищу Юшки. Останавливаемся у клена, дальше плыть нельзя. Полоса чистой воды здесь кончается, а за ней толпятся, теснятся, наползают друг на друга льдины. Несколько обломков занесло и сюда, к клену, но тут они застряли у кустов и стоят на одном месте. — Нет Юшкиной избы, — говорит отец. — Вот тут, к стволу привязали мы трос. Видать, не выдержал. С дерева раздался тихий стон. Я вздрагиваю. Голос вроде бы знакомый. Но отчего он так слаб, еле слышен? — Мотеюс, ты? Ответа нет. Мы слышим, как трещат ветви, и что-то тяжелое сваливается в воду. Мы стремительно кидаемся туда. Отец что-то втаскивает в лодку. — Мотеюс, да Мотеюс же! — трясет он свою ношу. Но Юшка едва дышит. Я подползаю к нему и ощупываю мокрую одежду, лицо. — Дядя, дяденька… Ни слова не произносит Юшка и тогда, когда мы привозим его к нам в избу. Укладываем его в постель, и он лежит там, словно покойник, не открывая глаз. Руки у него в крови, лицо в ссадинах. Мать пытается влить ему в рот настойку липового цвета, но он так крепко стиснул зубы, что их не разомкнуть. — Горит весь, будто из печи вынули. Надолго слег. А тут, как нарочно, самая страда подходит. Что делать, а, отец? Отец машет рукой, словно хочет сказать: «Не время теперь для таких разговоров. Потом».XIII
Река понемногу отступает, возвращается в свое русло, оставляя на берегу огромные груды льда, обломки деревьев, тину. Деревня начинает жить привычной жизнью. Люди возвращаются в свои дома, радуются, что паводок больших убытков не наделал. У некоторых лед вышиб окна, свалил заборы, обломал яблоню или сливу. Только Юшкину избенку как метлой смело. Каким чудом спасся Юшка от гибели, никому не известно, так как сам он, наш разговорчивый дядюшка, лежит, и невозможно с ним сговориться. Юшка болеет у нас. Он вздыхает так, что страшно слушать. А весна выдалась на редкость славная. Вода большая, всюду ширь, приволье. Рыбаки не жмутся друг к дружке, а рыбачат поодиночке. С отцом мне гораздо хуже рыбачить, чем бывало с Юшкой. На воде он куда злее, чем дома. Мы часто ругаемся, а в злобе отец иной раз и веслом замахнется: — Уж больно умен стал. Я в твои годы родителям слова сказать не смел, а ты прямо в глаза кроешь. Часто мы спорим из-за места. Отец думает, что на реке есть места, не пригодные для ловли. Их он всегда боится, как огня. Всякий раз, когда мы оказываемся примерно в версте от деревни, он говорит: — У двоих братьев закидывать не станем, греби дальше. — Да почему же? — вырывается у меня. — Ты опять за свое? Сколько раз тебе говорить, что на дне тут два больших камня. Оттого и называют это место «Двое братьев», — уже сердито поясняет отец. А я думаю по-другому. По-моему, как раз в этом месте должно быть особенно много рыбы. Ведь не зря тут вода так бурлит, клокочет, играет. — Давай попробуем, — упрашиваю я. — Ты меня не учи, понятно? Хочешь полневода оставить? Греби, покуда цел, — кричит отец. Обидно, зло берет. Разве я что-нибудь плохое задумал? Разве я не ловлю рыбу с ним вместе, разве мало тружусь? А он вот никогда меня не послушает. Правда, однажды отцу надоело мое нытье, и он решил уступить. Утро холодное, ветреное. Задувает резкий западный ветер. Река бурная, волны идут против течения и разбиваются с сердитым плеском. На волнах покачивается стайка чаек. Прибывая с верховий, большая вода подбирает с берега последние льдины и несет их в море. Ловля удачная. Рыба идет на нерест, и каждый раз мы приносим хорошую добычу. Корма нашей лодки завалена окунями, щуками, рыбцами. — Закинем под ольхой? — предлагаю я отцу, когда мы подплываем к реденькому ольшанику, растущему у берега. — Это место рыбаки издавна обходят, — искоса поглядывая в мою сторону, заявляет отец. — А я видал, как Пранайтис тут брал… — Врешь… — Нет, не вру. — Ну ладно, попробуем. Только смотри у меня… Вначале невод идет ровно. Но вскоре поплавки начинают прыгать, кидаться в сторону, а под конец и вовсе скрываются под водой. Чуть отплыв вниз по течению, лодка останавливается как привязанная. — Что я говорил! — вскакивает отец. — На корягу сели! Отец торопливо вынимает сеть, а у меня руки так и дрожат. Неужели застряли? А что будет, если порвется сеть? Как назло, рыбы не видно. Зато пакли, веток, мусора — хоть телегой вывози. Еще несколько саженей, и сеть останавливается. Отец злится и тащит изо всех сил. Сеть понемногу поддается. Но какой ценой! Из воды вытягиваются одни веревки, а сама сеть все там, на коряге. Я в страхе гляжу на отца, вижу, как дергается у него лицо. — Твои дела! — он перестает возиться с сетью и с размаху стукает меня мокрой рукой по затылку. Потом добавляет другой рукой. — Без куска хлеба остаться можно. Больше не приставай ко мне… Получив затрещину, я не плачу. Только досадно, и все. Оттого что не повезло. Теперь-то уж точно не станет он меня слушать. — Домой греби, слюнтяй. Сеть чинить надо. Дома мне и вовсе плохо. Неохота, чтобы мать с Юшкой узнали, что из-за меня порвалась сеть. Но отец ни словом обо мне не обмолвился. А когда Юшка с удивлением принимается расспрашивать, где же это мы зацепились, отец объясняет: — Нешто не знаешь, Мотеюс, после каждого ледохода новые коряги появляются. Юшка мотает головой и собирается расспрашивать дальше. Но в это время раздается стук входной двери, и в избу вваливается Нохке. — Морген, Юзап, морген. Уже на ногах? — здоровается он с отцом. Нохке с лета не показывался в деревне. Жены рыбаков сами носили рыбу в город на продажу. Но сейчас, весной, когда рыбы стало много, рыбаки известили Нохке, чтоб приходил. Конечно, платит он поменьше, но зато прямо из дома забирает. Этот Нохке мне бы даже нравился, если бы не вонял так сильно. Его одежда вся пропитана тухлой рыбой, и когда он подходит, тошно делается. А вообще Нохке забавный. Сам маленький, а нос большой, горбатый, бородка рыжая, редкая. Лицо у него сморщенное, как кора у старой сосны, а глаза навыкате, как у щуки. — Рассказывай, Нохке, что в городе нового? — спрашивает Юшка. Нохке с лета не показывался в деревне. Жены рывает жилистой рукой свою бороденку и причитает: — Плохо, ох плохо в городе: маленькому человеку плохо — ни денег нет, ни хлеба. — Нохке озирается и продолжает: — Притесняют буржуи рабочих. Страшно, ах как страшно. — Стало быть, как на небе, так и на земле. И у нас тут не пироги, Нохке, — вторит ему отец. Мать наливает Нохке миску крупяной похлебки. Тот не отказывается. Только ест он как-то по-чудному: выудит из миски ложкой все картофелины и выложит их на стол. Потом хватает со стола по одной картошине и кидает в рот, заедая тем, что в миске. — Ай, мне бы только заработать, — бормочет он. — Тут-то собака и зарыта, — соглашается отец. — Так как, Юзап, по рукам? Даешь рыбу? — Даю, Нохке, даю. Починив сеть, мы выплываем снова. Я гребу вдоль берега, а отец вытесывает новый штырь для лодки, потому что старый от ветхости сломался. На берегу громоздятся горы льда. Вода размывает их, и льдины с грохотом обрушиваются в реку. Как только мы приближаемся к самой большой груде льдин, отец велит отплыть подальше к середине реки, а то завалит. Я послушно выполняю его приказание. Чуть пониже нас поднимается против течения лодка Пранайтиса. Я поворачиваю, чтобы выплыть к середине, и мне хорошо видно, как в лодке сидит и держит сеть Пранайтис, а на корме стоит Костукас и отталкивается веслом, налегая на него всем телом. Пранайтисы не сворачивают у ледяной кучи, а плывут прямо на нее. Вдруг с верхушки ее соскальзывает большущая льдина и шлепается в воду прямо у самой лодки. Раздается сильный всплеск, лодка качается. — Стороной, стороной обходи! — вскакивает на ноги и орет Пранайтис. Он хватает весло и несколько раз бьет им Костукаса. Тот съеживается и изо всех сил выгребает к середине. — Я тебя выучу, гаденыш этакий! Все печенки отобью, а выучу!XIV
На небе все меньше облаков. Запрокинув голову, щелкают клювами аисты в своих огромных гнездах. Свистят скворцы. Ивняк у реки весь словно в яичном желтке. На склонах, где пригревает солнышко, синеют кустики подснежников. Пробивается первая трава. Юшка ожил с наступлением весны и решает больше не лежать. В воскресенье утром он встает и собирается взяться за какое-нибудь дело. Опираясь на палку, он прежде всего ковыляет поглядеть на свой двор. Наша сеть висит на сушильных жердях, и у меня есть время, чтобы пойти вместе с Юшкой. Мы останавливаемся на том месте, где раньше была Юшкина изба, и озираемся. Печально выглядит Юшкино хозяйство. Двор весь сметен льдинами, сиреневые кусты поломаны, а местами выдраны с корнем. Но солнце пригревает, и сирень тянется кверху, ветки осыпаны светло-зелеными почками. Значит, будет жить. Юшка опирается на палку и медленно качает седой головой. — Один фундамент остался. Обидели старика, не пожалели, — потом, немного помолчав: — Река дает, река же и отнимает… Постояв еще немного, Юшка подводит меня к старому клену. — Ты только посмотри, Йонас, как глубоко трос впился в ствол! — постукивая палкой по израненному дереву, говорит он. — Вот оно как было… Стою я в своей лодочке вот тут, у клена, держусь за трос, чтоб вода не унесла. Охраняю, стало быть, свою избенку, да где уж там. Только лед поднапер и навалился на домишко, трос натянулся, как струна, да и лопнул. Что потом было, плохо помню. Одно знаю: лед выбил из-под ног у меня лодку, а я в воде. «Вот и все, Мотеюс, пожил свое, и будет», — подумал я. Только нет уж! Схватился за трос и стал сажень за саженью подтягиваться к дереву. Счастье еще, что дерево незахватило. Оно-то меня и выручило. А потом уже и вы нашли полуживого… Значит, не поддался косой. Не берет она меня, шатунья. Рассказывая, Юшка оживляется. Слушаешь его, и кажется, что он тогда не со смертью боролся, а косяк рыбы поймал. — Что ж, ежели суждено еще век вековать, не откажусь. Вот сегодня же, Йонас, пойду вниз по реке. Может, избенку свою отыщу, а то и лодку пригоню. А там уж видно будет… Однако Юшка не уходил на поиски своей избы. Когда мы возвращаемся домой, там уже ждет Нохке. Он уговаривает помочь ему пригнать в город садок с рыбой, обещает хорошо заплатить. Юшка сразу соглашается, ему сейчас деньги позарез нужны. Меня отец отпускать не хочет. Он боится, что не за горами пора запрета на ловлю, а заработали мы пока не бог весть что. Нечего время терять. — Да ведь, Юзап, я же хорошо плачу! — уговаривает Нохке. Наконец договариваемся идти сразу после полуночи. Нохке бежит в деревню — закупать рыбу, а мы с Юшкой ложимся. В назначенный час мы на ногах. У реки нас в беспокойстве ждет Нохке. Он караулит рыбу, даже глаз не сомкнул. Озябший Нохке потирает руки и торопит нас: — Ай, Юшке, поспеши! Светает скоро. Юшка привязывает к лодке садок. Он плотно забит рыбой, почти весь уходит под воду. Тяжело, очень даже тяжело тащить такой садок против течения. Мне, конечно, пустяки. Я сижу себе на корме и рулю, чтобы лодка ровно шла. Зато с Юшки и Нохке седьмой пот льет. Они идут берегом, перекинув веревку через плечо. Один конец ее привязан к лодке. Тянут сгорбившись. Так они идут и идут берегом, без всякого отдыха. Конечно, можно и передохнуть, но этот Нохке, хоть и задыхается сам, а рвется только вперед, потому что чем раньше привезешь рыбу в город, тем лучше за нее возьмешь. Свежая, живая рыба — отличный товар.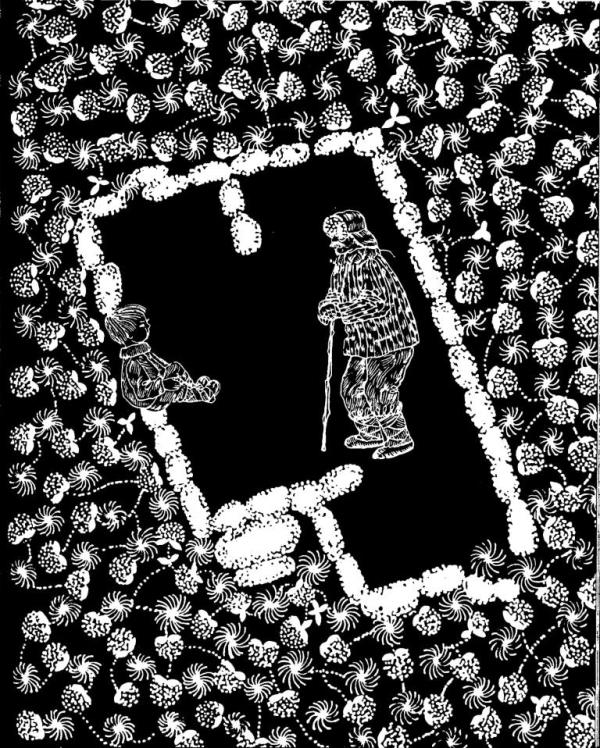
Темновато, но мне хорошо видно, что Юшке все труднее и труднее идти. После болезни у него не осталось сил. — Дяденька, можно я пойду берегом? Юшка молча шагает еще примерно с версту. Потом соглашается. Теперь по берегу идем мы с Нохке. Сперва я ретиво тяну, как молодой жеребец, впервые поставленный в упряжку. Юшка, заметив это по изменившейся скорости садка, усмиряет меня: — Не спеши, Йонас, долго так не протянешь. И правда. Через полчаса я уже чувствую, как врезается в тело веревка, начинают ныть плечи, тяжелеют ноги. С отчаянным хлопаньем прямо из-под ног вылетает утка. — Ай, ай! — в ужасе вскрикивает Нохке и останавливается. Я тоже вздрагиваю, но, заметив, как испугался Нохке, не могу не расхохотаться. — Я тебе за зубоскальство не плачу, — сердится тот и снова двигается вперед. По пути я вспоминаю, что тоже всего боялся, когда начинал рыбачить. Теперь я уже обвык, как и все рыбаки. Меня не пугают ни темные ночи, ни таинственные тени, ни большие рыбы, которые попадаются, к сожалению, только в Юшкиных рассказах. Отец говорит, что за это время я не только вырос и возмужал, но и нравом переменился. Плохо только, что вмешиваюсь во все дела. Неподалеку от города начинает светать. На востоке уже белеет полоска неба. Края облаков розовеют, и оттуда выглядывает солнце. Поднимаем головы и смотрим на город. Высокие башни костелов купаются в солнечных лучах. Мы останавливаемся на окраине. Отсюда недалеко рыбный рынок. Нохке приоткрывает садок и разглядывает рыбу. Он доволен. Вся рыба живая. Меня оставляют караулить лодку и садок, а Нохке с Юшкой уходят в город. Солнце встает на синем небе. Река просыпается, блестит, тихо что-то лепечет. Я сижу на корме и гляжу по сторонам. Передо мной город. Интересно, кто живет вон в том доме, где столько окон? Там, должно быть, науки изучают. А может, там ксендзы живут? Поворачиваю голову в сторону. Над рекой повис мост. По нему с шумом проезжают машины, цокают лошадиные копыта. Со стороны города тянет вкусным ароматом пирогов. Еще бы — ведь в городе всего полным-полно. Ведь недаром, когда надо что-нибудь купить, мама говорит: «Пойду в город». Хорошо, по-моему, очень даже хорошо этому Нохке живется в городе… К лодке возвращается Юшка, Нохке, а с ними еще мальчишка. Одет бедно, заспанный, очень похож на Нохке. — Борке, садись сюда, на камень. Кричи «папе, папе», если кто-нибудь полезет к рыбе, — велит мальчишке Нохке. Борке хмурится и морщит нос, будто собирается зареветь. — А ну быстро, — и Нохке легонько шлепает мальчишку по спине. Мы с Юшкой свободны. Получаем заработанные деньги и пускаемся вниз по течению домой. Как только мы немного отдаляемся от города, Юшка достает из-за пазухи белый хлеб и нашу любимую ливерную колбасу. — Клади весла и давай ешь. Мы едим облизываясь. Довольный Юшка набивает полный рот. Не отстаю и я. — Он ничего, Нохке, — говорит мой друг. — Видишь, и угостить не пожадничал. Только лодка останавливается возле дома, как на берег с неводом выходит отец. — Быстренько ешь, пора на реку. — Я уже поел. Поспать бы… — Некогда спать. Скоро запретное время, будешь дрыхнуть сколько влезет. Я отталкиваюсь веслом, и мы плывем. Я гребу и смотрю на Юшку. Он некоторое время стоит на берегу, глядя на солнце, потом пускается вниз по реке. Юшка не на шутку решил разыскать свою избенку и челнок.
XV
— Не мешкай, братцы, не мешкай, — возвращаясь после своей очереди, подгоняет остальных рыбаков Пранайтис. — Только суматоху разводишь. И что учишь, точно малых детей! — Я бы не только в свою, но и в твою очередь обернулся бы, — огрызается Пранайтис. — Что ж, попробуй, коли позабыл, как осенью было… — Тогда мне, а сегодня тебе может достаться, — ворчит Пранайтис. Спор разгорается. Я смотрю на Костукаса и вижу, что тот прямо дрожит от страха. Костукас знает, что если отец вошел в ярость, его не усмиришь. Если не подерется с кем-нибудь из рыбаков, выместит злобу на нем. — Да полно вам, — вмешивается в перепалку мой отец. — Места, что ли, не хватает? — Я-то ничего, да вот ему все мало, — отмахивается рыбак, которого задирал Пранайтис. А вдруг и правда места мало? Река вошла в свои берега, и все согнали лодки в одно место. Мы снова рыбачим в очередь. Только на берегу нет шалаша и не горит, как бывало осенью, костер. Иногда кто-нибудь из рыбаков разведет огонь, но только затем, чтобы наспех испечь рыбца. Греться тут не заведено. Весенние ночи коротки, не слишком холодны, а главное, рыба крепко идет, и некогда греть руки над огнем. Мало того. Скоро рыбу ловить запретят. Вспоминая об этом, рыбаки приходят в бешенство, начинают злобно коситься друг на друга. А рыба, как назло, так и валит. В такое время можно за несколько дней неплохо заработать, поэтому рыбаки работают остервенело, не разгибаясь. Когда пригоняешь свою лодку в очередь, невольно поддаешься общему настроению. И не вздумай выбиться из ритма. Малейшее промедление вызывает злобу, недовольство. Очередь движется очень быстро. Еще не успела одна лодка достать сеть из воды, как уже другая закидывает. За ней третья, и так без всякой передышки целые сутки подряд. Я чувствую, что долго не выдержу. Еще никогда сон так не одолевал меня. Ничего, совсем ничегошеньки не хочется: ни есть, ни пить, ни в школу — только спать. Я встаю в лодке, меня шатает. Все вокруг — река, берег, кусты — вертится и летит. Стоит мне сесть, как я тут же клюю носом. Хватило бы смелости — припал бы к отцу, обнял и взмолился: «Папа, спать». Но ведь он и так знает. Больно горят ладони. От весел у меня сплошные мозоли. Жесткие, в наростах — и совсем свежие, пузыри. А до чего же растрескались мои руки! Вся кисть изрезана, испещрена кровавыми ссадинами. На сгибах пальцев глубокие, до самой кости раны. Перевязывать руки невозможно — ведь рыбак все делает руками — и сеть забрасывает, и тянет, и чинит ее, и вынимает рыбу, и гребет. После полудня, когда съеден завтрак, мы ненадолго сходимся с Костукасом. Болтаем о том, о сем, показываем друг другу свои руки в ссадинах. Костукас отзывает меня чуть подальше от лодок, за кустарник. — Вот посмотри, — радостно говорит он. Осторожно протираю глаза, чтобы лучше видеть. Костукас медленно вынимает руку из кармана ватника. Вскрикивает, морщится. Видно, свежую ссадину задел. Но вот он подносит руку прямо к моим глазам. То ли Костукас не может расправить потрескавшиеся пальцы, то ли глаза у меня от бессонной ночи плохо видят, но вначале я даже не замечаю, что там у него в руке. Только когда покрытая пузырями и ссадинами рука Костукаса оказывается прямо перед моим носом, я начинаю различать на его загрубелой ладошке несколько мелких цветных камешков. — Ну и что тут смотреть? — удивляюсь я. — Вот этот, — Костукас тычет закостеневшим указательным пальцем другой руки на камешек с блестками, — я нашел в воде, этот вот зелененький — на берегу, а красный — там, где Юшкина изба стояла. Я их множество насобираю, вот увидишь. — Да на что они тебе? Костукас раздосадованно ссыпает камешки в карман. — На что, на что… Глядеть на них хорошо. — Костукас, давай поспим, — предлагаю я ему. — Что ты, боюсь. Отца боюсь. Костукас поспешно уходит к рыбакам. Я укладываюсь прямо на земле. Подо мной сухая прошлогодняя трава. Легкий ветерок колышет цветущие ветки вербы. Пахнет медом и подсыхающей тиной. Еще миг, и меня нет. Кто-то толкает меня в бок. Я вскакиваю на ноги. Надо мной стоит отец. — Нечего на земле спать. Заморозок будет. Вставай, простуду схватишь. Вот это здорово, что отец не бранит меня, не бьет. Должно быть, я совсем недолго спал. — Наша очередь прошла. Пранайтис закидывал. Копу рыбца вынул, — усаживаясь в лодку, говорит отец, но злобы в его голосе нет. — Я и сам не заметил, как уснул. — Еще чуть-чуть поднажмем, Йонас, потом отоспимся. Я уж и так прикидываю, и этак… Только снова выходит… — отец разводит руками. — Уже, кажется, одну ношу скинули, так нет же, другая наваливается. Сам видишь: одежка вся сгнила, лодку новую надо… Так вот и идет жизнь-то… С одного бока подправишь, другой трещит. Хотел я тебя, Йонас, в люди вывести, ох как хотел. Ну, давай закидывать. Позабыв о боли в руках, я хватаю весла. Но слишком резко, слишком поспешно схватился я за них. Вскрикиваю и сам не замечаю, как на глазах выступают слезы. — Смочи ладони-то. Пересохли они у тебя, — советует отец. Медлить некогда. Я опускаю обе руки в воду. Ладони больше не горят. Но зато, как только принимаюсь грести, лопаются пузыри. Кровоточащие ладони никак не вытереть: отец забрасывает сеть, а я должен тем временем беспрерывно грести. Кровь сочится между пальцами, но я работаю и не чувствую боли, хотя и знаю — скоро она вернется.XVI
Река очищается. Вода становится прозрачной. Луга покрываются густой щеткой зелени. Вдоль болотцев тянутся желтые ковры калужницы. На каждом дереве, в каждом кустике возятся, поют, щебечут невидимые птицы. Вдали прогремел первый раскат грома. Прошел дождь. А вот и сады зацвели. Наступает май. Месяц радости, жизни, труда. Только не для всех. Рыбаки втаскивают лодки на берег, а сети вешают под навес. У рыбы нерест, ловить ее запрещено. А с чего жить? Каждый ломает голову, как бы найти какой-нибудь заработок. Некоторые уходят сплавлять плоты, кое-кто нанимается грузить на баржи лес для бумажной фабрики, а наиболее отчаянные по ночам тайно рыбачат… Быстрее других находят себе работу женщины. С корзинами и ножами в руках они рассыпаются по лугам, собирают щавель. За первый щавель в городе хорошо платят. Поэтому те, у кого большие семьи, даже могут прокормиться на одном щавеле. Мы с матерью тоже собираем щавель. Работа нетрудная, но мужчине не к лицу. Так утверждают Юшка, Пранайтис, мой отец. А мне нравится бродить с матерью по лугам. У самой деревни все обобрано, и мы уходим подальше. Идем, бредем, пока, глядишь, — а перед тобой еще не хоженая полянка. А на ней щавеля — ну, точно его сеяли! Его так много, что даже в воздухе кисловато. Мать наклоняется и ловко правой рукой втыкает нож в траву. Левой подхватывает срезанный щавель и кидает в корзинку. То же проделываю и я. К вечеру наши корзины наполняются зелеными листьями с черешками, красноватыми у краев. Дома мы перебираем щавель, промываем его. Рано утром, еще до восхода солнца, мама, подвесив на коромысло две корзины со щавелем, выходит в город. Иногда ей помогает отец, иногда я. Но чаще всего наша мама сама носит корзины. Однако через неделю-две щавеля становится много, и цена на него падает. На рынке за него дают так мало, что не стоит и собирать. Тогда свою изобретательность показывает Юшка. — С голоду не помрем, — говорит он однажды, возвращаясь с реки. — Осмотрел ямины, каменистые места. Вода спадет, попробуем шнуры закинуть. Отец одобряет Юшкино решение. Отчего бы не попробовать. Шнуры недорого стоят, а главное, полиция сквозь пальцы смотрит на это. Целый день мы привязываем крючки к шнурам, подбираем подходящие грузила. В сумерки выходим копать червей. Воздух насыщен сыростью. На траве роса. Без устали турчат ночные птицы, поют лягушки. В небе подрагивают зеленоватые звезды. — Звездочки хорошую погоду обещают, — шепчет мне на ухо Юшка, когда мы оба останавливаемся на лужайке неподалеку от леса и начинаем озираться по сторонам. Немного помолчав, он спрашивает: — А ты когда-нибудь копал червей? — Нет еще. — Тогда неси фонарь, а мне давай жестянку. Только ступай как можно тише. Ну, пошли. Мы идем пригнувшись, беззвучно, рядышком и внимательно разглядываем небольшой клочок зеленой травы, освещаемый фонарем. — Тише ноги ставь, тише. И свети с умом, — подталкивает меня локтем в бок Юшка. Почти в тот же миг он нагибается и подхватывает с земли длинного и жирного ночного червяка. Теперь и я внимательней гляжу себе под ноги. Так вот они как прячутся! Во влажной земле я вижу множество маленьких норок. Оттуда, высунув голову, а иногда вылезая и до половины, выглядывают, выделяясь на зеленой траве, розовые червяки. Достаточно неосторожно шевельнуть ногой траву, как они в мгновение ока исчезают в своих норках. Мне все легче различать их. Теперь уже не один Юшка, но и я подбираю с земли червей. Вскоре мы набираем полную жестянку. Тогда мы выпрямляемся во весь рост. Неподалеку виднеется горбатый валун. Издали кажется, что это кто-то живой лежит там спиной кверху. У этого валуна мы и садимся отдохнуть. — Ночных червей любят усачи. Иногда и угорь соблазняется, — рассуждает Юшка. — Хвост не берут. Его лучше и не насаживай, а голову — это они никогда не пропустят, сластены. И большие попадаются, очень даже большие… Юшка вытирает руки полой ватника, потом, подперев голову кулаком, принимается рассказывать: — В те времена все люди, и леса, и поля, и река-кормилица наша — все графское было. И взбалмошный же был старик, господи помилуй! Чего только ему на ум ни взбредет, бывало… Только не о нем я тебе сегодня рассказывать стану… Был у этого графа такой эконом, по фамилии Пшитульский. Маленький, пузатенький такой. Всех-то он на свете ненавидел и только себя одного почитал, нос задирал. Пшитульский всегда ходил в красном френче, таком алом, вроде как кровь людская, что он проливал. Эконома этого все боялись, как прокаженного. Рассыхались рыбачьи челноки на берегу, мыши сети изгрызали — все боялись рыбачить: как бы эконом не настиг, а то поймает — не пожалеет. Бывало, прискачет вечером, как нечистая сила, лошадь на берегу оставит, а сам — в лодку и шастает всю ночь по реке, вынюхивает, не забрасывает ли кто шнуры или уток не стреляет ли… Однажды сговорились ребята изловить эконома, камень ему на шею навесить да и пустить на дно кверху ногами. Теплой августовской ночью катался эконом Пшитульский по реке, а рыбаки по кустам за ним крались… Ночь-то была светлая, река под луной так и серебрилась. Уже было собирались ребята броситься на Пшитульского, как вдруг случилось такое, что они прямо на месте замерли. Так и увидели все: всплыл у экономовой лодки огромный угорь, с бревно этак величиной. Пшитульский хвать пиштоль и стреляет в угря, а тому хоть бы что. Только обвился хвостом вокруг кормы и перевернул лодку вместе с экономом. Через несколько дней хватился граф своего слуги, да разве скажут ему люди, как было дело? Правда, меж своих шли разговоры, будто Пшитульский самого черта разозлил и тот угрем обернулся да и утащил эконома в пекло. Другие говорили, что это души погубленных им людей угрем обернулись, а по-моему, настоящий то был угорь, и все тут. Попалась на крючок великанская такая рыбина, до лодки спокойно шла, а потом показала себя…
Юшка умолкает. Ночь душная, полная таинственных звуков, теней. Вдали, словно всадники, выскочившие из леса, застыли одинокие кусты. Может, там Пшитульский притаился? По опушке движется огонек. Гулко ухает сова. — Дяденька, глядите, еще кто-то за червями идет… Юшка приглядывается. Огонек бледнеет и скрывается. — Может, за червями, а может, блуждающий огонек, а может, деньги горят… Юшка снова подпирает руками голову. О чем он задумался? Может, вспоминает прежние времена? Или мечтает поймать большого угря? Или свою избу вспоминает? Невесел, совсем невесел возвратился Юшка, не найдя своей избы. Льдины размолотили ее по бревнышку, бревна те люди растаскали, и нет избы, как не бывало. Хорошо хоть лодку пригнал. Но это не очень-то радует Юшку. — Зачем керосин переводишь? Гаси огонь, — спохватывается Юшка. Я задуваю пламя, он встает с камня и берет жестянку. — Гляди, ишь проказники — выползти хотят. Назад, назад… Не для того вас собирали, — Юшка заталкивает в жестянку выползающих червей и, обернувшись ко мне, говорит: — На зорьке закидывать станем. Кто знает, чего доброго, и у нас большой угорь клюнет, как у того эконома. Как полагаешь, а? Я молчу…
ЛЕТО
XVII
На шнурах много не заработаешь. Попадается усач, рыбец, иногда и впрямь угришка — не больше пескаря, только вся эта добыча немного стоит. — Заработка вашего на табак хватает, — сердится отец. — Надо с неводом попробовать. Легко сказать — с неводом, а вот как это сделать? По реке так и шныряют полицейские на лодках. Поймают — прощай сеть. А другого выхода нет: утроба — она своего требует, будь что будет, а больше ждать нельзя. С наступлением ночи мы готовимся к ловле. Чтобы весла не скрипели, мы плотно обматываем их старой сетью. Выплываем втроем: отец, Юшка и я. Если полиция застукает, втроем быстрее уходить на лодке. Может, и удастся удрать. Отец не дает грести ни мне, ни Юшке. Он сам садится на весла. Гребет он так тихо, что ни единого всплеска не слышно. Юшка напряженно всматривается в темноту. Глаза его от старости пожелтели, как у язя, но так и сверлят темноту. Переплыв реку, мы останавливаемся в кустах и осматриваемся. Луна гонит тени по воде. После жаркого летнего дня река-кормилица блестит перед нами, играет, тормошит прибрежную траву. Разогнавшееся течение местами натыкается на неровное дно. В таком месте вода образует водовороты. Крупная щука лихо охотится прямо у самой нашей лодки. Мелкие рыбешки, скрываясь от врага, выскакивают из воды и тут же дождем сыплются обратно. На обрывах стоят усталые, сгорбленные, словно старухи, отцветшие черемуховые деревья. — Вокруг спокойно. Закинем, что ли, — предлагает Юшка. — Обождем, пока луна за облако зайдет, — оттягивает отец. Наконец луна прячется за лохматым облаком. Поверхность реки темнеет. Отец немедленно начинает работать веслами. Юшка наклоняется и тихо закидывает. После удачного первого заброса мы прячемся в кусты. В сети — рыбец к рыбцу, большие, отборные, теплые и жирные рыбины. Они лениво ворочаются в лодке. — Если бы начальство хоть разок в неделю разрешало бы рыбачить! На хлеб хватило бы, — оживленно рассуждает отец. — Жди от мачехи обновки — голым пойдешь. Прошлогодний снег, Юозас, начальству важнее, чем наша жизнь. — Это верно, Мотеюс. Коротки летние ночи. Едва успеваем сделать три заброса, на востоке начинает розоветь небо. С утренней прохладой направляемся мы домой. В кустарнике неистовствуют птицы. Пуще всех — соловьи. Так и щелкают, так и заходятся. А река неторопливо пробуждается от сна. Потягивается, дымится и покрывается легким туманом. Вдали гудит первый пароход. Должно быть, туман скрывает мигалки. — Жаркий денек займется, — предсказывает Юшка. — Стой, Юозас, не греби! — вдруг поспешно выговаривает он, что-то высмотрел впереди. Отец вздрагивает и опускает весла. Все мы настороженно прислушиваемся. — Так и есть. Нерест идет, впереди нас нерест, — взволнованно сообщает Юшка. Саженях примерно в двадцати в небольшой заросшей водорослями бухточке скопилась рыба. Вода так и бурлит, плещет, клокочет. Крупные рыбы бьют по воде раздвоенным хвостом и словно гоняются друг за дружкой. — Поздний лещ свадьбу играет. Что, Юозас, будем брать? Голос у Юшки дрожит. Отец — тот вовсе онемел. Не часто, ой, не часто доводится рыбаку на нерест напасть. Еще реже берет он нерестящую рыбу. Малейший стук весла, неосторожный заброс сети — и нет рыбы. — Я невод спущу, а ты, Мотеюс, греби. Уж на что тихо гребет отец, но Юшка еще тише. Мы беззвучно скользим по реке. Даже капля не скатывается в воду с поднятого весла. Отец, припав к борту лодки, так осторожно закидывает сеть, точно та из стекла. Сажень за саженью окружаем мы нерестилище. — Все, — облегченно вздыхает отец, когда круг замыкается. — Теперь стукни-ка, Мотеюс. Юшка слегка ударяет веслами. Рыба мгновенно скрывается. Однако нам видно, как весело ныряют поплавки нашей сети. Лещ наш. Отец выбирает сеть, а мы с Юшкой на глаз подсчитываем добычу. Золотистые, широкие, словно покрышка у садка, лещи ворочаются, разевая тупые рты. — Тридцать, — первым провозглашаю я. Мы торопимся домой, как шальные. Столько рыбы! Запускаем ее в садок, а чтобы не увидели, кому не надо, привязываем два тяжелых камня и топим. Сеть не оставляем на берегу, а вешаем дома под навесом. Спокойные и довольные входим мы к нам в избу. — Давай-ка, мать, беги к Нохке, — весело говорит отец. Обернувшись ко мне, он добавляет: — Уж теперь-то, Йонас, будут тебе сапоги. Нохке тут же прибегает к нам. Он не меньше нашего рад добыче. Правда, рыбу продавать опасно, но зато у других перекупщиков пустые корзины, и Нохке рассчитывает хорошо заработать. — Ай, Юзап, спусти хоть сколько-нибудь, — сидя у нас за столом, на всякий случай рядится Нохке. — Прибыли не будет, одни неприятности. Полиции боюсь. — Нет, Нохке, не спущу. Зато два килограмма накину сверх веса. — Ай, всего два килограмма. Три, Юзап, давай три… Когда торг закончен и оба довольны, разговор переходит на другое. — Говорят, Нохке, будто в городе полиция в народ стреляла. Правда это? Нохке не сразу отвечает. Он вертит головой, чмокает губами, потом медленно принимается рассказывать. Неспокойно, совсем неспокойно стало в городе. Первого мая рабочие с красными флагами вышли на улицы. Пели и шли по городу, но тут на них полиция и напала. — Ай, ай, что творилось. Бах-бабах, — повсюду стреляли. А рабочие — камнями, камнями. Теперь в тюрьме много народу. Да что они сделают против оружия, что? Юшка с Нохке долго рассуждают, какая власть лучше, какая хуже. Оба думают примерно одинаково, Нохке считает, что та власть хороша, при которой можно на хлеб заработать, а Юшка — при которой человеку жить, свободно дышать дают. Отец долго слушает их речи, а под конец говорит: — Власть — она всегда власть. Ей лишь бы душить. На то она и власть…XVIII
Запрет на ловлю тянется долго. Отец не заставляет меня работать, Пранайтис дает отдохнуть Костукасу. Мы теперь каждый день видимся. Солнечным июньским утром мы отправляемся вниз по течению в поисках «подарков». До чего же диковинные штуки выносит иногда наша река! Мы медленно идем по берегу и внимательно разглядываем узкую прибрежную полоску. Здесь, среди обломков камышей, сбившегося в кучу мусора, коры, водорослей мы находим речные «подарки». У меня уже лежит в кармане огрызок синего карандаша. Костукас почти что наступил на него, даже не заметил. Крошечный огрызок еле выглядывал из комка травы. Карандаш приплыл, по-видимому, из города. Ладно, пригодится, когда в школу пойду. Костукаса тоже не обходит удача. У него уже есть граненый флакончик и коробка от сапожной ваксы. — Сюда можно камешки складывать, — радуется мой друг. Окрыленные удачей, мы уходим все дальше и дальше. Солнце греет, припекает даже. Вокруг зелено. Под водой стелются по течению зеленые косы водорослей. Берега поросли густой сочной травой, темной листвой оделись прибрежные деревья. Одна река светлеет, искрится, так и манит. — Костукас, давай искупаемся! Не успеваю я договорить, как он уже нагишом стоит рядом. До чего же наш Костукас тощий! Ключицы выдаются, даже кожа натянута, ребра пересчитать можно, а ноги — как сухие палочки. — Быстрей! — торопит меня Костукас и с разбегу прыгает в чью-то лодку. Я скидываю одежду и тоже бегу туда, намереваясь нырнуть. Но тут Костукас наклоняется и, перегнувшись через борт лодки, начинает что-то разглядывать в реке. Я тоже смотрю туда. В воде отражаются пуховые облачка, рассыпанные по синему небу. Тут же снуют, поблескивая чешуей, мелкие рыбешки. — Рыбы в облаках, — шепчет Костукас. Мы смотрим, боясь возмутить спокойствие реки. Потом я нечаянно подталкиваю ногой нашу лодку, и мелкие волны убегают далеко вперед. Облака в воде тоже идут морщинками, ломаются. — Что ты наделал! — сердится Костукас. Тут я кидаюсь в воду. Но Костукас догоняет меня и даже перегоняет. — Айда на тот берег! — подбивает он меня. — Не доплывешь, потонешь. Костукас удаляется, и вот я вижу уже только его голову. Течение подхватывает его и сильно относит вниз. И все равно он выходит на другом берегу. — Ау-у… у-у-у-у-у! — кричит он мне и машет руками, зовет. Не дозвавшись меня, Костукас приплывает обратно. — Вот смотри, что я нашел. Я бегу к нему. Костукас держит, показывает мне новенькую красную ручку. Я так и замираю на месте. Вот это находка! — Покажи! — я тянусь к ручке. — На том берегу, у самого берега плавала. Говорил тебе, поплыли. Как бы она мне пригодилась! Ведь моя, которая лежит в сундуке с книгами, совсем поломанная, вся в чернилах, безобразная. А эта — так и сияет. Но вот не я, а Костукас ее нашел. И все же я сжимаю ручку пальцами и начинаю водить ею по воздуху, словно пишу буквы. — Очень даже хорошая, — говорю я. Костукас не слушает меня. Он убегает туда, где чистый песок, ложится на спину и, прикрывая ладонью глаза от солнца, смотрит в небо. — Можешь взять себе, — говорит он, когда я бросаюсь на песок рядом с ним. — Что взять? — Да ручку эту. — А ты? — А мне не понадобится. Видишь, Йонас, вон то облако? На собаку похоже. Вон морда, лапы. — А чем же ты будешь писать? — не глядя на облако, спрашиваю я с удивлением. — Я же тебе говорил, что в школу не пойду. — А я пойду. Осенью пойду. Мне уже сапоги купили. Резиновые, но хорошие… Костукас поворачивает голову в мою сторону, но все еще смотрит на облако. — Как ты думаешь, кто это так высоко сено косил — вон полосы какие… — Костукас, а что тебе дать? — Ничего. Внезапно Костукас вскакивает и бежит одеваться. — Давай домой. Влетит мне от отца — долго шатаюсь. Говорит, ночью на рыбу пойдем, — Костукас торопливо одевается. «Чем же я его отдарю?» — ломаю я себе голову. И вдруг, надевая штаны, нахожу: — Костукас, хочешь, возьми мой ремешок? — Чего зря болтаешь, Йонас, — спокойно отвечает он, но глазами так и пожирает ремешок. — Да бери ты, у меня еще есть. Костукас хватает подарок и бегом пускается домой. Я и не пытаюсь его догнать, потому что и так знаю: Костукас остановится и подождет меня. Такой уж у него характер, у этого Костукаса. Всегда что-нибудь выкинет. Ночью мы тайком выходим на ловлю. Свою лодку отталкивает от берега и Пранайтис. Делаем один заброс и сходимся все в кустах. Юшка, Пранайтис и отец переговариваются шепотом, а мы с Костукасом даже рот раскрыть боимся и только слушаем. Старшие рады, что скоро можно будет без страха рыбачить. Счастье, что все благополучно обошлось. В низовье у некоторых рыбаков полиция отняла сети. А вдруг и лодки отобрали? Пранайтис зажигает цигарку. — Бросай, Казис, заметят! — строго говорит ему отец. В другом случае Пранайтис непременно огрызнулся бы да и наплевал на отцовские слова, но сегодня послушался. Он кидает самокрутку в реку и приподнимается, осторожно приготавливаясь ко второму забросу. — Стой! Весла в лодку! Из кустов, сверкая пуговицами, выскакивают двое высоких вооруженных полицейских. Ни мы, ни Пранайтис не успеваем спохватиться, как они уже держат обе лодки. Пранайтис изо всех сил отталкивается от берега, но полицейский крепко держит край невода и тянет на себя. — Не отдам! — выкрикивает не своим голосом Пранайтис и кидается на полицейского. Здоровенный представитель власти одним ударом отбрасывает рыбака. — Против закона идешь! — Дай работу, не трону я твой закон, — огрызается Пранайтис. — Тюрьму тебе, а не работу! Пока Пранайтис препирается со своим противником, второй полицейский тянет из нашей лодки сеть. — Что вы делаете? По миру нас пустить хотите? — стонет отец. — Не отнимайте, простите! — наваливаясь на сеть, умоляет Юшка. Но полицейские и не думают сжалиться над нами. Они грозят оружием, тюрьмой и тащат сети куда-то в кусты, где спрятана их лодка. — Пусть убивают, гады, а сеть не отдам, — скрипит зубами Пранайтис и, схватив весло, кидается вдогонку за полицейскими. — Пропадешь, Казис. О детях подумай, — останавливает дрожащего Пранайтиса отец. Опустив голову, не произнося ни слова, все садятся в лодки. Уж лучше бы мы поголодали последнюю недельку, а теперь — хоть живьем в землю лезь.XIX
С тех пор как мы лишились сети, в нашей семье пошли раздоры. Отец за несколько дней осунулся, стал злым, раздражительным. Заговоришь с ним — не отвечает или вдруг заносит руку. Мать вздыхает и каждый день плачет. Юшка встает рано утром и уходит неизвестно куда, никому не говоря ни слова. Я тоже стараюсь не мозолить отцу глаза и целыми днями слоняюсь по задворкам, как бродячий пес. Пострашнее дела творятся у Пранайтиса. Пранайтис сидит в избе и ко всем цепляется. Что ни день к нам с воплем влетает избитая Пранайтене. — Не выдержу я больше, нет, не выдержу… Меня колотит, ребятишек мучает… и как только господь мне смерти не пошлет… — жалуется она матери. Съежившись на лавке, нахохлившись, точно куры на насесте, обе женщины плачут, стонут. Отец терпеть не может их нытья и еще больше злится. А тут, как назло, через день-два открывается сезон ловли. Однажды мать и Пранайтене, наплакавшись вдоволь, о чем-то сговариваются между собой и уходят в местечко. Однако возвращаются они еще более подавленные. — В ноги падали, молили… Камень — и тот сжалился бы, а эти… Жрать они, что ли, будут наши сети? — кусая губы, тихо говорит мать. — Дурища ты, дурища… Полицейские давным-давно пропили твои сети. Выдумали — выпрашивать то, чего нет! — кипятился отец. — Что же будет, Юозас? Ты только бранишься, а как жить станем — об этом и разговора нет. В ответ отец хлопает дверью. Я — за ним. Иду следом до самой реки и сажусь с ним рядом, у воды. Отец будто и не замечает меня. Глядит на воду, а из груди у него, словно из дырявых мехов, вырывается свист. Тяжело ему, сразу видно. Сбоку к нам подходит Пранайтис. Подсаживается, даже «здравствуй» не говорит. Отец не глядит на него. — Без рук остались, Казис, — произносит он после длительного молчания. — То-то… Снова молчат. Только река ведет свой бесконечный спор с каменистым дном, ворчит без умолку. — Посоветоваться решил с тобой, — бубнит Пранайтис. — Ну, что? — Давай волокуши соединим и на двоих рыбачить станем у берега. Отец слегка вздрагивает и резко поворачивается к Пранайтису. — А хватит ли сети? — Коротковато, да чего уж теперь… — В середину мою поставим — она у меня жестковата, рыба покрупнее не выдерется. Крылья твои, Казис. Зато с моей лодки трое. — Согласен. — Тогда неси сеть, посмотрим, как получается, — и отец встает. Пранайтис кивает и удаляется в сторону дома. — А кому рыбу отдадим — Нохке или бабы пусть носят? — останавливается он. — По мне, лучше Нохке. — Нет, пускай бабы продают, — не соглашается Пранайтис. Пранайтис упрямо настаивает на своем. Мол, если бабы понесут рыбу, больше выручить можно. Отец не уступает. Ему кажется, что куда удобнее сбыть рыбу Нохке. Возьмет всю сразу и деньги на месте выложит. Не только заботы не будет, но и никаких недоразумений при дележе. — Знаю я его: заранее не договоришься, худо будет, — говорит мне отец, когда они, наконец, договариваются и расходятся. — Почему бы, скажем, не отдать рыбу Нохке? Платит он хорошо. Э-эх, была бы только рыба… Мать не очень-то одобряет эту совместную ловлю. Боится, как бы отец с Пранайтисом не сцепились. Повздорят, заспорят, чего доброго, до драки дойдет. Зато Юшка, узнав, что и его берут в долю, чувствует себя на седьмом небе. Он успокаивает мать, утверждая, что не такой уж злодей этот Пранайтис. Известное дело, задевать его не надо, а так он мужик сговорчивый. Да и прибыль ловля сулит хорошую. К осени столько заработаем, что новую сеть купить можно будет. Целый невод. Вскоре с сетью-волокушей на плечах является Пранайтис, а с ним и Костукас. Рыбаки устраиваются посреди избы и, стоя на коленях, расправляют сети. Нас с Костукасом посылают на речку грузила искать. А на берегу камней, пригодных для грузил — хоть телегами вывози. Я загребаю обеими руками и швыряю их в корзину. А Костукас — тот что-то высматривает у воды. — Костукас, ты что — камней не видишь? — удивляюсь я. — Я не такие ищу. — Да нам же велели. — Вот и собирай, раз ты такой послушный, — сердито огрызается Костукас. — И чего ты злишься? Ведь теперь нам в одной лодке рыбачить. — Подавись ты своей рыбалкой. Что случилось с моим другом? Что с ним? Угрюмый, злобный, глаза так и горят злостью. — Ладно, Костас, не валяй дурака, помоги лучше корзину тащить. Костукас медленно подходит и берется за ручку корзины. — Пыхтишь, как лягушка, а поднять не можешь. Вот смотри, как носят. И он тащит корзину. Упрямый, меня не подпускает, а сам так и стонет. Что это с ним такое происходит?XX
Напротив пляжа, на том берегу реки, в старом сосновом бору, стоят красивые богатые дачи. В жаркий день оттуда на лодках приплывают дачники поплескаться в воде или поваляться на желтом песочке. В такие дни рыбаки только зубами скрипят. Мол, дачники купаются и распугивают рыбу, путаются под ногами, мешают делом заниматься. — Вот пристукну кого-нибудь, — ярится, словно бешеный пес, Пранайтис. Мы молчим, но в глубине души согласны с ним. Всем эти дачники осточертели. Скрылись бы куда-нибудь с глаз долой, так нет же — полеживают себе там, где мы трудимся, жарятся на солнышке или слоняются лениво по берегу, а ты тут соленым потом обливаешься, бессонница к земле гнет, вздремнуть и то некогда. И дети у них настырные. Лезут в лодку, теребят сеть, пищат, вечно глазеют да удивляются. А то просто уставятся на нас с Костукасом и глядят вприщурочку, еще плечами пожимают. — Вот гады, — злится Костукас. Ненавижу этих ребят и я. Жирные, как лини, зло берет смотреть на них, так и подмывает заехать кому-нибудь по уху. С каждым днем мы все пуще ненавидим дачников. Как назло, и рыба не идет. Еле стоим на ногах, вытаскиваем на берег огромную сеть, а она пустая.
— Пока эти бездельники тут шляются, рыбы не жди. Всю распугали своими купаниями, — говорит отец, молчавший до сих пор. — Давайте еще разок, — не теряет надежды Юшка. Без всякой охоты гребем мы против течения. Сеть закидываем кое-как. Тянем на берег, ничего не ожидая. А солнце так и печет. Река движется ленивая, усталая. Весь пляж так густо усеян дачниками, что ступить некуда. Крик, гам, визг, в ушах так и звенит. — Ай-ай-ай, опять нету рыбки, — мотает головой, прицокивая языком, Нохке. Он уже вторые сутки не отходит от нас, все рыбы ждет, а ее все нет как нет. — Тьфу! — громко сплевывает отец, когда мы вытаскиваем на берег сеть, где трепыхаются, пытаясь выскользнуть сквозь ячеи, несколько уклеек. — Рыбки, рыбки! — с радостным гомоном к рыбешкам устремляются дети дачников. — А ну вон отсюда! — гонит их Пранайтис. Но детишки не успевают удрать. Костукас хватает веревку, подбегает к одному из них и протягивает его поперек туловища. Мальчишка с воплем кидается к родителям. Дачники недружелюбно косятся в нашу сторону. Мы укладываем в лодку нашу сеть, совершенно не обращая на них внимания. Но ненадолго. Не успеваем мы уложить сеть, как к нам приближается высокий господин с брюшком. — Вот этот меня бил, — битый мальчишка тычет пальцем в Костукаса. — Кто отец этого хулигана? — высокомерно спрашивает пузатый. Молчание. Только Пранайтис вдруг начинает тяжело сопеть носом. Я знаю, что это означает, и по спине у меня мурашки ползут. — Я спрашиваю, нет ли здесь его отца? — повторяет дачник. Внезапно Пранайтис кидает сеть. Юшка мгновенно подлетает к дачнику. — Вам бы лучше отойти, сударь, право, — просит он. — Отстань, старик, — повышает голос дачник, заметив, что остальные пляжники на его стороне. — Вы бы, сударь, не мешали работать-то. Шли бы своей дорогой по своим делам, — дрожащим голосом произносит отец. — Что ж, в полиции разберутся… Неизвестно, что окончательно вывело Пранайтиса из терпения: назойливое ли ворчание дачника или напоминание о полиции. С быстротой молнии он наклоняется, хватает весло и в один прыжок оказывается рядом с дачником. — Грозишься, гад! На моем горбе брюхо отрастил, жиреешь тут, а еще грозишься, — шипит Пранайтис, и тяжелое дубовое весло свистит в воздухе. К счастью, дачник успевает отскочить в сторону. — Большевик, — выкрикивает он, помертвев от страха. Вскоре весь пляж кишит, как муравейник. На подмогу к дачнику подоспели другие. — Живо укладывайте сеть и лодку наготове держите, — велит нам с Костукасом отец. Сам он хватает второе весло и встает рядом с Пранайтисом. Растерявшийся было Юшка тоже придумывает, что делать. Мы даже и не замечаем, как в руках у него оказывается третье весло. Только Нохке куда-то исчезает, будто сквозь землю провалился. Дачники не решаются начинать. Они топчутся на месте, но приблизиться боятся. Потом мы слышим, что они начинают спорить между собой. Кто-то из них переходит на нашу сторону. — Все. Теперь можно спокойно рыбачить, — кидая в лодку весло, говорит отец. Подавив вспышку гнева, Пранайтис выговаривает Костукасу: — А ты не суйся, куда не след. В другой раз погоришь. Костукас молчит и, наморщив лоб, смотрит на отца. — Чего уставился, глазищи вытаращил? За работу берись, — опять начинает кипеть Пранайтис. Из кустов, весь дрожа от страха, вылезает Нохке. — Ай-яй, Пранайтис, что ты задумал, что задумал, — подходя к нам, пожимает Нохке плечами. — Такого барина задел. Еще в тюрьму угодишь. — Думаешь, в тюрьме хуже? — отмахивается Пранайтис. — Что же это будет, ой, что будет — в городе господ ругают, в деревне ругают… А ведь они хорошо за рыбу платят. — Дурацкий у тебя разговор, Нохке, — обрывает его отец. — Ай, что тебе плохого Нохке сделал, что? На краю пляжа нас ждут матери с обедом. Ни отец матери, ни Пранайтис своей жене не рассказывают о дачниках. Все едят, а разговор не клеится. Когда мы с Юшкой оказываемся подальше от остальных, я, не утерпев, спрашиваю: — Дяденька, а кто это такой — большевик? Юшка не сразу отвечает. Почесав в затылке, он медленно разъясняет: — В семнадцатом году видал я большевиков в России. Они за свободу простых людей стояли, господ били. — Тогда почему это Пранайтис — большевик? — Пранайтис, должно быть, еще и не большевик. Нет, Йонас, нет, — сомневается и Юшка. — А может, и да…
XXI
На западе скапливаются тучи и идут против ветра. Слетаются к своим гнездам речные ласточки. В поисках прибежища тянутся в сторону леса вороны. Мы торопимся закидывать, а то близится буря. Чтобы управиться поскорее, Пранайтис, не доплывая до берега, раскачав моток веревки, кидает его Юшке. Однако тот не успевает подхватить, и веревка оказывается в воде. — Вот рюха, — сердится Пранайтис и запускает веревку во второй раз. Теперь Юшке удается поймать веревку. Обмотав ее вокруг пояса, он выкрикивает: — Закинули! Отец налегает на весла. Когда вся веревка размотана, мы закидываем сеть. Пранайтис опускает грузила, я — поплавки. — Закидывай как можно глубже, Юозас, вдруг что-нибудь попадется? — подстегивает отца Пранайтис. Мы все шире и шире опоясываем нашей сетью реку. Сеть уже протянулась почти от берега к берегу. — В сторонку, в сторонку, — размахивая руками, кричит Юшка. Ему и правда тяжело. Течение увлекает тяжелую сеть в глубину. Юшка держит ее, чуть ли не лежа на спине. Ногами он, словно плугом, бороздит пляжный песок. Юшке помогает Костукас, но и от него мало толку. — Ох, выпустят, не удержат, — опасается Пранайтис. — А ты думаешь, легко это? — заступается за Юшку отец. Пранайтис нахмуривается. Сплюнув за борт, он бормочет: — Тогда я пойду к верхнему крылу. — Думаешь, я с мальчишкой да Юшкой нижнее крыло поволоку? Не будет этого. Лица у обоих багровеют. Еще слово, и не на шутку сцепятся. Однако не время ссориться, когда сеть в воде. Отец, встряхнувшись, изо всех сил налегает на весла. Лодка, разрезая носом поверхность воды, так и влетает на берег. Все трое хватаемся мы за веревку и, согнувшись, тяжело дыша, медленно направляемся вперед, увлекая за собой сеть. Я тащусь по песку, втихомолку постанывая. От каждодневного торчания в воде кожа между пальцами ног потрескалась, кровоточит. Пока стоишь — терпимо, а вот только начнешь двигаться, ноги увязают в песке, и от боли я только зубами скриплю. Мелкий песокнабивается в раны, разъедает ссадины, не дает зажить. — Говорил тебе, обуй клумпы, — бранит меня отец, видя, как я корчусь от боли. Легко сказать — клумпы. Это летом-то, когда вокруг такая жарища, а река так и манит побродить по прохладной воде, — таскать на ногах клумпы! Мы с Костукасом рыбачим босиком. За это удовольствие мы и расплачиваемся болячками на ногах. — Большая рыба есть. Нажимай, Казис, снизу, — взволнованно сообщает отец, начиная выбирать сеть. — В мое крыло стукнуло, — откликается и Юшка. — Ты за верхом, за верхом присматривай! — приникая к самой земле, цедит сквозь зубы Пранайтис. Отца подстегивать не к чему. Он и так прочесывает взглядом поверхность воды, подмечая малейший трепет поплавков. Наблюдать за ними очень удобно. Ветер, который еще тянул полчаса назад, затихает. Не чувствуется ни малейшего дуновения. В кустарнике — ни шороха, ни дрожания листвы. Природа замерла, застыла. Река расстилается перед нами ровная, точно гладкий утоптанный большак. Небо хмурится. Доносятся далекие раскаты грома. Какая-то птица назойливо пророчит: — Быть грозе, быть грозе! — Эх, ушла! — не заметив дрожания поплавков, с досадой произносит отец. — Есть, есть, снова клюнуло, — успокаивает его Юшка. Внезапно над поверхностью воды показывается широкий плавник. Мелкие волны устремляются к берегу. — Ну…у…у… — угрожающе тянет Пранайтис, призывая всех быть начеку. Еще несколько саженей сети, еще несколько минут напряженного ожидания, и все мы видим, как в сети барахтается огромная рыбина. Отец с Пранайтисом ястребами кидаются к ней и выбрасывают на берег. — Лосось! — восклицает подбежавший Юшка. Большая, с метр длиной рыбина бьется на песке. По бокам у нее идут темные пятна. Рыба подпрыгивает вверх, становится на голову, предстает перед нами во всей своей красе. — Осенняя, — внимательно разглядев рыбу, отмечает Юшка. — Как ты думаешь, Юозас, десятка два кило потянет? — Пожалуй, что и потянет, — соглашается отец. Мы любуемся лососем и не замечаем, как надвигается буря. Черная, тяжелая туча заслоняет небосвод. Становится темно. Проносится порыв ветра, вспенив воду, раскачав деревья, пригнув к земле ивняк. Темной, шумящей стеной надвигается на нас ливень. — Втащим лодку на берег и — в кусты! — предлагает отец. Только успеваем мы устроиться в густом кустарнике, как бурный, проливной дождь вместе с воющим ветром уже тут. Молнии полосуют небо, гром гремит без передышки. Гневной и неприветливой выглядит теперь река. Пенистые волны перекатываются друг через друга, сердито ревут, встречая на своем пути преграду, разбиваются о берег. — Помню, как-то застала меня буря, когда я плоты сплавлял. Плоты так расколошматила, что потом целый месяц по бревнышку заново вязали. Только я не про это сейчас вспомнил, — полеживая под кустом, принимается рассказывать Юшка. — Так вот, перед бурей, как, к примеру возьмем, сегодня, река была преспокойненькая. Сидел я на первом плоту, рулил. Не по себе было, ведь я же знал, что буря — она ничего доброго не сулит. Вдруг как кнутом по воде шлепнуло. Поднимаю голову. И как вы думаете, что вижу? Огромнющая рыбина из воды выскакивает. Выскочила, красавица, но обратно упала не в воду, а прямо ко мне на плот. С первого же взгляда узнал я лосося-самца. Крупный был, раза в два нашего нынешнего больше. Наклоняюсь я за ним, а он — прыг вверх, и в воду шлепнулся… Вот какие штуки выкидывают рыбы-то. Известное дело… — Сеть-то покрепче держи, а не болтай чепуху, — обрывает Юшку Пранайтис. Юшкина голова никнет на грудь. — Я бы в твои годы на печи сидел, — ворчит Пранайтис. Юшка, не глядя на нас, встает и, сгорбившись, выходит под дождь, к лодке. Там он, пригнувшись к борту, принимается выливать из лодки воду. Отец укоризненно глядит на Пранайтиса. Тот уставился куда-то себе под ноги. Я вскакиваю и бегу к Юшке. Он меня словно не замечает, продолжает свое занятие. Когда Юшка наклоняется, чтобы зачерпнуть воды, его ватник задирается и видна узкая полоса голой спины. Я вздрагиваю. Юшкина спина вся в ранах, в синяках от веревки. Местами раны зарубцевались, и видны струпья, а местами они заново содраны и сочатся кровью. — Дяденька, — тихонько говорю я ему. — Ступайте в кусты — промокнете. Юшка выпрямляется и медленно обводит взглядом небо. Отирая мокрое лицо, он говорит: — Скоро тучи уйдут… Гляди, край неба уже светлеет.XXII
Близится осень… Небо все чаще затягивают тучи. После дождя прибывает вода в реке. Она оживляется, стремительней гонит свои воды вперед. В глубине души я рад, что теперь вода стала глубже, и меня не заставляют рыбачить у берега. Урвав минутку, я мчусь в избу, достаю из-под кровати свой сундучок, собираю его, готовлюсь в школу. Перекладываю книжки, тетрадки, трогаю ручку, что Костукас подарил мне. Высыпаю из спичечного коробка перья и пересчитываю их, все ли на месте. Мать подсаживается ко мне и осторожно говорит: — Вижу, в школу собираешься. А отец что? А что ему? Конечно, пустит. Ведь рыбная ловля кончается, а сапоги у меня есть. Разве еще что-нибудь нужно? Когда я выкладываю все это матери, она продолжает твердить: — А ты все-таки поговори, попросись. Я тоже заступлюсь. Материнские слова вселяют в меня тревогу. Я задвигаю сундучок с книгами под кровать и бегу к рыбакам. Только почему-то боязно заговорить с отцом о школе. «Ладно, обожду. Вот последний раз сеть закинем, тогда…» — решаю я. Однако мы уже уходим от реки, а я все никак не найду, с чего начать разговор. Мы плывем вдоль самого берега против течения, каждый занят свои ми думами. Ненадолго останавливаемся у сушилок Пранайтиса. Костукас первым выпрыгивает из лодки, за ним выходит Пранайтис. Он уже отвязал свою сеть от нашей. Пранайтис встает у сушильных жердей и прямо из лодки тащит сеть и тут же развешивает ее. Костукас поддерживает тяжелую мокрую сеть, чтобы она не волочилась по земле. — Выше, выше поднимай! — покрикивает на сына Пранайтис. — Не видишь: по земле волочится? Костукас высоко поднимает руки, но тяжелая сеть оттягивает их книзу и сама постепенно сползает. — Костас, ты что — весла захотел? Костукас старается изо всех сил, но его пронзительные глазенки начинают гореть от обиды и злости против отца. — Испортишь парня, Казис, — вмешивается Юшка. — Давай я помогу. Но Костукас не подпускает Юшку. Дрожащими руками он тянет кверху сеть, а на лице его выступают мелкие капельки. Может, с сети накапало? Или пот? Нет, Костукас плачет… Беззвучно, без всхлипываний — просто по лицу катятся слезы… Мы оставляем Пранайтисов на берегу и плывем к нам. — Такой живой парнишка был, а теперь не узнать — доконали беднягу, — говорит про Костукаса Юшка. Отец хмурится. Не нравятся ему Юшкины речи. Заметив это, Юшка переводит разговор на другое. — Мутная вода пошла. Надо, Юозас, вентерь ставить. — Что вентери… Вот бы невод! — А ты что думаешь делать с этим? — Покупать придется. Все выложу, что заработали, а невод куплю новый, — решительно произносит отец. — Известное дело… А я уже рыбачить не стану, Юозас. Знаешь, нездоровится что-то… Я смотрю на Юшку. Он все еще не оправился с весны. Здорово состарился наш Юшка, сгорбился, руки поднимает с трудом, а когда ходит — шаркает ногами. — Рыбачить не стану, а сложа руки сидеть тоже не приходится. Буду сети вязать, клумпы строгать, только не откажи в пристанище, Юозас. — Да что ты, Мотеюс, еще потянешь сети. Кто знает, может, еще и избу построишь? — утешает Юшку отец. — Не будет этого. Легко развести огонь у сухого пня, а вот ты на голом поле попробуй! Сам знаешь — после половодья остался как стою. Конечно, с голоду не помру — я же привык: в одной руке ложка, в другой — воздух. Эх, не утешай ты меня, Юозас, все-то я знаю… Пранайтис верно говорил: не будет из меня рыбака. Отняла силы кормилица наша, высосала… Проходит еще несколько дней. В школе уже звенит звонок, а я сижу дома. Попроситься у отца не решаюсь, а сам он ни словом не обмолвился. Зато я без конца пристаю к матери, а она все свое твердит: — Спросись у отца. Наконец я не выдерживаю. Однажды рано утром я решительно подхожу к отцу. — Сегодня в школу пойду. Отец не удивляется и не набрасывается на меня с бранью. Он садится на табурет, морщит лоб и задумывается. — Погоди, Йонас, еще денек-два обожди, — говорит он мягким просительным тоном. Ночью отец с матерью долго шепчутся. Утром они уходят в город. Я знал, что они собирались покупать новую сеть. Однако возвращаются оба с пустыми руками. Денег не хватило. Отец целый вечер ходит сам не свой. То постоит в углу, то вздохнет и выскочит во двор, а меня будто и вовсе не замечает. — Обувайся, Йонас, в сапоги, ватник надевай, — неожиданно велит он, появляясь в избе. — Темная ночь выдается, попробуем с волокушей порыбачить. Я одеваюсь, стараясь не смотреть по сторонам. Мать подает еду, но тоже не глядит на меня. Как нарочно, Юшка куда-то исчез. Где же он? — Бери веревки и ступай на берег, — отец встает из-за стола, почти не притронувшись к еде. Я закидываю на плечо веревки и выхожу к реке. Отец уже уложил в лодку волокушу. Смеркается, река окутана туманом, сыро, неуютно. Сквозь темные тучи изредка проглядывают последние лучи уходящего солнца и снова прячутся. Перед нами течет мутная река. С жалобным криком улетает на юг стая растерянных птиц. Осень… Опять осень.
 МОЙ ОТЕЦ — ПАРТИЗАН
МОЙ ОТЕЦ — ПАРТИЗАН
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Когда в деревне снова появился Густас, я твердо решил больше не ждать и начать борьбу. Густас — это сынок фашиста и оккупанта, Дрейшериса-хромого. А Дрейшерис — потомок крестоносцев, «псов-рыцарей». С давних времен жили Дрейшерисы в нашей деревне. Перед самой войной Дрейшерис объявил себя чистокровным немцем и уехал в Германию. Когда фашисты захватили Советскую Литву, однажды, летом сорок третьего года, он снова явился в нашу небольшую деревеньку, притулившуюся у реки. Вернулся он не просто так. Отхватил себе лучшие земли, луга, несколько десятков гектаров леса и возомнил себя большим барином. Через несколько дней после их приезда я столкнулся с Густасом. Он был в коричневой униформе, сбоку у него болтался огромный нож, и важный он был, точно сам Гитлер. Густас гордо вышагивал по деревне. Я стоял у наших ворот. Густас глянул на меня и уже было прошел мимо, но вдруг остановился и буркнул: — Гутен таг! Я чуть было не расхохотался. Уж больно смешно он выглядел, этот Густас. Разжирел, точно боров. Зад его нависал над короткими ногами, распирая штаны, а на выпяченном животе красовался ремень с большой пряжкой с орлом посередке. Жирный затылок вываливался из воротника. — Настоящий мешок с отрубями, — отметил я вслух. — Гутен таг! — заливаясь краской, точно индюк, повторил Густас. — А по-литовски что — позабыл уже? — спокойно осведомился я. — Я твоей тарабарщины не понимаю. — Йе! Ты всегда был ерш колючий, — он перешел на литовский. — Теперь тут Германия, и ты должен будешь разговаривать так, как мы захотим. Ого, и далеко же метит Густас! Германия… Я вспомнил, как мы, деревенские ребята, несколько лет назад играли в войну. Мы чертили на песке большущий круг, делили его на несколько частей. Каждая часть — какое-нибудь государство. Густас всегда бывал «Германией». Он захватывал самую большую часть круга и еще норовил отобрать «земли» у других ребят. Ему всегда было мало. Возникали споры, а часто и драки. Мы сговаривались и поколачивали Густаса или выбрасывали его из игры — на том все и кончалось. А теперь Густас почуял свою силу. И все-таки со мной он лучше бы не шутил…
— Вижу, позабыл ты, чем мой кулак пахнет, — спокойно ответил я и притворил калитку. — Йе! В Германии меня маршировать выучили! Да я тебя одним тычком сковырну! — выкрикнул Густас. Меня разобрала злость. — Спрячь свой нож и катись отсюда! — строго приказал я ему и повернулся, чтобы уходить. — Ага, ага! А у меня скоро будет «монтекристо», — забормотал Густас и стал пятиться. Я решил с ним не связываться. Пусть катится своей дорогой, свиной пузырь. Только Густас ведь не может уйти без гадостей. — А все-таки тебя прикончат, ага! Твой отец большевикам служит. Мы уже знаем… Я вздрогнул. Кулаки сами собой крепко сжались. Неужели они знают?.. Врет он. Конечно, врет. А если?.. Мысли мои незаметно перенеслись в прошлое. Первые дни войны. По дорогам, по реке устремились на восток фашисты. Едут они, наигрывая на губных гармошках, насвистывая. Дымятся, догорают дома, с опаской выползают из убежищ люди… Нас троих — маму, меня и младшего братишку Казюкаса — загнали в избу и поставили у стенки. На полу битая посуда, вспоротые подушки. Посреди избы, направив на нас револьвер, стоит Пигалица. Настоящая его фамилия — Шюпайла. Он самогонщик, пьяница и браконьер. Говорит он тонким голосом, да еще присвистывает как-то через нос. За это и прозвали его Пигалицей или Чибисом. В первый же день войны Пигалица нацепил белую повязку и примчался к нам. — Спрятался большевичок! — присвистывал Пигалица. — По одному перестреляю, как куропаток, если не скажете! Все мы молчали. Да и что мы могли сказать, когда и в самом деле ничего не знали об отце. Мой отец был председателем апилинкового Совета. В первый день войны он поехал в город посоветоваться с товарищами. К вечеру он не вернулся. Тем временем деревню и заняли фашисты. — Считаю до трех, — назойливо свистел Пигалица и стал наводить револьвер на мать. — В одной деревне росли, вместе босиком бегали… И чего ты так… — Мама, да ведь он просто выродок, — выкрикнул я. — Ах ты, гаденыш! Пигалица подскочил ко мне и схватил своими цепкими ручищами. Я так и впился ему в руку зубами. Пигалица взвизгнул и хватил меня кулаком так, что я повалился на пол… …Когда я поднял голову, Густас уже отошел по дорожке на порядочное расстояние. Неужели фашисты и впрямь знают, где мой отец? А вдруг мой отец?.. На прошлой неделе случился на реке пожар. Ночью кто-то поджег баржи. Тягач волок их в Германию. Баржи были гружены зерном. Все сгорело, пошло на дно. Чья это работа? Народ стал шептаться: «Партизаны появились. Партизаны…» А что, если и мой отец с ними? У меня сильно заколотилось сердце. — Да, больше медлить нельзя. Надо действовать, — тихо сказал я сам себе и, опершись на калитку, принялся обдумывать свой боевой план.
II
Я смотрю на часы. Близится условленный час, а вырваться из дома нет никакой возможности. В чаще леса, там, где сливаются два рукава ручья, на круглом холме, под старой елью, я должен встретиться с моим другом Вацисом. Мы одногодки, вместе пошли в школу, сидели на одной парте, вместе вступили в пионеры в сороковом. Советы выделили отцу Вациса несколько гектаров кулацкой земли. Когда пришли фашисты, кулаки подослали к отцу Вациса Пигалицу и едва не забили до смерти. Он и сейчас еще не может делать тяжелую работу, едва ходит — с палочкой. Я знал, что Вацис ненавидит фашистов. Мы должны были поладить. Если он одобрит мой план, оккупант Густас перестанет задаваться. Однако, где же мама? Рано утром я проверил вентери. Мама пошла в город продавать рыбу. Я накормил Казюкаса, наколол дров, притащил их в избу, а мамы все нет. — Смотри, не оставляй Казюкаса одного, — наказала мама перед уходом. — Меня дожидайся. Это она напрасно говорила. Даже если захочешь, от Казюкаса так просто не отделаешься. Ни на шаг не отступает, так и ходит по пятам. Что мне делать? — Казюкас, ты поспи, пока мамы нет. Братишка смотрит на меня и улыбается. — Ну и хитрюга… Я знаю, куда ты удерешь. Я так и схватил Казюкаса за курточку. Неужто, правда, знает? — А ну говори, куда? — С Густасом в войну играть. Я отпустил братишку и облегченно вздохнул. Часы все тикают да тикают. Осталось всего полчаса. Тут в голову мне приходит спасительная мысль. — Казюкас, ты ложись, подарю ружье. — Насовсем? — На веки вечные. — Врешь… — На вот, бери, — я хватаю в углу игрушечное ружьецо и сую его братишке. Казюкас обеими руками крепко держит подарок. Он ликует. — Давай-ка ложись, а ну быстро! — подгоняю я его. Казюкас нехотя укладывается, рядом пристраивает ружьецо. Он прикрывает глаза. Я спешу к дверям. Запру его, ключ положу под камень, чтобы мама нашла, вот и все. — Не останусь один! — вдруг вскакивает с лежанки Казюкас. Вот проклятие! Но тут я замечаю через окно маму. Она возвращается из города, на плече у нее покачивается корзина — это она купила еды. — Тогда ничего не получишь! — бросаю я, выбегая за порог. Вацис уже в нетерпении. Он стоит под елью и тревожно озирается по сторонам. Запыхавшись, я останавливаюсь перед ним, но ни слова не могу выговорить. — Давай посидим, отдышись, — говорит мой друг. Мы садимся на мягкий мох у толстого ствола. Сначала молчим. Тихо гудит лес, под ногами журчит ручей. День в полном разгаре, солнце сильно печет, но здесь, под еловыми ветвями, хорошо и прохладно. Я начинаю дышать ровно, сердце успокаивается. — Красиво как! — говорю я Вацису. — Чудесные у нас леса, — соглашается он и внимательно глядит мне в лицо. Он ждет, что я скажу, какую тайну открою. Я осторожно оглядываюсь и спрашиваю: — Ты ничего подозрительного не заметил в лесу? Вацис мотает головой и еще пуще таращит глаза. Я насупливаюсь. — Долго еще будем мы терпеть, как Густас над нами издевается? — медленно спрашиваю я. — Не понимаю, куда ты клонишь, — немного помолчав, отвечает Вацис. Такой уж у моего друга нрав. Он не сразу соображает, о чем речь идет, не спешит с ответом. Вацис — он сперва обдумает, взвесит и только потом скажет свое слово. Так он разговаривает, работает он тоже так. Зато уж если даст слово, то непременно сдержит его. По правде говоря, медлительность Вациса меня чуть-чуть злит. — Густас шляется по деревне, задирает нос и болтает, что у нас теперь Германия, — продолжаю я. — Осел, — бормочет Вацис. — Мы должны объявить Густасу беспощадную войну. Наша мстительная рука должна покарать его отца и Пигалицу. Пионеры мы или нет? — Пионеры. — Горели баржи на реке или нет? — Ну, горели. — А чья это работа, а? — Партизан, — медленно выговаривает Вацис. — Давай организуем отряд юных партизан. Согласен? Вацис морщит нос, почесывает затылок. Потом он встает, закладывает руки за спину и начинает разгуливать передо мной. Подойдет к обрыву, потом снова возвращается к нашей ели. До чего же вырос Вацис за это лето, как вытянулся. Холщовые штаны ему чуть пониже колен, а рукава пиджака едва прикрывают локти. Я знаю, что у Вациса крепкая рука, что ему можно довериться. — Я же ухожу к кулаку, — тихо произносит Вацис. — Скотину пасти и вообще работать. Вот так новость! Ну, конечно: отец Вациса сам работать не может, и другого выхода нет. — Далеко? — В деревню Нетонис. — Ничего, это нам не помешает. Я буду к тебе ходить. Главное — это решиться. И потом, пока ты еще дома, мы можем много успеть. — А чего? Я что-то не понимаю. — Иди сюда, я тебе все объясню. Вацис снова садится рядом со мной, и мы долго шепчемся. Потом я вытаскиваю из кармана два сложенных листка бумаги. На них записаны задания юных партизан и клятва. Я протягиваю листки Вацису. Он шепотом читает: Мы, юные партизаны отряда «Перкунас», вступаем в борьбу со злейшими врагами народа — оккупантом и фашистом Дрейшерисом, его сыном Густасом, предателем и кровопийцей Пигалицей. С этой целью обязуемся: 1. РАСПРОСТРАНЯТЬ ЛИСТОВКИ ПРОТИВ ОККУПАНТОВ. 2. ПРОВОДИТЬ ДИВЕРСИИ ПРОТИВ ДРЕЙШЕРИСА, ГУСТАСА И ПИГАЛИЦЫ. 3. ВЕСТИ ДНЕВНИК ЧЕРНЫХ ДЕЛ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ ВРАГОВ. КОГДА ВЕРНЕТСЯ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ, ДНЕВНИК ВРУЧИТЬ ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ. ВРАГИ НАРОДА ПОНЕСУТ ЗАСЛУЖЕННУЮ КАРУ. Вацис умолкает. Он думает. Почему-то клятву он не читает. — Может, ты хочешь что-нибудь добавить? — спрашиваю я. Вместо ответа Вацис встает. — Тут все не в шутку придумано. Вставай, — велит он мне. Я поднимаюсь. Удивленно гляжу на Вациса. Лицо его серьезно. Таким он бывает, когда отвечает урок по арифметике. — Давай поклянемся, — говорит Вацис. — Ты читай, а я стану повторять. Я достаю из-за пазухи пионерский галстук. Я берег его все это время. Галстук я держу в правой руке. Вацис тоже берется рукой за конец галстука. — Мы, пионеры деревни Эглинай, — медленно и торжественно читаю я, — вступая в отряд юных партизан «Перкунас», клянемся народу быть твердыми и несгибаемыми борцами. Сражаться с врагом яростно и безжалостно до последнего вздоха, не щадя ни здоровья, ни жизни. Если кто-нибудь из нас дрогнет или поддастся врагу, да постигнет его народная кара. Пощады такому не будет. С минуту мы стоим и молчим. Оба мы взволнованы. Мы все еще держимся за концы галстука. А вокруг шумит лес. Огромный, загадочный и могучий. Кажется, будто и он вторит нашей клятве. Он да говорливая жизнерадостная речушка внизу. — Давай спички, — наконец произносит Вацис. Я прячу галстук за пазуху и подаю ему спички. — Теперь каждый наш шаг должен быть осторожным и обдуманным. А клятву и обязательства давай сожжем. — Давай. Я и наизусть все помню. Два бумажных листка превращаются в горстку пепла. — Надо устроить в лесу убежище, — говорю я. — В лесу и в деревне. Так будет надежнее. Станем менять явки, — предлагает Вацис. Все-таки замечательный у меня друг. С таким хоть в огонь, хоть в воду.III
Мы не предвидели, что устройство убежищ займет так много времени и вызовет столько хлопот. Правда, в деревне мы довольно быстро нашли себе место. На окраине, там, где ручей впадает в реку, остались развалины мельницы. До войны бойкий ручей вертел мельничные жернова. Немецкие танкисты решили, что на мельнице засели наши солдаты, и целых полчаса палили по мельничным стенам. От здания осталась груда камней. Зато внизу еще были подвалы. В одном из них мы и устроили себе убежище. Подвал был темный, весь в паутине, вонял тиной. Без огня ничего не разглядеть. Но нам только того и надо было. Мы притащили в подвал доски, два бревна. Доски должны были служить нам столом, обрубки бревен — стульями. Раскидали мы все в беспорядке, чтобы никто не заподозрил, что здесь были люди. В этом подвале мы решили печатать листовки и вести дневник. Труднее было устраивать убежище в лесу. Дело было в середине августа, самое грибное время. Густас надумал каждый день шляться по лесу с корзинкой. Мало того! Рядом с ножом на боку у него теперь болтался шестизарядный «монтекристо». В лесу Густас постреливал соек, диких голубей, пугал белок. Дома у него не было никаких дел и похоже было, что в лесу он и днюет и ночует! В первый же раз, когда я бежал в лес с лопатой, Густас попался мне навстречу. Подозрительно взглянул он на меня, потом на лопату и спросил: — Ага, а что ты там в лесу копаешь? — Лисью нору нашел, — как ни в чем не бывало, отвечал я. — Тебе надо завести себе такую файн-штучку, — сказал Густас и хлопнул рукой по стволу своего «монтекристо». — Мигом уложишь свою лису. — Тогда дай, чего жадничаешь? — Ага, оружие только немец может носить. Давай я с тобой пойду. Я вздрогнул. Вот он что придумал, дьявол. Уже не пронюхал ли чего? Надо от него отделаться. — Я нашел, а ты думаешь мою лису зацапать? Нет уж, не выйдет. Убирайся отсюда, — сердито прикрикнул я на него. Но Густас ни капельки не испугался. Он только положил руку на свой «монтекристо» и сказал: — Ага, сейчас все наше. Захотим — всех в Саксонию вывезем. Я прикусил губу. Взял себя в руки. Ведь мы с Вацисом договорились попусту Густаса не дразнить, быть осторожными. — Даже хвоста лисьего тебе не видать, — спокойно проговорил я и повернул в сторону дома. Вечером мы с Вацисом встретились. Надо было придумать, как отвадить Густаса от леса. Мы не будем в безопасности, если он и дальше будет там шнырять. Совещались мы долго и разошлись довольные. Наутро я встал рано, взял корзину и направился к усадьбе отца Густаса. Похоже было, что Дрейшерис решил прочно обосноваться у нас в деревне. Он снимал с крыши старую дранку и клал красную черепицу. Дом свой фашист окружил аккуратным высоким забором, в конуре у него сидела злющая большая собака. У меня так и потекли слюнки, когда мои ноздри уловили вкусный запах жаркого. — Чтоб вам подавиться, оккупантам, — злобно пробормотал я про себя и сплюнул. У ворот я остановился и стал ждать. Во двор вышла мамаша Густаса. Вперевалочку, точно жирная гусыня, проплыла она к амбару. — Что Густас, пойдет по грибы? — спросил я. Она удалилась, не произнеся ни слова в ответ. От амбара снова проплыла к избе. — А то, если пойдет, я бы обождал его! Я злился, плевался, но ждал. Через добрых полчаса появился Густас. Он тащил корзинку. Значит, все как надо, вот и отлично. — Йе, поспать не дашь, — проворчал он. — Я знаю грибное место. Давай-ка побыстрее, пока другие не нагрянули. — Ага, ты в грибах разбираешься, — отвечал Густас. Похвалил, стало быть, меня. — Полную корзину наберешь, вот увидишь. — Ага, пошли поскорей! Я шел рядом с Густасом и наблюдал за ним. Он, как обычно, был в форме гитлеровской молодежи, с ножом и «монтекристо». Я улыбнулся про себя. Мы вошли в лес. Я вспомнил дни, когда мы с отцом ходили по грибы. Отец водил меня по самым таинственным уголкам леса, где растут пузатые боровики, красавцы-подосиновики. Отец шел впереди и башмаками сшибал с травы росу. На усатой метлице, на всяких былинках висели тонкие паутинки. Под солнечными лучами капельки росы блестели на них, точно стеклянные бусинки. На деревьях птицы стряхивали с себя ночную влагу. Там, где трава была повыше или тянулись заросли крапивы, отец сажал меня к себе на плечи, и я путешествовал словно верхом. Руками я доставал ветки орешника, облепленные зелеными еще плодами. Где теперь мой отец? Я твердо верю, что он жив. И это еще не все! Я храню тайну, которая известна только мне одному. Даже маме, даже Вацису не проболтаюсь. Я верю, что мой отец в партизанах. Он снится мне — с оружием в руках. Я жду от него весточки и знаю, что дождусь… Я мельком взглянул на Густаса. Это фашисты виноваты, что мой отец не может жить дома. Я едва не схватил Густаса за глотку. И не помог бы ему ни нож, ни «монтекристо». Но я должен держать себя в руках. А то погорячусь и все испорчу. Я вел Густаса в глубь леса. Туда, где сливаются оба рукава ручья, где на крутом глинистом обрыве растет старая ель. Тропинка стала тоньше, потом вовсе исчезла. Кругом одни деревья — могучие, развесистые. — Йе, что-то не видать тут грибов, — заметил Густас. — Еще чуть подальше. Там и искать станем. Мы уходили дальше. Я видел, что Густас начинает беспокоиться. Мрачный лес его пугал. А мне только того и надо было. — Гляди-ка, кабаны ходили, — шепнул я ему. Земля была истоптана, разрыта. Кому принадлежат эти следы, мне было ясно. — Йе, да ведь кабан на человека бросается, — испуганно проговорил Густас. — Вмиг кишки выпустит. Клыки у него острющие. — Я пошел домой, — заявил Густас. — Дальше мы и не пойдем. Только на обрыв заберемся, а там самые боровики. Хоть косой коси. Густас колебался. По лицу видно было, что ему страшно. Что же победит — страх или жадность? — Йе, боровики — файн штука. Ступай ты вперед, — решил Густас. Трудно было взбираться на крутой глинистый обрыв. Густас совсем запыхался. Отдувался, пыхтел. Я влез первым, отошел немного и спрятался за дерево. А вот и Густасова голова показалась. Он взобрался на обрыв и остановился — отдышаться. Стал глядеть по сторонам. Вдруг в зарослях затрещало, зашумело, оттуда выскочил огромный кабан и, прямиком через ельник, кинулся к нам. Завидев косматую спину, я кинулся ничком на землю. — Спасите! Спасите! — заорал я не своим голосом. Я орал, а сам потихоньку наблюдал за Густасом. Дико вопя, он помчался к обрыву и слетел оттуда, как сквозь землю провалился, — кубарем скатился вниз и шлепнулся прямо в ручей. Так, голося, он и помчался домой. Даже из «монтекристо» пальнуть не успел. Возле меня с хохотом катался Вацис. Глаза его так и горели от радости. — Быстро скидывай тулуп и бежим отсюда, — спохватился я. Вацис проворно скинул «кабанью шкуру» — вывернутый наизнанку отцовский тулуп. — Ты ступай в деревню один, а я потом, — решил Вацис. Перед уходом мы взглянули на обрыв. По всему глинистому склону, где прокатился Густас, тянулся след. Под обрывом, у самого ручья, валялась корзинка. — Вот славно! — радовался я. — Совсем отлично. Однако рано мы обрадовались. Как только я возвратился домой, к нам во двор заявился Дрейшерис. Он был в коричневом гитлеровском мундире. За спиной у него торчал карабин. Дрейшерис сердито волочил свою хромую ногу, а лицо у него было мрачное, как туча. Мама, я и Казюкас стояли во дворе. Дрейшерис даже не поздоровался, а сразу уставился на меня. — Вот что, стало быть: здоров, а мой Густас в постели лежит. Мать взглянула на Дрейшериса, потом на меня. Я ничего ей не рассказывал. — Мы ходили с Густасом за грибами. Кабан напал, — пробормотал я. — Вот что, стало быть, Густас на человека не похож был, когда прибежал да и упал замертво. Дрейшерис так и сверлил нас взглядом. Было видно, что он мне не верит. — Вот что, схожу-ка я в лес да и подкараулю этого кабана, — заявил Дрейшерис и, хромая, ушел со двора. — Опять что-то натворил?! — кинулась ко мне мама. — Отец бы тебе всыпал, будь он дома. «Отец бы только похвалил. Фашистов он издалека ненавидит», — подумал я, а вслух сказал: — Густас кабана испугался, чуть не помер со страху. — Так ему и надо, — заявил Казис. Я взглянул на братишку и незаметно подмигнул ему.IV
— Можно, я пойду ночевать к Вацису на сеновал? — стал я проситься у мамы, как только начало смеркаться. Мама роется в шкафчике, что-то ищет. Ворошит тряпье и сердито говорит: — Сюда я положила свечи, а теперь никак не найду. Я так и замираю. Что-то теперь будет? — Казюкас, ты не брал? — Я даже не видел… — Не растаяли же они. — Может, лампу зажечь, — предлагаю я. — Керосина-то ни капли нет. Мама стоит у шкафчика сердитая. В комнате темновато, но мне видно, что лицо у мамы осунулось, побледнело. Она так много работает. На ней теперь все заботы. Отец оставил нам лодку, сети, вентери, но у меня рыба ловится плохо, а мама тоже не очень-то зарабатывает на прополке чужих огородов. Зато она очень бережлива, все экономит. Даже свечи. Как же мне быть? Может, положить на место? — Мама, знаешь, завтра я целый день буду рыбу ловить, — обещаю я твердо. — Хорошо бы, — одобряет мама. — Казюкасу из одежки что-нибудь купим, тебе тоже надо… — Мне лучше сапоги, — заявляет Казис и прижимается к маме. Какое-то время мы все молчим. — Мама, так я пойду. Мама не отвечает. Значит, можно. Я, не мешкая, удираю. Хорошо лежать на душистом сене. Сена тут — почти до потолка. Мы с Вацисом лежим одетые. Сквозь щели в крыше видно небо, глубокое, усеянное звездами. Ночь светлая. Во дворе раздаются шаги, тихое ржание лошади. Это ходит отец Вациса, собирается ложиться. Еще через полчаса все затихает, все засыпают… — Пошли, — я встаю. Мы быстро соскальзываем с сена. Вацис осторожно приотворяет дверь сарая. Становится светлее. Он отводит меня в самый угол. Здесь стоит верстак, висят пилы, молотки, сверла. Вацис вытаскивает из-под груды опилок красивую квадратную коробочку. Открывает ее. А там — вырезанные из липовых дощечек буквы величиной с мизинец. Целая азбука. Я набираю полную горсть этих буковок. До чего же здорово выпилил их Вацис! А мой друг немного отходит в сторонку, потом берет с верстака гитару и протягивает ее мне. Не отличишь от покупной. На черном грифе даже поблескивают перламутровые крапинки. И струны! Я провожу по ним рукой. Гитара тихо звенит. — Сам сделал? — Много пришлось потрудиться, — отвечает Вацис. Потом, помолчав немного, добавляет: — Эту продам, другую сделаю. Вот оно что. Конечно, если бы можно было подработать, отец не стал бы отдавать Вациса кулаку. — Эх, — вздыхает Вацис, берет у меня гитару и кладет ее обратно на верстак. Мы берем с собой коробку с буквами, бумагу, чернила и выскальзываем на улицу. В лунном свете все кажется загадочным, странным. Крохотная избенка отца Вациса похожа на копну сена. Деревья выглядят облаками, которые спустились на землю. А до чего длинным сделался колодезный журавль… Осторожно, кустами, стараясь держаться в тени, приближаемся мы к развалинам мельницы. То там, то здесь взлаивают собаки, поскрипывают ставни либо двери, и снова тихо. А вот и мельница. Мы забираемся в подвал. Наглухо закрываем дверь. Нас окружает сплошная темнота, чернее черного. Слепая-преслепая. Ничего не видно. Я достаю свечи из внутреннего кармана курточки. — Зажигай, — шепотом прошу я. Вацис чиркает спичкой. От пламени свечи по стене подвала пляшут диковинные тени. А вот и наш стол, вот стулья. — За работу, Вацис, — весело говорю я. Мой друг открывает коробку. Достает оттуда буквы, бумагу. Выкладывает на стол кисточку, чернила, тетрадку для дневника. — Ну и голова, — я хлопаю себя по лбу. — Нам же надо выбрать командира. В каждом партизанском отряде есть командир. — Пока нас двое, зачем нам командир, — отвечает Вацис. — А хочешь, можешь ты быть. — Нет, обождем пока, — решаю я подумав. Вацис расправляет лист бумаги. Берет букву «С». Кисточкой, обмакнутой в чернила, закрашивает ее снизу. Потом прижимает букву к бумаге. Буква выходит четкая, чуть пошире, чем деревянная. — Надо очень осторожно, а то сольются, — предупреждает меня Вацис. Примерно полчаса трудимся мы усердно и напряженно, и вот на одном листке уже написано: «Смерть фашисту Дрейшерису!», а на другом: «Смерть оккупантскому прихвостню Пигалице!» Под каждой надписью стоит подпись: «Партизаны отряда «Перкунас». — А теперь давай дневник писать, — торопит меня Вацис. Мы решаем вести дневник по очереди. Первым начинаю я. Ставлю число. Закончив, я шепотом перечитываю написанное: «Оккупант и колонист Дрейшерис во всеуслышание заявляет, что литовцы, русские, поляки будут рабами и станут чистить немцам сапоги. Дрейшерис перегородил дорогу, которая с давних времен проходит через деревню, и не дает никому по ней ездить и ходить. Он говорит, что по своей земле он один имеет право ходить и ездить. Людям приходится делать большой объезд, они проклинают оккупанта. Дрейшерис доносит на крестьян в жандармерию, он выдает, кто прячет от оккупантов зерно и скот. От отца не отстает и его сынок Густас. Он настоящий шпик у жандармов. Слоняется по деревне и собирает слухи. Особенно следит он за усадьбами «Ванагас» и «Ажуолас». Вообще этот юный фашист задирает нос и всех презирает. Пигалица в своем доме поселил родственников, а сам убрался в город. Он работает на немцев. На днях он вместе с другими конвойными пригнал к реке целую толпу из гетто. Они начали делать насыпь. Конвойные заключенных зверски избивают. Пигалица носит дубинку. Ею он приканчивает обессилевших от голода людей». — Складно у тебя выходит, — говорит Вацис. — А что, плохо? — У меня бы так не получилось. — Пустяки, — я пренебрежительно машу рукой. Наши листовки высыхают. Буквы, дневник, бумагу, чернила и кисточку мы кладем в коробку и прячем под камнем в углу. Внимательно осматриваем наш подвал. Нельзя оставить ни оброненной спички, ни обрывка бумаги, ни вообще какого-нибудь следа. Даже накапавший стеарин мы соскабливаем с досок и кладем в карман. Гасим свечи и тоже прячем их под камень. Берем наши листовки и выходим наружу. Ночь все такая же таинственная, полная теней. — Смотри, как четко видна Большая Медведица, — говорит Вацис и, запрокинув голову, глядит в небо. — Да перестань ты думать о чем не надо, — готовься к диверсии. Мне нравится слово «диверсия». Откуда я его узнал, не помню. Смысл его, однако, я понял. Это значит — вредить врагу, бить его, уничтожать — вот какое это замечательное слово. Через полчаса мы уже возле того самого места, где Дрейшерис перекрыл дорогу. Предатель глубоко вогнал в землю колья, обмотал их колючей проволокой. Однако колья мы ухитряемся выдернуть, вместе с колючей проволокой оттаскиваем их к реке и там топим. Потом бесшумно, точно тени, подкрадываемся к дому Дрейшериса. Даже собака не почуяла, что мы тут. К воротам прикрепляем листовку «Смерть фашисту Дрейшерису!». Вторую оставляем для Пигалицы. Выполнив боевое задание, довольные, мы возвращаемся к Вацису. Неподалеку от гумна садимся отдохнуть. Над головой раздается тяжелый гул. На запад летят самолеты. — Наши, — говорю я Вацису. — Подарочек Гитлеру несут. Самолеты летят высоко, без огней. Гул удаляется. — Вацис, я тебе не говорил. Мой отец партизан. — Правда? — Как-нибудь ночью придет. Я жду… Вдруг со стороны города доносится пулеметная очередь. Пулеметы надсаживаются, точно стая голодных волков. На мгновение затихают и снова принимаются строчить. Становится жутко. Значит, правду говорят люди, будто по ночам евреев из гетто расстреливают. Перед самым рассветом. Когда все спят. Мы встаем и бежим к сеновалу. Пулеметы не умолкают. А ночь такая ясная, прозрачная, далеко слышно. Да только лучше бы не слышать… С самого утра мы с Вацисом собираемся на рыбалку. Сегодня лучше дома не сидеть. Вацис берет с собой краюшку хлеба, кусок сала. На реке пробудем целый день. Еда пригодится. Мне мама тоже дает с собой поесть. Мы берем сеть-волокушу, веревки и бежим к реке. С утра задувает несильный западный ветер. Я ставлю паруса. Пробую. Все в порядке, ветер лодку гонит. Вскоре берег удаляется. Я сижу на корме у руля, а Вацис придерживает парус. Вода плещет за кормой. Из-за туч выглядывает солнце. Ясное, чистое. Такое веселое. Теперь мы с Вацисом можем поговорить свободно. Никто не подслушает. — Наш отряд должен расти. Кого ты предлагаешь принять? — спрашиваю я. Вацис, как обычно, не торопится с ответом. И правда, сразу трудно подобрать новых членов для отряда. Деревня наша невелика. Пионеров только нас двое. Остальные ребята или слишком малы или уже почти взрослые. — Надо связаться с другими деревнями, — предлагает Вацис. — Согласен. По-моему, подошел бы Стасис из Пипляй. Как-то я ему верю. Похож на настоящего человека. — И правда, — соглашается Вацис. — Ладно. Я к нему схожу. Лодка круто идет против течения. Деревня остается позади. Я вспоминаю нашу ночную вылазку и задумываюсь. По лицу моего друга видно, что и он думает об этом же. Интересно, что сейчас творится в усадьбе Дрейшериса? Заметили или нет, что забор исчез? Густас, должно быть, поскакал в городок доносить жандармам. Ищи ветра в поле! А Пигалице и не снится, что у него дома делается. Ничего, вернется в воскресенье домой, найдет привет. Мы доплываем до того места, где евреи из гетто строят насыпь. В ушах у меня еще звучат ночные пулеметные очереди. После каждой ночи к насыпи сгоняют все меньше народу. Рабочая бригада тает с каждым днем… Мы закидываем сеть. Когда вытаскиваем ее на берег, обнаруживаем там килограммовую щуку, широкого, точно крышка от котла, леща, нескольких окуней. — Начало хорошее, — говорю я Вацису. Внезапно за спиной у меня раздается покашливание. Я оборачиваюсь. Из кустов на нас глядит человек. Высокий, тощий, заросший. Человек пальцем указывает на рыбу. Я догадываюсь. Хватаю леща и протягиваю ему. Вацис отдает свой хлеб и сало. — Спасибо вам, — низко склонив голову, шепчет человек. Он поворачивается, чтобы уходить. В тот же миг на него, злобно рыча, кидается огромная собака. Человек отскакивает в сторону. Собака настигает его и впивается зубами в спину. Человек не сопротивляется. Он только поднимает высоко над головой рыбу и хлеб с салом. — Весло неси! — кричит мне Вацис. Мы бежим с веслами к собаке. — Ни с места, паршивцы! Стой! С автоматом, направленным прямо на нас, из кустов вылезает Пигалица. За ним идет пожилой сутулый немец. Лицо Пигалицы искажается гнусной ухмылкой. — Это ты, большевистское отродье, да ты, батрачонок, такие добренькие! Ну и повеселю я вас, Нерон, за дело! Собака с лаем снова кидается на человека. Она опрокидывает его на спину, рвет лицо, руки… Человек роняет хлеб… Защищаясь, он обхватывает собаку за шею. Начинает сжимать, душить. Заметив это, немец приближается к ним и бьет человека по рукам. Тот выпускает собачью шею и поворачивается лицом к земле. Пес рвет спину. Наконец немец оттаскивает собаку. Человек медленно поднимается. Одежда его изодрана, лицо в крови. — Нерон, за работу! Пигалица подталкивает хлеб и сало собаке. Та пожирает сало, а человек с желтым лоскутом на спине закрывает руками лицо. Хлеб собака не ест, а только надкусывает его и держит в пасти. — Ну, благодетели, убирайтесь, пока я добрый! — орет нам Пигалица. Однако немец иного мнения. Он приказывает Пигалице отобрать у нас рыбу. И ту, которую отдали заключенному, и ту, что трепыхается в сети. Немцу, видимо, сильно хочется рыбы — вон он как причмокивает своими синими, бескровными губами. Мы укладываем сеть. Отталкиваемся, отплываем от берега. Нам видно, как фашисты уводят обессилевшего заключенного. Пигалица оборачивается и несколько раз стреляет в воздух над нами. — Сволочь! — вскипаю я. — Закинем снова? — спрашивает Вацис. Голос его дрожит. — Конечно закинем. Пусть не думают… Однако долго рыбачить нам не пришлось. После третьего заброса я увидел мать, которая бежала к реке с тревожным лицом. — Кто это стрелял? — спрашивает она. Я рассказал ей, как было дело. — Чуяло мое сердце, — говорит мама. — В деревне тоже неспокойно. Все шепчутся, все на ногах. Говорят, ночью партизаны приходили. Дрейшерис в город полетел — начальству доносить. Бумажку какую-то нашли. Не знаю, что теперь будет. Давайте-ка домой. Мы с Вацисом переглядываемся. Ага, жаловаться поскакал. Значит, горит земля под ногами у оккупантов, горит…V
Через несколько дней, когда все успокаивается, мы с Вацисом снова встречаемся в подвале мельницы. Мой друг скис. Уже все решено. До зимы он будет пасти стадо. В школу не то пойдет, не то нет. Чего доброго, и на зиму возьмет его кулак в батраки… — К зиме, может, уже ни оккупантов, ни кулаков не будет. Слыхал, фронт к западу движется, — утешаю я Вациса. Вацис шевелит губами, но я ничего не слышу. Мой друг всем телом налегает на дневник и пишет. Я печатаю листовки. Одна уже готова. На ней большими буквами напечатано: ТОВАРИЩИ, НАСТАНЕТ ДЕНЬ, КОГДА ЛИТВА СНОВА БУДЕТ СВОБОДНОЙ. БОРИТЕСЬ С ОККУПАНТАМИ. ПРЯЧЬТЕ ЗЕРНО И МЯСО. ФАШИСТЫ МНОГО ЖРУТ, А ПОТОМ УБИВАЮТ ЛЮДЕЙ. ОКО ЗА ОКО, КРОВЬ ЗА КРОВЬ! Я показываю листовку Вацису. Он читает, задумывается и говорит: — Начало хорошее. Конец может быть страшный. — Никакой пощады врагу! — выпаливаю я в ответ. Вацис склоняется над дневником. Я энергично печатаю дальше. Дело подвигается туго. Несколько десятков листков я уже испортил, руки перепачкал чернилами. Буквы выходят косоватые, толстые. — Точка, — отрывается от дневника Вацис. — Не знаю, хорошо ли вышло. Я беру дневник и читаю: «Юные партизаны отряда «Перкунас» навели панику среди оккупантов. Дрейшерис вызвал жандармов. Гестаповцы обшарили лесные опушки, наведались в дома. Дрейшерис показал им найденную на воротах листовку и что-то втолковывал. Однако гестаповцы никого не тронули и убрались восвояси. Дрейшерис и его сынок Густас ложатся спать, не расставаясь с оружием. Еще дотемна закрывают ставни, запирают все двери, спускают собаку. Всех клянут. Даже гестаповцев болванами обзывают. Дрейшерис говорит, что он сам большевистское семя истребит. Пигалица недостоин звания человека. В прошлое воскресенье он приехал из города на извозчике. Люди видели, как он таскал в дом вещи, тяжелые чемоданы. Говорят, что это вещи евреев, убитых в гетто. Пигалица в тот вечер пьянствовал. Потом стал швырять родственникам кровавую одежду и орал: «Нате — тряпки! Какой от них толк! Вот золото — это другое дело!» Потом снова пил и ругался». — Не совсем то, что надо, — откровенно сказал я Вацису. — Лучше у меня как-то не получается. Я молча беру у него ручку и дописываю: «Пигалица — людоед, фашистский блюдолиз, убийца невинных людей, бродячий пес и пьяница. Чем скорее надо смести его с поверхности земли. Мера наказания — виселица». Мы прибираем в нашем подвале, договариваемся ночью распространить листовки, потом расстаемся. Первым выбираюсь из подвала я, а через полчаса Вацис. Так безопаснее, меньше будем мозолить людям глаза. Я ныряю в кусты и спускаюсь к реке. День стоит теплый, на небе легкие пушистые облачка. Неплохо бы искупаться. Однако не успеваю я отойти и на сотню шагов от нашего убежища, как словно из-под земли вырастает передо мной Густас. Одна рука у него в кармане штанов, другая — на прикладе «монтекристо». Густас встает у меня на дороге и, кажется, не собирается посторониться. Он улыбается. Что все это означает? Я сунул руки в карман и, как ни в чем не бывало, спрашиваю: — Скажи, Густас, это правда, что у твоего отца кто-то забор своротил? — Йе! Ты лучше скажи, что ты там пишешь в кустах — нос-то весь в чернилах! Я вздрогнул. Пока печатал, я, должно быть, и выпачкал нос чернилами. Густас что-то подозревает. — Мой нос тебе не мешает. А что, отец твой новый забор поставит или так будет? — Йе! Забор будет заминирован. Увидим, — тянет Густас. И тут же добавляет: — У тебя в носу всякой дряни полно. Отец выяснил, что у нас в лесу кабанов нет. Это были косульи следы. — Отчего же ты так улепетывал? — я пожимаю плечами. — Йе, йе, — мычит Густас, но с дороги не сходит. Я размышляю. Вацис, должно быть, уже вышел из подвала. Густас может и его увидеть. Нечего так долго с оккупантом лясы точить. — Да не мычи ты, а лучше убирайся с дороги, — говорю я и делаю шаг ему навстречу. Напрасно я полагаю, что Густас уйдет. Мы сталкиваемся лицом к лицу. Драки не избежать. Я кидаю его на землю и хватаю за правую руку, в которой он держит «монтекристо». Выкручиваю ее. Густас издает вопль, и оружие падает. Ногой я отталкиваю «монтекристо» подальше. Тем временем Густас царапает мне лицо. Я чувствую острую боль. «Задушить гада», — мелькает в голове мысль. В бешенстве хватаю я его за горло. Густас начинает хрипеть. Внезапно я чувствую пинок. Потом еще. В глазах темнеет. Собрав все силы, я вскакиваю. Над нами стоит отец Густаса. — Вот что, прикончу я тебя, маленький большевик! — кричит он. — Йе, этого ерша колючего я сам уложу, — вопит Густас и хватает «монтекристо». — Да убирайся же ты! — набрасывается на сынка Дрейшерис и отнимает у него оружие. Мне понятно все. На сей раз оккупант удовлетворяется несколькими пинками. Эх, был бы тут мой отец! Прихрамывая, я иду домой. Я не плачу. Умываюсь, привожу себя в порядок. Дома я стараюсь, чтобы мама не увидела моего исцарапанного лица. — Мама, а Йеронимас весь в крови, — выдает меня Казюкас. Мама подходит ближе, берет меня за подбородок, заглядывает в лицо. — Густас? — спрашивает она. — Оба. Он и папаша. — Не связывайся ты с ними, не лезь. Прошу тебя. И так горя хватает. Я молчу и сжимаю кулаки.VI
Я просыпаюсь от грохота. Открываю глаза. В избе темно, а за окном хлещет дождь. Молнии полосуют небо, на мгновение освещая избу. Гром гремит прямо над вершинами деревьев и крышами, тут, у нас в деревне. Свистит ветер, окно дрожит от дождя. От грозы мне не спится. Лежу с открытыми глазами и смотрю, как дождь хлещет в окно. Смотрю и думаю. Я вспоминаю Вациса. Три дня назад я проводил его в соседнее село. Там он будет пасти кулацкое стадо. Вацис ушел в своей куцей одежонке, с мешком за спиной. Не оставил он дома и гитару. — Знаешь что, я решил ее не продавать, — сказал он. — Вот послушай. Вацис присел на кочку, взял гитару, тронул струны. Заиграл и запел:Слух идет, идет с границы,
Скакунов седлайте…
Однако лечь мне не удалось. Пока я возвращаюсь, начинает светать. С рассветом по деревне разносится недобрая весть: немцы ищут еврея, убежавшего из гетто. «Пусть ищут. Найдут, как иголку в стоге сена. Ламанкский бор велик», — радуюсь я. Но что будет, если они проникнут в подвал мельницы? Тоже ничего. Камень прочно закрывает тайник, где лежит наша коробка, а несколько досок да бревна ничего фашистам не скажут. И все-таки неспокойно. Я вижу, как мама готовит завтрак сама не своя, а меня все гонит спать. Казюкасу тоже не велит вставать. Еще тревожнее становится на душе, когда я замечаю в окно, как к нам во двор направляются фашисты. Они уже обшарили соседний дом, а теперь идут к нам. Впереди «Нерон». Та самая собака с черной мордой, которая тогда терзала упавшего человека. Часть остается на улице, а Дрейшерис, Пигалица и тот самый старый немец с синими губами, которого мы с Вацисом видели у насыпи, вваливаются в избу. — Где бандит, удравший из гетто? — с ходу заводит Пигалица. — Немедленно выкладывайте, где он? — Вот что, давайте-ка поскорей! — рявкает и Дрейшерис. Фашисты наводят на нас карабины. Неужели кто-нибудь видел ночного гостя? Неужели выдали? — Не видали мы, ничего не знаем, — говорит мама. — Не видали? — передразнивает Пигалица и вдруг вытаскивает из кармана клочок бумаги. — Может, и этого не видали? Пигалица тычет маме в нос листовку, которую писал я. — Ты же первый раз мне показываешь, — отвечает мама. — Это же работа твоего большевика! Ну, будет с нас! Пора покончить с этим бандитским гнездом! Меня так и пробирает дрожь. Дрейшерис что-то говорит немцу на их языке. Тот кивает своей огромной головой, выплевывает изо рта сигарету и подходит ко мне. Берет за подбородок, крепко сдавливает, а потом давит мне на плечо. — На колени. Немедленно отвечай: приходит по ночам отец домой или нет? Где бандит из гетто?! — орет Пигалица. Раздается визг Казюкаса. Как хорошо, что ночью он спал и ничего не видел. Мама бросается ко мне, но немецкий карабин упирается ей в грудь. — Считаю до трех, — наведя на меня оружие, продолжает Пигалица. — Ничего он не знает! Не мучайте вы ребенка! — умоляет мама. — Раз, два… Я молчу. Почему — сам не знаю. Не могу вымолвить ни слова, не могу перевести дыхание. Эх, не вопил бы так братишка, не стонала бы мама. — Ну, где бандит? — Вот что, он сам настоящий бандит! — говорит Дрейшерис. — Я спал, ничего я не знаю! — наконец вырывается у меня. — Нечего с ним возиться. Посидит в холодной, все выложит, — и Пигалица опускает карабин. — Одевайся, пойдешь с нами. — Не пущу! — мама отталкивает немца и кидается ко мне.

Я вижу, как немец толкает ее. Мама падает на пол. Заходится, дергаясь в судорогах, Казюкас. И тут меня охватывает ярость. Пусть, пусть гонят, куда хотят. Посмотрим! Меня ведут по главной улице деревни. Людей во дворах не видно. Даже в окнах никого нет. Только жена Дрейшериса и Густас смотрят, как меня ведут. Густас победно улыбается. «Еще посмотрим, кто будет смеяться последним!» — думаю я и с высоко поднятой головой прохожу мимо врага. Меня ведут в сторону леса. Я вижу стадо. Неужели Вацис? Ну да, так и есть. Вацис, словно чуял беду — пригнал своих коров на опушку леса, поближе к городку. Мой друг стоит у дороги с гитарой в руках. Я вижу, он взволнован. Вацис подбегает ко мне и зачем-то сует в руки гитару. Я пожимаю плечами. Пигалица ударяет рукой по гитаре. Та падает на пыльную дорогу. Струны лопаются и жалобно стонут. — Паси, паси, мы и до тебя доберемся! — кричит Вацису Пигалица. Мы уходим, а Вацис так и остается посреди дороги. Как его успокоить, приободрить? Как сказать ему, что фашисты ничего от меня не добьются, что я непременно вернусь и мы еще нагоним на них страху? А когда встретимся с партизанами из Ламанкского бора, с моим отцом, он скажет: «На этих парней можно положиться, они настоящие борцы».
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
VII
Меня одолевают полчища тараканов. Черных и бурых. Они идут ровными колоннами, точно фашисты. Тараканы растут, растут и превращаются в крыс. Крысы ощерили пасти, таращат глаза. Впереди у них — самая огромная крысища. Она ведет остальных, и они окружают меня. Ой, да ведь это не крыса, а Пигалица. Это его крысиные глазки устремлены на меня, это он ощерился и готов впиться мне в горло. А те, меньшие крысы, уже грызут мои руки, ноги, уши. Я отбиваюсь, кричу и куда-то проваливаюсь… Никого нет. Нет тараканов, нет крыс, Пигалицы нет, нет меня самого… И вдруг снова крысы бросаются на меня. Щелкают зубами, вгрызаются мне в бока. Больнее всех кусаются те, у кого морды вроде лиц Пигалицы, Дрейшериса, старого немца. Они лезут на грудь, в лицо. Ага, а вот и крыса, похожая на Густаса. Она бегает вокруг меня, подзадоривает остальных и гнусно пищит. Да, конец мне. Крысы меня сожрут. Уже нет сил защищаться. Руки мои бессильно поникли, ногами я не могу пошевелить. И кричать больше не могу. Вацис! И правда, это он. Мой друг с дубиной бросается на крыс. Что он делает? Это же мне только показалось, что у него в руках дубина. Вацис бьет крыс гитарой. Струны так и стонут, лопаются, а крысы хохочут. Да нет же, нет, это вовсе не Вацис. Отец! Мой отец. С автоматом в руках. Я кричу, собрав последние силы. Кричу, и… все исчезает. …Я открываю глаза. Где я? Дома, на большой отцовской кровати. Около постели стоит стул. На нем полно больших и маленьких бутылочек. Лекарства. А почему так светло? Окно избы изукрашено ледяными тюльпанами. Неужели зима? А это что? Рядом с маминой кроватью стоит маленькая кроватка, белая, плетеная. Чья она? Должно быть, купили для Казюкаса. А почему на полу нет крыс? Может, я не у себя дома? Нет, тут все знакомое, свое. Вот на большом гвозде у печи висит длинная связка лука, вот в углу сеть, веревки, вот отцовские сапоги, вот… Но где же мама, Казис? Где я был? Я хочу поднести руку ко лбу, но она не слушается меня. Чуть приподнимаю, и она снова бессильно падает на одеяло. Я вижу, какая худая у меня рука, вся белая-пребелая, в синих жилках и каких-то красных шрамах. Что же произошло? Постепенно мысли мои приходят в порядок, проясняется голова. Да, верно… Была ночь, гремел гром, был незнакомый человек, была Большая Липа… А потом? Потом Пигалица, Дрейшерис, беззубый старый немец, пес с черной мордой… Потом городок Пушинай, подвал гестапо, потом… Я задрожал. Показалось, будто я снова в подвале гестапо. Я чувствую удары кожаной плетки лейтенанта Шмита. И будто снова Пигалица дерет меня за уши. Так больно, до звона в голове, до темноты в глазах. А потом, что было потом? Крысы. Ночью на меня напали сотни крыс. Так бы и сожрали. А почему же не сожрали? Не помню, ничего не помню. А что, если я потерял сознание и все выдал? На лбу у меня вдруг выступает пот, я задыхаюсь. Дурак, просто болван безмозглый. Разве лежал бы я сейчас дома, если бы фашисты все узнали? Я успокаиваю себя, только успокаиваю. Но наверняка ничего не знаю. И правда, где же мама? Где Казис? В сенях раздается стук. В комнату с клубами морозного воздуха вваливается Казис, а вместе с ним девочка. Чуть поменьше его. Незнакомая. — Казис, поди-ка сюда, — зову я брата. — Скажи, где Вацис? Казис удивленно хлопает глазами, разевает рот, хватает за руку девчонку и кричит подпрыгивая: — Йеронимас заговорил! Йеронимас разговаривает! Девочка топает ногами вместе с Казисом и тоже лепечет: — Разговаривает, разговаривает… — Будет вам. Казис, быстро говори, что с Вацисом? Казис и девчонка подходят ко мне. У обоих лица раскраснелись. — Твой Вацис-барбарис у кулака служит. Я закрываю глаза. Значит, фашисты ничего не разнюхали. Точно камень сваливается с сердца. Потом я снова открываю глаза и смотрю на ребятишек. Они уже раздеты. Сидят на полу и играют. Казис строит из чурбачков дом. Девочка носит от печки «бревна». Казис весь ушел в работу, от усердия даже язык высунул. Дом растет. В избе пахнет сосновой смолой. Теперь мама и дрова сама колет. — Казис, а где мама? — В аптеку пошла. Это из-за меня столько хлопот. Скорей бы уж встать. — Еще выше давай, выше, — просит Казиса девочка. — Вот такой, — она поднимает руку, хотя дом и так уже высотой с Казиса и куда выше ее самой. Чья же это девочка? — Казис, это твоя подружка? — Нет, не подружка. Это наша сестренка, — даже не взглянув в мою сторону, отвечает Казис. — Брось баловаться. — Правда, я ваша сестренка, а вы мои братья, — говорит девочка. И эта тоже шутить умеет. Ладно, пусть. Зато какая красивая! Глаза большие, черные, горят, как дубовые угольки. Волосы курчавые, как шерсть у барашка. Года четыре ей будет, не больше. Но уж и врут оба, точно сговорились. Сестренка объявилась! — А как тебя звать? — спрашиваю я. — Оля. Я стараюсь припомнить, у кого из нашей родни есть девочка, по имени Оля. Кажется, ни у кого. По-видимому, пока я болел, что-то произошло у нас дома. Эта белая плетеная кроватка, выходит, Олина. Эх, скорей бы мама приходила. Она мне все объяснит. Как по заказу раздается стук двери. — Мама идет! — звонко выкрикивает Казис. — Мама, мама! — радостно вторит девочка. Вот это да! Она и правда зовет мою маму мамой. Ничего я не понимаю, совсем ничего.VIII
— Сегодня ночью у нас будут гости, — шепотом говорит мне мать, когда Казис и Оля засыпают. — Какие гости? — Сам увидишь. А пока запасись терпением, — загадочно велит мне мама и старательно завешивает окно толстым одеялом. Что случилось с моей мамой? За три месяца, пока я тяжело болел, она сильно переменилась. Я уже знаю, что из городка она привезла меня еле живого. Раньше мама всего боялась, глаз на оккупантов не поднимала, а тогда, говорят, на весь городок кричала: «Что вы наделали, убийцы проклятые!» Теперь у мамы иной разговор. — Недолго гулять Пигалице да всяким Дрейшерисам, — говорит она. Мама повеселела, только непонятно отчего. Я догадываюсь, что она что-то скрывает от меня. Чего-то не договаривает. Может, она узнала что-нибудь об отце? — Тук, тук, тук, — я слышу, как стучит мое сердце. Мама должна была бы рассказать мне, что да как. А если отец?.. Скрывает она от меня, многое скрывает. Вот хотя бы эта Оля. Мол, это наша дальняя родственница. Родители у нее погибли в первые дни войны. Оля была в яслях. Мама узнала, где она, и взяла на воспитание. Ведь она уже давно хотела девочку. Может, и так… Или вот еще. У мамы новое платье. У Казиса сапоги. Откуда все это? Кто нам помогает? Мама мне не говорит. Но ведь я тоже не все ей говорю. Она же ничего не знает о наших с Вацисом делах. Хорошо это или плохо? Хорошо. Военную тайну никому нельзя выдавать. Никому, даже матери. Зато мамины тайны не дают мне покоя. Не могу я спокойно лежать и болеть. Что-то происходит, что-то творится в доме, а я тут ни при чем. Нет, это никуда не годится. «Будут гости». Когда они придут? Я вижу, мама тоже беспокоится. Тихо расхаживает по избе, останавливается, прислушивается. За окном время от времени проносится порыв ветра. Так и вижу, как он крутит снежные воронки за углом, у забора. Снега выпало много, земля плотно окутана толстым покрывалом. Говорят, у Густаса покупные лыжи. Ну и пусть. Вот встану я, пойду к Вацису, хоть он и в другой деревне. Мы себе не хуже лыжи смастерим. А для Казиса с Олей устроим на реке карусель. Вацис? Он остался у кулака. Говорят, несладкое там у него житье. В школу он не ходит. Я тоже. Все из-за этой болезни. Эх, скорей бы встать! До сих пор не помер, но если вот так долго валяться, точно помрешь. Скучища. Не знаешь, что в мире делается, что в деревне, в избе, даже под кроватью. Идут! Мама кидается в сени. Я слышу быстрый разговор. Наружная дверь закрывается. Я с нетерпением жду. Ну, быстрее, быстрее же!.. Входит высокий человек в коротком полушубке и валенках. На белых отворотах полушубка чернеет борода. Лисья шапка вся в снегу. Он снимает полушубок, шапку, и я понимаю, кто это. У нас в избе партизан. Самый настоящий. На боку — маузер, у пояса гранаты. Так, значит, мама мне доверяет! — Как наш больной? — спрашивает человек и, подходя ко мне, потирает руки, чтобы согреть их. Где я слышал этот голос? Ну, где? Человек наклоняется надо мной. — Ага, уже глядит на белый свет, уже глаза живые. Значит, все в порядке, — весело говорит он. Где же я слышал этот голос? Где? — Не узнаешь? — Нет. — Присмотрись-ка получше. Я смотрю, до того внимательно смотрю, что глазам больно. — Борода у меня такая обманщица, — смеется человек и достает из кармана желтую резиновую трубочку. — Доктор! — Это мне нравится. А сейчас послушаем-ка, что говорят твои легкие. От радости я чуть было не заплакал. Сам не знаю почему. Ведь я так мало знаю этого человека, мы всего два раза виделись. И все-таки, как хорошо, что он стоит здесь около отцовой кровати. Доктор осторожно надавливает на мою грудь и спрашивает: — Тут больно? А тут? А тут, тут?.. Нигде мне не больно, совсем нигде. Здоров, как бык. Мне надо как можно быстрее встать. Меня ждет борьба. Давно уже не испытывал я такого прилива сил, давно не было мне так весело. Передо мной стоит партизан. Властелин Ламанкских лесов, гроза фашистов. Какой у него отличный маузер! Это вам не Густасова игрушка. А гранаты! Интересно, откуда партизаны узнали, что меня тогда забрали? — Доктор! — Называй меня папой Йокубасом. Мы же с тобой друзья. Папа Йокубас? Не знаю. Я только одного своего отца называю папой. Только его. Папа Йокубас? Нет, не знаю… — Доктор, а помните, мы шли лесом. Помните, — мне хочется расспросить про нашего отца, но я не знаю, как это сделать. Я смотрю доктору в глаза. Долго. Он молчит. Почему? Конечно, мой отец может оказаться совсем в другом отряде, даже в другом месте. — Немцы отступают. Еще немного, потерпи еще. Последняя зима, — задумчиво произносит доктор и подходит к Олиной кроватке. Наклонившись над спящей девочкой, он гладит ее пышные волосы. Потом Казиса. — Пора мне, — говорит он и надевает полушубок. Потом подает мне руку: — До свиданья. Не унывай, через неделю плясать сможешь. — Спасибо. Вот не везет. Теперь я бы мог откровенно поговорить с доктором. Но тут мама. Почему бы мне не быть связным у партизан? Мама провожает доктора. В сенях они шепчутся. Да, что-то они от меня скрывают. Но что? Мама возвращается. Я смотрю на нее. Она задумалась. — Доктор тебя от смерти спас. По ночам приходил, заботился, — говорит она. Вот откуда у моей постели столько бутылочек с лекарствами. Папа Йокубас? Не знаю… — Мама, а ведь тогда, когда я водил его в лес, он говорил, что к партизанам идет. Мама разглядывает свои руки. Молчит. — Полежи, детка, отдохни. Завтра мне в Пипляй идти. Останешься один с ребятишками. В Пипляй? Зачем? К кому? — Мама, почему ты мне не все говоришь? — Тебе и не надо все знать. Ты еще мальчик. С этими скотами шутить нельзя. И так намучили тебя. Ах, мама, добрая мама! Пока не вернулся отец, пока разгуливает по улицам Густас, не будет мне покоя. Никогда! Скорей бы с постели встать, скорей бы встретиться с Вацисом. Ты еще узнаешь, какой у тебя Йеронимас. — Мама, я же все равно все понимаю, хоть ты и не говоришь. — Спи, — успокаивает меня мама и задувает лампу. И уже в темноте добавляет: — Люди из Ламанки не дадут нас в обиду. Только надо быть поосторожнее.IX
Казис приносит радостную весть. Возвратился Вацис. Я не теряю ни минуты — накидываю куртку, сую ноги в отцовские сапоги и мчусь к моему другу. Слегка примораживает. Светит солнце, и снег сверкает, точно стеклянные осколки. Кажется, будто они падают с высокого синего стеклянного купола. Блеск этот слепит глаза. С горки на лыжах скатывается Густас. Снег взметается, и Густас останавливается. Лыжи и впрямь отличные! И палки. Но я стараюсь не глядеть. Иду мимо, как ни в чем не бывало. — Йе, покойничек вышел, — разинул пасть Густас. — Не хочешь ли прокатиться? Издевается, гитлеров последыш, издевается, свиной пузырь. Пусть издевается, пусть радуется… Еще не прогремел последний взрыв. Конечно, я бы мог ответить Густасу, но неохота. Плетью обуха не перешибешь. Нечего зря и стараться. Я ухожу, даже не оборачиваюсь. Густас по-своему понимает это. Он орет: — Йе, всю храбрость гестапо вышибло! Трус! Ну и надоедливый гад. Выведет он меня из терпения, ох выведет. Но Густас больше не пристает. Хихикнув, он отъезжает на своих проклятых лыжах. — Недолго тебе еще по нашим горкам кататься, — бросаю я ему вслед. — Не радуйся, мешок с отрубями. Вацис дома. И не один. В тепло натопленной избе собралась вся семья. На постели сидит отец Вациса. В руках у него клюка, после каждого слова он закашливается. Кажется, он выкашливает слова откуда-то прямо из груди. Возле большой печи хлопочет мать Вациса. Лицо ее почернело, увяло, все в морщинках, точно прошлогодняя картофелина. Она тонет в клубах пара, поднимающихся от большого чугунного котла. Четыре маленьких сестренки Вациса, точно лесные яблочки, рассыпались по полу и играют. Вацис сидит у стола. Над ним висит гитара. С новыми струнами. Всегда, когда я прихожу к Вацису, мне кажется, будто я забрался в собачью конуру. Избенка до того тесна, потолок такой низкий и прогнувшийся, что страшно, как бы не обвалился и не придавил тебя к бугристому полу. И хоть бы окна были на окна похожи. Пядь в высоту да пядь в ширину. Отец Вациса собирался новую избу строить, но началась война… Вацис рад, что я пришел. Он вскакивает из-за стола. — А я уже собирался к тебе бежать, — говорит он. — Как дела, что хорошего? — Дела ничего, — я показываю большой палец. — А ты-то как? Вацис садится. Он молчит. Видно, ему неохота о себе рассказывать. Да и так по лицу видно, какими пирогами кормили его у кулака. Он стал еще худее, чем прежде. Глаза запали, скулы торчат. Значит, правду говорят, будто кулак, у которого Вацис служит, не только батраков, но и своих впроголодь держит. Вациса я знаю хорошо. Уж если он сбежал, если у него терпение иссякло, то никакой ангел бы там не выдержал. — Ты насовсем пришел? — Не знаю, — тянет Вацис. — Бьют уже, кха, кха, наши-то немца, кха, кха, бьют… — вмешивается в нашу беседу отец Вациса. — Вернется, кха, кха, наша власть, кха, кха, кха… — Дождешься тут, как же, — ворчит Вацисова мать. — Фашисты нас быстрее замордуют. — Выдюжим, мама, — говорит Вацис. — Выдюжим, — уверенно повторяю я. — Такие богатыри, вроде вас, может, только и выдюжат. — Ну что ты, мама! — обижается Вацис. Я понимаю, что в избе нам поговорить не дадут. Слишком много тут глаз да ушей. — Вацис, у тебя ясеневые доски есть? Я бы лыжи сделал. Мой друг глядит на меня. Догадался. — Кажется, в сарае были. Вацис одевается, и мы с ним выходим. — Надо проведать наш подвал, коробку, — говорю я, когда мы выходим во двор. — Можешь быть спокоен, все в порядке, — отвечает Вацис и ведет меня в сарай. В углу он смахивает с досок сено. Потом раздвигает доски. Это еще что? Вацис достает из щели нашу коробку. — Как это так, а, Вацис? Вацис не спешит с ответом. Вот всегда он так. Медленно открывает коробку и, словно желая доказать, что все на самом деле в порядке, вынимает оттуда буквы, дневник… — Вацис, да ты шутишь. — Я как только увидал, что тебя взяли и ведут в городок, тут же смылся домой. Коробочку немедленно перенес из подвала в сарай. Хорошо я придумал? — Неужели ты думал?.. — Не болтай глупости, — сердито перебивает меня Вацис. Хорошо ли он сделал? Конечно, мне не по себе, уязвлено мое самолюбие. Однако я не могу не признать, что друг поступил правильно. Ведь я мог нечаянно, в бреду, что-нибудь выболтать. Я молча беру наш дневник. Листаю его. Еще одна неожиданность. Оказывается, Вацис продолжал вести дневник. Я с интересом принимаюсь читать: «Пигалица, Дрейшерис, беззубый немец арестовали «Ажуоласа». Его отвели в городок и заперли в крысином подвале. Неделю пытали, били, но ничего не добились. «Ажуолас» тяжело заболел. Домой его привезли едва живого. За его муки фашисты понесут кару. Пигалица все реже появляется в деревне. Евреев из гетто больше не пригоняют к насыпи. Пигалица говорит, что сейчас они откапывают трупы своих товарищей и сжигают их. Фашисты просеивают пепел и подбирают золото. Все посылают в рейх». Меня бросает в дрожь. И правда, такой слух расползается по деревне: будто фашисты жгут трупы убитых. Штабелями, как дрова, укладывают мертвых людей, обливают бензином и поджигают. Ночью со стороны города видать зарево. Фашисты так и вьются возле костров. С ними и выродок Пигалица. И как только его земля носит? — Чего они от тебя хотели? — спрашивает Вацис. — Ты же знаешь. Они искали еврея из гетто. — Знаю. — Решили, что он заходил к нам. Они еще думают, будто мой отец иногда домой заходит. — Понятно. Думали под пыткой дознаться. — Знаешь, однажды думал дурак, что яблоко прямо с ветки ему в рот упадет… — Не такие уж они дураки, Йеронимас, — говорит Вацис. И, глядя мне прямо в глаза, добавляет: — Как хорошо, что ты здесь, со мной. Я и сам не замечаю, как бросаюсь обнимать моего друга. Теперь я должен все рассказать Вацису. Ведь мы из одного отряда, мы доверяем друг другу. Нет, от него можно не скрывать. Он — все равно что я. — Сядем, Вацис, — говорю я. Мы усаживаемся на сене и, как бывало, долго шепчемся. — А я еще не видал партизан, — говорит Вацис, когда я заканчиваю свой рассказ. — Но и то хорошо, что хоть ты видал. — По-моему, мы станем связными у партизан, — говорю я. — А сейчас нам надо усилить работу, увеличить отряд. Были бы у меня лыжи, можно было бы слетать к Стасису в Пипляй. — Лыжи-то я смастерю. Тебе и себе. За этим дело не станет, — говорит Вацис.X
— Я тебе помогу, быстрее будет. Вацис кивает. Еще час, еще… и в дверь постучится Новый год. Под вечер я притаскиваю из лесу пушистую елку. Ветки густые, темные, местами на них блестят ледяные слезки. Прибиваю елку к перекладине и ставлю у окна. Ледяные слезки постепенно тают. По избе разносится запах хвои. Мы убираем нашу елку. Трудятся все — мама, я, Казис, Оля. Я отбираю самые красивые картофелины, дочиста их отмываю. Заворачиваю в серебряную бумагу. Получается здорово. Мой игрушки висят на елке и выглядят совсем как настоящие, покупные шары. Мама делает пятиконечную звезду. Ее мы водружаем на самую верхушку. Казис и Оля нарезают полоски цветной бумаги. Я их склеиваю и делаю цепи. Мы вешаем одну такую цепь на елку, и она так и переливается, словно радужная волшебная лента. Красота. Я не знаю, откуда мама достала конфеты. Возле них так и вертятся Казис с Олей. Нетерпеливы эти сластены, ох нетерпеливы! Елка убрана. Словно сказочная царевна, манит она своим пестрым сверкающим нарядом. — Динь-динь, динь-динь! На улице раздается звон бубенцов. Кто-то летит в санках. Мы с мамой кидаемся к окну. Никого не видать. Сумерки. Я выскакиваю во двор. Да это же к Дрейшерису въезжают две пары саней. Я пулей мчусь назад. — Гестапо! Странное дело. Мама не удивляется и не пугается. Она слегка задумывается, потом говорит: — Оденься потеплее и сходи посчитай, сколько их туда ввалилось. Вот это разговор. Раз-два, и я готов. — Будет сделано, — говорю я, выскальзывая за дверь. Торопиться не к чему. Обожду, пока стемнеет. Шаг за шагом полегоньку направляюсь я к усадьбе Дрейшериса и размышляю. Значит, так. Ветер северный. Чтобы собака не почуяла, мне надо подойти к дому с южной стороны. Удобно? Не очень-то. Как раз с той стороны у них сени. Оттуда может выйти Дрейшерис, гестаповец или Густас. Тем не менее другого пути нет. Надо обойти собаку. Она теперь опаснее людей. У забора, окружающего хозяйство Дрейшериса, я приседаю на корточки и начинаю прислушиваться. В доме уже шумно. Все окна освещены. Пирушка идет в горнице. Вот открывается входная дверь. Я сжимаюсь в комочек. Выходит кто-то. Прихрамывает. Да это же Дрейшерис. Я вижу, как он направляется к саням и накрывает лошадей попонами, приносит им сена. Помочившись за углом, он, мурлыкая себе под нос, возвращается в избу. Я выжидаю. В доме запели. Все громче и громче. Голоса нестройные, перебивают друг друга. Пора. Я перемахиваю через забор и, пригнувшись, подбегаю к крайнему окну избы. Осторожно заглядываю. Заглядываю в окно и едва не слепну. Передо мной предстает во всей красе, во всем своем блеске настоящая новогодняя елка. На ветках покачиваются райские птицы, сидят веселые белочки, сверкают золотые шары, серебряные звезды, реют пылающие стрелы, без ветра вертятся мельницы, брызжет холодный огонь, блестит снег… Я не вижу, что происходит в избе. Совсем ничего. Я гляжу на елку. Она одна стоит передо мной. Эх, зажечь бы хоть один бенгальский огонь, одну палочку! Подержать бы, как кто-то там в избе. Кто же это? Тут я вспоминаю все. В искрящемся круге бенгальских огней я различаю лейтенанта Шмита. Мне кажется, что он вертит над головой не холодный огонь, а свою плетку. Я слышу ее свист. Мне отлично видна бритая голова лейтенанта. Она покрыта каплями пота. Он устал и задыхается, вертя над головой плетку. Сколько было тогда ударов? Столько, сколько искр, которые так призывно сыплются из рук лейтенанта гестапо Шмита… Теперь я уже не вижу елки. Передо мной — целое осиное гнездо фашистов. Вокруг стола, уставленного праздничными яствами, сидят гестаповцы. Дрейшерис в коричневом фашистском мундире. Густас тоже в праздничной одежде. На боку, понятное дело, нож и «монтекристо». Лейтенант Шмит хватает со стола стакан. Что-то говорит. Все хохочут и пьют. Потом начинают петь. — Доктор, давайте гранату, — невольно вырывается у меня. А зачем это мама послала меня сюда? Ах, да, скорее домой. А вдруг что-нибудь важное. — Мама, там почти все гестаповцы из городка гуляют! И сам лейтенант! — выпаливаю я, прибегая домой. Мама плотно сжимает губы. Что-то обдумывает, размышляет. Потом вдруг бросается одеваться. — Куда ты? — Пойду в Пипляй. Опять в Пипляй. Опять идет. — К кому? — К Жельвису. К Жельвису? Да ведь это же отец Стасиса! Зачем маме Жельвис? — Я на лыжах гораздо быстрее сбегаю. Что ему передать? — Нет, я сама. Вы тут ужинайте, играйте… Мама целует меня, Олю, Казиса и торопливо уходит. Вот это да! Убирали елку, готовились, а теперь сидим одни. Мне становится тоскливо. Что я буду делать с этой мелюзгой? А Казис с Олей ходят вокруг елки, позабыв все на свете. Глазенки их так и светятся от счастья. Оля держит в руках разноцветную цепь. Она хочет повесить ее на елку, но никак не дотянется до ветки. Она приподнимается на цыпочки. Падает. — Ой! — испуганно вскрикивает девочка. И снова тянется. Я гляжу на Олю, и мне становится веселей. И куда тебе, малышка, дотянуться. Я подбегаю к девочке и беру ее на руки. Поднимаю высоко, к самой вершине елки. — А теперь вешай! Так меня, бывало, держал отец, когда мы наряжали елку. Поднимал к самому потолку. И еще подбрасывал. Вот так… — Посмотри, как красиво висит твоя цепочка, — говорю я Оле, опуская ее на пол. — Красиво, красиво, красиво, — ликует Оля. — И меня подними, — требует Казис. Я поднимаю и его. Малыши счастливы. И нет им дела до того, что у Дрейшериса пируют гестаповцы, что в Ламанкском бору мерзнут в землянках партизаны, что сжигают людей… У них есть новогодняя елка. Елка? Вот у Оли нет ни отца, ни матери, она даже не знает об этом. Где Олины родители? Где мой отец? Куда пошла мама? Мне снова тоскливо. Хоть завой. — Йеронимас, давай в прятки поиграем! — просит Казис. — Давай, давай, давай! — Оля прыгает, как мячик. — Что ж, давайте. Где уж тут спрятаться в небольшой избе. Известное дело: за печкой да под кроватью. Но Казису с Олей и этого достаточно. Я ищу. Они прячутся. Подумать только, как «трудно» их найти. Я расхаживаю по избе, гляжу на потолок, приоткрываю дверь в сени, снова разглядываю потолок… — Стук, стук, стук! — вылезая из-под кровати, кричат детишки и хохочут. Значит, снова мне искать. Наконец они утомляются. Взбираются на лавку возле елки и сидят раскрасневшиеся. — Почему мама не идет? — вдруг выпячивает губу Оля. — Придет! — уверенно заявляет Казюкас. А правда, где же это так долго задержалась наша мама? — А почему наш папа никогда не приходит? — снова спрашивает Оля. Молчит Казис. Молчу и я. — Он придет, Оля. Придет наш папа, — помолчав, говорю я. — Придет, придет, придет, — хлопает Оля в ладоши. Я вынимаю из печи миску с теплыми румяными блинами. — Дети, быстро несите вилки! Мы едим с наслаждением. Запиваем блины квасом из диких яблок. Я укладываю Олю и Казюкаса спать. Потом выхожу во двор. Мамы все нет, а полночь уже совсем близко. Всюду тишина. Только со стороны усадьбы Дрейшериса доносятся пьяные выкрики. Закрываю за собой дверь, возвращаюсь в избу. Тоскливо. Детишки уже спят. Что мне делать? Задуваю огонь и ложусь не раздеваясь. Только начинаю дремать, возвращается мама. Я открываю ей. — Лампу зажигать? — Не надо. От мамы пахнет морозом. Она торопливо раздевается, ложится. — Поели? — Поели. Ты очень устала? Мама молчит. Ладно. Пусть спит, пусть отдыхает. Проходит примерно полчаса. На улице раздается стрельба. Крики. Я поднимаю голову. Мама тоже. — Новый год наступил, — говорит мама. — Может, он принесет нам перемену, может, наши придут… Гестаповцы постреляли и унялись. Видно, снова пить пошли. В остальных домах тишина, подавленное молчание. Не слышно песен, не то, что в прежние времена. Меня сон не берет. Я смотрю на елку, на звезды, на луну. Одна звезда висит совсем низко, даже кажется, будто она запуталась в ветках нашей елки. Сверкает, искрится. Когда глаза устают, я поворачиваюсь на другой бок. — Спи, — журит меня мама. Она тоже не спит. А почему? — Давай, правда, спать, а, мам? — Ну давай. Мама хочет меня обмануть. Я точно знаю, что она не собирается спать. Что с ней творится? Время идет… Вдруг снова раздаются выстрелы. Только на этот раз не у нас в деревне. Подальше. Мама вскакивает с постели. Я за ней. Мы приникаем к окну. Со стороны городка в небо взвиваются ракеты. Строчат пулеметы. Вспыхивает зарево пожара. — Динь-динь, динь-динь, динь-динь! — тревожно звенят, удаляясь по нашей улице, бубенцы. Гестаповцыспешат в городок. А пожар все разгорается! Мама прижимает меня к себе. Я чувствую, как она дрожит всем телом. — А теперь пошли спать, — говорит она.XI
Мы с Вацисом несемся на лыжах с горки в деревне Пипляй. Летим без оглядки так, что дух захватывает. Скорей, скорей! Скорей бежать отсюда, подальше от деревни Пипляй, подальше от людских стонов, от душераздирающих криков. Мы мчимся, не оглядываясь, не перекидываясь ни единым словом. Кажется, будто кто-то гонится за нами. Надо спешить домой. Быстрей, быстрей, подальше от причитаний, от душераздирающих этих криков. Разгоряченные, потные, запыхавшиеся, мы останавливаемся только возле нашей деревни, у сарая отца Вациса. Скидываем лыжи. Бросаем их как попало. Да, небрежно скидываем замечательные лыжи нашего собственного изготовления. На что они нам теперь? Зачем лыжи, зачем горы, зачем снег? Зачем все это? Мы забираемся в сарай и бросаемся на сено. Молчим. Я не могу собраться с мыслями, сосредоточиться на чем-нибудь одном. Закрываю глаза. Я вижу сотни тараканов и крыс. Вижу их так же отчетливо, как в бреду, во время болезни. Нет, это не тараканы и не крысы. Это эсэсовцы. Я щупаю свой лоб — уж не жар ли у меня? Так и есть, голова горит. Но мне же просто жарко, и все. Я гляжу на Вациса. Он лежит ничком, зарывшись в сено. Неужели мне мерещится? У Вациса вздрагивают плечи. Что с ним такое? — Вацис! Он не отвечает. Я беру его за плечи и пытаюсь повернуть. Вацис не дается. Уткнулся лицом в ладони. Ладно, пусть выплачется… Я подхожу к нашему тайнику. Вынимаю коробку, достаю дневник, чернила, ручку. — Вацис, надо все записать. Давай, твоя очередь, — говорю я. — Не могу. Ты пиши. Я покараулю, — слышу я тихий ответ. Вацис встает и отходит к дверям сарая. Там он замирает. Стоит неподвижно, как столб. Я подхожу к верстаку. Пытаюсь писать. Не получается. Вывожу несколько фраз, потом зачеркиваю. Пишу и зачеркиваю. Нет, не надо торопиться, надо все хорошенько обдумать, вспомнить. Как же это было? …С самого утра мы с Вацисом взяли лыжи и побежали, как и собирались накануне, в Пипляй, к Стасису Жельвису. Утро выдалось хмурое. Медленно кружились редкие снежинки. Лыжи легко скользили. На полпути, там, где у перекрестка стоит старая ракита с дуплом, мы остановились отдохнуть. На растрескавшейся коре дерева висело объявление. Огромные и черные, точно злые вороны, буквы так и бросались в глаза. Мы впились глазами в объявление. Там было написано: «В новогоднюю ночь неизвестные лица напали на здание жандармерии городка Пушинай. Гестапо приказывает: 1. Не впускать в дома скрывающихся коммунистов, комсомольцев, солдат Красной Армии, евреев и прочих подозрительных лиц. 2. Всякий, заметивший подозрительный элемент, должен немедленно сообщить в гестапо. 3. Лица, укрывающие вышеупомянутых подозрительных лиц, впускающие их в дом, снабжающие продуктами и одеждой, будут расстреляны либо повешены. 4. За каждого убитого немца будут браться заложники и будут расстреляны либо казнены через повешение. 5. За распространение…» — Рви, — потеряв терпение, говорю я. Наши руки дружно схватили объявление. Через миг от него остались одни обрывки. — А теперь побежали в Пипляй. По дороге все объявления по ветру развеем. — Бегом! И мы покатили. Здорово было! Я понимал, что в этом деле партизаны Ламанки не обошлись и без моей мамы. Да, славно они потрудились в новогоднюю ночь. Напали на жандармерию? Не просто напали. Четверо фашистов были убиты, а здание-то сгорело. Партизан и духу не осталось. То-то разъярились фашисты. В городок прибыл отряд эсэсовцев. Мы столкнулись с ними носом к носу. Мы с Вацисом успели сорвать еще два объявления. А на шоссе увидели эсэсовцев. В касках, увешанных автоматами, окруженных пулеметами. Они вели собак. — Откуда они идут? — спросил Вацис, когда отряд удалился. Мне тоже было неясно. По-видимому, прочесывали лес, партизан искали. — Давай-ка поскорей, — стал я поторапливать Вациса. Едва только вынырнули мы из леска, как тут же застыли на месте. Дом Жельвисов находился на окраине деревни, ближе к лесу. Однако дома на месте не было. Только дымился обгорелый остов избы. Вокруг пожарища бродили люди, рыдали, заламывали руки. Мы подъехали поближе. Что они там делают? Длинными шестами с крюками на концах люди разгребали тлеющие бревна, что-то выволакивали, укладывали на одеяла. — Вацис, что они там тащат? Мы подобрались еще ближе, совсем близко… — Не понимаю, что это несут? — мне становилось страшно. Вдруг рядом со мной раздался пронзительный крик. Я не успел удержать Вациса. Он вскрикивает, отворачивается и мчится прочь от дома Жельвисов. Я тоже бегу. Я видел. Я все разглядел… Вацис все еще стоит у дверей сарая. Мои пальцы онемели, сжимая ручку. Надо писать. Я принимаюсь выводить буквы. «В деревне Пипляй эсэсовцы живьем сожгли семью Жельвисов. Двоих взрослых и двоих детей. Обуглившиеся трупы были извлечены из-под груды горелых бревен. Это произошло 10 января 1944 года». Немного подумав, я дописываю: «Юные партизаны отряда «Перкунас» считают Стасиса Жельвиса своим бойцом и клянутся отомстить за него». Я ставлю точку. Прячу дневник. Разговаривать неохота. Меня бьет озноб. — Вацис, ночью приходи в подвал. Будем печатать воззвания. Все должны знать о таком зверстве. — Во сколько? — едва шевелятся губы моего друга. — В восемь. — Ладно. Мама дома. Она расстроенная, заплаканная. Страшная весть дошла и до нее. До всех дошла. И пусть. Пусть знают окрестные села, пусть знают города, вся Литва, весь мир, пусть! Живьем сожгли. Людей сожгли живьем, нашего Стасиса!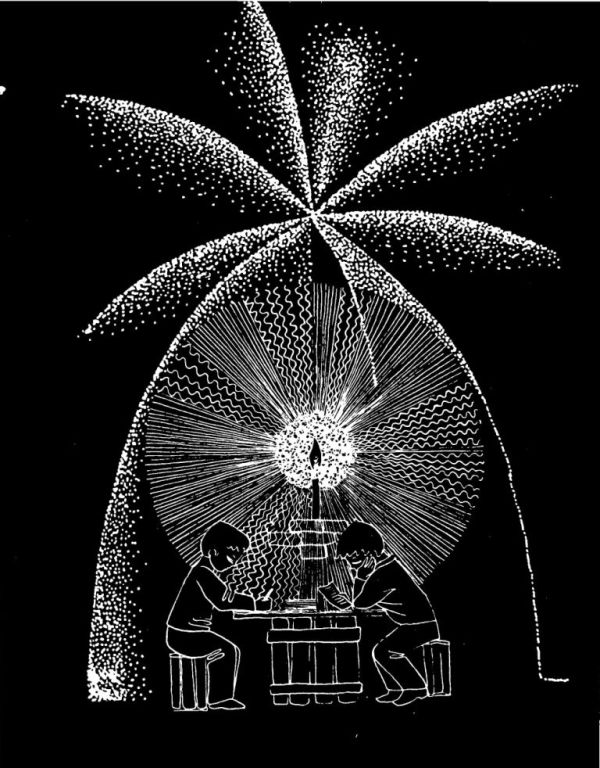
— Доконаешь ты меня, — укоризненно произносит мама. — Такие тревожные дни, а ты все где-то пропадаешь. Я рассказываю, как мы были в Пипляй. — Детей не пощадили, — качает головой мама. — А ты зачем в Пипляй ходишь? Но ведь и она сама ходила в Пипляй. К Жельвису. И не раз. — Мама, а кто был Жельвис? — Наш человек. Связной. — Стасис тоже был настоящий человек. Мы… — тут я осекаюсь. — Где Оля с Казисом? — перевожу я разговор на другую тему. — На реке. Сходи, погляди, не случилось бы чего. Я направляюсь к двери. Потом останавливаюсь. — Мама, всюду полно эсэсовцев Леса прочесывают. Надо доктору сообщить. Мама долго смотрит на меня. — Мы знаем. Я ухожу. Мама сказала «знаем». Стало быть, мама знает и доктор знает, знают люди из Ламанки. Знают все. Мы с Вацисом тоже все знаем. Пусть не думают…
XII
После того как партизаны сожгли здание жандармерии, Дрейшерис как-то притих, присмирел. Некоторое время на глаза мне не попадался и Густас. Но как только в городке появились эсэсовцы, Дрейшерис снова ожил. Однажды он вдруг заявился к нам и вот уже сидит, расставив ноги в сапогах, у нашего стола, исподлобья поглядывая то на маму, то на меня. Особенно внимательно разглядывает он Олю. Чего ему надо? Я вижу, мама встревожена. Мне тоже не по себе. Не от страха. Ненавижу я этого хромого фашиста. По-моему, от него даже смердит. Прямо в дом явился! Уселся по-хозяйски и молчит загадочно. Это его молчание особенно злит и бесит меня. Наконец Дрейшерис прищуривает левый глаз и, поглядывая на маму, говорит: — Того, трудно тебе без мужа-то живется. — Не-лег-ко, — отвечает мама и глядит в упор на фашиста. К чему это он клонит, старый гад? — Нелегко, — повторяет за ней Дрейшерис. — Как же это, того, еще один рот у тебя прибавился? — Да я уж не раз говорила, — спокойно отвечает мама. — Хочешь — на, почитай. Мама достает из ящика стола две бумаги. Протягивает их Дрейшерису. Я знаю, что в них написано. Одна, желтая — Олина метрика, а другая — справка о том, что Юлю Милашюте мы взяли из детских яслей. Мама ее удочерила, и она наша. Все правильно, все понятно. Нам, но не Дрейшерису. Он читает бумаги, вертит, рассматривает печати на свет. — Чего тебе надо, Дрейшерис? — взрывается мама. Тот улыбается, кладет документы на стол. Потом вдруг протягивает руки к Оле и говорит: — Ком цу мир, медхен. Оля глядит на фашиста огромными черными глазами. Она не понимает, что говорит Дрейшерис. Зато маме ясно. Она сжимает кулаки, стискивает зубы. — Все никак не уймешься, Дрейшерис. Все тебе мало места, все тесно. Ребенок — и тот тебе помеха, — как топором рубит мама. Дрейшерис встает. Направляется к двери. — Мы, немцы, того, обязаны за порядком следить. Воспитанница твоя на евреечку смахивает. Понятно, того? Дрейшерис уходит. Мама глубоко вздыхает, словно сбросив с плеч тяжелую ношу. Садится. Задумывается, подперев подбородок руками. — Йеронимас, а почему Оля на еврейку похожа? — спрашивает у меня Казис. — Кто такой еврей? — спрашивает и Оля. И правда. Я и сам задумываюсь. До войны в деревне был перекупщик рыбы еврей Абке. Низенький, горбоносый, с длинными седыми волосами. Мама называла его «наш еврей». Отец часто продавал ему рыбу, даже не взвешивал. «Еврею всегда можно поверить», — говорил он. В городке Пушинай была мелочная лавка Зелманене. Я ходил туда, и хозяйка Зелманене, с черными усиками и с бородавкой на остром мужском подбородке, всегда спрашивала: «Ню, как здоровье мамы-папы? Как живете? Ню, вот тебе на дорогу. Передавай привет маме с папой». Была в городке и лавочка Шедейкиса. Там никогда не спрашивали, как поживает мама с папой, никогда не давали гостинца на дорогу. Кто же такие евреи? «За каждого убитого еврея — сто грехов прощается», — говорит Пигалица. «Сам бог велел немецкой нации уничтожить евреев», — заявляет Дрейшерис. Что же такое еврей? Доктор, партизан из Ламанки, — он тоже еврей. Он меня вылечил… «В беде к еврею идите. Он всегда выручит», — так утверждает отец Вациса. Так что же это такое — еврей? — Еврей, Оля, такой же человек, как и все, — говорю я. — Евреи — люди, евреи — люди! — запрыгала Оля. Я одеваюсь и ухожу к Вацису. А это что такое? По двору шныряют эсэсовцы. Что-то лопочут по-немецки, гогочут. У избы стоят Вацис, его отец, мать. Младшие детишки прилипли к окнам. Я подхожу к Вацису и встаю рядом с ним. Мы молча смотрим. Чего им надо? Кажется, ищут что-то. Под ногами у эсэсовцев путается петух. Крупный, важный, с пышным хвостом и красным, как кровь, гребешком. Один из эсэсовцев — тот, что стоял с автоматом наизготовку, стреляет в петуха. Петух подскакивает, кувыркается в воздухе и удирает к забору. Эсэсовцы смеются. Нетрудно догадаться, что смеются они над своим приятелем. Тот еще раз стреляет в петуха. Петух снова подпрыгивает, кувыркается и сердито кукарекает. Эсэсовцы так и ржут. Неудачливый стрелок приходит в ярость. Он выпускает по петуху целую очередь. — Ох, убьют, уложат моего певуна, — сокрушается мать Вациса. — Кха, да помолчи ты, мать, кха-кха, помолчи, — строго приказывает ей отец Вациса и стискивает в руках свою клюку. Попал! Петух опускает пестрые переливчатые крылья, никнет головой, разевает клюв, словно пытаясь запеть, и замирает на снегу. — Глянь-ка, отец, глянь, что творят-то! — кричит мать Вациса. Эсэсовцы вваливаются в хлев. Жалобно взвизгивает поросенок. Я знаю, что этот поросенок — вся надежда родителей Вациса. Больше у них никакой живности нет. Что будет, если эсэсовцы отберут поросенка?.. Так оно и есть. Поросенок уже во дворе. Каким образом выпустил Вацисов отец из рук свою клюку, как оказался у него топор — не знаю. Мы даже не успели остановить его. Отец Вациса кинулся на эсэсовца с топором. Раздались выстрелы. Коротко взвизгнув, поросенок затих. Отец Вациса опускает топор и хватается за грудь. Делает несколько шагов и падает. — Юстинас! — Папа, папа! К убитому подбегают жена, сын. Опускаются на снег. Из избы, полуголые, босиком, высыпают сестры Вациса. Все голосят. Эсэсовцы ругаются. Они быстро уходят со двора, направляясь к усадьбе Дрейшериса. — Будьте вы прокляты! Прокляты! Мать Вациса задыхается. Ломает руки. — Юстинас! На кого ты нас покинул! Что же ты молчишь, Вацис, почему не плачешь?! Я хочу крикнуть и тоже не могу. Да Вацис же, я ведь знаю, ты умеешь плакать. Ведь плакал же ты, когда увидел сожженный дом Жельвисов, плакал, когда увидел обгорелый труп Стасиса. Ты плакал, я сам видел. Видел… Плачет твоя мать, орут сестры, все плачут, а ты молчишь. Вацис, почему ты молчишь? Вацис стоит на коленях. Его руки полны снега. Он крепко сжимает его в горстях. Лицо его бело как снег. Нет, серо как пепел. Нет, у него вовсе нет лица. Нет лица у Вациса. Одни глаза — стеклянные, невидящие. Глаза без слез. Что делать? Надо бежать, надо сказать людям, надо предупредить. Нет, никуда я не пойду. Я буду с Вацисом. Я опускаюсь в снег рядом с ним. Беру моего друга за руку. Вацис поворачивается ко мне: — В сарае есть доски. Отнеси в избу. Положим, — слышу я его ледяной голос. Холодный и грозный. Я ухожу. Делаю, как он велел. А во дворе у Дрейшериса гомонят фашисты. Им весело. Нет, больше так не может продолжаться. Не может.ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
XIII
Фронт приближается. Он стремительно движется к западу. С каждым днем все слышнее гул орудий. Немецкие газеты пишут, что идет плановое отступление на заранее подготовленные позиции. Но нас им не обмануть. Все знают, какие это позиции. Под Минском разгромлены целые дивизии врага, столица Белоруссии уже освобождена. Советская Армия приближается к Литве. — Вацис, хоть в пляс иди! Слышишь, что делается, а? — радостно говорю я своему другу. Мы оба сидим в подвале разрушенной мельницы, в нашем убежище. Печатаем листовки. Их теперь нужно много. Мы думаем распространять их не только у нас в деревне, но и в соседних селах. Вот уже несколько часов мы тут. Дело подвигается медленно. Холодно. Промерзшие за зиму камни пропитались сыростью, даже кости ломит от нее. Вацис работает, как заведенный. На бревне уже лежит несколько десятков листовок. — Вацис, — спрашиваю я, — слышишь, как пушки гремят? Друг мой выпрямляется. Подходит к стене нашего убежища. Приникает ухом к сырому камню. Глаза его постепенно оживают. — Так еще лучше слышно, — говорит он. Я тоже прикладываю ухо к холодной стене. И верно! Камни словно сами говорят о близости фронта. Стены передают каждый взрыв, каждое подрагивание почвы. Эх, до чего же славно гремит! И все слышней, слышней! — За работу, Вацис! Мой друг медленно возвращается к «столу». Смотрит на буквы, бумагу. — Не буду я печатать, — вдруг заявляет он. Я даже рот раскрываю от изумления. Что это значит? — Почему? — Надоело. — Вацис! — Фронт под носом, а мы тут возимся. Достань оружие. После того как эсэсовцы убили отца, Вацис целыми днями ломал голову, как бы достать оружие. Из-за него и мне не было покоя: подавай ему оружие, и все тут. Я бы и сам хотел иметь маузер, но где же его взять? Доктор к нам больше не приходил. Он бы, может, и достал. Правда, мама все чаще куда-то уходит по ночам. Я догадываюсь, но не попросишь же у нее маузер. Да она бы и не дала. И потом, можно сражаться с врагом и без оружия. Листовки, которые мы распространяем, это почти оружие. По крайней мере я так считаю. Но Вацису этого не втолкуешь. После смерти отца он переменился. На лбу залегла глубокая складка, плечи сгорбились, поникли. Он почти все время молчит, гитару в руки не берет. — Вацис, а что бы ты стал делать, если бы было оружие? — Уложил бы на месте. — Кого? — Первого встречного эсэсовца. По лицу и по голосу его видно, что он не бахвалится. Вацис бы и впрямь убил эсэсовца. А я? Размышляю я недолго. Убил бы. Ясное дело. — А Пигалицу? — спрашиваю я. — Уложил бы. — А Дрейшериса? — Конечно. — А Густаса? Как с Густасом? Вацис молчит. Прищуривается. Думает. — Не знаю, — колеблется он. А как же я? Густас — мой злейший враг. Он оккупант, колонизатор, немец, внук Гитлера. Как бы я с ним поступил? — Вацис, да ведь он немец, фашист, наш враг. — Значит, и его убил бы, — в каменном подвале гулко звучат слова Вациса. То ли от сырости, то ли от напряженного раздумья меня пробирает дрожь. Надо выбираться на улицу. Надо выйти к теплу, к солнцу. Я знаю: раз Вацис сказал, что больше печатать листовки не станет, значит, так оно и будет. И все же я пытаюсь настаивать: — Вацис, ну еще хотя бы пять штук. — Нет. Оружие нужно. Мы делим листовки на две части. Я прячу свою часть под холщовую рубаху, за пазуху. Приводим в порядок наше убежище и выбираемся наружу. Небо розовеет. На берегу мельничного ручья цветет черемуха. Ветки так и гнутся под тяжестью цветов. В воздухе стоит крепкий аромат. Майский день принимает нас в свои объятия и постепенно согревает. А на востоке все не смолкает гул. Гул этот вселяет радость и надежду. Мы оба идем по улице и не прячемся, даже усадьбу Дрейшериса не обходим стороной. Что за беда, если встретимся с оккупантом? С приближением фронта Дрейшерис изменился. Не суется в чужие дворы, здороваться стал с людьми. Видать, и Густасу он велел вести себя осторожнее, не лезть, куда не следует. Ясно, что песенка оккупантов спета. Мы хозяева, нам принадлежит деревенская улица. Чего же нам бояться? Когда мы проходим мимо дома Дрейшериса, я шучу, размахиваю руками, громко разговариваю. Вацис идет молча, но тоже улыбается. Он доволен. — Привет, ребята! Мы поворачиваемся. Во дворе стоит Густас. Это он с нами поздоровался. Я смотрю на него. Густас как Густас — в коричневой форме, с «монтекристо». И все-таки уже не тот. Какой-то пришибленный, робкий. — Гутен таг! — говорю я усмехаясь. Вацис косится на меня. Сердится, значит. По двору проходит мать Густаса, толстуха Мальвина. — Зови друзей в дом, — говорит она сыну. Ну, этого уж мы никак не ожидали. «Друзей в дом!» С каких это пор мы стали друзьями? — Йе-йе, заходите, — зовет Густас, направляясь к нам. Вацис дергает меня за рукав. Мы поворачиваемся и идем прочь. — Йе, «монтекристо» дам, постреляем! — кричит Густас. Вацис сразу останавливается. Я смотрю на него и вздрагиваю. — Давай, — говорит он и направляется к Густасу. — Йе, тут шесть патронов. Стреляйте. «А Густас? Как с Густасом? — мелькает у меня в голове. — Значит, и его убил бы». Я бросаюсь между ними. — Уходи, пошел отсюда! — ору я на Густаса. — Йе, йе, я же ничего не делаю. — Пошел! Густас пятится. Уходит к себе во двор. Закрывает калитку. — Йе, немцы отшвырнут русских. Йе-е, — вякает он. Вацис стоит, сощурив глаза. Плотно сжав губы. Я силком волоку его дальше. Слышу, как колотится мое сердце. Что он задумал? Ясное дело… — Дурак, — бросает мне Вацис и поворачивает к своему дому. Пусть говорит, пусть думает что угодно. Пусть я дурак. Зато хорошо, очень хорошо, что Вацис не взял у Густаса «монтекристо». Дома меня встречают другие неожиданности. Только вхожу в избу, как ловлю на себе мамин взгляд. Она чем-то взволнована, обрадована. — Йеронимас, у меня для тебя радостная весть, — говорит мама и идет ко мне. «Что-нибудь об отце», — первое, что приходит мне в голову. — Наши перешли границу Литвы. Приближаются к Вильнюсу. — Вот почему так здорово грохочет, — отвечаю я. Мама останавливается, обнимает меня и говорит: — Вот вернется отец… Вернется, и тогда… Мама все крепче прижимает меня к себе. Я обмираю. Я слышу, отчетливо слышу, как хрустят под рубашкой листовки. Слышит и мама. — Что у тебя там, Йеронимас? Конечно, маме можно показать без всякого страха, но мне не хочется выдавать нашу тайну. — Ничего. Мамины пальцы пробегают по моей груди. Бумага сама выдает… — Покажи-ка. Я стою, опустив руки. Мама сама расстегивает на мне рубашку и достает листовки. Читает. — Где взял? Я молчу. Мама не отрывает от меня глаз. — Ты должен мне сказать. — Ну, мы сами… — Кто это «мы»? — Не скажу. — Та, что Пигалица показывал, тоже была ваша? — Наша. Мама снова обнимает меня. Ерошит волосы, шепчет: — Кто бы мог подумать. Совсем еще дети… — Нет, мама, мы уже не дети. Сегодня ночью понесем, расклеим. Пусть люди читают. Мама на минутку задумывается. Потом вдруг встает и выходит в сени. Возвращается. В руках у нее пачка бумаги. — Йеронимас, тогда и эти. Я хватаю стопку листовок. Они пахнут краской. Пробегаю глазами одну из них. «Товарищи! Граждане и гражданки! Близится час освобождения. Коричневая гадина уползает в свое логово…» Я читаю затаив дыхание. Не все доходит до меня. В конце листовки стоит: «Коммунистическая партия Литвы». — Мама, откуда у тебя это? — А теперь я тебе не скажу. Ладно, ладно… Все равно узнаю. Вот встретимся с доктором и обо всем поговорим начистоту. Долго таиться нет смысла. А пока? А пока — скорей бы вечер. Тогда мы с Вацисом отправимся на задание!XIV
Я сижу под Большой Липой. Конец мая — ночь короткая. Тихо шелестят клейкие листочки. Я сижу и смотрю на восточную сторону неба. Там полыхают зарницы, там гудят самолеты, там фронт. Близко, совсем близко… Я жду людей из Ламанкского бора. Возле меня стоит корзинка. В ней рыба. Румяные, поджаристые линьки. Под вечер я проверил вентери. Едва втащил их в лодку. В горловине каждого вентеря барахтались крупные, с пральный валек, лини. Ну и прыгали они у меня в лодке! Колотили хвостами по воде, прямо пену взбивали. Мама не могла нарадоваться моему улову. Я тоже был доволен. «Умеешь линя поймать в вентерь — значит, ты настоящий рыбак», — так говорил отец. Что бы он сказал, если бы увидал моих линей?.. Я запрокидываю голову. Слышен гул. Он нарастает, усиливается и разносится по всему небу. Летит множество самолетов. С южной стороны в небе повисают ракеты. Они ослепительно яркие. Раздаются взрывы бомб. Я знаю, что в той стороне есть мост через реку. Наши хотят его взорвать, чтобы немцы не сумели отступить. Через полчаса взрывы прекращаются, гул удаляется… Я жду партизан из Ламанкского бора. Когда мама сказала, что зажарит всю рыбу, я не сообразил зачем. Ведь мы всегда продаем рыбу. Себе оставляем только то, что можем съесть. А это кому же? — Отнесешь нашим, — сказала мама, многозначительно поводя глазами в сторону Оли с Казюкасом. Мол, не хочется при них объяснять. Но мне и так объяснять не надо. От радости я чуть не запрыгал. Значит, я пойду к партизанам. Понесу им гостинец. Мама мне доверяет. Ура! Но тут же я нахмуриваюсь. — Где же их искать? — Под Большой Липой. — Они будут ждать? Мама кивает головой. Я ничего не понимаю. Откуда партизаны знают, что я приду, кто им сообщил? Ну, конечно, мама. Но ведь и она на этой неделе никуда не уходила. А когда ходила? Ночью, в прошлую среду. А перед этим? Тоже в среду… А сегодня какой день?.. Среда. Все ясно… Послышались шаги. Я вскакиваю. Нет, только померещилось. Никто не приходит к липе. Позади тянется потемневший бор, где-то лают собаки. Я снова усаживаюсь. А вдруг не придут?.. Рыбу мы чистили все вместе. Даже Оля. Казис смело схватил рыбину и принялся скоблить чешую. Оле не повезло. Дотронувшись до большого линя, она вскрикнула: — Я боюсь, он скользкий и шевелится. Казис так и зашелся от смеха. — Олечка, высунь язык, тогда не страшно будет, — и тыкал рыбкой в девочку, пугал ее. Мы отправили ребятишек играть на улицу. Теперь нам с мамой можно было толком поговорить. Неужели я только рыбу потащу? Должно быть, есть дело и поважнее. Не успел я рта раскрыть, как в избу вошли двое странно одетых людей. Немцы не немцы, полицаи не полицаи, солдаты не солдаты. Мундиры без пуговиц, в грязи. Сами босиком. Мы со страхом уставились на них. Оба молодые. Без оружия. Кто они? — Гитлер капут, — сказал один. Это ясно, но им-то чего надо? — Мамаша, есть, — один из них кое-как выговорил это по-литовски. Мама вскочила с места, вытерла руки. Нарезала хлеба, сала. — Ешьте. Незнакомцы жадно ели. Что она делает? Ведь это же немцы, фашисты. — Гитлер капут, война капут, все капут, — бормотал один. Оказывается, они удрали с фронта и теперь тайно пробираются домой. Тот, что кое-как объяснялся по-литовски, был родом из Восточной Пруссии. Я неприязненно глядел на немцев. Несколько лет назад они шли на восток, засучив рукава, презирая всех вокруг, а теперь, видите ли, «капут». Мама еще хлеба им дала, еще посоветовала в кустах переждать пока стемнеет — мол, в деревне живет фашист Дрейшерис. Когда немцы ушли, я не выдержал: — Я бы им хлеба не давал. — Не всякий немец фашист, детка, — спокойно отвечала мама. — А эти еще совсем дети. У дезертира трудный путь. Поймают — расстрел. Неужто в беде не помочь человеку… …Я вздрагиваю. Теперь точно слышно: шаги. Вскакиваю на ноги. Ну да, к липе приближаются двое. Вооруженные. Я узнаю доктора. Иду к нему навстречу. — Здравствуй, приятель, — приветствует меня доктор. И, оборачиваясь к незнакомцу: — Антанас, это наш Йеронимас, познакомься. Я здороваюсь, Антанас подает мне руку. Было бы светло, партизаны, конечно, разглядели бы, что я волнуюсь. Волнуюсь и горжусь одновременно. Пусть бы показался сейчас Пигалица. Или Дрейшерис, или эсэсовцы! Мы усаживаемся под липой. Партизаны держат оружие на коленях. Блестят автоматы. — Как мама, Казис, Оля? — интересуется доктор. — Здоровы. — Что Оля, не шалит, слушается маму? — Оля хорошая девочка. Маме одна радость от нее. — Что говорят в деревне? — Зашевелились. Своих ждут. — Пигалица бывает? — Нет. — Что поделывает тот немец, колонист? — Дрейшерис притих, как мышь. А к нам сегодня двое немецких солдат заходили. С фронта бегут. — Чуют конец. Партизаны встают. Антанас берет корзинку. Я больше не могу молчать. — Доктор, мы тоже не дремлем. — Знаем. Что они такое знают? Ничего. Или кое-что. — Мы с Вацисом могли бы больше вам помочь. Надо поддерживать связь. — Надо, надо, Йеронимас. Для начала вам с Вацисом дается задание: как только в деревне объявится Пигалица, сообщите маме. Следите за каждым шагом Дрейшериса. Ни Пигалица, ни Дрейшерис не должны удрать. Настало время расплаты. Антанас тоже подает голос. Это невысокий, коренастый человек. Голос у него суровый, вроде как у Вациса, когда он в подвале так и чеканил: «Уложил бы». Антанас же говорит: «Да, пора рассчитаться». Меня бросает в дрожь. Я-то знаю, что значит «рассчитаться». — Вот, Йеронимас, наша газета «Партизанское слово». Передай маме. Она знает, что делать. А теперь — прощай. Поцелуй своих, — говорит доктор. — Передам, скажу, — засовывая под рубашку «Партизанское слово», возбужденно говорю я. Через минуту под липой остаюсь я один. Сам не знаю, отчего я так и стою, точно прикованный. Забыл, все позабыл. Про оружие вылетело из головы. Может, догнать? Позвать?.. Партизаны исчезли. Их укрыл Ламанкский бор. «Пора рассчитаться!» — снова звучат у меня в ушах слова Антанаса. Я поворачиваюсь и пускаюсь домой. Настало время. Настало… Я несу эту весть своим.XV
Фашисты улепетывают. По всем дорогам, шоссе, по реке. Без передышки движется на запад поток машин. Нагруженных добром, набитых фашистами. По реке идут пароходы, баржи, даже лодки. Все вниз по течению, все в Германию. Они забиты ранеными. Я стою на берегу реки и гляжу, как драпают завоеватели. Не таковы они были, когда шли на восток. Я вспоминаю сорок первый! Тогда тоже по реке плыли пароходы, баржи, буксиры. Там сидели, играли на губных гармошках гитлеровские солдаты. Распевали во всю глотку, громко хохотали. Кто-то из них, помню, должно быть, проверяя меткость прицела, дал по берегу несколько очередей. Пули просвистели у нас над головой. Мы бросились на землю. На баржах гоготали солдаты. Они смеялись, пели… Теперь тихо. Солдаты опираются на костыли, подвязав раненые руки, стоят кучками, точно перепуганные овцы. И только моторы буксиров ревут и бороздят речную гладь. Утро сумрачное, солнца нет. Кажется, с неба вот-вот хлынет дождь. Первая вереница скрывается за поворотом. Появляется вторая, за ней еще и еще… Всех не сосчитать. Некогда. Когда фронт совсем рядом, когда чувствуешь, что вот-вот придут свои, трудно устоять на месте. Ноги сами так и несут по деревне, глаза ловят все новые перемены, уши напряженно вслушиваются. Все домашние дела — по боку. Не до них мне сейчас. Я покидаю баржи, речку и бегу к Вацису. Мы не должны прозевать Пигалицу. Дрейшерис тоже не должен уйти. Каждый день мы дежурим возле их домов. Однако Дрейшерис, по-видимому, не спешит в «фатерланд». Как назло, не кажет носа и Пигалица. А что, если они уже удрали? Я останавливаюсь у дома Дрейшериса, точно меня обухом по голове ударили. Что это? Ворота настежь распахнуты, по двору не бегает собака, не звенит цепью, отворены двери амбара… Я вхожу во двор. Дверь избы крест-накрест заколочена досками. «Удрал. Ночью», — соображаю я. Колени подгибаются от слабости. Черт побери. Что я теперь скажу партизанам? Прямо из-под носа удрал, а мы и не почуяли. Стремглав несусь к Вацису. Нахожу его во дворе. Вацис в дурном настроении. Злится. — Дрейшерис удрал ночью! — запыхавшись, выкладываю я. Вацис сердито сплевывает. — Сопляки мы, а не бойцы. Надули нас. — Надо было и по ночам караулить. — Надо было, надо было… — Чего ты злишься? Виноват я, что ли? Вацис снова злобно сплевывает. — А что бы ты ему сделал — с голыми-то руками? Почему ты у партизан оружия не просил? Заест он меня с этим оружием. — Разыщи их сам, а тогда и проси, я тебе не мешаю, — огрызаюсь я тоже сердито. — Называем себя юными партизанами, а ничего путного так и не сделали, — ворчит Вацис. — Неправда! Однако некогда нам препираться. Надо действовать. Я мчусь к маме, а Вацис отправляется к дому Пигалицы. Уж этого-то мы не упустим. И как нарочно! Прямо у самого нашего дома носом к носу сталкиваемся с Пигалицей. Он не один. С ним какой-то лысый. Оба вооружены до зубов. Погоны у Пигалицы с несколькими блестящими полосками. Ишь ты, в чине повысили. Оба немецких прихвостня потные, сапоги у них в пыли. Я уступаю им дорогу. Пигалица злобно косится в мою сторону и уходит. Видно, торопится, некогда остановиться. Но и мы не медлим. Оказывается, мама тоже заметила Пигалицу. Она бежит к партизанам. Я строго-настрого запрещаю Казису с Олей выходить со двора и мчусь назад, к Вацису. Его я встречаю неподалеку от дома Пигалицы. — Где они? — В избе закрылись. — Надо поближе подобраться. — Зачем? И так видно. — Не потому. Вблизи за врагом лучше наблюдать. Вацис с упреком глядит на меня. — Тебе все игра. А тут людей убивают… Чего он пристал ко мне? Ну, чего? Я только хочу подкрасться поближе к дому Пигалицы, спрятаться в вишняке и следить за врагом. Ведь интересно же, чертовски интересно. — Пошли, Вацис! — Было бы оружие, тогда другое дело. Мы залегаем в вишняке, в высокой траве. Прямо напротив крыльца. Вацис утыкается носом в траву, а я гляжу наверх. Ветки густо облеплены вишнями. Ягоды уже розоватые. С той стороны, которая на солнце. Вторая половинка еще зеленая. Вишен так много, что почти не видно листьев. Проходит полчаса, час… Ждать надоедает. Как-то неспокойно делается. Наконец из избы выходят Пигалица и лысый. — Тащи все во двор. В избе душно, — приказывает Пигалица. — К дождю, к дождю, — лепечет родственница Пигалицы, вынося из избы тарелки с закуской, бутылку домашней водки. Ставит все на дощатый столик во дворе. Лысый с Пигалицей расстегивают мундиры. Усаживаются. Выпивают. Вдвоем. Родственница стоит поодаль. — Выпей-ка, Она, и ты с нами! — внезапно предлагает ей Пигалица. — Выпей со мной. Может, в последний разочек! — О господи Иисусе, да что ты говоришь, Станисловас! — Не лебези. Все равно не оставлю хозяйство. Все сожгу. Пигалица хмелеет. Лысый хихикает и пьет. — Сожги, все спали, — поддакивает он. — Не оставляй монголам. Пигалица встает, достает из кармана спички и направляется к избе. — О господи, святая Мария! — вскрикивает Она. Лысый оттаскивает Пигалицу и усаживает на прежнее место. — Пей, не дури. Успеется. Они снова наливают. — Оружие где?! — вдруг рявкает Пигалица. — Она, тащи автоматы! Пощелкаем. — О господи боже, боязно как-то. — Дуреха! Автомат — он роднее брата. Покрутил — и валятся все, точно снопы… Пигалица враскачку идет к дому. За ним — лысый. Мы слышим, как они там шумят, бьют посуду, ругаются, а Она все призывает господа. — Эх, нет партизан, — шепчет Вацис. — Убегут, гады. — Терпение, Вацис, терпение, — успокаиваю я его. Они снова вываливаются наружу. Усаживаются за столик. Пьяные, а автоматы держат под рукой. — Она, лошадь запрягай! Поехали! — приказывает Пигалица. Она стоит. Растерянная, испуганная. — Чего вылупилась?! Запрягай! — Станисловас, лошадь-то моя. — Твоя?! А где мой дом, а?! Пигалица хватается за автомат. Она, громко вздыхая, идет к хлеву. — Стреляй, зараза, стреляй! — свирепеет лысый. Я лежу и скриплю зубами. Неужели партизаны не подоспеют? Неужели Пигалица убежит, как и Дрейшерис? Ладно еще, что хоть эта самая Она не спешит. Медленно запрягает, еле двигает руками. — Она, жратвы не забудь положить! — орет Пигалица. — Давай сами поищем, сами, — мурлычет лысый. И правда! Оба поднимаются и уходят в избу. — Вацис, что делать? — Оставили бы они автоматы, я бы тебе показал, что делать. Как бы не так! Автоматы они с собой утащили. Без оружия и шагу не ступят. Наконец лошадь запряжена. Она, причитая, идет в избу. — Уже? — слышим мы голос Пигалицы. — О господи, да так, как ты велел. — Мы не едем. Заночуем. Кончено. — Ты что, спятил! — возражает лысый. — Сказал, кончено… В избе все стихает. Напились так, что идти не могут. Пигалица — он всегда так. Напивается до бесчувствия. — Вацис, все в порядке. Видишь, как получилось. — Нечего нам тут больше валяться. — Нет, погоди. — Ну, как знаешь. Мы лежим и ждем. Время ползет медленно. Мы следим за Оной. Она тащит из избы все, что попадает под руку, и прячет по углам. Однако и награбил же Пигалица добра! Она выносит чемодан за чемоданом. — Тоже хороша, — замечает Вацис. — Жадина. Все «господи» да «господи», а сама гляди-ка. Время идет. Начинает накрапывать дождик. Теплые капли падают на листья вишни, на зреющие ягоды. Мокрые вишни блестят, так и манят попробовать. Я срываю пару вишенок. Они приятно кислят. Протягиваю ягоды Вацису. Он отказывается. — Эй, гляди, Йеронимас! — шепчет вдруг он. Вижу, все вижу. Наш план провалился. Во двор Пигалицы входит цепочка немцев. Сколько их? Двое, четверо, шестеро. Двое остаются во дворе, остальные входят в избу. Вишни мешают мне наблюдать. Может, поближе подползти? Нет, надо бежать, надо предупредить партизан. — Вацис, побежали! — Быстрей! Тем временем в избе раздаются выстрелы. Мы замираем на месте. Из избы выходят немцы. Выстраиваются и, печатая шаг, уходят. Где же Пигалица, где лысый? Что тут происходит? И тут я догадываюсь, я узнаю… — Вацис, это же партизаны… Вацис удивленно глядит на меня. — Вон тот высокий — доктор. Рядом с ним Антанас. Вацис прищуривается, смотрит. — Ладно, но зачем они переодевались? — Господи, господи! Немцы Станисловаса убили! — из избы с воплем выскакивает Она. — Вот оно что! Стало быть, Пигалицу сами немцы порешили. Чисто сработано. Мы встаем и уходим из вишневого садика, осыпанного зреющими ягодами, омытого живительным дождем.XVI
Лес содрогается и стонет. Кряхтят речные склоны. На том берегу наши, советские войска, а здесь, на нашем берегу, засели немцы. Они поливают реку пулеметным и минометным огнем и не дают нашим переправиться. Бои идут третьи сутки. Из деревни все ушли. Мы тоже наспех уложили в ящики самые ценные вещи и зарыли их в землю. Избу заперли на замок, захватили с собой еды, постель и — в лес. Мы устроились в убежище, которое когда-то вырыли с Вацисом. Правда, там тесно, но сестренки Вациса и Оля там отлично размещаются. Ночью они укладываются и спят, как ни в чем не бывало. Июньские ночи коротки. Тепло. Только под утро пробирает свежесть. Мы разводим огонь, готовим себе еду. Мне такая жизнь нравится. Вацису — не поймешь, то ли да, то ли нет. Мама молчит. А Вацис просто места себе не находит. Как только начинают грохотать орудия, он сам не свой. — Сожгут избу, все разнесут… По миру пустят… — Выживем, все будет, — утешает его мама. — Лучше уж совсем не жить. — Как тебе не стыдно. Ведь за рекой наши. За рекой наши. За рекой. Это верно. Но зло берет, когда видишь, как немцы точно зубами вцепились именно в наш кусок берега. — Как быть? — слоняясь среди деревьев, не унимается Вацис. — Где же партизаны? А мы что — забрались в лес и сидим, как в капкане. О партизанах думаю и я. И правда, можно было бы ведь ударить по немцам с тыла. Я говорю это маме. — Партизаны не спят, не сомневайся. Я и сам знаю, но до чего же тоскливо ждать. Из леса нам выходить нельзя. Вокруг немцы. Добежишь до опушки — и вся дорога. В полях окопы, на солнце блестят солдатские каски. Ступишь шаг неосторожно — уложат на месте. Пули так и свистят всюду. И все равно мы с Вацисом не можем усидеть. Мы стоим на просеке. Отлично виден большой кусок неба. Наши потчуют немцев минами. Немцы отвечают тем же. Мины проносятся над вершинами деревьев и, сердито шипя, где-то разрываются. Лес вторит взрывам и стонет, дрожит, вздыхает. Прилетают самолеты. Два наших — отчетливо видны звезды — и один немецкий, с черным крестом. Самолет с крестом начинает дымиться. Дымный хвост увеличивается, темнеет. — Падает! — кричу я. Самолет круто валится вниз, и вот мы уже слышим взрыв. — Вот это дело, — говорит Вацис. — Ура…а…а!.. — разносится по лесу. Мы прислушиваемся. Минометный и пулеметный огонь перекрывает мощное «ура». Удалось ли нашим прорваться? Переправятся ли они через реку? Атака отбита. Бой утихает. Раздаются лишь одиночные выстрелы. — Прорвались? — Нет, — угрюмо отвечает Вацис. — Крепко держатся, гады… К ночи стрельба совсем стихает. Только время от времени взметнется вверх ракета и упадет, описав в небе полукруг. Вдали гудят машины. У нас в лесу этот гул еле слышен. Зато отлично слыхать, как заливаются соловьи в кустах над ручьем. Наши малыши спят в убежище. Мы тоже дремлем, сидя на земле и упираясь спинами в сосновые стволы. Со мной рядом сидит Вацис, за ним — его мать, напротив — моя мама. Поодаль расположились другие жители нашей деревни. Наспех вырыты землянки. Тут же и скотина. Похоже на цыганский табор. А соловьям, кажется, ни до чего дела нет. Так и заливаются, так и заходятся. — Вацис, слышишь? — Что? — Вацис поднимает голову. — Да соловьи же. — Шут гороховый. Я смотрю на своего друга. Да, он сильно переменился. И не только он один. Мне вот тоже мама все время говорит: «Ты совсем не смеешься, Йеронимас. А был такой смешливый». Да, был, но тогда был отец и не было войны… Не было… — Привет! Должно быть, партизаны иначе не умеют. Всегда они возникают неожиданно и как раз тогда, когда меньше всего надеешься их увидать. Мы растерянно моргаем, а рядом с нами уже стоят доктор и партизан Антанас. Но почему они так и не сняли немецкие мундиры? Хотя не в этом дело, а в том, что партизаны тут, в самом логове врага. Значит, все будет в порядке, значит, всыплют фашистам. Партизаны здороваются со всеми. Доктор узнает Вациса. О, он никогда не забудет, как было у насыпи. Доктор так и говорит матери Вациса, благодарит. Потом он начинает смотреть по сторонам. А что разглядишь ночью? Всюду одни тени, клочья темноты. — Где же Оля, Казис? Мама отводит доктора к нашей землянке. Доктор светит фонариком. Дети спят. В убежище тепло, и они знай спят себе. — В лесу надежнее, чем в деревне, — говорит доктор. — Немцы леса, как огня, боятся. Не сунутся. Думаю, последнюю ночь вы тут. Пока доктор смотрит на ребятишек и шепчется с мамой, партизан Антанас спрашивает: — В деревне есть лодки? — Немцы отобрали, — отвечает Вацис! — Но одна есть. Вацис правду говорит. Мы с ним спрятали отцовскую лодку у насыпи, в самой чаще ивняка. Подходит доктор. Антанас ему сообщает, что одна лодка есть. — Что ж, и одна пригодится, — отвечает доктор. — Мы покажем, — почти в один голос выкрикиваем мы с Вацисом. Снова молчание. Легко сказать — покажем. А ведь кругом немцы. Можно нарваться на часового. — Ах, нет, нет, — говорит мама. Партизаны задумались. — Ты объясни, где она, — наконец решает доктор. — Без нас вам не найти, — заверяет Вацис. — Ты лучше помалкивай, — перебивает его мать. — Прямо в лапы смерти лезешь. — Ну, мы спешим, — говорит Антанас. Я упавшим голосом объясняю, где лодка. Вот она, справедливость! Выдалась возможность участвовать в настоящем деле, а они?.. — Не найдете вы, — заявляю я под конец. — Йеронимас, не спорь. Не пущу, и все, — строго говорит мама. Ладно, пусть так, пусть. Но можем мы хотя бы знать, для чего понадобилась наша лодка? — Надо переплыть на тот берег. Договоримся с воинской частью и сообща ударим по врагу. — Мы тоже так думаем, — говорит Вацис. — Давно бы так. Партизаны уходят. Нам с Вацисом обидно. Все молчат. — Как ты думаешь, найдут они лодку? — спрашиваю я у Вациса. — Найдут, конечно. — Что же ты говорил, будто не найдут? — Что же, что же! Не понимаешь будто… Я-то понимаю. Если бы не мамы, партизаны взяли бы нас с собой. Конечно, взяли бы. А теперь остается только ждать. Ждать, пока на том берегу взлетит в небо красная ракета. Это будет сигнал к атаке.XVII
Наконец долгожданный день наступает. С рассветом советские войска форсируют реку и отбивают фашистов к западу. Бой был короткий, но жестокий. Немцы яростно сопротивлялись. Но их прижали с двух сторон, и пришлось им убираться. Кто не успел — погиб. Мы возвращаемся в деревню. Мама принимается наводить порядок, подгоняет и меня. Только где уж там! Теперь меня дома не удержишь. Повертевшись по деревне, я бегу к Вацису. Мы с ним идем осматривать места, где шли бои. Без всякой боязни можно лазать по кустам, по окопам, насобиратьпатронов, подобрать гранату, а то и оружие. Поле боя пустынно. Земля вся изрыта окопами. Одни окопы доверху засыпаны землей от взрывов, другие стали еще глубже. Крутой берег реки, где были фашисты, весь покрыт пеплом, воняет гарью. Трава пожухла, обгорела. Раньше на том берегу, в глубоких норках, вили свои гнезда ласточки. Теперь гнезд нет. Ласточки носятся вокруг, прижимаются грудью к устланной пеплом земле. С жалобным криком устремляются они к воде, окунают крылышки и снова возвращаются к своим разоренным жилищам. — Вацис, автомат! — Где? Я перепрыгиваю через обвалившийся окоп. Вацис за мной. Отлично вижу, из соседнего окопа выглядывает дуло. Вацис обгоняет меня. Он первым кидается к оружию. Он так и рвется подержать в руке автомат, закинуть его за плечо, приложиться к прицелу. Мне тоже хочется. Вдруг Вацис резко останавливается. Я тоже. Прямо у самого автомата. Его держит человек. Нет, не человек, а только одна рука. А человека нет. Он лежит, засыпанный землей, где-то на дне окопа. Только окровавленная рука с автоматом торчит наружу. Пальцы застыли на спуске. Кажется, человек еще сжимает оружие в руке. На посиневшем пальце — серебряное кольцо с черепом. Вацис стоит. Я тоже. — Смертник, — шепотом произносит мой друг. Неужели я не расслышал? Что это лепечет Вацис? Ах, да… Эсэсовец, смертник, такой же, как те, что убили отца Вациса. «Смерть, смертник, смерть», — отдается где-то в голове. Смерть… Вокруг нас смерть. Мы стоим на поле смерти. Я поднимаю глаза и тут же, за окопом, вижу еще двух лежащих немцев, подальше еще, а там, за черным камнем, их десятки. И наши. Солдаты лежат друг возле друга. Изуродованные лица, разорванные минами, изрешеченные пулями. Вокруг нас смерть. Смерть, поблескивающее дуло автомата, крики ласточек… У Вациса такое лицо, что мне страшно. Оно ледяное, как в тот день, когда убили его отца. — Пойдем отсюда, — тихо говорю я ему. — Пошли… Мы возвращаемся в деревню. В карманах у нас нет ни одного патрона. — Надо их похоронить, — говорит Вацис. Я киваю головой. Однако павших товарищей хоронят наши солдаты. Они ненадолго останавливаются в деревне. Солдаты измучены, запылены, суровы. Видно, что они очень спешат. Хоронят своих, закапывают в землю немцев. Над братской могилой останавливаются, дают несколько залпов и отправляются дальше. Солдаты уходят с песней:…Идет война народная,
Священная война…

— Хорошо бы стены побелить. Где взять извести? — спрашивает мама. Извести? Где же это я видел известь? Ну, конечно, полное ведро. Я бегу к дому Дрейшериса. Возле хлева стоит ведро с известью. Под вечер в деревню прибывают два грузовика. Не просто так. Они везут солдат. И не каких-нибудь, а музыкантов. Грузовики едут, а музыканты, целый оркестр, так и гремят — на оба берега слышно. Вся деревня высыпает им навстречу. Люди широко распахивают ворота. А музыка бодрая, на душе светлеет, и, кажется, не было войны, не было боя. Машины как нарочно останавливаются прямо против нашего дома. Солдаты спрашивают, где можно найти пустой сарай. — Йеронимас, покажи амбар Дрейшериса, — велит мне мама. Я мигом взлетаю в кабину грузовика и сажусь рядом с шофером. Как умею, объясняю, куда ехать. Показываю пальцем усадьбу Дрейшериса. Шофер понимает. В амбаре у сбежавшего фашиста становится весело. Солдаты ставят экран, налаживают аппаратуру. Настежь распахивают двери и зазывают народ, играют марши. Мы собираемся в кино. Его будут показывать советские солдаты. Мама принаряжается, одевает в праздничное Олю с Казюкасом. Я надеваю свою лучшую голубую рубашку и повязываю пионерский галстук. Который я сберег. Я тороплю маму. Все уже идут. Вся деревня идет. — Сначала будет митинг, а только потом кино покажут, — говорю я. — Про что? — спрашивает мама. — Не говорили? — Не знаю… — Только бы не про войну… Что это она говорит? Почему не про войну? И тогда я снова невольно вспоминаю утреннюю картину, поле боя. Рука эсэсовца, растерзанные минами трупы, разрушенные гнезда ласточек… — Ты, мама, не разговаривай, а собирайся, — раздраженно говорю я. — Слышишь, как здорово гремят…
XVIII
Все, кто остался в живых, возвращаются в покинутые дома. Все… Только мой отец почему-то не приходит. Правда, война еще не кончилась. На западе, там, где заходит солнце, еще идут бои. Но Литва уже вся свободна. Те, кто уходили вместе с солдатами на восток, уже вернулись или подали весть, что живы. Мама встает и ложится озабоченная. Как быть? Может, в город съездить? Писать, спрашивать, искать? Хоть бы доктор пришел. И тот словно испарился. А время идет, и становится все тревожнее на душе… Где же он, мой отец? С утра до вечера я торчу у ворот и смотрю на дорогу. Я должен первым увидеть, как отец появится на нашей улице. Я узнаю его издали. Кто-то идет. Нет, едет. Когда он приближается, я глазам своим не верю. Ну да, так и есть. Дрейшерис. Всем семейством сидят на телеге. Недалеко, значит, отбежали. Как видно, наши окружили их, и оккупантам ничего не осталось, как вернуться. Возле нашего дома Дрейшерис почему-то останавливает лошадь. — Здравствуй, Йеронимас. Мама, того, дома? Эге-ге… Дрейшерис-то уже не в коричневом мундире. Осунулся, потемнел лицом. Жалкий вид и у Густаса. До самых глаз надвинула платок Мальвина. Вздыхает, что-то бормочет. Дома ли мама? Мама-то дома, а вот где мой отец? Где? Меня зло берет. Все фашисты виноваты, что его нет дома. Все! Я молчу. Дрейшерис слезает с подводы. Неужели он, правда, войдет к нам в дом? А вот и мама. Она выходит к воротам. — Здорово, соседка, — говорит Мальвина. Мама кивает. Лицо ее сурово. — Ты, того, не серчай, — обращается Дрейшерис к маме. — Гитлер этот нам голову заморочил. Ведь мы же литовцы. Тут родились, выросли, того. — Йе, йе, мы литовцы, — повторяет вслед за отцом Густас и смотрит на меня. Вот так новость! Дрейшерис уже опять литовец, опять сменил шкуру. Позабыл уже, что творил. И он, и сынок его. — Нет, Дрейшерис, не литовец ты. Ты и не немец. Ты фашист, — выкладывает ему мама прямо в лицо. — Ты, того, не суди. Мы и так всего лишились. — Не я судить стану — народ. — Йе, йе, поехали, — ноет Густас. Дрейшерис отъезжает. — Подлизаться вздумал! Ничего не выйдет, — говорит мама. — Давай, Йеронимас, завтракать. Не пойду я никуда. Мне надо бежать к Вацису. Сказать, что Густас вернулся. — Мама, я сейчас… Вацис уже видел, что Дрейшерис вернулся. Он не слишком удивлен. — Ну и что тут особенного? Вернулся так вернулся. Вацис идет в сарай. Я за ним. Мой друг останавливается у верстака. Я нахожу нашу коробку. Открываю ее. — Вацис, что мы теперь будем делать с нашими буквами? — Пусть лежат, — даже не поворачивая головы, отвечает Вацис. Он что-то строгает. Белые стружки падают кругом. Это Вацис строгает столбики для ограды отцовской могилы. Я раскрываю наш дневник. Читаю первую страницу, вторую… Потом сажусь писать. — Что ты там еще надумал? — спрашивает Вацис. — Пишу: оккупант Дрейшерис вернулся… — Шут гороховый. Ставь точку. Я ставлю. — Дневник у нас будет или отдадим? — Конечно, у нас, Йеронимас, — на секунду прекращает работу Вацис. — Все у нас останется… И снова летят стружки. Зачем Вацису столько колышков? Для одной ограды уже хватит. Вацис объясняет: — Будет и для солдатской могилы. Завтра приходи с утра. — Ладно. Только я прихожу домой и сажусь есть, как дверь нашей избы растворяется и входит доктор! Он в чистом костюме, гладко выбрит, только правую ногу волочит, прихрамывает. Значит, его все-таки ранили. Доктор здоровается с мамой, целует меня, Казиса. Подходит к Оле, берет ее на руки, гладит и шепчет: — Доченька моя, Оля, Олечка… Оля отталкивает его обеими руками. Я растерянно гляжу на них, мама вытирает глаза. Только Казис невозмутимо ковыряет в носу. — Оля, я же твой папа, я… — Нет, мой папа — партизан, — пищит Оля. — Йеронимас так говорил. — Мы одни с тобой остались. Только ты да я, Оленька! Доктор гладит, целует нашу Олю. — Мама! — зовет она на помощь. — Оля, это, правда, твой отец, — всхлипывая, говорит мама. — Папа, мой папа! — кричит Оля и обнимает доктора. Больше я не могу терпеть. Я бросаюсь на улицу. Радость и тоска захлестывают меня. Вернулся, вернулся Олин отец! Она дождалась. Я и не думал, не гадал. Мама же мне ничего не говорила. Да не стоит из-за этого обижаться. Главное — он вернулся, и у Оли есть отец! Я бегу… Куда? Куда мне бежать? К Вацису, на речку, а может, влезть на дерево, покачаться на ветках?.. Я успокаиваюсь, вытираю глаза. Медленно возвращаюсь назад. Вот наш двор. Вот изба. В сенях я останавливаюсь. Стою за дверью. В избе тихо. Почему они молчат? Отчего не радуются? Почему не возятся ребятишки? За дверью гробовое молчание. — Как быть с Йеронимасом, как ему сказать, — слышу я мамин стон. — Он так его ждет… О ком это они? Что сказать? — Я скажу ему. Расскажу, какой храбрый был у него отец, каким отважным он был партизаном и как геройски погиб. Все расскажу… Это доктор говорит. Я бегу прочь. Дальше от этой двери, от дома. Добегаю до реки. Стою на берегу. И снова бегу бегом по крутому обрыву. Бегу, бегу… Пока не падаю. Может, это я споткнулся? Я утыкаюсь лицом в траву. Нет, это не трава. Это выжженная минами земля. Я глубоко дышу и слышу запах пепла. Отворачиваю лицо. Над водой носятся ласточки. Они все еще ищут свои гнезда. Но что это сказал доктор? А может, все-таки война не только разлучает? Ласточки все кружат и кружат над водой. Я слышу их немые жалобы.Мы стоим у лодки. Все. Мама, доктор, Казис, Вацис, я… Мы провожаем в город, домой, Олю. Вацис ей отдает свою гитару. Просто кладет ее на корму, не произнося ни слова. Но все мы знаем, что это Оле. Пора оттолкнуть лодку от берега. Я смотрю, какой ветер. Западный. На берегу радостно шумят вершины деревьев. — Дядя Йокубас, может, паруса захватить? — Захвати, Йеронимас, захвати. В них будет дуть попутный ветер. — Давай…

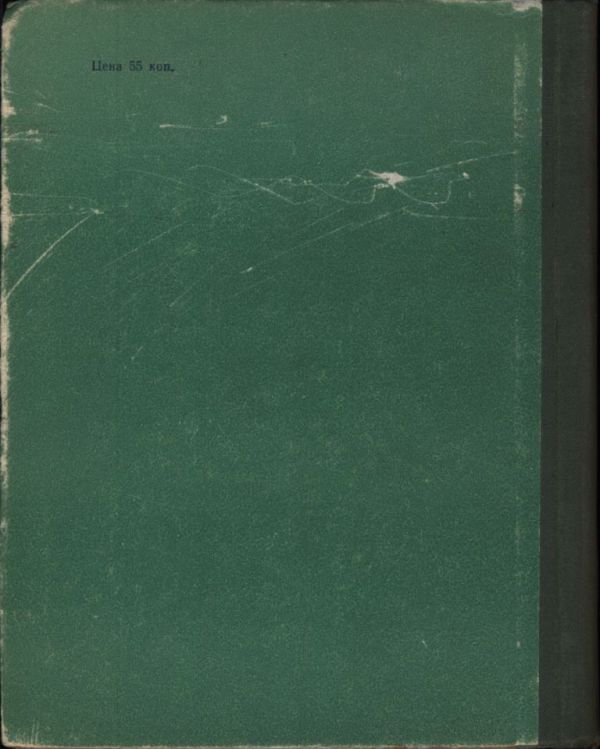 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Последние комментарии
5 часов 11 минут назад
5 часов 12 минут назад
10 часов 31 минут назад
14 часов 12 минут назад
14 часов 33 минут назад
15 часов 27 минут назад